Эдвард Кэри Кроха
Посвящается Элизабет
Edward Carey
Little
* * *
Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
Copyright © 2018 by Edward Carey
Illustrations © 2018 by Edward Carey
© Алякринский О., перевод на русский язык, 2020
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020
* * *
Удивительная жизнь и подлинные приключения служанки по прозвищу
КРОШКА,
в которых были путешествия по трем странам, утраченные дети, утраченные родители, привидения в обезьяньем обличье, портновские манекены, деревянные куклы, муляжи людей, один король, две принцессы, семь докторов, человек, который исходил Париж вдоль и поперек; человек, который изображал витринных кукол, а его мать была важной персоной; человек, который коллекционировал убийц; знаменитые философы, герои и монстры, причем все весьма значительные люди; несколько домов, из коих каждый последующий был больше предыдущего; успехи, неудачи, большая семья, события исторической важности, знаменитые люди, обычные люди, любовь, ненависть, резня невинных, засвидетельствованные убийства, расчлененные тела, реки крови на улицах, невзгоды, тюрьма, утрата всего, брак, живые и непозабытые воспоминания, ежедневно случавшиеся несчастья, которые стали историей, описанной ею самой.
А ТАКЖЕ:
зарисованной ее рукой
Графитовым карандашом, углем, черным мелом.
Вот как выглядел ее карандаш.
Предыстория 1761–1767 Деревенька
Со дня моего рождения до того, как мне исполнилось шесть лет.
Глава первая
в которой я появляюсь на свет и рассказываю про маменьку и папеньку
В том самом году, когда пятилетний Вольфганг Амадей Моцарт сочинил менуэт для клавесина; в том самом году, когда британцы отбили у французов Пондишерри в Индии; в том самом году, когда были опубликованы ноты песни «Мерцай, мерцай, звездочка, в ночи»; в том самом году, а именно в 1761-м, покуда люди в парижских салонах рассказывали сказки о зверях в замках, и о мужчинах с синими бородами, и о красавицах, которые спали и все никак не могли пробудиться, и о котах, обутых в сапоги, и о хрустальных туфельках, и о мальчиках с хохолком в волосах, и о девочках, завернутых в ослиную шкуру, и покуда жители Лондона в своих клубах обсуждали коронацию короля Георга III и королевы Шарлотты, за сотни и тысячи миль от этих событий, в маленькой эльзасской деревеньке, в присутствии краснолицей повитухи, двух деревенских девок и перепуганной мамаши, на свет появилось дитя-недомерок.
Поспешно крещенную малютку назвали Анна-Мария Гросхольц, хотя потом меня именовали просто Мари. Я родилась размером с два маменькиных кулачка, сложенных вместе, и мало кто ожидал, что я долго протяну. И все же, пережив свою первую ночь, я, вопреки предсказаниям об обратном, преспокойно дышала всю первую неделю. Да и после того мое сердце продолжало мерно стучать без перебоев в течение первого месяца. Крошечное существо оказалось упрямым.
Оставшись одна, маменька родила меня восемнадцати лет от роду. Она отличалась небольшим росточком, меньше пяти футов, и к тому же была дочкой священника. Этот священник, мой дед, овдовевший во время эпидемии оспы, был крутого нрава – просто ходячий гнев в сутане, который ни на минуту не оставлял дочь без присмотра. После его смерти жизнь маменьки переменилась. К ней зачастили односельчане, и среди них был некий солдат, остававшийся холостяком в своем уже почтенном, по привычным меркам, возрасте. Этот солдат имел сдержанный темперамент, ибо повидал за свою жизнь немало жутких вещей и потерял многих друзей-однополчан, и он увлекся маменькой. Он надеялся, что они смогут обрести семейное счастье, так сказать, в своей печали. Ее звали Анна-Мария Вальтнер. А его – Йозеф-Георг Гросхольц. Они поженились. И позже стали моими родителями. В их жизнь пришла любовь, пришла радость.
У маменьки был крупный нос, в римском стиле. А у папеньки, в чем я себя позднее убедила, волевой подбородок, немного вздернутый кверху. Этот нос и этот подбородок вроде бы прекрасно подошли друг другу. Но вскоре, однако, папенькина увольнительная закончилась, и ему пришлось вернуться на войну. Маменькин нос и папенькин подбородок миловались всего-то три недели.
Я была плодом любви. И на моем лице всегда виднелась печать любви, связывавшей маменьку и папеньку. Ведь я родилась с носом Вальтнер и подбородком Гросхольца. Каждый из этих двух атрибутов был по-своему приметен и чудесным образом придавал характерность лицам обоих представителей этих фамилий; но вкупе результат получился не слишком выигрышный, словно я выпячивала больше плоти, чем полагалось. Дети растут по воле природы. Кто-то отличается буйным волосяным покровом головы, у кого-то в чересчур юном возрасте прорезываются зубы; у одних вся кожа в веснушках, у других кожа столь бледна, что их белая нагота пугает всякого, кому доведется ее лицезреть. Я прокладывала себе дорогу в жизни носом и подбородком. И, разумеется, в ту пору еще не знала, сколь диковинные тела мне суждено увидеть, в каких огромных зданиях мне придется проживать, в какие кровавые события я буду вовлечена, хотя, наверное, нос и подбородок подозревали о чем-то подобном. Нос и подбородок, чудесные доспехи для жизни. Нос и подбородок, верные компаньоны. Начать с того, что всегда в моей жизни была любовь.
Поскольку девочки моего происхождения не получали школьного образования, меня обучала маменька, при участии Господа. Моим букварем была Библия. Что до других премудростей жизни, я приносила из леса поленья и хворост для растопки, мыла тарелки и стирала белье, резала овощи, приносила с рынка мясо. Я подметала, чистила, носила. Я всегда была при деле. Маменька приучила меня к усердию. Если она бывала занята, это доставляло ей радость. Покончив с каким-то делом, маменька впадала в задумчивость, которую могло рассеять лишь новое дело, за которое она принималась. Она постоянно была в движении, и это вполне ее устраивало.
– Ты сама старайся находить себе занятие, – говаривала она. – Всегда что-нибудь да найдется. А потом настанет день, отец вернется и увидит, какой ты хороший и полезный ребенок.
– Спасибо, мама. Я буду полезной, я очень этого хочу.
– Ну что за создание!
– Это я? Создание?
– Ну да, мое собственное крохотное создание.
Маменька с необычайной энергичностью расчесывала мне волосы. Иногда трогала за щеку или похлопывала по капору. Она, возможно, была не красавица, но мне казалась красивой. У нее была крошечная мушка прямо под нижним веком. Жаль, я не могу вспомнить ее улыбку. Но я точно знаю, что улыбка у нее была.
К пяти годам я сравнялась ростом со старым псом из соседского дома. Потом я выросла настолько, чтобы дотянуться макушкой до дверных ручек, которые мне нравилось гладить. Еще позднее, когда я вовсе перестала расти, моя голова доходила людям до того места у них на груди, где находится сердце. Женщины из нашей деревушки, глядя на меня и целуя, порой шептали себе под нос:
«М-да, найти мужа будет не просто!»
На мой пятый день рождения дорогая маменька подарила мне куклу. Это была Марта. Так я ее назвала. Я изучила ее крошечное тело, которое было раз в шесть меньше моего, я изучила его все-все, двигая куклу по столу – иногда грубо, иногда с величайшей нежностью. Она попала мне в руки голенькой, без лица. На самом деле она состояла из семи деревяшек, которые надо было соединить в определенном порядке, чтобы получилось некое подобие человеческой фигуры. Марта, если исключить маменьку, была моим первым посредником в общении с миром, я с ней никогда не расставалась. Мы были счастливы вместе: маменька, Марта и я.
Глава вторая
Семейство Гросхольц
Папенька отсутствовал все ранние годы моей жизни, ибо армия постоянно находила новые и новые отговорки, дабы отсрочить получение им очередной увольнительной. И что же папенька мог с этим поделать? Бедный зонтик одуванчика вынужден лететь туда, куда его пошлет порыв ветра. Для нас же он был хоть и в отсутствии, но не в забвении. Порой маменька усаживала меня на широкий табурет у очага и рассказывала о папеньке. Мне доставляло немалую радость произносить это слово. Папенька! Порой, когда маменьки рядом не было, я тайком обращалась к плите, называя ее Папенькой, или к стулу, или к комоду, или к разным деревьям в лесу, я кланялась им и заключала их в объятья, репетируя его возвращение домой. Он присутствовал повсюду в нашей деревушке – в церкви, в коровьих загонах. Отец – человек праведный, говорила маменька. И таким вот папенька и остался бы в нашей памяти, не вернись он никогда.
Но настал день – и он вернулся. Реальный мой папенька был уволен по ранению, однако полученному не в бою, поскольку в Европе тогда никаких битв не было, а в результате случайного выстрела неисправной пушки на военном параде. Эту пушку повредило еще в сражении при Фрайберге в 1762 году, и ремонтировали ее, видать, спустя рукава, потому как единственное появление сего неисправного орудия нанесло невосполнимый урон моей жизни. Как-то во время воскресного парада – ставшего для сей пушки последним – ее зарядили, чтобы произвести салют, но что-то там в жерле перекосилось, заклинило, и орудие извергло вспять раскаленный фосфор, уголь, селитру да куски покореженного металла, и все это широким веером. И им накрыло папеньку, вот почему ему в конце концов дозволили отправиться домой.
Маменька была вне себя от волнения и радости.
– Твой отец возвращается! Очень скоро он совсем выздоровеет. У меня такое предчувствие. Твой отец скоро будет дома, Мари!
Мужчину, вернувшегося к нам, пришлось подталкивать сзади. Прибывший папенька сидел в кресле на колесах. Папенькины желтые глаза слезились. Похоже, они не узнавали стоящую перед ним жену, и их выражение ни в малейшей степени не изменилось, когда маменька задрожала всем телом и застонала. Волос на его макушке не было: взорвавшаяся пушка снесла там кожу. Но что сразу бросалось в глаза при взгляде на сей жалкий обрубок в кресле на колесах, так это отсутствие нижней челюстной кости, самой крупной на человеческом лице, которую обыкновенно называют нижней челюстью.
И теперь я должна сделать признание: это ведь папеньке я обязана своим подбородком. А иначе разве бы я обладала столь горделивой и грубой особенностью внешности? До той минуты я никогда не видела папеньку, но, не видя его, желала иметь на своем теле некую его примету, дабы ежедневно убеждаться в том, что я его дочь, а он – мой папенька. И сейчас я не могу с уверенностью сказать – ведь ранние годы моей жизни остались в далеком прошлом, и прочие действующие лица уже давно покинули сцену, – сочла ли я, в каком-то пароксизме тоски, свой подбородок доставшимся от него даром лишь после его возвращения или же я так считала всегда. Но в тот момент меня напугало отсутствие у него подбородка, и я мечтала представить более полный образ человека, который был моим страдальцем-папенькой. Мне хотелось видеть его облик завершенным, и я воображала, будто мое лицо могло бы завершить его портрет, ибо представший моему взору человек выглядел несчастным обломком.
С возвращением папеньки мне был дан намек на мое будущее. Крохотное оконце распахнулось – и меня оттуда позвали.
Мужчина в инвалидном кресле хоть и был лишен нижней челюсти, но вместо нее ему вставили серебряную кюветку. Она имела форму нижней части самого обычного человеческого лица. Ее отлили по стандартному образцу, так что следовало признать, что еще несколько десятков несчастных мужчин обладали точно таким же серебряным подбородком, что и мой папенька. Кюветка была съемной. Папенька вернулся состоящим из двух частей, и эти части, с некоторым усилием, можно было приладить друг к другу.
Бедняга не понимал, где он находится. Он был неспособен узнать жену, как не мог понять, что маленькая девочка, которая безмолвно глазеет на него, – его собственная дочь. Себе в подмогу маменька наняла мою повитуху – сердобольную, вечно задыхающуюся женщину с полными руками, дорожившую всяким заработком, – и частенько обращалась к врачу из соседней деревни – доктору Зандеру. Совместными трудами они обустроили для папеньки комнатушку за кухней, и, поселившись там, он оттуда уже не выходил. Он весь день лежал, глядя иногда в окошко, иногда в потолок, но едва ли, думаю, сосредотачиваясь на чем-либо конкретном. Я проводила долгие часы, сидя рядом с ним, и когда он со мной не говорил, вкладывала в его уста придуманные слова и рисовала себе в воображении его беседу со мной. После возвращения папеньки домой маменька поднялась по лестнице к себе в спальню и притворила дверь. Дни текли один за другим, и она все больше времени проводила в постели. Она уже не так, как прежде, старалась постоянно двигаться, а праздность ей никогда не шла на пользу. По словам доктора Зандера, мать пребывала в состоянии ярко выраженного шока, и ее следовало понемногу заставлять прийти в себя. После приезда папеньки все ее тело несколько изменилось: кожа приобрела блеск и желтизну, как у луковицы. Она начала источать новые запахи. Как-то утром зимой смотрю: лежит босая, едва одетая, во дворе и плачет. Я помогла ей добраться до постели.
Так я и бегала взад-вперед между родителями – от маменьки в спальне на втором этаже до папеньки в его каморке внизу, и обоим читала Библию. Я использовала широкий табурет, помогавший мне избегать неудобств из-за малого роста, чтобы располагаться около папенькиной кровати с разных сторон, в зависимости от его нужд. Я всегда находилась при нем, когда его мыли и обтирали. Повитуха обращалась со мной очень по-доброму, иногда обнимала и тесно к себе прижимала, а я дивилась, какими же огромными могут быть человеческие тела, и тоже обнимала ее так сильно, как только могла. Мы часто ели вместе, и, думаю, она даже делилась со мной своей пищей. Заговаривая со мной о папеньке, она озабоченно хмурилась, а если в разговоре упоминала о маменьке, печально качала головой.
Однажды утром, когда я сидела рядом с папенькой, он умер. Эта была какая-то робкая, смиренная, я бы сказала, смерть. Я глядела на него во все глаза. Он слегка вздрогнул и заходил ходуном, но только совсем капельку, а потом очень тихо, почти незаметно, покинул нас. На прощанье он издал легкий вздох, с которым из его головы вылетела последняя мысль. Я все еще сидела рядом, держа его за руку, когда вошла повитуха. Она сразу же поняла, что папеньку можно больше не считать за живого. Она аккуратно уложила одну его руку на грудь, а потом подхватила другую и умостила рядом, после чего, взяв меня за ручку, отвела в дом своей дочки. Должно быть, там я и провела ночь.
А спустя несколько дней папеньку похоронили. Но в гробу, на крышку которого нам сказали набросать земли, папенька лежал неполный. Доктор Зандер накануне похорон отдал мне его серебряную кюветку, сказав при этом, что она стоит хороших денег. Кюветка была увесистая, как жестяная кружка с водой. Я все гадала, не будет ли папенька без нее тосковать, и подумала, что, может, лучше бы она оставалась при нем. И мне даже захотелось раскопать его могилу и вернуть на место эту серебряную вставку. А как бы иначе он мог разговаривать на небесах? Но потом, все обдумав, я поняла: эта кюветка, по правде говоря, вовсе не папенькин подбородок. Ведь ее отлили по форме чьей-то чужой челюсти. Только у меня его настоящий подбородок, который всегда при мне – чуть пониже маменькиного носа.
После папеньки остались военная форма, серебряная кюветка, вдова, осиротевшая дочь и – безденежье. Его армейского пенсиона не хватало ни на что. Чтобы нам с маменькой не помереть с голоду, ей нужно было найти какую-никакую работу. Возложив все заботы на себя, доктор Зандер узнал через знакомых в медицинских кругах, что одному врачу, некоему Филиппу Куртиусу, работавшему в Бернской больнице, требуется домашняя прислуга. Работа и полезность, пообещал доктор Зандер, спасут здоровье маменьки.
И маменька с несчастным видом, всем своим блестящим телом излучая несчастье, села писать письмо доктору Куртиусу. Тот ответил. Когда маменька получила от него ответ, к ней снова вернулась ее прежняя резвость – она опять пришла в движение, причем куда живее прежнего, точно страшно боялась хоть на секунду остановиться.
– Весьма образованный господин, Мари! – широко раскрыв глаза, воскликнула она. – Городской житель, Мари! Он – городской врач! Больше мы не будем прозябать в темных комнатушках сельской хибары. Мы сможем жить в просторных зданиях, где будет много воздуха, много света. Мой отец, твой дед, любил повторять, что мы заслуживаем лучшей жизни. И вот город! Куртиус из города!
И очень скоро, году этак в 1767-м, мы с маменькой сели в повозку и отправились в город Берн. В повозке я заняла место рядом с маменькой, вцепившись одной рукой за краешек ее платья, в другой руке сжимая папенькину серебряную челюсть, а Марта лежала в глубоком кармане подола. Семейство Гросхольц переезжало на новое место жительства. Повозка с грохотом катила по дороге, унося нас прочь от деревеньки, где я родилась, прочь от свинарника, от церкви и от папенькиной могилы.
Возвращаться мы не собирались.
Книга первая 1767–1769 Улица с односторонним движением
До той поры, как мне исполнилось восемь лет.
Глава третья
в которой мы с маменькой знакомимся со множеством диковинных вещей, кои отчасти содержатся в ящиках розового дерева, и мне приходится лицезреть вторую в жизни смерть
Бернская ночь – это шеренги сумрачных высоких зданий по обеим сторонам узких неосвещенных улиц, и людские силуэты, которые тенями двигаются по ним. Бернская больница, по счастью, выросла из тьмы, возвышаясь громадой над соседними улицами. Нас высадили прямо перед зданием больницы и поставили на мостовую наш скромный багаж – рундук, некогда принадлежавший моему деду-священнику. Повозка с грохотом укатила, спеша вернуться в родную деревню. В центральной части Бернской больницы размещались огромные черные ворота, настолько широкие, что в них могли одновременно въехать две кареты – они казались зевом исполина, заглатывающего пациентов в свои бездонные таинственные недра. Вот к этим черным воротам и подошли мы с маменькой. Там висел колокольчик. Маменька позвонила. Эхо от его звона облетело пустую больничную площадь. И тут совсем рядом кто-то закашлял и сплюнул. В воротах распахнулся деревянный квадратик дверки. Появилась голова, но мы едва различили ее во тьме.
– Спасибо, не надо, – произнесла голова.
– Если позволите, – начала маменька.
– Зайдите утром!
– Если позволите… я приехала к доктору Куртиусу. Он меня ждет.
– Кто?
– Доктор Куртиус. Мы будем жить в его доме, моя дочка и я.
– Куртиус? Куртиус помер. Уж лет пять как.
– Вот письмо от него, – не сдавалась маменька. – Я получила его неделю назад.
Высунулась рука и схватила письмо; дверка снова закрылась. Мы расслышали голоса людей, переговаривавшихся по ту сторону ворот, но потом дверка опять распахнулась, и снова появилась та же голова.
– А, этот Куртиус! Это другой Куртиус. Никто еще не приходил и не спрашивал этого Куртиуса. Он тут не живет, его дом на Вельзерштрассе. Вы не знаете, где это? Вы сельские жители, да? Думаю, Эрнст вас проводит.
Тут мы услыхали другой голос за воротами, а голова откликнулась:
– Проводишь, Эрнст! Да, раз я так сказал. Эрнст вам покажет! Сверните за угол, найдите боковую дверь. В двери увидите фонарь, им будут махать. С фонарем будет стоять Эрнст.
Дверка снова закрылась, и Эрнст вышел нам навстречу, одетый в черный сюртук больничного привратника. Нос у него был скособочен, то есть вывернут на сторону, а переносица осталась на лице там, где находилась с рождения. Сразу было видно, что в молодости он не раз дрался.
– Куртиус? – переспросил Эрнст.
– Доктор Куртиус, – ответила маменька.
– Куртиус, – повторил Эрнст, и мы двинулись в путь.
В пяти минутах ходу от больницы находилась узкая неприглядная улочка. Это и была Вельзерштрассе. Бредя по ней той ночью, я представляла себе, как дома тихо бормочут, обращаясь к нам: «Не останавливайтесь! Идите своей дорогой! Прочь с наших глаз!»
Наконец Эрнст остановился возле узкого домишки, бедноватого на вид и неухоженного, безжалостно зажатого между двух каменных соседей.
– Вот дом Куртиуса, – объявил Эрнст.
– Этот? – удивленно произнесла маменька.
– Именно этот, – подтвердил Эрнст. – Я сюда как-то заходил. Но больше ни за что не войду! Не стану рассказывать, что там внутри, но поверьте, мне там не понравилось. Нет, от Куртиуса лучше держаться подальше. Вы меня простите, если я вас оставлю, прежде чем вы постучите в его дверь?
И Эрнст со скособоченным носом удалился, зашагав поспешнее прежнего и унеся с собой фонарь.
Мы поставили свой рундук на землю. Маменька села на него и поглядела на дверь, словно в надежде, что она заперта. Так что мне пришлось подойти и трижды постучать. Потом еще раз. Наконец дверь отворилась. Но никто не выглянул наружу. Дверь так и осталась нараспашку, и нас так и не вышли встретить. Мы с маменькой немного подождали, пока я не стала дергать ее за руку, и наконец она собралась с духом, и мы с рундуком зашли внутрь.
Маменька тихо затворила за нами дверь, а я крепко зажала ладошкой подол ее платья. Мы оглядывались во мраке. Вдруг маменька, задохнувшись, воскликнула:
– Что это?
Кто-то притаился в темном углу. Это был очень худой и очень высокий мужчина. Он был так худ, что казалось, находился на грани голодной смерти, и так высок, что его голова едва не упиралась в потолок. На его бледном, словно призрачном, лице, освещаемом мерцающим светом свечи, во тьме виднелись черные провалы вместо щек, влажные глаза и клочки темных сальных волос. Мы замерли позади рундука, точно за крепостной стеной.
– Я приехала к доктору Куртиусу, – разъяснила маменька.
Ответом ей было долгое молчание, но голова чуть заметно кивнула.
– Я хотела бы его видеть, – продолжала она.
Голова издала некий звук. Должно быть, «да».
– Я могу его увидеть?
Тихо, медленно, словно речь шла о странном совпадении, голова произнесла:
– Куртиус – это мое имя.
– А я Анна-Мария Гросхольц, – промолвила маменька, стараясь совладать с охватившим ее волнением.
– Да, – отозвался худой мужчина.
После того как все представились друг другу, снова повисло молчание. Наконец стоящий в углу мужчина очень медленно заговорил:
– Я… видите ли… я не слишком привык общаться с людьми. В последнее время у меня было мало практики. Я весьма отвык… от этой практики. А ведь нужно пребывать в окружении людей, нужно, чтобы было с кем поговорить… иначе вы позабудете, понимаете, каковы они… в реальной жизни. И, так сказать, что с ними делать. Но теперь все изменится. С вашим присутствием в этом доме. Не так ли?
Наступило еще более тягостное молчание.
– Наверное, если вы готовы… мне стоит сразу показать вам дом?
Маменька с крайне несчастным выражением лица кивнула.
– Да, наверное, вам тут понравится. Я рад, что вы приехали. Добро пожаловать! Я хотел вам это сказать: добро пожаловать! Я хотел сказать вам эти слова, как только вы вошли. Я же их приготовил. И думал о них весь день. Но потом, гм, позабыл. Я не привык, понимаете, не привык… – бормотал доктор, медленно отлепившись от своего угла. Казалось, он, такой высоченный и худющий, весь был составлен из очень длинных прутов или палок, постепенно выпрастывая себя во всю длину, как паук распрямляет лапы. Мы последовали за ним – правда, держась на расстоянии.
– Для вас есть комната наверху, – сообщил Куртиус, махнув горящей свечой в потолок. – Она только для вас. Я никогда не поднимаюсь наверх. И очень надеюсь, вам там понравится. – И добавил чуть увереннее: – Прошу, вот сюда!
Доктор Куртиус толкнул дверь в стене, и мы свернули в короткий коридорчик. Коридорчик упирался в другую дверь, с тусклой полоской света под ней. Должно быть, именно там и находился доктор Куртиус, когда я постучала в дверь.
– Это моя рабочая комната, – подтвердил мою догадку доктор Куртиус. Он остановился перед дверью, и мы чуть не ткнулись в его длинную узкую спину. Он замер, полностью выпрямившись, насколько это ему удалось, потом проговорил медленно и четко:
– Прошу вас, входите!
В комнате горело с десяток или около того свечей, пламя которых, хотя и было скрыто защитными абажурами, красиво освещало помещение, настолько захламленное, что сразу было и не разобрать, где что. На длинных полках стояли ряды закупоренных пробками склянок с разноцветными порошками. На других полках, покороче, теснились совсем другие сосуды – пузатые, с внушительными стеклянными затычками, предупреждавшими о ядовитом характере налитых в них жидкостей – черных, коричневых или прозрачных. Там же стояли коробки, набитые вроде бы щетиной, похожей на человеческие волосы – а может, это они и были. По всей длине огромного верстака громоздились разнообразные медные лохани и сотни маленьких лопаточек для лепки самой различной формы: одни остроконечные, другие изогнутые, одни не больше булавки, другие, напротив, размером с мясницкий тесак. В центре верстака, на деревянной доске, находился бледный продолговатый предмет. Он там лежал и сох. С первого взгляда трудно было понять в точности, что это такое. Мясной обрезок? Куриная грудка? Нет, не то, но все же в нем было нечто такое знакомое, такое привычное. Это было что-то такое… его название буквально вертелось у меня на языке. Вот именно! На верстаке лежал самый настоящий язык! Который сильно смахивал на человеческий. И я подумала: если это и впрямь язык, то как он сюда попал и где сейчас тот, кто его потерял?
В комнате помимо этого языка было полным-полно удивительных вещей. Самые диковинные предметы в мастерской Куртиуса, как я потом поняла, размещались в многочисленных витринах-ящиках из розового дерева с четкими надписями на этикетках, которые несколькими рядами тянулись вверх и вниз, влево и вправо по всей стене. Этикетки пестрели словами, выведенными коричневой тушью каллиграфическим почерком: ossa, neurocranium, columnae vertebralis, articulatio sternoclavicularis, musculus temporalis, bulbus oculi, nervus vagus, organa genitalia. А рядом с языком на верстаке лежала еще одна этикетка, на которой было одно слово: lingua[1].
И тут я догадалась: это же части тела. Комната была заполнена ими. И я, крохотная девочка, во все глаза разглядывала части человеческого тела.
Нас словно познакомили друг с другом: куски человеческого тела, эту девочку-крошку зовут Мари. Девочка-крошка по имени Мари, а это – куски тела. Я держалась позади маменьки, все еще вцепившись в ее платье, но не могла оторваться от представшего моему взору зрелища.
Тут Куртиус заговорил:
– Урогенитальный тракт. Со свисающим мочевым пузырем. Кости. От бедренной – самой крупной и прочной в скелете, до слезной – мельчайшей и наиболее хрупкой кости лица. – Он обвел комнату взглядом. – И разные мышцы. Все снабжены этикетками. Десять групп головных мышц, от затылочно-лобной до медиально-крыловидной. Еще есть множество отрезков артерий, от верхней щитовидной до сонной, а также и вены: мозжечковая, подкожная, селезеночная, желудочная, сердечная и легочная. Есть у меня тут и органы! Каждый по отдельности лежит на красной бархатной подложке или выставлен вместе со своими соседями на деревянных подставках. Чрезвычайно сложный костный лабиринт уха. Или тугое сплетение кишечника, как тонкого, так и толстого, – неимоверно длинного и извилистого!
Маменька тоже взирала на содержимое комнаты, и, судя по ее виду, ей стало дурно. Куртиус, должно быть, заметил, что ее охватил ужас, потому что теперь он поспешно продолжал:
– Это все я сделал. Я их сам сделал. И костный лабиринт, и желчный пузырь, и желудочки сердца. Все сделал я. Все это только копии, муляжи. Я вовсе не хотел… Я не привык… Я вынужден извиниться. Что вы можете обо мне подумать! Не думайте, что они… настоящие! Они, разумеется, выглядят как настоящие. Они же похожи на настоящие? Скажите: да! Сами видите: вы должны сказать «да»! О да, совсем как настоящие, но они не настоящие. Нет! Хотя и выглядят так. Да. Потому что, по существу, понимаете ли, я их создал!
Мы с маменькой глядели на него. Нас так изумили удивительные предметы в этой комнате, что поначалу мы забыли попристальнее вглядеться в главную здешнюю достопримечательность – самого доктора Куртиуса при полном освещении. Куртиус, как теперь выяснилось, был молодым человеком, во всяком случае, моложе маменьки. Наблюдая, как его длинная темная фигура движется во мраке, я сочла его стариком, но тут я удостоверилась, что он долговязый и худой, робкий и увлеченный – и молодой и что говорит он с придыханием от возбуждения. Его худющее туловище всеми своими шестью футами с лишком возвышалось над нами, его тонкие ноздри слегка трепетали от волнения. Он был нескрываемо горд своей мастерской и явно наслаждался тем, с каким изумлением мы разглядываем плоды его труда. Когда он дышал, его ввалившиеся щеки не раздувались, длинный нос, точно натянутая бечевка, тянулся вдоль лица. Вены, толстые и тонкие, набухли на висках. Ну и, наконец, крупные изящные руки этого странного человека лежали, скрещенные, на узкой груди. Я поначалу решила, что он молится про себя, но вместо того он захлопал в ладоши. Звук был негромкий и напоминал взволнованное тихое постукивание – так малый ребенок ликующе отзывается на обещание дать ему что-то вкусненькое, и радостные хлопки звучали весьма неуместно в этой комнате. Верхняя часть его туловища слегка склонилась над хлопающими ладонями, точно это были не руки, а некая бледная птица, отчаянно бьющаяся в силках прямо перед его сердцем, и он тревожился, как бы она не вырвалась на волю.
– Это все я. Я их сделал. Все до единого. Из воска. Своими руками. Вообще-то их куда больше. Здесь вы видите лишь малую толику. Основная часть коллекции хранится в больнице, и там ее часто осматривают.
Когда доктор Куртиус завершил свою ознакомительную речь, я обернулась к маменьке. Ее лицо побледнело и покрылось испариной. Она ни слова не могла вымолвить. Так мы втроем стояли в полном молчании, пока Куртиус – мне показалось, немало разочарованный, – поинтересовался, не желаем ли мы поспать после долгого путешествия.
– Мы очень устали, сударь мой, – сказала маменька.
– Тогда доброй ночи!
– О, простите меня, сударь, – вспомнила она. – Наши документы. Полагаю, вы хотите их забрать.
– Нет, нет, не стоит. Прошу вас, держите их у себя.
Я последовала за маменькой, которая поволокла рундук вверх по лестнице и, войдя в нашу комнатушку, поспешила закрыть за нами дверь. Мы слышали, как Куртиус внизу меряет шагами свою комнату. Маменька села к окну и довольно долго смотрела наружу. Она держалась так тихонько, что я испугалась, не вернулась ли к ней прежняя болезнь. Наконец я помогла ей дойти до нашей кровати. В ту первую ночь на новом месте мы не сомкнули глаз до утра. Маменька обнимала меня, а я, в свою очередь, сжимала в объятьях Марту. Так мы и встретили рассвет, держась друг за дружку. Три ужасно взволнованные маленькие женщины.
Прежде чем мы спустились вниз, маменька мне сказала:
– Теперь мы в одной упряжке, ты и я. Понимаешь? Нам придется вести себя так, чтобы никоим образом его не рассердить. Если он нас выгонит, мы пропали! Пока мы остаемся в услужении у доктора Куртиуса, мы можем как-то существовать. Прислуживай ему хорошо, доченька!
Когда я по старой привычке ухватилась за маменькин подол, она тихо и печально произнесла:
– Не надо!
Маменька взяла ключи от дома. Мы мыли полы. Маменька стряпала. Мы ходили на рынок за провизией, но рынок ее пугал. Улицы были запружены людьми, но дело не только в этом. Выставленные на продажу продукты – все эти вспоротые и выпотрошенные мясные туши на крюках, все эти животные, разрубленные на части или целиком подвешенные за задние ноги, и целые птицы с обмякшими шеями и окровавленными клювами, болтающиеся на веревках, точно преступники на виселице, а еще глаза рыб, и тучи мух, и руки живых людей, все в крови, трогающие эти куски мяса, – все это постоянно напоминало маменьке увиденное ею в мастерской доктора Куртиуса.
Но, во всяком случае, в доме доктора царили тишина и покой. Сам Куртиус весь день оставался у себя в мастерской и редко оттуда выходил. Когда же появлялся, то казалось, ему было весьма удивительно видеть нас в своем доме.
– Не привык, не привык, – шептал он и исчезал в мастерской. Когда пришло время обеда, маменька поставила еду на поднос, ее вальтнеровский нос неодобрительно поморщился, она долго держала поднос высоко над кухонным столом, потом ее передернуло, отчего суп немного расплескался. Тогда я подвела ее к стулу, усадила, а сама отнесла поднос доктору Куртиусу. Он стоял, склонившись над столом, являя живую картину, изображающую три языка: настоящий отрезанный язык, его безупречную восковую копию и собственный язык доктора, торчащий между его губ, – он всегда высовывал язык, когда работал.
– Суп, сударь мой, – объявила я.
Он никак не отреагировал. Я оставила ему тарелку и затворила дверь. Суп стоял нетронутый, когда чуть позже в тот же день я вошла в мастерскую со словами: «Жаркое, сударь мой!» По правде сказать, суп стоял нетронутый всю первую неделю. Дважды Куртиус входил в кухню и говорил маменьке:
– Я так рад, что вы здесь, так рад, я просто счастлив…
И дважды маменькины руки тянулись к распятию на ее груди.
Во вторую неделю, когда мы, по моему разумению, немного попривыкли друг к другу, мы с маменькой вздрогнули на стук в дверь. Это был посыльный из больницы, облаченный, как и Эрнст, в черный сюртук, только звали его Генрих. У Генриха был видный нос, а остальные черты лица совершенно невзрачные; теперь я почти не помню ни его лица, ни его самого, кроме разве что его невыразительного имени.
– Посылка для Куртиуса, – сообщил Генрих, представившись. – Я обычно доставляю ему посылки, так что мы с вами будем часто видеться. Так-с, посмотрим, что у нас тут сегодня? – он приподнял крышку с коробки и тронул пальцем лежащий внутри, завернутый в мягкую ткань предмет. – Полагаю, кусок внутренностей покойника.
Маменька закрыла глаза и перекрестилась. Я шагнула вперед, припомнив ее слова о том, что мне надо быть полезной, и потянулась к коробке. Генрих поглядел на меня с сомнением.
– Благодарю вас, – сказала я, решительно вытянув обе руки. – Благодарю вас!
Когда Генрих неохотно передал мне коробку, маменька поспешно закрыла за ним дверь. Она на мгновение остановила на мне взгляд, точно перестала меня узнавать, после чего скрылась за дверью кухни. Я пошла за ней, намереваясь спросить, нужно ли отнести посылку доктору. Она энергично кивнула и взмахом руки попросила меня вместе с коробкой вон. И я понесла ее в мастерскую.
– Куски внутренностей, сударь! – объявила я, умостив коробку на ту часть верстака, куда обычно ставила тарелки с едой. На сей раз доктор Куртиус соизволил поднять на меня глаза.
Маменьке работа давалась все с большим трудом. Она частенько садилась в кухне, держась за небольшое нательное распятие. Мухи в доме Куртиуса – а мухи там роились тучами всегда и повсюду – приводили ее в паническое состояние, ведь они беспрепятственно летали по всем помещениям, проникая и в мастерскую, и уж оттуда по всему дому разносили известия о происходящем в мастерской. Маменька сидела неподвижно, с закрытыми глазами, но при этом бодрствовала, а я носилась как заводная, исполняя ее указания.
Спустя два дня после того, как я отнесла коробку доктору Куртиусу, мы сидели у очага на кухне, и маменька читала мне Библию. Тут вошел доктор Куртиус, тихонько постучав в дверь.
– Вдова Гросхольц, – сказал он, и маменька закрыла глаза. – Вдова Гросхольц, – повторил он. – Я бы хотел, если вас это не затруднит, вдова Гросхольц… я так рад, кстати сказать, как мы хорошо уживаемся и как все мы довольны… Я, гм, весьма рад, что у нас сложилось такое… общество и как мы хорошо ладим, и что мы стали добрыми компаньонами, и у нас образовалось маленькое общество, и я бы хотел, да, чтобы вы немного помогали мне в мастерской. Я могу вас об этом попросить? Было бы очень хорошо, полагаю, начать с завтрашнего дня. Это было бы прекрасно. Я бы хотел показать, как следует обращаться с моими произведениями, чтобы не повредить их. Я бы хотел, понимаете ли, должным образом познакомить вас с ними. Я уверен, вам понравятся ваши новые обязанности. Вы в мгновение ока поднаберетесь опыта в этом деле.
Доктор Куртиус заметил, как маменька слегка кивнула. Но меня она не могла провести. Маменькин кивок скорее был нервной дрожью, неправильно истолкованной доктором.
– Тогда доброй ночи. Благодарю вас, – сказал он на прощанье.
В ту же ночь, когда мы вернулись в нашу комнатку на чердаке, маменька, уложив меня в кровать, поцеловала в лоб.
– Будь полезной, Мари. Ты очень хорошая дочка. Прости, но я не могу. Я старалась, но не могу.
– Не можешь что, маменька?
– Будь хорошей девочкой, помолчи. Доброй ночи, Мари.
– Доброй ночи!
Потом маменька наказала мне закрыть глаза, чтобы я побыстрее уснула.
Зажмурь глазки, сказала она мне, и отвернись к стене. Послушавшись, я сквозь дрему услыхала, как она перекладывает вещи, снимает простыню с кровати, двигает стул. Потом я уснула.
А когда проснулась, свеча отгорела. Было раннее утро. Маменьки не было в кровати рядом со мной. Комнату заливал бледный, голубоватый свет. В рассветном сумраке я могла различить что-то темное, свисающее с потолочной балки. Я не могла припомнить, что видела там этот предмет раньше. Это была маменька. Она повесилась.
Обеспокоившись, я сжала маменькину ступню ладошкой, но ее голая ступня не дала мне утешения. Ведь в конечном счете это была просто ледяная нога, и этот холод стал жутким подтверждением, что моя маменька скончалась. В смерти женщины нет ничего особенного, женщины всегда будут умирать в нашем мире повсюду: нет сомнений, что, пока я пишу эту предложение, где-то умерло несколько женщин, но эта единственная женщина, которая сейчас меня заботит, эта единственная женщина, привязанная к потолочной балке, в отличие от всех прочих женщин в мире, эта женщина была мне матерью. До этого у меня была моя маменька, за чью спину я в любую секунду могла спрятаться. Теперь я была незащищена. Смерть ее была не такой тихой и задумчивой, как смерть моего отца, ее смерть была деловитым, поспешным поступком: маменька просто выпрыгнула из жизни. И за чье же платье мне теперь хвататься? Хвататься за материно платье мне больше не придется. Ее холодный нос отвернулся от меня, возгласив об отречении.
– Маменька! – позвала я. – Маменька, маменька!
Но она, а вернее, свисающее с балки туловище – все, что осталось от моей маменьки, – не отозвалась.
В ужасе я заметалась по комнате, ища какого-нибудь спасительного утешения, и нашла только Марту.
Должно быть, доктор Куртиус услышал мой плач, потому что он подошел к лестнице и крикнул снизу:
– Где твоя мамаша? Пора! Уже давно пора! Мы же договорились!
– Она не придет, сударь мой.
– Но она должна, должна! Мы же договорились.
– Прошу вас, сударь, прошу вас, доктор…
– Что?
– По-моему, она умерла.
Тут Куртиус поднялся по чердачной лестнице и отворил нашу дверь. Я тихо пошла за ним. Куртиус знал толк в трупах. Он же был знатоком мертвых тел и их осунувшихся лиц. И сейчас, едва открыв дверь комнатки, он с первого взгляда на висящее, словно пальто, туловище понял, что перед ним очередной экземпляр.
– Застыла, – произнес он, – застыла, застыла…
Он прикрыл дверь. Я стояла рядом с ним на верхней площадке чердачной лестницы.
– Застыла, – низко нагнувшись ко мне, прошептал он с таким видом, точно это был наш с ним секрет. Он спустился по ступенькам вниз, потом обернулся ко мне, кивнул и вновь прошептал, причем его лицо исказила гримаса жуткой печали:
– Застыла, – и вышел из дома, закрыв и заперев за собой входную дверь.
Я сделала восковую копию дикого голубя, которая заменила мне маменьку
Прошло немало времени, а я сидела на ступеньках лестницы с Мартой. Мы сидели тихонько и чего-то ждали. Маменька наверху, думала я, она наверху и – мертвая!
Наконец из больницы пришли люди. С ними был доктор Куртиус.
– Я не могу заставить людей работать, – приговаривал он. – Я могу привести их в нерабочее состояние, я могу разъять их на части, да, в этом деле я хорош, у меня богатый опыт, но они не хотят у меня работать. Я не могу заставить их работать со мной. Они отказываются. Они умолкают. Они застывают.
Люди из больницы поднялись по лестнице к нам на чердак, встали рядом со мной и Мартой, но не обращая на нас внимания. Самый пожилой из них открыл дверь и впустил всех в комнату – то есть всех, кроме Куртиуса, который остался снаружи. Перед нашими носами дверь захлопнулась. Оставшись вдвоем, мы оба стали гадать, не допустили ли мы какой-то ошибки, а иначе с чего это нас туда не впустили? Доктор Куртиус, теперь вконец оробевший, старался не смотреть на меня, хотя мы с ним стояли очень близко. Молодой доктор Куртиус теперь выглядел совсем юным, чуть не ребенком, когда стоял, не сводя глаз с двери.
Наконец дверь отворилась. Самый старший из больничных людей с очень серьезным видом заговорил тихо и медленно:
– Отведи девочку вниз. И пусть она остается там.
Куртиус покачал головой и ответил едва слышным обиженным голосом:
– Если вы заставите меня к ней прикоснуться, боюсь, и она тоже умрет, хирург Гофман.
– Глупости! Идем, Филипп! Филипп Куртиус, ты можешь это сделать!
– Не знаю. Я правда не знаю.
– Отведи ребенка вниз. Давай займемся делом.
– Но что мне с ней делать?
– Неважно! – отрезал хирург. – Просто уведи ее отсюда.
Дверь снова захлопнулась перед нашими носами. Помедлив, Куртиус слегка постучал по моему плечу.
– Пойдем, – сказал он. – Прошу тебя, пойдем, – и стал спускаться по лестнице. Я положила Марту в карман, где она была в безопасности, поднялась со ступеньки и медленно пошла за ним в мастерскую.
В мастерской Куртиус огляделся вокруг, точно не был уверен, что мне предложить. Потом он вроде нашел ответ. Сняв с полки коробку с костями, он вытащил из нее и передал мне, с величайшей нежностью, насколько я помню, человеческую лопаточную кость, вроде бы правую.
– Это хорошая кость, – шепнул он, – великолепная и очень удобная кость. Это часть плечевого пояса, крупная, плоская, треугольная и чрезвычайно приятная на ощупь. Да, изумительная, умиротворяющая кость.
Вскоре в мастерскую пришел хирург Гофман и застал нас поглощенными беседой. Я восседала на табурете, а Куртиус сидел на полу подле меня и рылся в коробке с костями.
– А вот это, смотри, височная кость… А эта… гм… левая теменная… ну а эта – крестцовая, она чудесна, не правда ли? Они все чудесные, правда? Мои старые друзья!
– Дело сделано, – сообщил хирург.
Я не издала ни звука.
– Теперь, – продолжал хирург, – надо что-то решить с ребенком. Ее нужно где-то пристроить.
– Я могу оставить ее у себя? – поспешно спросил доктор Куртиус. – Малышку. Могу я ее оставить у себя?
– И речи быть не может! – покачал головой хирург.
– Но я бы хотел ее оставить.
– Почему, скажи на милость?
– Она не боится.
– А с чего ей бояться?
– Она трогает кости.
– И что это значит?
– Она спокойная.
– И что с того?
– Возможно, она умненькая, возможно, она глупенькая, не знаю. Но пока что, если не возражаете, я хочу оставить ее при себе.
– Она тебе полезна?
– Возможно, я ее обучу.
– Что ж, – вздохнул хирург. – Тогда оставь ее пока у себя, мне-то какое дело? А там придумаешь для нее что-нибудь получше.
Глава четвертая
в которой я была сначала одна, а потом удвоилась.
В тот первый вечер, когда мы остались в доме вдвоем, я стояла посреди кухни, а Куртиус пытался что-то приготовить. Стараясь быть полезной и работящей, как меня учила маменька, я спросила, могу ли я чем-то помочь: он был слишком возбужден, и я, не дав сковородкам перекалиться на большущем огне, принялась помогать ему со стряпней.
– Я тебя не боюсь, – сообщил мне доктор Куртиус. – Ты меня совсем не пугаешь. У тебя же ничего нет, так? Совсем ничего.
Когда мы покончили с едой и пришла пора идти спать, Куртиус молча наблюдал, как я поднимаюсь по ступенькам в свою чердачную комнатушку.
– Доброй ночи, крошка!
– Доброй ночи, сударь мой!
– Как тебя зовут? Мне же нужно знать твое имя, верно? Я вообще-то понятия не имею, как обращаться с детьми. Наверное, я буду допускать ошибки. Но насколько мне известно, у всех детей есть имена. Какое у тебя имя?
– Анна-Мария Гросхольц. Но маменька всегда называет меня… Мари.
– Ну, раз так, то доброй ночи, Мари. Ложись спать!
– Доброй ночи, сударь!
И я поднялась в свою чердачную комнатенку, лелея слабые надежды, что, как всегда, обнаружу там маменьку и расскажу ей о событиях сегодняшнего весьма необычного дня. Ну и, разумеется, ее там не оказалось. Но хотя маменьку унесли куда-то прочь, они забыли забрать простыню, на которой она повесилась, и эта простыня валялась теперь комком в углу. И тут я подумала, что, видно, она уже никогда не вернется сюда. Ни завтра, ни послезавтра, ни к концу недели, и жизнь в городе Берне, и в доме Куртиуса, и даже моя собственная жизнь будет теперь продолжаться без маменьки. Я стала раздумывать, куда ее увезли.
Мне было не по себе в этой комнатенке. Отвернувшись, я вдруг начинала воображать, будто маменька все еще свисает с потолочной балки, с вывихнутой шеей и свернутой вбок головой, но когда я глядела туда, ее там не было. И это подвешенное туловище вовсе не казалось мне маменькой, а скорее незнакомцем, который своровал ее у меня. Комната не внушала мне доверия – лучше уж оказаться в любой другой комнате, думала я, но только не сидеть на этом чердаке, поэтому, удостоверившись, что доктор Куртиус удалился к себе, я прокралась вниз вместе со своим одеялом, прихватив с собой подаренную маменькой Марту и папенькину серебряную челюсть. Я попробовала расположиться в кухне, но там мне почудилось, будто повесившаяся вернулась: словно маменька с вывихнутой шеей сидела у очага: я увидала ее Библию, все еще лежащую на выступе посудного шкафа, и теперь книга меня напугала. Мне захотелось оказаться в любой комнате – но только не в кухне и не на чердаке. Но когда я вышла из кухни, мне привиделось, что маменька с выкрученной шеей бредет за мной по всему дому, и мне пришло в голову, что единственное место, куда она за мной не последует, – это мастерская Куртиуса. Там, в мастерской, как мне было известно, хранились все те жуткие предметы, все мрачные секреты, которым лучше бы так и оставаться нераскрытыми, а подойдя к мастерской, я ощутила, как маменька с выкрученной шеей дышит у меня прямо над ухом, поэтому я вошла туда и поспешно затворила за собой дверь. Я находилась одна в комнате, переполненной кусками человеческих тел, и их призрачные фигуры толпились вокруг меня. Но зато я больше не чувствовала подле себя дыхания моей маменьки с вывихнутой шеей. Я осторожно устроила себе лежанку под верстаком и, мысленно моля куски человеческих тел отнестись ко мне по-доброму, крепко зажмурила глаза и наконец уснула.
Я намеревалась проснуться пораньше, чтобы на цыпочках прокрасться обратно к себе на чердак, так, чтобы доктор Куртиус не услышал, но, проснувшись, поняла, что никто иной, как доктор Куртиус трясет меня за плечо и что уже давно утро.
– Вот ты где! Так ты спала тут? – проговорил он. – Давай, пора вставать!
Больше он ни словом не обмолвился о моей ночевке в мастерской, под его верстаком. Я свернула одеяло и положила его на полку – и тут на меня нахлынули воспоминания о смерти маменьки.
– Пойдем, пойдем, – не унимался он. – Ты должна поторопиться!
И ровно в семь утра началось мое обучение.
– Ты должна запомнить, – говорил он мне, – я не привык к людям. Я знакомлюсь с людьми только по частям. Не целиком. Я хочу их понять. Я хочу узнать их получше. Но мои модели слишком сильно на меня влияют. Я и сам стал себе сниться лежащим в ящике-витрине из розового дерева, на подложке из красного бархата. Да-да, и хуже всего, что по-настоящему страшит меня, над чем у меня нет никакой власти, чем я не могу пренебречь и что не в силах отогнать, так это то, что в моих снах я в этом ящике прекрасно себя чувствую. Выпустите меня! – воскликнул Куртиус, слегка постучав кончиками пальцев по моей груди. – Эй, кто-нибудь, выпустите меня! Разве вы не слышите, как я стучусь в стекло изнутри! Я лежу тут! Кто же выпустит меня? Я хочу получше узнать живых людей. Я хочу узнать тебя получше. Да-да! Мы здесь. Вот и все. Я тебя не боюсь. Ни в малейшей степени.
Доктор Куртиус внезапно вскочил со стула и торопливо принялся за работу. Немного погодя он оставил свое занятие и обернулся ко мне.
– Знаю! – воскликнул он. – Я знаю, как с этим обойтись. Я знаю способ. – И он забегал по мастерской, сгребая разные предметы и раскладывая их на верстаке.
– Давай-ка, Мари – ведь тебя так зовут? – обратился ко мне Куртиус, удовлетворенно разглядывая собранные на верстаке штуковины. – Давай, если ты готова и если хочешь, начнем!
– Я вполне готова, сударь мой!
– Эти инструменты некогда принадлежали моему отцу. А он служил главным анатомом Бернской больницы, это был великий человек! После его смерти все эти инструменты перешли ко мне по наследству. – Он подошел к сосуду, наполненному гипсовым порошком, мерной ложкой зачерпнул оттуда немного, высыпал гипс в металлическое ведерко и, добавив немного воды, тщательно перемешал.
– Я покажу тебе, как это все делается, чтобы ты поняла и потом смогла повторить весь процесс. Для этого я изготовлю слепок. Не части тела, нет, не сегодня. Сегодня для твоего обучения я, если не возражаешь, сделаю слепок твоей собственной головы.
– Моей головы?
– Да, твоей головы.
– Моей головы, сударь?
– Повторяю: твоей головы.
– Ну, если вам так угодно, сударь…
– Мне угодно!
– Ну тогда ладно, сударь, слепок моей головы.
И мы начали.
– Сперва немного масла, – с этими словами он нанес масло на мое лицо, – чтобы потом гипсовую маску можно было легко снять. Он размазал масло по всему моему лицу. – Соломинки! – вдруг вскрикнул он. – Нужны соломинки. Чуть не забыл! – И он осторожно вставил мне в ноздри две соломинки, чтобы я могла дышать сквозь гипсовую маску. – Закрой глаза. И не открывай, пока я не скажу.
Он принес гипсовый раствор. И я почувствовала, как вязкий гипс тонким слоем растекся по моей коже, а сверху легли полоски ткани, густо пропитанные жидким гипсом. Странное тепло от гипсового раствора, казалось, глубоко проникало в кожу и сковывало мое лицо. Было темно, и по щекам, векам, губам и шее растекалось тепло, пока я вдруг не почувствовала, что куда-то уплываю, а может быть, уже даже умерла. Потом мне почудилось, что во тьме я мельком увидела маменьку, но она тотчас исчезла, и я вновь погрузилась во тьму и пустоту, и рядом никого не было. Наконец с моего лица сняли гипс, и вернулся свет, и я снова очутилась в мастерской. Доктор Куртиус поспешил с гипсовым слепком к верстаку. Потом он смочил мои волосы маслом, усадил меня затылком вперед и снял гипсовый слепок задней части моей головы, а потом и слепок моих ушей.
– Ну вот, – сказал он, – теперь положим дров в плиту и разожжем ее. Я это покажу тебе, но только один раз. Потом твоя очередь. – И он разжег огонь. – Смотри и запоминай! – Он забегал по комнате, раскладывая на верстаке нужные инструменты. Сначала он измельчил в ступке пигменты, комментируя все свои действия. – Краплак и киноварь смешиваем. Добавляем кармазина, немного голубого и зеленого. Щепотку. Измельчаем. Чуточку желтого. Смешиваем. Вот так, видишь? Теперь вот так, – приговаривал он, подойдя к огромной бутыли в оплетке и с краником и налив из нее немного жидкости в небольшую банку. – Это скипидарное масло, которое надо постоянно добавлять к пигментам. Итак, получилась смесь. Смотрим: вот твой цвет!
Он снял с полки большую медную чашу, показал мне и заставил в нее заглянуть. Потом поставил пустую чашу на горячую плиту.
– Что у нас? Ничего! Так, вот табуретка, сядь на нее! Ну вот, теперь, думаю, мы готовы.
Взяв большой нож, он подошел к запертому посудному шкафу, отпер дверцу и очень осторожно, так, чтобы я не видела, что-то отрезал этим ножом. Потом запер дверцу шкафа и вернулся.
– Это, – сказал Куртиус, показывая мне катышек желтоватого вязкого материала, – то, что я держу, это вещество, это главное! При том, – продолжал он, любовно перекатывая катышек в ладонях, – при том, что сам он не имеет ни характера, ни свойств. Сам по себе он ничто, но он может быть дружелюбным или безучастным, он может быть красивым, он может быть уродливым, он может стать костью или стенкой брюшной полости, может превратиться в разветвление артерий и вен, а может стать лимфатическими узлами, стволом головного мозга, ногтями – чем угодно, от крошечной слуховой косточки внутри уха до бесконечной ленты кишечника, свернутой внутри нас. Всем, чем угодно! Он может стать чем угодно! И он может стать ТОБОЙ!
– Но что это, сударь мой? – спросила я.
– Это зрение и память, это история. Он может стать серым, как легкие, и коричнево-красным, как печень, может стать чем угодно, в том числе и тобой.
– А он может стать моей куклой Мартой?
– Может! Да, еще как может! Он может воспроизводить поверхность любого предмета с поразительной точностью. Эта поверхность может быть шершавой, гладкой, рифленой, блестящей, плоской, рябой, рваной, в крапинку, в шрамах, скользкой или покрытой коркой. Сама выбирай! Нет такой поверхности, которую он не мог бы повторить.
– Тогда может ли он стать маменькой?
– Нет, дитя мое, – ответил он после некоторого колебания, – ею он стать не может. Как не может стать моим отцом или моей матерью. Они тоже умерли. Он мог бы ими стать. Как бы я этого хотел! Но теперь слишком поздно. Они исчезли в пустоте. Ты можешь это понять? И их оттуда уже не извлечь, остались лишь их образы, которые мы лелеем в своей душе, не точные образы, а лишь блики, крошечные осколки. А этого недостаточно. Не осталось никакой поверхности, а это, понимаешь ли, требует поверхности. Таково его правило. Так что для твоей матушки слишком поздно.
– Мне так жаль, что это не может стать маменькой.
– Он жаждет стать личностью, – проговорил Куртиус, – жаждет стать чем-то. И ему требуется только ненавязчивое указание. Ну что, укажем ему нужное направление, а, крошка Мари? Сейчас ты сама увидишь, какой он удивительно послушный работник, какой он великий актер!
– Хорошо, сударь.
– Тогда подержи его в руках! Вот, бери! Понюхай!
Я взяла катышек и понюхала его.
– Да это же простой воск, – протянула я разочарованно.
– Нет! Ничего подобного! Никакой это не простой воск! Любой воск – вещество возвышенное, священное! А вот это, это – аристократ среди всех видов воска, князь всех восков! Величайший материал для изваяния мельчайших деталей, для тончайших имитаций, честнейшее из всех веществ. Вот это – комочек чистого пчелиного воска.
– Чистый пчелиный воск, – повторила я, стараясь запомнить это название.
– Его производят азиатские медоносные пчелы. Так, отлично, а теперь пустим его в работу.
– Медоносные пчелы, – повторила я.
Далее воск был растоплен в медной чаше, а в него добавлен пигмент и еще немного каучука. Куртиус рассказал, какую температуру огня следует поддерживать в плите, как осторожно следует смешивать воск с добавками. Наконец все было готово. Сначала слепок моего лица. Он намазал внутреннюю поверхность веществом, которое назвал «мягким мылом», чтобы потом воск можно было без усилий удалить, после чего залил внутрь расплавленный воск. Сначала совсем чуть-чуть, покрыв тонким слоем всю поверхность слепка, причем внимательно наблюдая за процессом. Доктор взял в руки слепок и стал его потряхивать, чтобы воск равномерно распределился по всей поверхности и не осталось пузырьков воздуха. Затем он положил второй слой воска, а потом и третий, и четвертый, и пятый. Последние два слоя, пояснил он, утолщают будущее изделие и придают ему прочность. После нескольких минут ожидания – всего лишь нескольких минут! – восковой слепок был готов. Доктор довольно легко извлек его из гипсовой формы.
– Это мое лицо? – изумилась я.
– В точности!
И он оставил меня с моим восковым лицом. Оно было еще теплым, точно жило собственной жизнью. Но довольно скоро восковое лицо остыло. Доктор залил воск в другие слепки моей головы. И каждый слепок открыл свой секрет. И теперь перед нами лежали разные части моей головы, покрытые воском цвета кожи, причем восковая пленка имела оттенок моей кожи, как он и сказал. Мои волосы он заранее собрал у меня на макушке и теперь сделал их копию из окрашенного коричневым пигментом воска. Наконец он занялся прилаживанием частей моей головы друг к дружке, чтобы, как он выразился, собрать муляж. Каждый фрагмент был соединен с соседним: в щели между кусками надо было влить еще расплавленного воска или срезать лишние кусочки застывшего, а потом отшлифовать восковую поверхность, чтобы швы стали незаметными. Нижнюю поверхность шеи ему пришлось сделать совершенно плоской, чтобы моя голова могла стоять без подпорок. Восковая голова была полая внутри, и он набил ее старым тряпьем, паклей и стружками.
– Для прочности, – пояснил он.
И вот на верстаке стояла моя голова.
– Я все собрал воедино, а не разобрал на части, – сказал Куртиус.
Я глядела на свою голову: вот она я на столе в мастерской, с закрытыми глазами. Девочка с отцовским подбородком и материнским носом. Мне подумалось, что недавно была одна я, а теперь удвоилась.
В конце дня мы поели суп в кухне.
– Прошу прощения, сударь… – начала я.
– Да, слушаю тебя.
– Я вот тут думала, сударь, о моей маменьке. Куда ее дели?
– Не могу сказать, – ответил он. – Но это можно выяснить. Хирург Гофман наверняка знает. Когда он к нам зайдет, мы непременно спросим у него.
– Я бы хотела сходить на ее могилу.
– Да-да, конечно. Мы спросим.
Когда мы покончили с супом, я убрала со стола посуду, и он сказал:
– Пора спать, Мари Гросхольц.
– Да, сударь мой, – кивнула я, жутко боясь возвращаться к себе на чердак.
– Если хочешь, можешь спать внизу. В мастерской. Но только ничего не трогай! Хотя погоди-ка. Скажи мне: тебе там не было страшно одной?
– Я чувствовала, как все они бродят по комнате. Обрубки людей.
– Да что ты?
– Но потом мне стало все равно.
– Неужели? Многие испытывают к ним отвращение. А теперь в постель! И спи крепко!
Я вернулась в мастерскую и умостилась на своей лежанке на полу. Так я и лежала под верстаком, на котором стояла моя вторая голова. Ночью, если я замирала, мне чудилось, будто я слышу дыхание всех этих обрубков тел. Но рядом с собственной восковой головой я не чувствовала себя в комнате лишней. И еще я думала, что, если я буду очень прилежной, доктор оставит меня у себя.
Глава пятая
Снова хирург
Иногда моя помощь требовалась у плиты, иногда я подавала доктору Куртиусу нужные инструменты. Чтобы быть ему полезной, мне пришлось выучить разные названия. Там были штангенциркули и шпатели, напильники и полировщики, еще были скребки и тросики, лопатки и весла, были скребки для гипса и проволочные резаки для глины, были наборы разных ножей и ножичков с разными бороздками на кончиках лезвий, некоторые с изогнутыми концами, некоторые с закрученными, были инструменты, сделанные из стали, или из свинца, или из разных пород дерева, из твердой древесины и из мягкой древесины, из розового дерева и из вишневого дерева, одни гладкие, другие шершавые, одни чрезвычайно острые, другие намеренно затупленные, и названия всех этих инструментов я должна была знать назубок. Все это были привычные орудия скульптора – но лишь малая толика из используемого доктором инвентаря. У Куртиуса имелась масса хирургических инструментов, необходимых для его работы. У них тоже были названия, и про них ни в коем случае нельзя было говорить «та штука», или «эта штука», или тем более «та палочка с длинным загнутым концом», или «кривая палочка с крючком», и мне пришлось выучить и запомнить все названия отдельных представителей металлической коллекции доктора. Там было семейство скальпелей, от прямых до выгнутых, от плоских до трубчатых. Там были самые необычные разновидности ножниц, прямых и заостренных, щипцов-расширителей для мышц и тонких зажимов. Были еще канюлированный стилет и канюлированный щуп. Да, и не забудем прижигатель в форме монеты, как и его братца – клинообразного прижигателя, а равно и их кузена – прижигателя в форме ключа. И нельзя путать заостренную иглу-стилус с плоской «сетонской иглой». А еще он пользовался простенькими щипчиками-«пеликанами» и такими же, но покрупнее, плоскогубцами. Там лежали бельморез и носовой зонд, а тут – языкодержатель и горжерет для введения в пищевод. И все эти чудного вида приспособления были сделаны для проникновения внутрь человеческих тел, для протыкания и выдергивания, для скобления и прижигания. Однако доктор Куртиус применял эти штуковины не по их прямому назначению, а для своих особенных нужд при изготовлении восковых муляжей. И мне казалось, что все эти металлические приспособления обладали какой-то неутолимой жаждой проникать в человеческое тело.
Когда бы я ни брала одно из них за деревянную рукоятку, у меня возникало стойкое ощущение, как под моими пальцами инструмент стремится изменить направление движения и впиться в мою плоть. С инструментами всегда приходилось держать ухо востро и крепко сжимать в руке, потому как все они были весьма решительные субъекты. Мне вечно приходилось показывать им, кто тут хозяин, и если я вдруг отвлекалась хоть на секундочку, хоть на миг, они сразу нацеливались вспороть мне кожу. Несколько раз им это удавалось: однажды меня цапнули за кончик пальца, в другой раз куснули за ладонь, что неизменно вызывало ярость доктора Куртиуса. Потому что с ним они были тише воды, ниже травы, ведь он их всех укротил. В его руках они оставались паиньками.
Генрих из Бернской больницы в ту первую неделю приходил дважды с коробками, набитыми кусками тела, которые Куртиусу предстояло копировать в гипсе. Я наблюдала за его работой и вскоре начала выполнять для него несложные задания. Меня окружали предметы, изъятые из недр тела. Частенько эти безжизненные куски людей доставлялись нам после того, как они подвергались нападению какого-нибудь студента-анатома в больнице: это могли быть окровавленные лоскуты ткани, изрезанной в клочья, или часть торса, истыканного студентами-практикантами. Желтые и серые обрывки кожи сваливались горой на верстаке. Их смрад подавлял все иные запахи. И еще очень долго после того как источник смрада покидал стены мастерской, жуткий запах носился в воздухе, ощущался на языке, в носу, в глазах и на коже. Кусок тела, думала я, ты чей? Я видела шрам, веснушку, родинку, морщинку на холодной плоти, волоски на руке – и пускалась фантазировать. И ведь это зрелище не внушало мне ужаса, совсем нет, оно стало обычным, привычным. Этому научил меня Куртиус.
– Это же просто фрагмент человеческого тела, Мари. И ничего в нем нет особенного. Человеческие тела, в конце концов, самые обычные предметы.
В конце недели приехал хирург Гофман. Он остановился перед моей восковой головой и смотрел на нее с изумлением.
– Так-так. Ты опять взялся за свое. Поразительное сходство, Куртиус.
– Благодарю вас, сударь! – отозвался тот.
– Правда, это едва ли имеет большое значение, – задумчиво пробормотал Гофман, хотя было видно, что он не может оторвать взгляд от восковой головы. – Я не думаю, Куртиус, но все же… Нет, конечно, нет!
– Что вы хотите сказать, сударь?
– Я собирался сказать какую-то ерунду, какую-то глупость.
– И все же, сударь?
– М-да. Вот что, Куртиус, я хотел высказать предположение… хотел предложить, что, возможно, ты бы мог добиться такого же отменного сходства, такой точности, вылепив меня? Ты смог бы? Что скажешь?
– Да, сударь, я бы смог.
– В самом деле?
– Без сомнения, сударь!
– Ты думаешь, я глупец?
– Вовсе нет. Если вам будет угодно, сударь…
– Мне будет угодно! Я считаю, что пора мне прославиться, в конце-то концов. Я известный специалист в своей области. Я не жду, что мне установят бронзовую статую, но такое вот изваяние из воска, почему бы нет? Я был бы тебе весьма благодарен.
– Я могу это сделать, сударь.
– Хорошо. Да, это хорошо!
Куртиус отправился за сосудом с сухим гипсом. А я подошла к старику.
– Прошу, садитесь, сударь.
Он сел на стул, было видно, что он немного нервничает. Я обернула вокруг его шеи белую простынку, точно он сел в кресло цирюльника. Подошел Куртиус с пузырьком масла.
– Мне нужно расстегнуть ворот вашей сорочки, сударь, чтобы приоткрыть шею. Закройте глаза, сударь.
– Да, – отозвался тот.
– И не открывайте.
Мой наставник нанес на лицо хирурга немного масла. Тот поморщился.
– Я теперь в вашей полной власти, так, Куртиус?
– Вам следует сидеть абсолютно неподвижно! – ответил он. – Это необходимое условие. Я вставлю две соломинки вам в ноздри, и вы будете дышать через них, пока я не скажу. И губы тоже крепко сожмите.
Воцарилась тишина, мы в молчании корпели над хирургом. Он полностью нам подчинился. Его грудь вздымалась и опускалась, оставаясь единственным зримым подтверждением того, что он жив. Когда Куртиус удалил с его лица гипсовый слепок, под ним обнаружилось лицо испуганного и оробевшего старика, который, моргая, глядел на нас с недоумением. И тут я решила воспользоваться моментом.
– Вы меня извините, сударь? – обратилась я к хирургу.
– Что такое, мое дитя?
– Я вот все думала, куда дели мою маменьку.
– Боюсь, твоя мать умерла.
– Да, сударь мой, мне это известно. Но где она сейчас? Я бы хотела ее навестить.
– Навестить? – в изумлении воскликнул он. – Что за странная прихоть!
– Когда скончался мой папенька, у него была могила. Сударь, скажите на милость, а где маменькина могила?
– Дитя, – строго сказал он. – Нет никакой могилы.
– Как нет могилы? Совсем никакой?
– Нет, нет. Ее погребли в яме. Она обрела покой рядом со множеством прочих горемык. Но ее не отдали на растерзание студентам в больницу, чтобы она не попала к Куртиусу. Я не мог этого допустить. И тем не менее она легла в общую могилу для нищих, понимаешь? Быстрое погребение, вполне достойное. Кто-то что-то сказал. Залили едкой известью. Положили рядом с остальными неимущими мертвецами, доставленными в тот день.
– Но где находится эта яма? Где теперь моя маменька? – меня переполняло отчаяние.
– Тебе не стоит говорить со мной в таком тоне! Не смей!
– Прошу вас, скажите!
– Такие погребения не записываются ни в каких книгах. А едкая известь действует… быстро.
– О, маменька! – зарыдала я.
Хирург отошел к Куртиусу.
– Позволь мне взглянуть на мою голову!
– Она еще внутри, – Куртиус продемонстрировал гипсовую форму, – в зазеркалье, в перевернутом мире. Но воск скоро покажет свои чудодейственные свойства.
– Но я хочу ее увидеть!
– Увидите в свое время. Это всего пару дней. Приходите через два дня. А сейчас вы нам больше не нужны. Ведь у нас есть это!
– Я должен оставить у тебя свою голову?
– Тут она будет в полной безопасности.
В ту ночь, оставшись одна в мастерской, я плакала, уткнувшись в одеяло, так как у маменьки не оказалось могилы, куда я могла бы приходить. Ничего от нее не осталось, совсем ничего, кроме ее Библии, в которую, казалось, была вложена частица ее горестей.
Но потом, утерев нос, я вдруг придумала грандиозную теорию. Вот мой нос – вернее, маменькин нос. Значит, она все еще здесь. Маменька. Моя. Вот так и пришла в голову моя великая система носа. Она оставила мне свой нос, и больше ничего и не требовалось, чтобы помнить о ней. Я обладала двумя одинаковыми воздушными проходами, с помощью которых могла вдыхать и обонять любовь. Меня порадовали эти мысли и обуяла гордость за мою теорию. Вот маменька, вот папенька, они со мной, и я могу жить дальше.
Глава шестая
Головы
Куртиус изготовил голову хирурга Гофмана. Голова получилась в морщинах, с немного обвисшей кожей у уголков рта, брови слегка нахмурены. Тонкие губы.
– Вылепив твою голову, – сообщил мне Куртиус, – я совершил великое открытие и испытал немалое удовлетворение. Но голова заставляет меня чувствовать тревогу. В присутствии этой головы мне следует постоянно помнить о приличиях. Я не огорчусь, когда ее унесут отсюда.
Когда хирург Гофман вновь к нам пришел, он долго стоял в раздумьях перед своей восковой головой. Она его немало поразила, так что его глаза увлажнились. Он глубоко вздохнул, раздув ноздри.
– О да, – изрек он, – должен признать, это точно я. Как же это странно – осматривать с разных ракурсов и ходить вокруг… себя. Словно это и не я вовсе, а кто-то другой. Раньше я себя недостаточно хорошо знал. Да, отличная работа!
Уж и не знаю, кому предназначалось последнее замечание – Куртиусу или восковой голове, но, произнося эти слова, хирург смотрел на голову. Завернув ее, он отправился с ней в Бернскую больницу. Мы оба не были опечалены, глядя ему вслед.
А два дня спустя к нам пожаловал больничный капеллан, который и себе заказал восковую голову. Он так настойчиво об этом просил, что Куртиус взял заказ, но когда голова была готова и заказчик пришел за ней, он явно огорчился, словно надеялся лицезреть изваяние некого святого, а увидел лишь лысеющего старичка с ямочкой на подбородке.
Наша совместная работа в доме на Вельзерштрассе весьма спорилась. Мы с доктором Куртиусом неплохо сработались, думала я, хотя временами, должна признаться, я ему мешала.
– Сударь! Простите, сударь, вы позволите?
– Что?
– Все эти кусочки, сударь, на стене, эти здоровые части тела – все вместе, неужели они умещаются внутри одного туловища?
– Ну да, в теле каждого человека находятся все эти органы.
– Не может быть!
– Но это так!
– Не может быть!
– Говорю же тебе, именно так!
– У нас уже скопилось слишком много кусков, сударь, не так ли?
– Мари, я пытаюсь работать! Я привык к тишине. Почитай книгу! – и тут он умолк, внезапно захваченный новой идеей. – А лучше сделай вот что: возьми кусок угля и лист бумаги, сядь там в уголке и нарисуй что-нибудь.
– Что нарисовать, сударь мой?
– Нарисуй… нарисуй вот это!
– А что это такое?
– Medulla oblongata, или продолговатый мозг.
– Medulla oblongata. Продолговатый мозг. Хорошо, сударь. Похоже на крысу с прямым пробором.
– Рисуй!
Так я начала рисовать. Когда мне не нужно было хлопотать у плиты или подавать ему инструменты, я сидела в уголке и рисовала.
Четвертую восковую голову Куртиус сделал для директора больницы. Увидев головы хирурга и капеллана, директор тоже захотел такую же. Вот что я тогда поняла: люди восхищаются собой. Директор самолично пришел к нам на Вельзерштрассе, и его приход поразил Куртиуса до глубины души. Директор больницы поставил голову директора больницы в центральном вестибюле. И потом частенько останавливался перед ней и неотрывно на нее смотрел. Довольно скоро люди, которые не имели никаких дел в больнице, совершенно здоровые и даже, возможно, жизнерадостные люди, чьим единственным недугом было чрезмерное любопытство, входили в черные больничные ворота только с целью поглазеть на директора больницы, стоящего перед восковой головой директора больницы.
Я рисовала стальные инструменты покойного отца Куртиуса, я рисовала почки и легкие, кости и опухоли, чтобы получше их узнать. Я рисовала Марту, и папенькину серебряную челюсть, и себя. Я выходила не слишком хорошо, то есть совсем не хорошо, так было поначалу, но я очень старалась.
– Ты только бумагу изводишь, Мари, – упрекнул меня Куртиус. – Пойдем-ка со мной.
И я пошла за ним на кухню. Там он взял белого хлеба, выковырял мякиш из корки, скатал его в шарик и вернулся с ним в мастерскую. Он взял один из моих рисунков – я нарисовала, или хотела изобразить, желчный пузырь, и он стал тереть бумагу хлебным шариком до тех пор, пока мой рисунок углем не перекочевал на хлебный мякиш, который теперь стал черным-пречерным, а бумага при этом приобрела первоначальную белизну.
– Когда допускаешь ошибки, а ты их допускаешь, сразу иди на кухню. Белый хлеб!
Однажды вечером я рисовала, и он спросил:
– А это что такое?
– Вот что, – ответила я. – Печень.
– Неужели? – строго сказал он. – Посмотри получше! Марш за хлебом!
Позднее он произнес:
– Нет, еще нет. Все еще не похоже. Посмотри еще раз, смотри внимательно. Хлеб!
Я выучила наименования всех костей человеческого тела, рисуя их. Я изучала органы размножения, подсчитывала бугорки на позвоночнике – и все-все рисовала. Я разглядывала анатомические рисунки в его книгах и копировала их карандашом. Я засыпала вечером, не выпуская из пальцев карандаш. Я рисовала Куртиуса.
Благодаря восковой голове директора жители Берна узнали про доктора Куртиуса и про его дом на Вельзерштрассе. И стали наносить визиты. Вылепите мою голову, просили они, и Куртиус лепил. Голова торговца. Голова кузнеца. Голова банкира. Голова чиновника. Люди все приходили и приходили, один-два визитера в неделю. А я открывала двери гражданам Берна.
– Прошу вас, сударь, проходите сюда, – вежливо говорила я и усаживала посетителей в кресла. Все изумленно глазели на полки, заставленные восковыми работами Куртиуса.
– Они чудесны, не правда ли? – приговаривала я.
– Чудесны, да, – нервно соглашались посетители.
Я обматывала полотенца вокруг шей и покрывала полотенцами плечи, аккуратно снимала с голов парики, мыла лица и закалывала волосы на затылках. Я просила людей зажмуриваться и намазывала маслом их веки, брови, подбородки и лбы. Я осторожно вставляла им в ноздри соломинки. Я всегда действовала нежно и аккуратно. Я подготавливала головы бернцев для Куртиуса.
– Ну вот, жители Берна больше не попадают к нам по кускам, – радостно констатировал Куртиус, – а всегда только целиком!
Одного недоставало: к Куртиусу никогда не приходили женщины.
Куртиус воспроизводил каждую морщинку, каждую пору, каждый шрамик и ямочку на коже. Для каждой головы он специально отрисовывал область глаз, испещрял бумажные листы рисунками носов с мельчайшими подробностями, делал акварельные эскизы. Когда делается слепок лица, глаза в целях безопасности всегда плотно закрыты, а когда головы почти закончены, глаза у них должны быть открыты, чтобы изваяние выглядело как живое. И Куртиус делал эти глаза, сверяясь со своими рисунками и заметками, добавляя их к каждой готовой голове. При изготовлении новой головы, я замечала, лицо самого Куртиуса менялось, он сам старался копировать взгляд незнакомца, словно пытался стать зеркальным отражением его лица, повторить все его изгибы, как это делает расплавленный воск.
Бернские жители постепенно протоптали дорогу к диковинному дому на Вельзерштрассе. К нему подкатывали богатые экипажи. И лишь один человек был не рад этому новому предприятию Куртиуса. Хирург Гофман при виде сонма чужих голов, на фоне которых тускнел его собственный восковой муляж, и опасаясь, как бы больница не лишилась своего анатома-скульптора, забеспокоился. То, чем увлекся Куртиус, увещевал он, едва ли возможно назвать наукой! И ежели он продолжит свою сомнительную практику, каковую следует считать чем-то вроде побочного увлечения, не более того, то Бернская больница больше не будет финансировать его работу. И в самом деле, довольно скоро Куртиусу урезали жалованье. Тем вечером, когда мы сидели в кухне, Куртиус произнес необычную речь. Хотя он говорил, опустив голову, словно обращался к тарелке с супом, я сочла, что речь предназначалась мне, а не картошке и луку в мясном бульоне.
– Доктор Гофман использовал мои скульптуры не только для обучения будущих хирургов, – начал он, – но для обучения всех людей. Это были уменьшенные изваяния больных. Меня вызывали делать муляжи в одном из отделений больницы. Я сидел в палате рядом с сифилитиками – то рассматривал сыпь на лице юноши, то копировал покрытый язвами язык женщины или мужское лицо, которого болезнь лишила носа. И всякий раз, когда я заканчивал эти уменьшенные муляжи, меня просили носить их по улицам Берна и показывать всем жителям. При этом я должен был всех предупреждать: вот смотрите, так выглядит оспа. Будьте бдительны! А так выглядит сифилис, а вот так – отравленный алкоголем, а этот – опиумом. Берегитесь!
Он помолчал. Проглотил ложку супа. И продолжал.
– В этом заключалась моя работа. А с такой работой не наладишь добрые взаимоотношения с соседями. Такая работа заставляет людей отшатываться от тебя. Каждое появление на пороге человека с подобным новым заказом лишает ощущения счастья. Люди сторонились меня! Сколько раз я жаловался хирургу Гофману – и наконец он освободил меня от домашних посещений. И я стал затворником, я никуда не выходил и никого не видел. Но я жаждал общения с людьми. И в конце концов хирург Гофман, хотя он и не одобрял этого, позволил мне завести слуг. Так вы появились у меня в доме, но твоя бедная матушка скончалась. Зато я больше не одинок, теперь люди хотят меня видеть. Ко мне приходят, на меня смотрят, и хотя мне не пожимают руку, никто не отводит от меня взгляда! Когда-то я обретался только в компании смерти, днем и ночью, в окружении мертвых предметов, но теперь жизнь стоит у моего порога, и я говорю ей: входи! Входи! Тебя так давно тут не было, добро пожаловать в мой дом! И мне нравится эта новая жизнь! Но теперь, Мари, хирург Гофман заявляет, что он этого не потерпит! Что ж, хирургу Гофману неведомо, что назад я уже не вернусь! Я больше не стану этим заниматься. Рядом с почкой всегда есть другая почка. А я всегда был уникален и одинок, как червеобразный отросток. Но с меня довольно! И все из-за тебя!
Он доел суп. Я взяла пустую плошку.
– Благодарю вас, сударь!
– Да, – отозвался он.
Куртиус не заметил моей улыбки.
Глава седьмая
Есть город далекий
К тому моменту, как Куртиусу снизили больничное жалованье, он достаточно зарабатывал своими восковыми головами, чтобы не прозябать в нужде. Он заглянул в посудный шкаф и удостоверился, что запасов воска и прочих материалов хватает. Он продолжал вылеплять только головы. А счета исправно приходили. Счет за аренду дома, счет за материалы, потом еще пришло письмо с уведомлением о необходимости вернуть жалованье за несколько месяцев, так как все это время он работал не на больницу, а исключительно на себя.
Однажды к Куртиусу пришли два иноземных визитера. Поглядев в замочную скважину, я поняла, что они не из больницы, и открыла им дверь.
– Прошу вас, господа, сюда! – вежливо обратилась я к ним.
Оба были облачены в строгое платье, одно серое, другое белое, и оба запыхались от быстрой ходьбы. Господин в белом достал из кармана блокнот, перо и походную чернильницу с откидной крышечкой на пружинке. Весь его белый сюртук был в синих пятнах. У него был выдающийся нос и небольшой подбородок.
– Мы наслышаны о вас, – обратился он к Куртиусу на хорошем немецком языке, хотя по нему было видно, что он прибыл издалека. – Ваша известность вышла за пределы вашего города. Итак. Время не терпит. Итак. Мы приехали, чтобы все увидеть собственными глазами.
И Куртиус пригласил обоих поглядеть на готовые восковые головы, выставленные на полке в ожидании заказчиков. Господин в белом мельком взглянул на головы, без приглашения уселся на стул и принялся листать блокнот. Господин в сером оглядывал головы куда дольше, чуть не вплотную приблизив свои темные глаза к восковым.
– Все вы – скульптурные портреты граждан Берна, – тихо произнес он, обращаясь к головам. – Я вас знаю. Я слышу ваш шепот в маленьких коридорчиках. Вы издаете тихое шипение. Потоки воздушных слов. И я чувствую ваше неодобрение.
Он отвернулся от шеренги голов, постоял немного в молчании, нагнулся и уронил голову себе в ладони, точно ему вдруг стало больно, и тихо простонал:
– Ну где мне обрести успокоение?
Вынув из кармана засохший стебель растения, он стал его разглядывать, безмятежно бормоча себе под нос:
– Picris hieracioides…[2] – эти слова вроде бы его утешили.
Господин в белом, полагая, что я чем-то растревожила господина в сером, махнул мне рукой.
– Оставь его в покое, неприглядное дитя, подойди ко мне. Он совсем не понимает детей. У него были собственные дети, но он их отослал прочь. Но я-то тебя прекрасно понимаю. Я, к примеру, могу сказать: тебе ужасно хочется узнать, что я пишу в своей книжечке так торопливо, не так ли? Ну, разумеется, хочется! Ну что ж, коли ты настаиваешь, я тебе скажу. Я вспоминаю свои прогулки. Мне только что пришла на ум одна из них. Я коллекционирую прогулки своей жизни. Кое-кто интересуется: неужели я исходил так много дорог только из любви к движению? На что я отвечаю: главное – не расстояния, которые ты прошел, а тщание. И поверь мне, все мои прогулки отличались великим тщанием. Ну а теперь, само собой, тебе хочется узнать, куда же я ходил. Не так ли, крошка-шалунья? – так он меня назвал и, по-видимому, весьма довольный своим наблюдением, продолжал обзываться, ни на мгновение не озаботившись, как я воспринимаю его оценки. – Крошечное уродище, крошечное чудовище в обличье ребенка… малышка… крошечный волчонок… крошечная обладательница торчащего носа… крошечное обвинение человечеству… крошечная… крошка… – завершил он тираду, уже не в силах подобрать мне точное определение, кроме того, что я крошка, крошечное нечто…
Он почесал острый нос, взглянул на свои башмаки, и тут я впервые заметила, что на башмаки надеты полотняные мешки с завязками на лодыжках, а самих башмаков не видно. Но сейчас он распустил завязки и снял мешки – под ними оказались самые обычные мужские башмаки черной кожи, поношенные, с серебряными пряжками.
– Вот! – он снял один башмак и передал его мне. – Понюхай! Сунь в него свой хобот.
Я понюхала башмак. Из него дурно пахнуло.
– Ты знаешь, что это за запах? – спросил господин в сером.
– Это, – рискнула я ответить дерзостью, потому что этот человек был со мной так невежлив, – запах сгнившей ноги?
– Париж! – ответил он. – Это запах Парижа!
Так я впервые услышала название этого города. И повторила:
– Париж.
– В этих башмаках я исходил Париж вдоль и поперек, – продолжал он, – от моста Пон-Нёф и рю Сент-Антуан до крошечных закоулочков. Мои башмаки провели меня по великому множеству улиц, которые я читал как предложения и записывал все, что видел. Я не обращаю внимания на памятники, большие церкви и исторические здания. Я говорю о людях. Счастливых, несчастных и тех, кто между ними. Я знаю их всех. Я вижу их во время своих пеших прогулок, и они населяют страницы моего блокнота. Открой любой мой блокнот, на любой странице, и ты сможешь учуять великий смрад и услышать какофонию Парижа. Прочти любое предложение, и ты зашагаешь рядом со мной, среди всех этих людей. Благодаря этим башмакам я видел их всех: утомленных энциклопедистов, гениев химии, членов Академии, актеров «Комеди франсэз» и «Гранд-опера», бульварных кукольников, мастеровитых сапожников, нервных изготовителей париков, уличных разносчиков-калек, чрезмерно тщательных дантистов, чудовищно неряшливых хирургов, старьевщиков, повитух, бандерш, карманных воришек с кожей, изрытой оспой и густо напудренной, королевских отпрысков и подкидышей – словом, все ингредиенты густого парижского супа.
Если верить его рассказу, довольно бойкое место этот город.
– Мы – неразлучная троица, – продолжал гость, – мой правый башмак, мой левый башмак и я. Мы вместе прошли через жуткие ужасы, но мы переступали через такие вещи. Иногда мы поскальзывались и падали, признаем, но всегда поднимались снова и шли дальше.
Он подхватил меня и усадил себе на колени. Мне это не слишком понравилось: поза неудобная, да и неприятно было ощущать мужские ляжки. Куртиус, который все это время притворялся, будто чем-то занят у своего верстака, едва не выронил огромный межкостный нож для вскрытия нижней части голени.
– А почему у вас эти мешки на башмаках, сударь? – поинтересовалась я.
– Потому, что я никогда не позволю своим башмакам соприкасаться с булыжниками столь недостойных улиц, каковыми являются улицы Берна. Стоит мне покинуть Париж и оказаться в другом городе, как я сразу теряю ориентиры. Но в Париже ты можешь где угодно завязать мне глаза, раскрутить на одном месте и отпустить, и я сразу скажу, в каком из шестнадцати округов мы находимся, и не только это, но и на какой улице, более того, я смогу назвать даже имена людей, проживающих на этой улице. Я покинул мой город – и это ужасно! и для меня это невыносимо! – чтобы сопроводить сюда господина, которого ты так растревожила. Он же сейчас в изгнании. Его книги запрещены в Париже и преданы огню в Женеве.
Я повернулась к тому, другому. Он все еще рассматривал свое засохшее растение. И вот этот человек, подумала я, сочиняет книги? Книги, которые оскорбляют чувства людей?
– Она моя служанка, – наконец произнес Куртиус. Я радостно сползла с колен грубияна и встала рядом с верстаком своего хозяина.
Господин в белом указал на восковые головы.
– Впрочем, вы должны признать, что в целом их тут не так уж и много. Я не имею ничего против исполнения, ваша работа в высшей степени приемлемая. Но вот ваши типажи порождают у меня сомнения. С таким же успехом вы могли взять первого встречного на улицах Берна и объявить его стоящим всеобщего внимания, простолюдина, к которому выстроится очередь желающих его увидеть, при том, что все эти ваши головы принадлежат самым заурядным людям.
– Но у меня нет никаких предпочтений, – возразил Куртиус, – когда я работаю либо с частями тел, либо с головами.
– А может быть, стоило бы их иметь, – произнес говорливый господин. – Вам требуются лица, достойные вашего дара, лица, которые способны бросить вызов вашему мастерству. Вы можете продолжать лепить невзрачных субъектов, но сами подумайте вот о чем: как вы сможете развивать свое искусство, имея дело с такими посредственными, скучными, неодухотворенными лицами? Вам следует поехать в Париж и открыть там цех. Вам это принесет успех. Это же просто трагедия, что вы попусту растрачиваете свой талант в Берне. Подумайте, какие головы вы могли бы изваять! Лучшие головы мира находятся в Париже, а не здесь. Хотя вряд ли вы рискнете туда поехать, да? Вы не похожи на человека, способного на такое, увы. Что ж, – сказал он напоследок, – если передумаете, то вот вам мой адрес.
Вырвав листок из своего блокнота, он черкнул там свое имя и адрес – слово «ПАРИЖ» было выведено размашисто, со множеством завитушек. Звали его Луи-Себастьян Мерсье.
– А этого господина с растением, – добавил Мерсье, – мы назовем месье Рену. Хотя это и не настоящее его имя. Мы зовем его Рену для отвода глаз. Вот он, – и тут Мерсье указал пальцем на своего спутника, – голова! Уверен, вы согласитесь со мной. Просто чтобы вы знали, раз уж вы доставили мне удовольствие, я шепну вам на ушко, кто он. В вашей мастерской стоит никто иной, как автор «Эмиля» и «Общественного договора» собственной персоной! Что вы на это скажете?
Но мы с Куртиусом понятия не имели ни о трудах, ни о личности этого достославного господина.
– Будете в Париже, – проговорил Мерсье после того как мы не сумели должным образом отреагировать на его заявление, – если решите приехать туда, где только и можно найти стоящие головы, непременно загляните ко мне! Я бы с радостью упомянул о вас в своем блокноте, но увы, покрутившись в вашем Берне, я просто не могу себе этого позволить. Хотя, должен признать, вы – необычный экземпляр, с этими вашими головами и этой неприглядной крошкой-служанкой.
– Говорите, все хорошие головы в Париже? – спросил потрясенный Куртиус.
– И больше нигде! – кивая и улыбаясь, подтвердил месье Мерсье. – Пойдем, мой дорогой Рену – ведь сегодня ты Рену, – нам пора в путь! – Обернувшись к нам, он пояснил: – В городе мы постоянно находились под пристальным наблюдением и, оказавшись поблизости от вашей улицы, решили заглянуть к вам ненадолго. Теперь, думаю, можно без опаски идти дальше. Благодарю вас за уделенное нам время!
Куртиус проводил их до двери, Мерсье (чьи башмаки вновь оказались в плену мешков) энергично протянул ему на прощание руку и отвесил поклон несколько смятенному автору сих строк, но я нарочно отвернулась.
Я не придала этому визиту ни малейшего значения.
Глава восьмая
несколько тревожная
Хирург Гофман наконец-то пожаловал с последним предупреждением и мрачными посулами. Очень скоро, объявил он Куртиусу, а точнее, до конца недели, сюда нагрянут судебные приставы. Все имущество будет конфисковано Бернской больницей до тех пор, пока он не возместит весь свой весьма существенный долг. Он разорен, заявил хирург, он утонет в своих долгах. Была, впрочем, одна возможность, одна надежда на спасение: и хирург Гофман описал себя как доброго самаритянина, как единственного доброго друга Куртиуса, который исхлопотал для него помещение в Бернской больнице, так что он сможет оставаться на территории этого мрачного учреждения, получая какое-никакое вспомоществование. Там его ждет надлежащий уход, он будет окружен заботой и сможет продолжать работу с анатомическими моделями без опасения отвлекаться на посторонние дела – короче говоря, заключил хирург Гофман, там он будет счастлив.
– А разве у меня неприятности? – спросил Куртиус. – Я что, в большой беде?
– О да, Филипп, боюсь, что так.
– Я не хочу неприятностей. Мне это совсем не нравится. Я обеспокоен, хирург Гофман, обеспокоен – и я боюсь.
– И правильно, Филипп, – отвечал хирург, – но тебе вредно так волноваться. Позволь я возьму на себя бремя твоих неприятностей. Ты не создан для житейских треволнений. О тебе нужно заботиться. Человек вроде тебя нуждается в защите. Переселяйся в больницу! Там для тебя уже готова комната. Там тебя будут каждый день кормить, обо всем позаботятся, тебе не о чем будет беспокоиться! И у тебя не будет больше финансовых затруднений, поскольку больница обеспечит тебя всем необходимым, у тебя вообще не будет нужды в деньгах. Я лично позабочусь о твоем удобстве, и только я, и никто больше, буду давать тебе заказы на работу. Я позабочусь, чтобы ты был постоянно загружен и работал на благо хирургии. Филипп, прояви благоразумие, пока я еще в силах тебе помочь. Если же ты отвергнешь мою помощь, я сильно опасаюсь, что за тобой придут и потащат тебя в тюрьму.
– В тюрьму! – в страхе выдохнул Куртиус.
– За воровство из больницы. То, что ты сделал, противозаконно.
– Но я же не знал! Я не знал!
– Впрочем, ты будешь в полной безопасности, Филипп, находясь за стенами больницы. И пусть эти стены оберегают тебя от остального мира, и пусть за этими стенами происходит что угодно, ты же будешь в безопасности.
– Я буду в безопасности?
– Ну разумеется!
– И я буду делать свои муляжи?
– Конечно!
– Не головы?
– Ну, иногда и головы. Возможно. Внутренние органы голов.
– Но я больше не хочу лепить внутренние органы. Они меня угнетают, эти внутренности! И они меня сводят с ума! – воскликнул Куртиус. – Мне больше радости доставляет лепить головы.
– Филипп, а сейчас у тебя много радости?
– Нет, вынужден признать, что нет.
– А все потому, что ты лепил эти головы. Это единственная причина твоих нынешних несчастий.
– А моя служанка? Она переедет туда со мной? Мы будем жить вместе в этой выделенной комнате?
– Это вообще-то не предусмотрено правилами больницы. Кроме того, тебе не понадобится служанка, поскольку ты будешь на полном обеспечении. Да и, по правде говоря, у тебя нет средств держать прислугу, не так ли? Но я помогу и в этом. Ее можно пристроить работать в больничной прачечной.
– Чтобы она там была среди грязных простыней пациентов, среди болезней? – пробормотал мой хозяин.
– Ну так что, Филипп, пойдешь прямо сейчас? – спросил хирург. – Полагаю, так будет лучше.
– Хорошо. Да, в прачечной.
– Сударь, сударь! – взмолилась я.
– Париж, – прошептал Куртиус.
– Что ты сказал? – спросил хирург.
– Ничего, – ответил Куртиус. – Хирург Гофман, дадите ли вы мне немного времени, чтобы собрать вещи? Я ведь весьма скрупулезный человек, мне нравится делать все размеренно, в спокойном расположении духа. На сборы, полагаю, уйдет неделя.
– Отлично, тогда я пришлю тебе посыльных. Через неделю. Молодец, Филипп, ты поступаешь благоразумно. Твой отец гордился бы тобой!
С этим хирург удалился. Больше я его никогда не видела.
– Я набрался смелости, – прошептал Куртиус, когда дверь закрылась. – Теперь я ничего не боюсь. И вы меня не испугаете, хирург Гофман, хотя нет, вы-то можете, еще как можете! – буркнул он в сторону двери. – Я очень боюсь, но и с вами, и с Берном покончено. Какой скучный, ничтожный городишко. Подлый и мелкотравчатый. Здесь не найти хороших голов, ни одной! Даже ваша голова, хирург Гофман, никуда не годится!
Куртиус вошел в мастерскую и начал собирать инструменты.
– Я могу вам помочь, сударь? – спросила я.
Он не ответил.
– Сударь! Что такое?
– Париж, Мари, – сказал он. – Париж!
Но ни слова о том, что он возьмет и меня с собой. Обо мне он вообще не упомянул.
– А я с вами? – спросила я. – Я могу разжигать плиту. Я знаю названия почти всех ваших инструментов. Я умею разглаживать лица людей. Я могу вставлять соломинки в ноздри. Я все это умею. А со временем многому другому обучусь. Сударь мой, прошу вас, прошу, возьмите меня с собой!
Куртиус отвлекся от сборов. Он поднял меня и усадил на стол, а сам присел, так что наши головы стали вровень.
– Кое-что произошло, – заметил он, и слезы брызнули из его глаз. – Ты разве не заметила? Нечто в высшей степени необычное. Так малая лучевая кость прикрепляется к длинной локтевой кости, так малая берцовая неотделима от большой берцовой. Мы теперь связаны – ты и я.
– Сударь?
– Я без тебя теперь не справлюсь.
– О, благодарю вас, сударь! Благодарю!
– Нет-нет, это я тебя благодарю.
Итак, мы едем в Париж. Вместе в Париж. Но как это сделать? Чтобы отправиться в Париж, нужно быть смелым. А чтобы набраться смелости, нужно продать кое-что, чтобы выручить денег. Кое-что из инструментов его отца, за изрядную сумму, две его книги. Чтобы набраться смелости. Нужно часто повторять: Париж, Париж, Париж… А чтобы набраться еще больше смелости, нужно достать все официальные бумаги, аккуратно сложить и убрать подальше бумагу, принадлежавшую мертвой маменьке. А чтобы помочь самой себе набраться смелости, нужно зажать в ладони несколько человеческих костей или восковых частей тела.
– Воск помогает людям в горести, – пояснил мой наставник, передавая мне надгортанный хрящ, вылепленный из воска. – В некоторых католических странах есть поверье, что если твой знакомый или родственник страдает от сильных болей в той или иной части тела, то ему следует купить восковую миниатюрную копию больного органа – увы, отвратительно вылепленную, но все равно передающую форму и назначение органа, – которую он затем должен положить в нужном месте в церкви, чтобы Господь смог увидеть, какая часть тела поражена недугом, и согласился бы помочь ему исцелиться. Вот почему воск помогает раненым.
Куртиус медленно, с усилием заставил себя выйти из дома и побрел по Вельзерштрассе – купить нам места в повозке. Потом ему стало дурно, он зашел за угол, и его там стошнило, немного попало на сюртук, но дело было сделано. И Марта, папенькина серебряная кюветка и кое-какая моя одежда были сложены вместе с прочими необходимыми вещами в рундук моего деда. Но осталось еще много свободного места. И Куртиус с величайшей бережностью уложил туда мою восковую голову.
– Нам это понадобится, чтобы заявить о себе.
А инструменты, книги и приспособления, которые избежали продажи, он убрал в старый кожаный саквояж своего отца – потертый и потрескавшийся. Мы покинули жалкий дом на Вельзерштрассе в сопровождении двух больничных посыльных. Куртиус отдал им ключ от двери. Он сказал им, что мы идем на прогулку, после чего пообещал прийти в больницу.
– Идете на прогулку с рундуком? – удивились они.
– Ну да, – неуверенно ответил Куртиус, – да он же легкий. До больницы сам донесу.
– Мы его возьмем, – возразили посыльные. – Кладите!
– Не стоит беспокоиться! – заупрямился Куртиус. – Не стоит, право. Вот если вы перенесет туда мою мебель – письменный стол, книжные полки, вы окажете мне неоценимую помощь.
Этого, сказал мне Куртиус, вполне хватит, чтобы оплатить все его долги после нашего отъезда.
– Вот только с восковыми муляжами будьте предельно аккуратны, – печально предупредил он посыльных. – Они такие чудесные, и мне так грустно оставлять их здесь… даже ненадолго.
Мы вышли из дома. В нашем распоряжении, по расчетам Куртиуса, было несколько часов, пока нас не хватятся. И мы направились прямиком к гостинице, около которой конный экипаж собирал седоков. Экипаж мы ждали долго, и все это время Куртиус печально смотрел в землю. Но вот наконец задудел рожок, и маменькин рундук и кожаный саквояж Куртиуса разместили вместе с прочим багажом на задке. Наши места были сверху. Наконец лошади тронулись с места. Куртиус вновь расплакался.
Спустя полчаса мы выехали за городские ворота. Прощай, покойная моя маменька! Я вступаю, как папенька до моего рождения, в большой мир, отправляясь в те неведомые места, где наряду с прочими превратностями твоей судьбы ты мог потерять свою нижнюю челюсть. Берн остался позади.
Больше я сюда не вернусь.
Книга вторая 1769–1771 Покойный портной
До того как мне исполнилось десять лет.
Глава девятая
Невинные дети
Всю дорогу Куртиус молчал. Он втянул голову по самую макушку в воротник пальто и старался ее оттуда не высовывать. В Невшателе он поменял все бернские талеры на французские ливры. Перед тем как въехать во Францию, мы пересели в другой экипаж. В Дижоне мы заночевали. В крошечной комнатушке, снятой Куртиусом, стояла одна кровать, я спала у него в ногах. Куртиус подобрал колени к груди и во сне невольно пытался выпрямить ноги, а я просыпалась в тревоге и наблюдала, как к моему лицу приближаются галеры его ступней, вздымая волны на простыне. В следующую ночь в Осере мой наставник разговаривал во сне, произнося названия частей тела. А на следующий день наше путешествие наконец закончилось. Сначала Париж поразил меня запахом – затхлой вонью левого башмака господина по имени Луи-Себастьян Мерсье. Потом, по мере того как мы, сидя на крыше экипажа, приближались к городу, перед нашим взором Париж вырастал из грязно-желтой дымки: как набухшая язва на небе, прогрызающая пелену зимнего воздуха, как возникший из ниоткуда тяжко дышащий великан. Чем ближе мы подъезжали к Парижу, тем мрачнее становилось вокруг, в воздухе плясали клочья грязи. Наконец мы подъехали к таможенной заставе на городской границе. Прямо перед нами тридцатифутовым препятствием высилась массивная угрюмая арка. Появились таможенники, сумрачные мужчины в зеленых мундирах. Нам грубо приказали спуститься на землю. Нас обшарили холодные руки. Все рундуки и сумки были сняты с экипажа, раскрыты и обысканы. Куртиус шепотом приговаривал, что он сейчас умрет. Я дрожала, боясь, что нас разлучат, ведь, случись такое, как же я смогу его опять отыскать? Все-все тщательно осмотрели. Мою восковую голову работы Куртиуса передавали из рук в руки, по очереди трясли, пока один из чиновников с отвращением не объявил, что в данном предмете нет ничего противозаконного. В наши бумаги поставили какие-то штампы и взмахом руки дозволили продолжать путь. Экипаж проехал под аркой, потом мимо нас проплыла серая угрюмая громада, которая, как я впоследствии узнала, была крепостью-тюрьмой, называемой Бастилия.
Считая про себя покосившиеся белостенные здания, я вновь почуяла смрад города. Наверное, это был тот самый запах, что затаился в левом башмаке месье Мерсье, но только здесь, в месте, где этот запах возник, он ощущался куда сильнее. Я подумала, что еще чуть-чуть, и этот запах доведет меня до удушья. Вокруг нашего экипажа сновали люди, чудом не попадая под копыта лошадей, – это были местные жители, грязные, как и улица, по которой мы ехали, и все они истошно орали. Наконец мы выехали на большую площадь. К нашему экипажу с грохотом приставили длинную лестницу, чтобы сидящие на крыше пассажиры смогли сойти вниз, и Куртиус, опасливо ступая по ступенькам, оказался на земле. У него занемели ноги и затекла спина, так что он не сразу выпрямился. За ним спустилась я. Стоило моим детским ногам впервые дотронуться до парижской мостовой, как они тут же покрылись уличной грязью. Я ни на шаг не отставала от Куртиуса, ухватившись рукой за полы его платья.
– Итак, – переведя дыхание, прошептал наконец Куртиус, – приветствую тебя, Париж. Я – Куртиус, Филипп Вильгельм Матиас. Я здесь. Я здесь. – Он поглядел на меня, ища моего согласия, и поспешно добавил: – Мы здесь, Мари!
– Париж, – проговорила я.
А Париж продолжал жить своей жизнью, нимало не изумившись нашему появлению.
– Вот нужный нам адрес, – сказал наставник, вытаскивая из кармана сильно помятый листок, который дал ему Мерсье.
Люди натыкались на нас, довольно грубо и бесцеремонно, – это была нескончаемая галерея парижских типажей. Красные носы, желтые глаза, коричневые зубы, в париках, наголо бритые, мужчины, женщины, в морщинах, с гладкой кожей, и все куда-то спешили по своим делам, и казалось, мы всем мешали и путались у них под ногами. Наконец Куртиусу удалось показать носильщику адрес Мерсье, и носильщик, печальный юнец с мучнисто-белесым лицом, взял у него несколько монеток и, быстро-быстро залопотав по-своему, из чего я ни слова не поняла, погрузил в свою тачку наш скарб. Прошагав по оживленным улицам, мы наконец добрались до дома Мерсье. Куртиус энергично постучал в дверь медной колотушкой, но на стук никто не отозвался. Носильщик, ни слова не говоря, улизнул, оставив нас одних под дверью с багажом. Мы присели на ступеньки крыльца и стали ждать. Так прошло часа два, или три, или четыре, и Куртиус все это время вслух размышлял, как там сейчас в Берне и что больница, в конце концов, не такое уж гиблое место, и что, возможно, если подумать, прачечная не такая кошмарная, как он себе представлял, и что работающие там прачки вовсе не обязательно должны подхватывать ту заразу, которую они соскребают с простыней тамошних больных. Я же раздумывала, как эти люди дошли до жизни такой, раз они спят одетые прямо на улице.
Наконец вдалеке раздался стук башмаков, звонко топотавших по мостовой, потом стук приблизился и прекратился. Мужской голос заговорил по-французски. Я подняла глаза и увидала Луи-Себастьяна Мерсье в башмаках, уже без нахлобученных мешков: покрытые слоем грязи, они были выставлены напоказ. К счастью, Мерсье вспомнил немецкий.
– Берн, не так ли? Что вы здесь делаете? Это же мой дом.
– Вы мне посоветовали, – начал Куртиус, – приехать в Париж. Путь оказался длинный, сударь, очень длинный.
– Я вам посоветовал? – удивился Мерсье. – Как приятно, что люди иногда меня слушают. Вы здесь на несколько дней?
– Я сбежал, сударь, – ответил Куртиус. – И не собираюсь туда возвращаться.
– Значит, вы к нам надолго, не так ли? Хотите, чтобы я о вас написал? Чем я могу быть вам полезным?
– Я леплю – то есть я лепил в Берне – головы.
– Да, да, я помню. И вы приехали сюда лепить головы? Только на сей раз парижские головы, головы людей значительных. Вы могли бы, к примеру, подумать о моей голове.
– Я предпочитаю головы, – подтвердил Куртиус.
– Вам есть где жить? – спросил Мерсье.
Куртиус отрицательно помотал головой.
– Послушайте моего совета. Для начала вам лучше найти жилье. Как у вас с деньгами?
– Я делаю головы. Я это умею.
– Это вы так считаете. И еще вы привезли с собой этого ребенка. Эту малышку с дерзким личиком, эту крошку с возмутительной внешностью.
– Ее зовут Мари.
– Она – крошечный выкрик! Крошечный протест. Крошечное оскорбление. Во всяком случае, крошечное нечто. Да, мне нравится Крошка. Крошка – так я буду ее называть.
– Она моя.
– Неужели?
– О да, безусловно.
– Тогда вам бы лучше добиться здесь успеха. А не то к армии парижан добавится не один, а два несчастных голодающих.
– Мне пришлось взять ее с собой.
– В самом деле? Это был акт милосердия, так?
– Она бы безусловно погибла в больничной прачечной.
Я бы погибла, мелькнула у меня в голове мысль, под горой грязных простыней? Но какое будущее ждет нас в городе, куда нас занесло? Насколько длинной окажется эта веревка?
– Ну, полагаю, ее бы там по крайней мере кормили, – заметил Мерсье, – у нее была бы работа.
– Вы же сами посоветовали мне сюда приехать. Больше мне ехать некуда.
– Безусловно, есть. Несомненно, есть.
Мерсье сказал Куртиусу, что тот, хотя и весьма беспечный человек, все же весьма отважный, и что хотя Париж перенаселен, здесь вообще-то можно найти немало мест обитания, еще не занятых, и даже множество таких, где знающий свое дело человек мог бы устроиться и жить, даже со служанкой, весьма припеваючи. Вакантное жилье нередко привлекает внимание пешеходов благодаря клочкам бумаги, прилепленным к дверям или стенам домов. Мерсье начал перечислять Куртиусу комнаты, свободные для съема. Можно поселиться в доме у кожевенных дел мастера – это около реки, хотя дом пользуется дурной славой: несколько лет назад один тамошний постоялец умер во сне, и его кожа приобрела странный оттенок. Куртиусу это совсем не понравилось. Имея немалый медицинский опыт, заявил Мерсье, Куртиус мог бы подумать о комнатах во втором этаже дома цирюльника. Нет, наотрез отказался Куртиус, который и слышать не хотел о чем-то, связанном с врачебным делом, решив раз и навсегда покончить с этой профессией. По той же причине он отказался и от размещения у производителя лекарственных снадобий, торговца ножами, торговца эликсирами и гробовщика. Наконец Мерсье предложил квартиру, которой владела дама, вдова, чей покойный супруг занимался портновским делом. С нею в доме проживал также сын, обучающийся тому же ремеслу.
– Дама? – переспросил Куртиус.
– В Париже немало подобных созданий.
– Но я не имею дел с женщинами!
– А как же Крошка?
– Ну, она, полагаю, не в счет. Это же восьмилетняя малышка Мари, и она меня не пугает. Иногда я даже забываю, что она относится к женскому полу, вообще она мне представляется бесполым существом – или существом особого пола. Есть люди мужского пола, женского пола и Мари. Она – моя Мари.
Да, я принадлежала ему. Я это знала. Больше ничего не имело значения.
– И к тому же, – добавил Куртиус, – мне вполне достаточно ее компании. Нет, я не веду дела с женской половиной человечества. Никогда.
– Вам что, не нужна моя помощь? – спросил раздраженно Мерсье. – Тогда я войду к себе в дом и запрусь там.
– О да, еще как нужна, прошу вас! Мне нужна ваша помощь! Ладно, пусть будет женщина! Пусть так.
– Вдова портного.
– Ладно, хорошо. Пусть будет так.
– Отлично. Тогда решено. Я позову двуколку.
– О, Боже!
– Теперь, – заметил Мерсье, – коль скоро вы оказались в Париже, жизнь для вас, можно сказать, только начинается. Обо всем, что было до этого, можно позабыть. Да поглядите на себя со стороны: вы же как невинные дети, впервые оказавшиеся в магазине игрушек, где у вас разбегаются глаза. Вы совсем еще не разбираетесь в игрушках, и приятелей для игр у вас нет… Но у вас будет предостаточно времени, чтобы в этом во всем разобраться. Пойдемте, пора знакомиться!
Мерсье нашел для нас двуколку, за которую пришлось выложить еще денег. Мы быстро покатили по извилистым улочкам и наконец добрались до нужного дома. В тесно застроенном квартале в середине рю дю Пти-Муан, что в предместье Фобур Сан-Марсель, стоял угрюмый домишко, на фасаде которого на двух ржавых проволочках болталась кривая вывеска с единственным словом, выведенным черной краской. Слово на вывеске было: TAILLEUR. Портной. Во всех окнах висели засаленные черные куски ткани, и весь дом, казалось, был затянут черным. Здесь недавно умер портной. Мерсье протянул руку к двери. Когда он ее толкнул и открыл, дважды звякнул колокольчик, прорезавший кромешную тишину. Звук был печальный, два скорбных звяканья, словно проговоривших: «Это… Больно…» Потом я привыкну к этому колокольчику, к его глуховатому, словно задеревенелому дробному звяканью, похожему на стук почечного камня, который хранился у Куртиуса в Берне. Наконец кто-то подошел к двери. Это был мальчик без особых внешних примет – с бледным, пресным лицом: должно быть, сын вдовы. Мерсье заговорил с ним, и через несколько мгновений мальчик все с таким же пресным лицом чуть кивнул, развернулся и исчез во тьме. Мы двинулись следом за ним по темному коридору. Дом был объят горем, не слышалось ни звука, только тихое шуршание платья Мерсье, шагающего вперед, даже его башмаки ступали бесшумно по покрытому ковром полу. Было темно, и пахло затхлостью. Не только окна были задрапированы черным, но и, казалось, все предметы обстановки облачены в черные саваны – в темном доме не виднелось ни одного угла. Продвигаясь ощупью вдоль темных стен, мы миновали задние комнаты, пока не очутились в помещении с одинокой свечой, которая тускло освещала множество рулонов темной ткани. Когда сын портного приблизился к одной штуке ткани, та чуть шевельнулась, из нее высунулась рука и нежно коснулась преснолицего мальчика, и я заметила, что тот вроде как назвал эту гору ткани «маман» и что в ней пряталась женская фигура – вдова, которая медленно повернулась к нам. Голова Шарлотты, или вдовы Пико, чуть не утонула в огромном черном капоре, и ее лицо с обеих сторон было стиснуто жесткой траурной тканью, хотя две пряди волос упрямо выпростались наружу и обрамляли ее крупные щеки. У нее были полное красное лицо, большие губы и глубоко посаженные темные глаза. В лице вдовы угадывались почти неуловимые приметы девичьей внешности, так что можно было вообразить себе ее в дни юности, прежде чем зрелость начала накладывать на внешность свой отпечаток. Женщину нельзя было назвать непривлекательной, но, казалось, годы тревог неумолимо вытеснили ее прежнюю красоту. Мерсье объяснил вдове, что мы пришли снять у нее комнаты.
– Головы, – пробормотал Куртиус, чтобы Мерсье перевел. – Я занимаюсь изготовлением голов.
Мне приказали развернуть свою восковую голову и поднести к своей собственной. Я закрыла глаза, чтобы усилить эффект сходства.
Когда вдова что-то воскликнула, Мерсье перевел:
– Но они же одинаковые!
– Да, о да! – с гордостью произнес Куртиус и хлопнул в ладоши.
– Как вы это делаете? – спросила вдова.
– Это мое ремесло.
– И вы можете лепить любые головы? – засомневалась женщина. – Или только ее?
– Любые, и вообще все, что угодно, – ответил мой наставник, – все, что имеет поверхность.
– Вы зарабатываете на жизнь изготовлением голов? – уточнила вдова через Мерсье.
– Хотелось бы на это надеяться.
– Она настаивает, чтобы вы этим не занимались у себя в спальне, – заметил Мерсье. – Таковы здешние правила. Она сдаст вам отдельную комнату для работы.
Вдова указала пальцем на меня. Мерсье объяснил, что я помощница Куртиуса. На что та заметила:
– У нас когда-то была служанка. Но ей пришлось вернуться к своей родне в деревню.
– Я разжигаю огонь, – осмелилась я рассказать о себе. – Я знаю все инструменты. Я толку пигменты в ступке. Я…
– Было бы очень кстати, – перебила вдова, – если в доме снова появится служанка. Полетта обычно спала в чулане при кухне. Это вам подойдет?
Куртиус счел, что подойдет. Но и за эту комнатушку тоже полагалась отдельная плата.
– А стряпать она умеет? – осведомилась вдова.
Куртиус сообщил, что я готовила для него, и вообще весьма высоко отозвался о моих способностях, заставив меня расплыться в довольной ухмылке, и потом я все не могла скрыть улыбку, когда они пустились обсуждать другие вещи.
– Что ж, добро пожаловать в дом Пико, – произнесла вдова. – Вы убедитесь, что мы очень милые люди, очень душевные, ныне очень скорбящие. Не будьте с нами грубы. Мы очень ранимы. Мы плачем почти по любому поводу, мы очень чувствительны, мой сын Эдмон и я. – Да, я совсем забыла про сына вдовы, а ведь все это время он стоял рядом, бледный и неприметный. – Проявляйте к нам доброту!
– О, разумеется! – с жаром воскликнул Куртиус.
Она протянула руку. Мне на минуту показалось, что Куртиус запаниковал и чуть не бросился ее целовать, но тут Мерсье все разъяснил:
– Деньги!
Куртиус прибыл сюда с намерением снять одну комнату, но за десять минут вдова вынудила его снять целых три.
– И последнее, – заметила вдова. – Прошу, отдайте мне ваши бумаги. Я за ними пригляжу.
– Мои бумаги? – изумился Куртиус.
– Да, в качестве гарантии, что вы не сбежите, когда придет срок платить за комнаты.
Он передал ей наши документы. Я засомневалась, что он поступает правильно. Ведь это же официальные бумаги, удостоверяющие нашу личность, и нам надобно было хранить их у себя.
Вдова отвела сына в сторонку, и через мгновение я услыхала звяканье колокольчика: мальчик-молчун вышел на улицу. А вдова повела нас показывать дом. Вот рабочие столы, вот портновские инструменты, вот шпульки ниток, вот портновские мелки в форме речной гальки. Среди всего этого ералаша на полу, на столах располагался портновский мир, аккуратный и упорядоченный. Масса ножниц, инструменты для прокалывания и кройки тканей, скребки для полотна, разнообразные иглы, а еще утюги и шила, веретена и измерительные ленты.
– Пожалуй, я ее понимаю, – прошептал Куртиус. – Я же не бесчувственный.
Тут же стояли четыре портновских манекена, сделанные в форме человеческих туловищ, но без голов, рук и ног. Были и еще три фигуры, но, в отличие от портновских манекенов, с конечностями и головами. Их голени оканчивались ступнями, одетыми в чулки, а кисти рук при ближайшем рассмотрении оказались плоскими колотушками в форме ладоней, скорее похожими на рукавицы, нежели на руки. Из двух туловищ одно было женское, одно – мужское, у всех одинаковые плоские лица с грубо очерченными носами и глазами, которые обозначали нарисованные брови, а губы изображались двумя тонкими красными линиями, вышитыми нитками и плотно прижатыми друг к дружке. Это были не настоящие люди, а магазинные манекены, сделанные из кусков ткани и набитые ватой. Их ставили в витринах магазинов, обрядив в образцы одежды, которую надо было продать. Поначалу можно было подумать, что это многочисленные обитатели дома вдовы, но потом становилось ясно, что в ее ателье собралась толпа весьма ненадежных компаньонов.
Вдова указала на угол, где стоял предмет, напоминающий человеческое туловище под темной тканью.
– Анри Пико, – шепнула она.
– Под этим покрывалом, – перевел Мерсье для вдовы свое пояснение, – находится портновский манекен, сделанный по меркам туловища покойного супруга этой дамы. Это первый манекен, который они с мужем изготовили, и она им очень дорожит. Она настоятельно просит вас не прикасаться к нему. Она весьма категорична в этом отношении.
Это было средоточие скорби вдовы Пико, словно предмет под черным покрывалом символизировал ее безутешное вдовье сердце.
Нас отвели в кухню в задней части дома. Вдова жестом попросила меня выйти вперед. Мне показали плиту и поленья, и чуланчик для хранения угля, кастрюли и сковородки, разделочные доски, крюки и висящую на них утварь.
– Я буду готовить вам еду здесь, сударь? – спросила я.
– Полагаю, да, Мари.
Вдова отворила дверку рядом с кухней. За дверкой оказался темный чуланчик, крошечный и сырой. Внутри стояла деревянная лежанка с соломенным тюфяком. Окон не было. Куртиус мрачно взглянул на вдову, потом на меня.
– Комната, Мари. Очень хорошая. Ты тут будешь спать.
– Да, сударь. Сударь, а нельзя ли мне будет спать в вашей мастерской?
Куртиус переадресовал мой вопрос вдове. Та покачала головой.
– Полагаю, – заметил Куртиус, – подобные вещи не в парижских правилах. Нам надо поступать так, как привыкли в Париже.
Комната Куртиуса располагалась в верхнем этаже: два окна, темная кровать с продавленным матрацем, на котором явно ворочалось немалое число почивших Пико до того, как телу Куртиуса выпал черед оставить на нем свою длинную впадину.
– Я тут буду прекрасно себя чувствовать! – с готовностью произнес мой наставник, хотя лицо его исказила гримаса ужаса.
Глухо звякнул колокольчик: вернулся сын портного. Его послали купить провизии, так как мы должны были сесть обедать вместе. И Мерсье согласился остаться. Столовая комната в доме Пико была весьма сумрачная, и вдова, ее сын, Мерсье и Куртиус, усевшись за столом, принялись за поданное холодное мясо и сыр. Я уже собралась было присоединиться к сидящим за столом, как вдова Пико громко осадила меня. Видно, прислуга в Париже не обедала со своими хозяевами.
– Это не в парижских обычаях, – пояснил Мерсье. – Крошка, думаю, тебе придется есть на кухне.
Я взглянула на Куртиуса.
– Мне еще нужно многому учиться, – пробормотал он.
– У иностранца здесь нет друзей, – кивнул Мерсье, – он непонятливое и никчемное существо, чье поведение вечно вызывает только гневные окрики. Запершись в своей съемной комнате, он глядит оттуда на парижскую жизнь и ничего не понимает. Иностранцы должны выучить французский язык, иначе им суждено так и остаться взаперти.
– Что ж, тогда я выучу французский, – заявил Куртиус.
Мерсье предложил найти ему учителя. Вдова вновь подала голос, и, хотя я тогда еще плохо понимала французский, на сей раз я ее прекрасно поняла.
– Почему эта девочка все еще тут?
Я отправилась в кухню и там поела – в полном одиночестве за кухонным столом. Пришлось к этому привыкать. Пришел мальчик с пресным лицом и показал мне, где у них хранится вода, где стоит ведро с золой для мытья кастрюль, после чего мне надо было убрать со стола грязную посуду – не только за Куртиусом, но за всеми. А потом меня навестил Куртиус.
– С завтрашнего дня я начну заниматься французским. Вдова согласилась помочь мне в овладении языком – она очень способная женщина – за небольшую плату. Завтра зайдет Мерсье обсудить наши дела. Мари, ты в порядке? – Но, не дожидаясь от меня ответа, он продолжал: – Ну вот мы и прибыли. Париж, Мари, это Париж!
В моем чуланчике с закрытой дверью было темно и душно. Я достала свои пожитки – папенькину челюсть, маменькину Библию, Марту. Лежа без движения, я слышала сдавленные рыдания отсыревших стен.
Глава десятая
Вторая группа голов
Первым восковым изваянием, которое мы вылепили в Париже, была голова Луи-Себастьяна Мерсье. Мерсье объяснил Куртиусу, что ему вовсе не обязательно платить за работу, поскольку, по его мнению, он оказывал моему наставнику услугу, ибо демонстрация этой головы будущим клиентам могла стать лучшим способом познакомить парижан с великим даром Куртиуса.
– Можно, конечно, показывать голову Крошки, но признайте, неважно, сколь велико сходство портрета с оригиналом, неважно, с какой любовью он выполнен, все равно это всего лишь портрет ребенка с курьезным личиком. Вам следует изобразить лицо упитанное – как мое! – При этом Мерсье ущипнул себя за щеки. – Вот подходящее лицо!
Голова сплетника
У него и правда было мясистое лицо. Мерсье настоял, чтобы Куртиус вылепил не только его голову, но и шею и даже часть торса, чтобы получился, как он выразился, настоящий бюст, доказывающий, что обычный человек достоин сравнения с древними философами и им можно любоваться просто потому, что он – человек, и что мы все должны учиться выглядеть достойно. Такое новшество в нашей работе и впрямь помогло скульптуре иметь более законченный вид, а не выглядеть так, будто голова оторвалась от тела. Проведя рукой по своему восковому лицу, Мерсье не уставал восхищаться:
– Какая точная карта! Какой четкий рельеф! Все шестнадцать округов моей головы – вот они! – И, постучав по восковому носу, добавил: – А это мой собор Нотр-Дам.
Мерсье показал Куртиусу лавки в городе, где он мог приобретать необходимые для работы материалы. Я с ними не ходила. Вдова осведомилась, смогу ли я ей помогать по хозяйству, и Куртиус ответил утвердительно. Она ткнула пальцем в пол кухни и в швабру, кивнула, улыбнулась и удалилась.
– Больше всего на свете, сударь, – сказала я ему потом, – мне хочется быть вашей помощницей.
– Ну конечно! – согласился он.
– Вы же, сударь, сами меня обучили вам помогать.
– Да, конечно, но нам нужно помогать этой несчастной вдове. Она же так страдает! Мари, хочешь, я расскажу тебе одну историю? Вот она. Жила-была на свете одинокая кость. День за днем она всегда оставалась одна. Но неожиданно в ее жизни появилась еще одна кость, а потом еще.
– О каких именно костях вы рассказываете, сударь?
– Ты хочешь узнать, как они назывались?
– Да, сударь.
– Так. Поглядим. Вероятно, это были позвонки. Ребра. Неважно.
– Как же это неважно, сударь? Вы же сами говорили…
– Ну, я не могу точно сказать, что это были за кости. Мне это все в новинку. Пойми, я раньше никогда не имел дела с женщиной, в моей жизни еще не было женщин. А теперь, вероятно, у нас будут новые кости и, возможно, постепенно из них вырастет новое существо. Какое существо – я пока не знаю. Но эти новые кости, они подгоняются друг к другу, великолепно подгоняются, но к ним нужно привыкнуть. Процесс болезненный, конечно, с этим надо смириться: пока происходит притирка частей, сначала бывает больно, без этого никак…
Мои обязанности распределялись между Куртиусом и вдовой. Между ателье и кухней. Она хотела, чтобы я прибиралась и начищала мебель во всем доме. Первое время я по возможности долго притворялась, будто не понимаю ее, пряталась за своим немецким языком и вынуждала ее изображать жестами, чего она от меня хочет. Она показывала на замызганные окна, взяв в руки тряпку, я кланялась и дожидалась, когда она выйдет за дверь, после чего разворачивалась и бежала к Куртиусу и его инструментам.
Сначала у нас было всего несколько заказчиков – знакомые Мерсье, мелкие ремесленники и торговцы. Первым был сапожник Мерсье, которому тот показал свой бюст. Поначалу месье Орсан не понимал, зачем лепить из воска бюст: ему очень нравились нижние конечности, и его совершенно не интересовала верхняя часть туловища, но в конце концов он согласился, тем более что работа обошлась ему не слишком дорого. Но выставив свою голову в витрине сапожной мастерской, он быстро понял, что парижане приметили его среди прочих городских сапожников – отныне он стоял особняком. И люди решили, что могут доверить свои ноги этой голове.
После этого наш дверной колокольчик не умолкал. Мерсье привел в нашу мастерскую новых состоятельных заказчиков. Я раскладывала инструменты на столе, разжигала огонь в плите, растирала пигменты. Напоследок извлекался воск, но этим всегда занимался Куртиус: с куском воска в руках он чувствовал себя в своей тарелке и был счастлив. С воском он начал входить во вкус парижской жизни.
Очень скоро дверной колокольчик стал возвещать о приходе клиентов к Куртиусу чаще, чем к вдове Пико, как будто парижане теперь меньше нуждались в ее услугах. Обязанности по уборке давали мне большую свободу перемещения по дому, поэтому я бродила из комнаты в комнату, внизу и наверху, знакомясь с домом и вещами в нем. Удостоверившись, что осталась одна, я выдвигала ящики, открывала дверцы шкафов, где обнаруживала в основном пустые полки и мышиный помет. Когда я входила в ту или иную комнату, мне приходилось держать ухо востро, потому как иногда, оглядевшись, я вдруг замечала, что сын вдовы Эдмон стоит или сидит в углу не шелохнувшись, повернув ко мне свое бледное лицо и неотрывно глядя на меня. Чаще всего я заставала его в комнате покойного отца, рядом с портновским манекеном, из-за чего мне никак не удавалось заглянуть под черную ткань, наброшенную на этот манекен. Когда мои глаза привыкли к царящему в доме полумраку, я ухитрялась передвигаться в темноте и на ощупь узнавать, где что лежит; к тому же я стала яснее видеть все, что происходит в этом доме. Под покровом скорби я сумела разглядеть еще кое-что, нечто потаенное. Скорбь могла это утаить, если вы наведывались в комнаты ненадолго, или если у вас было неважное зрение, или если вы заходили только в определенные комнаты – например, в столовую или в переднюю, где витринные манекены были облачены в скроенные портновской рукой платья вдовы. Но это потаенное нечто присутствовало и там: оно прогрызло дыры в портьерах, обкусало края керамической посуды, разбило стекла в окнах, истрепало до дыр простыни; из-за него с наступлением темноты в доме не зажигались свечи, и пустые полки буфета не заполнялись сервизами. Это скрываемое нечто была нищета. Портновское дело вдовы пришло в упадок. В тот первый вечер, когда мы сюда пришли, Эдмона послали за провизией, потому что в доме Пико не оказалось еды! И только получив от Куртиуса оплату за проживание, вдова разжилась деньгами.
Как-то вечером я сидела и молча глядела на черное покрывало на манекене, сделанном по фигуре покойного портного Анри Пико. В комнате, кроме меня, никого не было, я была уверена в этом. Запретный предмет стоял прямо передо мной. И мне захотелось хоть одним глазком на него взглянуть. Я приподняла черную ткань. Под ней оказалась фигура пузатого мужчины: старая древесина да полусгнившая холстина – вот и все, что напоминало о покойном месье Пико. Ткань, из которой была сделана грудь манекена, уже не обтягивала деревянный каркас, но провисла внутрь, а сам каркас утерял былую твердость и полировку. Я вообразила себе Анри Пико, когда тот еще был молод и крепок, этаким щеголеватым господином с безукоризненными манерами, портным в расцвете лет, женившимся на молоденькой толстушке, который ловко кроил и шил для нее платья и вообще знал толк в пошиве женской одежды, и вскоре, до того как его жизнь внезапно оборвалась, у них родился сын. Я понимала, что мужчина по имени Анри Пико фактически существовал, но могла представить его себе только в виде дряхлого манекена, стоящего перед мной тем вечером, ну или как чуть отреставрированную версию манекена – маленького траченного молью господина с полотняной головой и туловищем из серой поблекшей ткани, с расползшимися швами, с белесыми пуговицами вместо глаз.
Я уже собралась было накинуть обратно черное покрывало, как вдруг за моей спиной послышался шорох. В комнату вошла вдова. Она бесшумно вплыла в комнату, звук ее шагов был заглушен траурным одеянием.
Далее последовал взрыв ярости, мотание головой и вопли, ее и мои. Словно я вырыла из земли гроб с ее бедным мужем. Словно я нагло пялилась на чей-то труп, не предназначенный для чужих глаз.
Вбежал Куртиус.
– Мари, это я виноват! – заявил он, поняв, в чем дело. – Мари, винить во всем следует меня. Наверное, мне бы следовало тебя высечь. Наверное, я буду сечь тебя раз в неделю. Меня частенько били в детстве. Сама понимаешь, мой отец и его любовь к порядку. Я сказал себе, когда в Берне хирург позволил мне оставить тебя, я сказал себе: детей надо приучать к дисциплине – это я хорошо запомнил! – но я ничего для этого не делал.
Вдова с раскрасневшимся лицом энергично кивала, но когда Куртиус закончил говорить эти ужасные слова, она сочла, что их недостаточно, потому что она подскочила и со всего размаху больно ударила меня ладонью по щеке.
Шлепок от короткого, но весьма ощутимого соприкосновения ее безжалостной ладони с моей детской щекой получился громкий, прямо скажем, оглушительный. Мне было больно и обидно, я была взбешена и ждала, что вот сейчас Куртиус ударит вдову в отместку за меня, заорет на нее в гневе и ярости.
Но он ничего не сделал.
– Сударь! – вскричала я. – Сударь мой!
Вид у него был изумленный и несчастный, но он только стоял и шептал:
– Ах, Мари. Прошу вас, дорогая вдова, довольно!
Его только на это и хватило. Вымолвив эти слова, мой хозяин стоял столбом и беспомощно кусал костяшки пальцев. Это тоже, считайте, ничего. И это было самое ужасное ничего, самое гадкое ничего, потому как это ничего дало вдове понять, что она имеет надо мной полную власть. Покрывало вернули на манекен, Анри Пико мог опять погрузиться в свой смертный сон. Меня поспешно водворили в мой чулан, захлопнув за мной дверь и даже не запалив свечу. Я услыхала, как отворилась дверь мастерской и туда вошли Куртиус вместе со вдовой. И я осталась одна с распухшей щекой.
Глава одиннадцатая
События принимают ужасный оборот
В прошлой жизни у Куртиуса не было женщин. Его матушка умерла при родах, и его появление на свет совпало с ее уходом. Но вот появилась женщина, которая весьма шокировала его своим присутствием. Очень быстро он позволил ей принимать за себя решения. Он стоял по стойке смирно, пока она смахивала крошки с его сюртука.
При этом известность Куртиуса росла. Его мастерская стала самой главной комнатой в доме. Люди приходили, и их встречали приветливо, с ними вступали в беседу, и всегда вокруг них крутился улыбающийся Мерсье. Мастерская, где обретался Куртиус с воском, купалась в ярких цветах. Только в этой небольшой части дома можно было почувствовать себя счастливым. И кто бы мог устоять перед обаянием этого помещения? Только не вдова: она постоянно заходила в ателье, наблюдала за работой Куртиуса, изучала его приемы, иногда подносила ему стакан вина, хотя он ее и не просил, и, садясь рядом с ним, смотрела, как под его руками возникают восковые головы. После ее ухода я замечала, что в ателье частенько оставались ее волосы. Мне эти волосы представлялись шпионами, поэтому, находя их, я всегда хватала их и сжигала в печке.
Мы с вдовой сражались за Куртиуса. Ей требовалось его безраздельное внимание, а я ей мешала, и она мечтала от меня избавиться. Временами, приходя в мастерскую из кухни, я обнаруживала, что, пользуясь моим отсутствием, вдова располагалась там. Скоро она начала угощать вином клиентов Куртиуса. Чуть позже помимо вина клиентам стали предлагаться и легкие закуски. Куртиус ничего не предпринимал, чтобы ей воспрепятствовать. Ему все это чрезвычайно льстило – хуже того, он даже рассыпался перед вдовой в благодарностях, а крошки со стола падали на пол и хрустели под ногами, и мне потом приходилось отскребать их от половиц ногтем или кончиком ножа. Но неприятнее всего мне была она сама, эта женщина в неизменном вдовьем трауре, с ее запахом, с падающими на пол волосинками, с ее отвратительными замашками – меня бесило, как она причмокивала губами или как, заходя в ателье без приглашения и усаживаясь на стул, разглаживала ладонями платье на коленях. Ну и женщина. Поначалу она сидела молча и наблюдала за работой Куртиуса, разглядывала восковые бюсты на полках. А потом внезапно перешла в наступление. Однажды днем после обеда вдова вдруг поднялась со стула и вышла. И вскоре вернулась с сюртуком из своего магазина. Она расправила сюртук, потрясла им перед глазами Куртиуса и кивнула на недавно изготовленный бюст торговца свечами. Куртиус, побледнев от ужаса, ничего не сказал. Тогда она схватила бюст и принялась напяливать на него сюртук. Бюст был полый внутри, и в эту полость она засунула фалды сюртука – ту его часть, которую необязательно было демонстрировать. Потом расправила сюртук на бюсте, и его плечи даже слегка приподнялись, будто сюртук набросили на плечи человеку. Восковой свечник был одет.
Наступило молчание.
Куртиус сгорбился, и я подумала, что он сейчас упадет лицом вниз. Но он сложил длинные руки на груди и, ни слова не говоря, слегка сдвинул пальцы, раздвинул и снова сдвинул. Непосвященный мог бы принять этот его жест за попытку незаметно сдавить пальцами досадную мелочь – муху, или лягушку, или улитку, или шею котенка, но на самом деле это он так аплодировал.
Взгляните на человека без одежды – и вы не разберете, кто он, из какой эпохи, великий это человек или самый обыкновенный. За сотни лет человеческое тело мало изменилось, и во что бы его ни обрядили, под одеждой все тела выглядят одинаково. Но стоит вам надеть на тело одежду, вы сразу определяете его место и время. У Куртиуса одетый бюст вызвал улыбку. Когда он улыбался, люди обычно отворачивались. Потому что его улыбка производила довольно пугающий эффект: слишком широкая – до ушей – улыбка, обнажавшая плохие зубы с зияющими брешами между ними, была ни на что не похожа. Многие люди смотрят на чужие улыбки, чтобы по их примеру научиться улыбаться так же, но улыбка Куртиуса возникла сама собой, ведь он жил на Вельзерштрассе в одиночестве и ему приходилось упражняться в улыбке только перед восковыми муляжами внутренних органов. И как же отреагировала вдова на это зрелище? Она взглянула на его улыбку, не отвернулась и, сделав свой вывод, удовлетворенно кивнула. И протянула Куртиусу руку. Мол, плати.
И он ей заплатил.
Но это было только начало. Мало того, что в мастерской с нами постоянно обреталась эта женщина, так еще ее сынок поставил стул в углу и стал там восседать каждый день. Куртиус ничего не сказал. Сидя в углу, Эдмон вынимал из кармана разные пуговицы и молча их изучал с обеих сторон, потом выстраивал в линию на ляжке, и все это он проделывал с пресным, не меняющим выражения лицом.
– Не трогай тут ничего! – наказала я мальчишке, хотя он ни слова не знал на моем иностранном языке. – Ему нельзя тут ничего трогать, сударь, скажите ему!
– Да он же просто сидит, Мари!
– У него что, своих дел нет?
– Разожги огонь, будь добра.
– А как сказать «Не трогай!» по-французски?
Куртиус произнес, и я повторила это многократно, чтобы запомнить. И всякий раз, поднимая глаза, я видела, что мальчик с бледным лицом сидит в своем углу, разложив пуговицы, и глядит на меня, а не на Куртиуса, и я опять говорила ему: «Не трогай!» Только когда к нам приходила его мать, я прекращала давать ему указания. Тем вечером, отправившись спать, я обнаружила нечто ужасное. Я оставила куклу Марту у себя в чулане, усадив на стул, и когда я вернулась, она лежала ничком. Марта, конечно, способна вытворять массу всяких штук, она верная и добродушная, но если уж я ее посадила, то она так и останется сидеть. Она ни за что не ляжет, а будет ждать, когда я сама ее уложу. Значит, кто-то заходил в мою комнатушку. Я не нашла волос ни на своей лежанке, ни на полу, из чего заключила, что приходила не вдова, а ее сын. Я крепко прижала Марту к себе. Потом разъяла ее на части, тщательно протерла каждую и снова соединила. Но то была лишь первая в серии катастроф.
Придя наутро в мастерскую, я столкнулась с Куртиусом в дверях. Я рассказала ему о случившемся, и он огорчился за меня, но напомнил, что совсем недавно меня наказали за точно такой же проступок, а еще что мы живем в доме вдовы Пико, где все комнаты – по сути ее собственные.
– Наши изделия очень хрупкие, – заметила я, – и есть люди, которые только и думают, как бы их потрогать.
Куртиус пробормотал что-то насчет того, как в Париже все отличается от Берна, и эти слова должны были бы меня встревожить, должны были бы заставить приготовиться к худшему. И это худшее наступило: Куртиус попросил меня стряпать не только для него, но и для вдовы и ее сына. Тут дверь в мастерскую распахнулась настежь – и я увидела вдову, которая все это время сидела внутри.
– Это неправильно, – увещевал меня Куртиус, – что столь достойная дама так много времени проводит на кухне. Ты видела ее руки? Они такие изящные, но все в синяках и порезах.
– Мне знакомы ее руки, – отрезала я. – Одна из них ударила меня по щеке.
– Но она мне их показывала. Они у нее и впрямь болят.
– Уж это точно, сударь мой.
– Честно говоря, я бы не прочь их вылепить. Она была ко мне добра, и я должен отплатить ей добротой. В Париже все так необычно, и она учит меня выбирать верные пути. Иногда мне нужна направляющая рука. Я ведь легко могу тут заплутать.
– Я стряпаю для вас, сударь. Я работаю на вас.
– Да, Мари, ты мне очень нужна, ты для меня просто благословение небес. Но раз уж ты стряпаешь для меня, для нас, приложи еще чуточку больше сил.
– Но я же ваша помощница.
– Это правда.
– А не ее!
– Но я прошу тебя. А то, что я прошу, тебе следует выполнять.
– Да, сударь мой!
– И не гляди на меня так грустно, никаких слез, ты не должна плакать, от этого у меня болит вот здесь, – и с этими словами он прижал ладонь к грудине, к грудной мышце.
– Да, сударь.
С тех пор я стала проводить меньше времени в мастерской, меньше времени с доктором Куртиусом, чего он вроде и не заметил, но чем меньше времени в мастерской проводила я, тем больше там просиживали мать и сын Пико. Вдова приносила туда свои выкройки, и Эдмон тоже занимался своими делами.
Как-то днем, находясь на кухне, я выбрала одно блюдо, очень красивое, покрытое глазурью, с голубым дельфтским узором – я его нарочно выбрала на полке, – подняла высоко над головой и… выпустила из пальцев. А им сказала: случайно вышло.
– Будь поосторожнее, – сказал Куртиус. Он терпеть не мог небрежного обращения с вещами.
– Можно я для вас что-нибудь нарисую, сударь? Что мне нарисовать?
– Сейчас не надо рисовать, Мари. Подмети осколки. Вдова сказала, что, если ты еще что-то разобьешь, тебя высекут.
Я постепенно все больше превращалась в домашнюю прислугу. Как-то вдова приблизилась ко мне, строго сжав губы, обошла вокруг и с помощью своих пухлых пальцев и деревянной линейки сняла с меня мерки. Вскоре я узнала, зачем она это сделала: вдова достала старую одежду своей бывшей служанки Полетты, разрезала ее гигантскими портновскими ножницами по швам и потом, точно мясник, начала отсекать куски ткани, чтобы подогнать останки материала к моему телу. Мне предстояло ходить в колючем черном платье, а еще напялить на себя заношенный белый чепец, к которому прилипли сальные волосы с чужой головы. Вдова приказала мне переодеться. Я убежала к себе и закрыла дверь.
Когда я вышла, все в доме могли увидеть произошедшее со мной преображение в девочку-служанку. Вдова удовлетворенно кивнула – это было все равно что короткие аплодисменты Куртиуса. Эдмон поглядел на меня, но никак не проявил своих чувств.
– Вдова считает, что тебе повезло с этой одеждой, – заметил Куртиус. – Она очень ловко перешила ее для тебя. Поблагодари ее.
– Чем же мне повезло, сударь? Это платье колется. Можно я его сниму?
Нельзя. Ткань исколола мне всю кожу, оставив красные пятна на шее и плечах. Эта одежда была соткана из скорби: платье выкрасил черным вдовий траур. В нем мне трудно дышалось, и из-за него мне в голову лезли всякие меланхолические мысли. Я горестно думала, уж не своими ли волосами она сшивала обрезки искромсанной ткани, не суждена ли мне самой вдовья доля? Я пыталась дать понять своему хозяину, что все это неправильно, но когда он смотрел на меня, то видел только вдову Пико. Теперь для него весь город уместился в этой вдове.
Доктор Куртиус, из-за своей обездоленности и слепой благодарности утративший способность трезво мыслить, не смог понять всю глубину смысла моей метаморфозы. Он просто не заметил произошедшего перехода прав собственности, при котором имущество попало из одних рук в другие. Меня сделали домашней прислугой, вынужденной учить слова, которыми пользуются служанки, и этот словарь был убог и ограничен, но Куртиус ничего не предпринял, чтобы этому воспротивиться. У взрослых, как я тогда поняла, масса изъянов, они далеко не идеальны, даже при том, что они прожили дольше, даже при том, что они ставят себя в пример детям. Они крупнее, это не подлежит сомнению, а размер имеет незаслуженный авторитет. Но они легко подвержены внешнему влиянию, их легко склонить в любую сторону.
К тому моменту он уже был полностью ею побежден. Волоски с головы вдовы, думала я, какая-то ее частица проникла в его легкие. Лестью она заставила его смыть с себя грязь, убедив, что он грязен, заставила его надеть на себя новую одежду, а старую сожгла. О, как он оглаживал эти свои новые покровы? Она заставила его чисто выбриться и срезать с головы волосы под корень, а потом напялила на него парик. Она делала его внешность приемлемой – в своих глазах. И как же мой бедный хозяин реагировал на эти посягательства? Я подглядывала за ним в его комнате – с бритым черепом, он ежился, облачившись в новые подштанники, он удерживал свой парик на кончиках пальцев и приговаривал, не без гордости: «Я теперь узнаю вас где угодно. Вы – завитой парик с косой доктора Куртиуса!»
В этом новом парике его можно было принять за кого угодно – за парижанина. А по мне, так настоящего Куртиуса полностью вынули из его тела.
Вдова теперь помыкала Куртиусом точно так же, как раньше им помыкал хирург Гофман. Но только хирург дозволял ему куда больше свободы, он никогда не раздевал его, не брил. А он все одаривал вдову улыбками, бедняга. Мои занятия с Куртиусом происходили все реже, а потом и вовсе прекратились. Раньше, когда я просила его рассказать мне про человеческое тело, он усаживал меня рядом и подробно все объяснял. А теперь он лишь приговаривал:
– Потом, Мари, потом.
– Можно я порисую? – спрашивала я.
– Нет времени, – отвечал он.
А если я рисовала и просила его посмотреть мои рисунки, он говорил:
– Мари, ты очень шумишь, а вдова, ты же видишь, дремлет в кресле, прошу тебя, не разбуди ее!
Поэтому я украдкой брала бумагу в комнате у вдовы – это были большие пожелтевшие листы, которыми она не пользовалась, – и упражнялась в рисовании самостоятельно. Я нашла у нее и карандаши и тоже забрала их себе. Я рисовала каждый день без устали. Я вспоминала все, что видела за день, что отложилось у меня в памяти, и по ночам переносила все это на бумагу. Я не могла остановиться. Я рисовала все подряд. Каждый рисунок, каждая подпись к нему были маленьким доказательством моего существования.
Доктор Куртиус частенько выходил в город с вдовой, которая увлеченно показывала ему Париж, а для меня Париж исчерпывался домом покойного портного, рынком поблизости, колодцем да прачками, приходившими к нам раз в месяц. Однажды, возвращаясь с рынка, я заметила в сточной канаве серый холмик, вроде кучи мусора, но подойдя ближе, увидала торчащие волосы. Это была голова, женская голова, серая, опрокинутая в слякоть, – мертвое тело лежало на улице, а люди шли мимо и не обращали на труп ни малейшего внимания. Женщина без признаков жизни, упавшая и никому не интересная, женщина неопределенного возраста, которая совсем еще недавно наряжалась и ходила среди нас. Это Париж, подумала я. Мертвые люди лежат на улицах, и никому нет до них дела. Эта мысль погнала меня к дому.
Я заменила мертвую женщину мертвой крысой
В следующий раз, когда я шла той же дорогой, тело уже убрали, но осталась жуткая темная вмятина там, где оно лежало. Как в Париже принято? Есть тут вообще какие-то правила? В те редкие разы, когда к нам заходил месье Мерсье и заговаривал со мной, я получала от него некоторые разъяснения о парижских нравах.
– Я очень люблю Париж, – признался мне месье Мерсье, – но, сказать по правде, Крошка, он меня жутко пугает. Он разрастается и становится чересчур большим, и его рост не остановить.
Во всякий его приход я просила рассказывать мне, где он был, что видел, и он охотно рассказывал. Я его внимательно слушала и воображала себя на парижских улицах. И видя, что я так сосредоточенно его слушаю, Мерсье проводил со мной больше времени, и пока мы сидели в кухне, описывал наши долгие прогулки. Я брала его за руку, закрывала глаза – и мы бродили по Парижу вместе.
Глава двенадцатая
Париж: прогулка с пояснениями Луи-Себастьяна Мерсье
– Мы вышли к реке, Крошка. Ты со мной? Да, иди рядом. Этот многолюдный мост – жизненно важный орган Парижа, самое сердце города. Он гонит не кровь, а людей. Гонит их по всему городу. Сшибает их с себя куда проворнее, чем они на него ступают. Это Пон-Нёф, самый большой мост Парижа. На этом мосту ты найдешь все типажи: красавцев и уродов, молодых и старых, мерзавцев, убийц, святых, дарящих, берущих, гениев и шарлатанов, новорожденных и скелеты – все тут перемешано. Здесь человеческие существа появляются на свет и отсюда их уносят, здесь спасают жизнь и здесь же забирают жизнь. На этот мост на протяжении всего дня накатывают волнами торговцы песнями. Многие из этих певцов лишены того или иного: кто зрения, кто конечностей, кто рассудка. Они занимают свое место на мосту и затягивают песни, непристойные, медленные, песни, что заставят тебя плакать, песни, что подстегнут тебя пуститься в пляс, песни, которые даруют тебе покой, и песни, что призовут тебя на войну. Эти торговцы песнями повсюду в Париже, ведь Париж – поющий город, но Пон-Нёф – их сцена. Их голоса создают шум на мосту, а мост создает шум города.
Далее мы идем через пляс Дофин. Потерпи немного, Крошка, мы шагаем мимо печальных зданий Пале де ла Ситэ, а вон там, среди этих мрачных громад, виднеется шпиль Сент-Шапель, бесценной шкатулки с витражными стенками. Теперь гляди вперед – там высится Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери, но следуй за мной, нам сюда – мимо этих печальных построек, мимо врат горя. Здесь наша следующая остановка. Входи, не робей! Познакомься с позором Парижа. Официальное его название: Отель-Дьё, «Божий приют». Известный также как «Нора смерти». Здесь снуют священники и монашки, разнося заразу от постели к постели, кое-как ставя диагнозы, распространяя инфекции так же, как они распространяют слово Божие. Вот чего смертельно боятся парижские бедняки: этих сырых стен. И вот что говорят друг другу городские нищие: в этой богадельне я кончу свои дни, как и мой отец. И Отель-Дьё не отвергнет их. Сюда нищие приходят умирать. Тут царит отчаяние, и ничего, кроме отчаяния. Иди за мной! Здесь обретается в среднем шесть тысяч пациентов, и хотя их число, разумеется, варьируется в зависимости от времени года, в Париже бывают и сезоны смерти. Здесь шесть тысяч пациентов, но только тысяча двести кроватей. И неважно, каким недугом ты страдаешь, тебя бросят на постель рядом с кем-то, у кого совершенно другая, возможно, чрезвычайно заразная болезнь, и твой сосед по постели, с большой долей вероятности, тебя убьет. Умерших вывозят на тележках при первом проблеске утренней зари или в кромешной ночи, чтобы никто не увидел дневной урожай смерти. Обитель погибших душ! Задержи дыхание, ибо здешний воздух злой и затхлый, а близость реки делает его еще более омерзительным, влажным и тяжелым. Во всей лечебнице нет ни единого сухого уголка. А сейчас прости меня, мне нужно пнуть это здание башмаком, потому что всегда, когда бы я ни оказывался рядом, у меня возникает желание пнуть его своими любимыми башмаками, которые давно к этому ритуалу привыкли. От этого их кожа вся в царапинах, а мои пальцы на ногах – в кровоподтеках, но, несмотря на это, мне обязательно нужно пнуть это проклятое здание. В Париже немало таких же зданий, заслуживающих, чтобы их пинали.
Пошли, я хочу показать тебе еще кое-что. Здесь, в этом небольшом садике – ты чувствуешь? – витает такой смрадный воздух, какого не сыщешь больше нигде в городе, ты можешь увидеть хижину, прилепившуюся к влажной, мшистой стене. Это, возможно, хлев – постройка, больше подходящая для свиней. Или будка для нелюбимой собаки. Эту жалкую хибару я обнаружил как-то во время прогулки. Прошу тебя, не шуми. Загляни внутрь. Теперь я буду шептать. Внутри этой тесной деревянной клетушки находится один из пациентов этой богадельни. Мальчуган, обернутый грязной рогожкой, дрожащий от холода, вечно что-то бормочущий себе под нос. Ребенок с гигантской головой. Сам же он, ты увидишь, невероятно худ, но из-за гигантской головы его глаза широко раздвинуты в стороны, а щеки подобны двум глобусам, составляющим одну огромную куполоподобную опухоль. Этот ребенок – гидроцефал, он медленно гниет в темноте, жадно грызя кость, которая давно уже обглодана им дочиста.
Обрати внимание на табличку: НЕ КОРМИТЬ. А теперь прошу прощения за вычурную аллегорию. Я называю этого ребенка Францией. Его настоящее имя, подозреваю, давно забыто. Франция, ты же понимаешь, – это тщедушный ребенок, чье питание поступает целиком в голову, а тело остается слабым и истощенным. Его кормят, но от еды растет только голова, а не тело. Он ест не останавливаясь, и он вечно голоден. Голова Франции растет, а тело голодает. И как долго, по-твоему, он так проживет? Долго ли будет жить наша страна? Шшш, уходим. Пора идти дальше. Не будем здесь задерживаться. Ты ничем не можешь ему помочь. Он так оживился, потому что решил, что ты ему дашь еды. Его не интересуют люди, только еда. Пойдем, от этой темной и тесной лачуги мы поднимемся над Парижем, заберемся высоко-высоко, как только сможем. Ты станешь выше на двести семь футов, а потом, когда лезть выше будет уже некуда, мы посмотрим с высоты на город у наших ног.
Итак, перед тобой собор Парижской Богоматери, Крошка. Это время, застывшее в камне. Величайшая постройка Парижа, самое знаменитое из всех зданий в мире. Мудрейшее и сложнейшее архитектурное сооружение. Не кажется ли тебе, что с этими летящими опорами, торчащими сбоку и сзади, точно множество изогнутых ног, он напоминает гигантского паука, застывшего посреди исполинской и причудливо сотканной паутины Парижа, питающегося его посетителями, что оставляют ему монетки милостыни? Этот собор, в конце концов, – первый заметный объект в этом жутком хаосе. Давай же поднимемся по винтовой лестнице этой каменной цитадели. Я пойду впереди и буду указывать тебе путь за каждым поворотом.
Ты слышишь, Крошка, как эхом отдается мой голос от этих стен? Иногда близко, иногда дальше. Ступени здесь сужаются, лестница поднимается все выше и выше, круг за кругом, до самой верхотуры. Ты можешь видеть в узких закопченных бойницах город, что удаляется под ногами, уменьшается в размерах по мере нашего восхождения. Слышишь, как шумно я дышу, как тяжко клацают мои любимые башмаки о каменные ступени? И ступени теперь все неохотнее позволяют ступать по ним, они выработали свой ритм и хотят убегать ввысь бесконечно, но еще один поворот – и вот мы стоим на самой верхней точке северной башни собора.
Ну вот. Гляди. Вид на Париж с вершины башни. Что тебе сказать? А вот что. Париж расположен посреди Иль-де-Франс, на берегу Сены. Он расположен в сорока восьми с половиной градусов и трех минутах северной широты к востоку от Лондона. Две мили в диаметре, шесть миль в окружности. Если ты присмотришься внимательно, то заметишь, что город имеет форму почти правильного круга. Смотри-смотри, прошу тебя. Париж, ранее называвшийся Лютеция, что означает, ты не удивишься это узнать – город Грязи. Или мы можем его назвать Подземный город. Или, быть может, Лабиринт теней. Или даже Вселенная в миниатюре. Посмотри, это и впрямь так: он живой и весь в движении. Ты можешь видеть его дворцы: вон там дворец Тюильри. Ты можешь видеть его больницы: вон там купола дома Инвалидов. Ты можешь видеть его театры: вон там «Комеди франсэз». И ты можешь видеть его тюрьмы: позади нас жуткие округлые башни Бастилии.
Но что все это значит? Как ты можешь это изучить, как ты можешь все это прочитать, это беспорядочное месиво крыш, это безграничное нагромождение зданий и людей, этот плавильный котел, эту исполинскую сточную яму, эти восемьсот десять улиц, эти двадцать три тысячи домов, где нашли приют семьсот тысяч человек? Все удерживаются в этом городе, сидят под замком, запертым на ключ, и никто не может отсюда выбраться без дозволения – и все они, или большинство из них, стараются выживать, добиваясь для себя лучших условий в этом общем доме, в этой вселенной Парижа!
Но все же… Увы! Слушай меня внимательно, Крошка! Недавно мне открылась ужасная истина: Париж задыхается. Он не может больше жить, не может дышать, он глубоко вздыхает, но воздух не достигает его окровавленных легких. Тебе хочется задать вопрос, Крошка, я же вижу. Все хотят. Ты хочешь узнать, как люди выносят это место, этот мерзкий дом, эту столицу невзгод. Ты хочешь спросить, как же люди дышат этим отравленным воздухом каждый день. Почему люди живут в лужах мочи, почему они выбирают себе для обитания это средоточие нечистот, почему люди, чьи глаза еще способны узреть свет, заточают себя по собственной воле в этой бездне тьмы? Что ж, я отвечу. Все очень просто. По привычке. Парижане связывают себя со всеми этими пороками, потому что это место, смрадное и гнилое, и есть тот самый ад, который мы зовем своим домом. И мы никогда не покинем его, ибо, невзирая ни на что, мы его любим. Мы его любим. Я его люблю.
Здесь наша прогулка завершается. Я стаскиваю башмак и пускаю его по кругу. Приветствуется любое вознаграждение. У тебя нет денег, Крошка? Тогда подари мне поцелуй, о странное дитя Парижа!
И я целовала Мерсье в щеку, и он уходил, а я оставалась на кухне с закрытыми глазами, воображая себя парящей над городом.
Глава тринадцатая
Я взаперти
Вечерами я рисовала головы рыб, которых покупала на рынке днем. Я рисовала все-все, и моя стопка пожелтевших листов бумаги быстро таяла. Рисунки я скатывала в трубочку и прятала в глубоком ящике кухонного шкафа. Ночью я прокрадывалась в мастерскую и рисовала парижские головы Куртиуса. Мою собственную голову, вылепленную в Берне, давно убрали с полки, завернули в тряпицу и поставили в дальний угол буфета. А я сидела в компании новых восковых людей и чувствовала, что им радостно находиться рядом со мной. Мне казалось, что им хочется поговорить со мной, но они не умели. Восковым головам можно посочувствовать: их никто не рожал, они стараются вдохнуть в себя жизнь, но жизнь от них уворачивается. В самые тихие часы я шептала этим полулюдям: «Я посижу с вами. Вам страшно в темноте? Не бойтесь!»
Живя безвылазно в доме покойного портного в те далекие времена, можно было уловить сначала едва слышный, как бы доносящийся издалека, треск, скрип зубцов, шорох гигантского механизма, пробуждающегося к жизни. И требовалось сильное желание слышать эти звуки, потому что никого, кроме вдовы и ее сына с портновским метром в руке да тощего доктора-иностранца и его крошки-служанки в доме, где царил траур, не было.
Портновское ателье Пико в ту пору было небольшим предприятием, непритязательным, не способным привлечь внимание клиентов. Люди находят массу разнообразных способов преуспеть в жизни. В городе работали тысячи и тысячи небольших мастерских. На рю де Шьян, как я узнала от Мерсье, отец и сын выдували стеклянные глаза. Куртиус начал вставлять эти глаза в свои восковые головы. На набережной Морфондю была лавка, где торговали ношеными париками: их Куртиус покупал для своих голов. На рю Сансье работала небольшая мастерская, открытая одной дамой из Тулузы, где делали бумажные цветы – такими вдова украсила ателье Куртиуса, которое теперь называли не иначе как салоном. А в пассаже дю Пти-Муан, в небольшом частном ателье, изготавливали из воска бюсты мелких парижских дельцов. Такими вот разнообразными способами люди старались заработать капитал. Тянулись месяцы. Вдова шила одежду для наших бюстов. Однажды, начищая инструменты, я заметила, как вдова взяла в руки бюст и при этом не переставала что-то безостановочно лопотать. Потом она поставила бюст обратно, но не слишком аккуратно, и тот стоял, слегка раскачиваясь взад-вперед.
Куртиус взглянул на шатающуюся голову и воскликнул – о, этот выкрик прозвучал музыкой для моего слуха:
– Так обращаться с изделием может только мясник!
Ну вот, подумала я, это настоящий доктор Куртиус! Но он внезапно осекся, и лицо его перекосилось от ужаса. Вдова ни слова не сказала, она не поняла выкрика на немецком, но отлично расслышала гневную интонацию – и разрыдалась. При виде ее слез Куртиус тоже расплакался, и вся комната наполнилась их всхлипываниями. Печаль омрачила ее лицо, она задыхалась, сынок тут же подскочил к ней. Портной скончался всего несколько недель назад, напомнила я себе, горе еще не отпустило вдову и еще крепко сжимало ее в объятьях. Больше вдова не выказывала чувств столь откровенно, но в тот момент она проявила свою истинную суть: это была просто обессилевшая женщина, всеми силами пытающаяся выжить.
Потом, промокнув слезы носовым платком, вдова огляделась и, заметив мой взгляд, сразу же догадалась, что я поняла, чему невзначай стала свидетельницей. Уголки ее губ опустились, на лице возникло выражение полного понимания ситуации, и было ясно, что отныне я приобрела себе злейшего врага. Ведь я увидела проявление ее уязвимости и слабости. Впоследствии вдова никогда не выказывала пренебрежения к восковым головам. Поначалу она просто старалась передвигаться между ними чуть более опасливо, но со временем, должна признать, она стала обращаться с восковыми изделиями даже с какой-то нежностью. Похоже, ей наряду с аккуратностью Куртиуса передались тот трепет, с каким он относился к восковым подбородкам и ушам, и та симпатия, какой он проникался к каждой складке воскового лица. Куртиус обожал веки и губы, он самозабвенно замирал над бровями, испытывал восторг от каждой родинки или ямочки на щеке. Если у его прототипа было два-три волоска между ноздрями и верхней губой, пропущенные брадобреем, Куртиус не забывал добавить их к готовой восковой голове. Его не смущало, если на коже лица, с которого он снимал слепок, были лопнувшие сосуды вокруг носа или такие крупные поры, что их было видно за несколько шагов, и не трогало, если у головы косили глаза или кожа блестела так, что для полного сходства требовалось покрыть воск слоем лака и добиться эффекта испарины, Куртиус любил всех своих заказчиков, какая бы внешность у них ни была. Но из всех лиц, его окружавших, чаще всего он видел лицо вдовы, и вследствие постоянного присутствия вдовы вырос его интерес к ней. И она все это наблюдала и запоминала.
По мере того как она заучивала его приемы, вынуждена сказать с сожалением, его рабочие инструменты все чаще оказывались в полном беспорядке. Возвращаясь в мастерскую, когда только у меня выпадала свободная минутка, я обнаруживала новые и все более явные признаки пугающего развития событий. Ее портновские инструменты, к примеру, лежали на верстаке вперемешку с его инструментами. Сначала она их складывала в сторонке, но потом я заметила, что совершенно разные инструменты, его и ее, сближались для более тесного знакомства. Однажды я даже увидела, как вдова протянула руку и схватила троакар Куртиуса – троакар с прямой рукояткой, предназначенный для глубокого проникновения под кожу и отсасывания гноя из абсцессов, которым мой наставник проделывал длинные ходы в восковых ушах. А вдова вооружилась этим инструментом, чтобы протыкать свой ситец. Но и это еще не все. Я глазам не могла поверить, когда Куртиус заимствовал у вдовы узкие крючки для петлиц и ими проделывал ноздри. Так что, сами понимаете, мне надо было действовать, пока не поздно.
Только я могла им помочь. Только мне было под силу восстановить порядок в доме: следить, чтобы все вещи находились в нужных местах. Это же входило в круг моих обязанностей. Этим я и занялась. Я взяла все ее портновские штуковины и разложила их по порядку в портновском ателье, где им было самое место. И что же, удостоилась я благодарности за мое тщание и прилежание? Нет, конечно. Уж как они жаловались оба, как они негодовали из-за того, что теперь не могут ничего найти. Я такая плохая, сказали они, очень плохая. Вдова даже заявила, что меня надо выгнать, отправить восвояси в Берн за то, что я трогаю чужое имущество, и меня надо изгнать из Франции, куда меня никто не приглашал и где мне никто не рад. И к кому же я вернусь? Но мой хозяин не собирался со мной расставаться, хотя мое поведение ему и не понравилось. Мне было заявлено, что меня накажут за мои прегрешения. Я уже приготовилась к тому, что меня высекут, и гадала, кто этим займется – Куртиус или вдова. Но меня не высекли. Я бы и не возражала, потому что меня ждало наказание куда хуже, чем побои. Мне запретили появляться в мастерской. Вход туда был мне заказан навсегда. Теперь мне предстояло жить точно в загоне. Я умоляла Куртиуса, но он лишь дружелюбно постучал по моему чепцу и повторил, что решение принято. Это было своего рода прощание. После этого я его видела лишь несколько минут каждый день, и эти краткие встречи проходили, как правило, под надзором вдовы.
Доктор Куртиус многому меня обучил. И он проявлял ко мне любовь. Возможно, думала я, ему не стоило этого делать. Возможно, если бы он не выказывал мне знаки любви, я бы вела себя тихо, я была бы идеальной служанкой, мне бы в голову не лезли лишние мысли. Но он привил мне вкус к работе, к мыслям, к воску – и этот вкус уже было у меня не отнять. Я к нему привыкла. Каждую ночь, когда они спали наверху, я заходила в ателье, и восковые головы рассказывали мне обо всем, что произошло в течение дня. А еще я рисовала. Я доставала его анатомические книги, изучала иллюстрации в них и рисовала. Я мечтала увидеться с Куртиусом и побеседовать, но он перестал заходить ко мне на кухню, один только Мерсье иногда заглядывал, щипал меня за щеку чернильными пальцами, а потом спешил прочь, отправляясь в привычные прогулки по городу.
И вот тот роковой день настал. Я сначала очень обрадовалась, когда в дверь кухни постучали и вошел мой наставник.
– Мари, – сказал он, – у вдовы стали пропадать выкройки, много выкроек. Ты их не видела?
– Выкройки, сударь? Клянусь, я не понимаю, о чем вы говорите.
Вдова была вне себя от гнева. Те самые пожелтевшие листы бумаги, которые я стащила, оказались старыми выкройками ее покойного мужа. И теперь она обвинила меня в том, что я их сожгла. Меня обозвали гнусным иноземным отродьем, которое не знает своего места.
– Мари, – сказал Куртиус с глазами, полными слез, – теперь тебя высекут!
– Нет, сударь, не надо!
А потом преснолицый сын что-то тихо сказал. Три слова, которым меня научил Куртиус. «Я», «взял» и «их». И снова замолк.
Но это было неправдой. Он не брал их. Это же я. И зачем он соврал? Почему он произнес эти слова, после которых в кухне повисло молчание? Вдова вывела сына вон.
– Она должна извиниться передо мной, сударь, – заявила я, еще не веря в свое избавление, но намереваясь сполна воспользоваться этим случаем. – Она должна извиниться!
– Мари, – ответил он, – это я должен перед тобой извиниться. Я был уверен, что ты их взяла. И я очень сожалею.
Но от его слов легче мне не стало. Почему мальчик соврал? Почему? Мне ничего не объяснили. Как-то вечером, поднимаясь по лестнице, чтобы постелить Куртиусу постель, я обнаружила ужасную вещь. Я случайно заглянула в приоткрытую дверь и заметила, что вдова сняла свой капор, и под ним оказалась огромная копна волос. И вокруг этой волосяной горы перемещался Эдмон, старательно расчесывая ее гребнем. Паучьи глаза вдовы были зажмурены. Она пребывала в блаженном покое. Я притаилась в темноте, наблюдая, как Эдмон осторожно расчесывает спутавшиеся пряди, запуская руку по самый локоть в густую растительность на материнской голове. С распущенными волосами вдова, казалось, была сама мягкость и податливость – сродни своей роскошной гриве, которую она надежно упрятывала в течение всего дня, а вечером выпускала на волю, позволив сыну за ней ухаживать. Он проявлял недюжинную нежность, ловко управляясь с волосяным покровом материнской головы, любовно укладывая всю эту уйму длинных локонов, смахивающих на кишки, вокруг ее головы и аккуратно закалывая булавками, чтобы они не выбивались из-под объемного черного чепца. Потом вдова самолично завязала бантиком траурную тесьму под мясистым подбородком, и одновременно с исчезновением ее гривы под головным убором к ней вернулась привычная холодность. Вдова раскрыла глаза, стрельнула взглядом вбок и тотчас заметила меня за приоткрытой дверью. Я бросилась прочь. Ее обильные волосы напомнили мне один персонаж из маменькиной Библии: Марию Магдалину в пустыне.
Расплатой за мое «шпионство» в спальне вдовы («шпионство» – это ее словечко) стало то, что мне больше не дозволялось подниматься наверх по вечерам.
– Прошу тебя, Мари, не расстраивай ее, – умолял меня Куртиус.
Мне, кроме того, больше не дозволялось убираться в спальне моего наставника, эту заботу вдова теперь взяла на себя. Я превратилась в обычную прислугу на кухне – ну или чуть больше этого. Сидя на кухне, я просто кипела от возмущения. Я возмущалась-возмущалась и наконец, не в силах больше это терпеть, отправилась в ателье и без стука вошла.
– Если я прислуга, то мне надо платить! Ученикам никто не платит, а вот служанкам платят – это я точно знаю!
– Мари, ты что здесь делаешь?
Я прервала беседу Куртиуса с вдовой. По их жестикуляции я поняла, что речь шла о деньгах. И протянула руку. Вдова рассмеялась.
– Нет денег? – спросила я.
– Видишь ли, – ответил Куртиус, – я хочу тебе платить. И когда-нибудь я тебе заплачу. Но сейчас у нас денег в обрез. Позже у нас безусловно появятся деньги. Но не сейчас. А пока, Крошка, тебе платят едой и жильем.
– Мне должны платить! – не унималась я. – Я в этом уверена.
– Возможно, ты права. Я не знаю, как это принято в Париже. Все будет хорошо.
– Точно?
– О да!
Вдова что-то проговорила. Куртиус чуть улыбнулся.
– Э-э… Мари, думаю, тебе надо уйти.
– Сударь, вы именно так думаете?
– Э-э… да, Мари, да.
– Тогда я ухожу.
Но в том доме мне было некуда идти. Только на кухню. Если я уйду из дома, что станется со мной? Похоже, у меня не было иного выбора, кроме как оставаться там, это был мой единственный выбор в жизни. А иначе я могла просто упасть бездыханной, как та мертвая женщина в уличной канаве. И кроме того, я не могла сбежать от своего наставника. Разве он без меня справится? Вдова же его просто проглотит заживо. И переварит.
Глава четырнадцатая
Два Эдмона на кухне
Стоя на кухонном табурете, я сдирала шкуру с кролика и, наверное, была очень сосредоточена, потому как внезапно услыхала шорох. И поняла, что не одна. За моей спиной стоял сын вдовы: он долго смотрел на меня, пока я не оглянулась.
– Не трогай! – произнесла я на его родном языке. И после паузы добавила: – Благодарю!
И заметила, как его уши тотчас покраснели. У него были, теперь я должна сказать, самые выразительные уши, какие я только видела в жизни. Его лицо всегда оставалось бледным, на нем ни один мускул никогда не дрожал, а вот уши багровели. Помолчав, мальчик едва заметно кивнул, словно долго обдумывал нечто очень серьезное и наконец пришел к какому-то выводу. Он сунул руку в карман, порылся там и выудил истрепанную куклу, сшитую из холстины.
– Эдмон, – произнес он, ткнув пальцем в куклу.
– Эдмон? – переспросила я, указав на куклу.
– Эдмон, – повторил он.
– Эдмон? Эдмон и Эдмон?
Он кивнул. Мальчик назвал холщовую куклу в свою честь. И кукла эта, как я заметила, была близкой родственницей портновского манекена, изготовленного в виде покойника-портного. Ага, значит, в мрачном доме Пико семейные типажи имели свои дубликаты. То есть тут обитала семья во плоти, но еще и вторая семейка – из холстины. Поначалу это холщовое семейство оставалось незаметным. Холщовые люди держались особняком, не бросаясь в глаза, сбившись в угрюмое печальное племя. Но со временем их грубый материал заявлял о себе, становился явственным, проступал сквозь небрежно очерченные человеческие формы едва слышными вздохами. Холщовые люди заполняли пустое пространство. Человеческие чувства, сшитые из лоскутков, надежды, таящиеся в полумраке. Мне показали холщовую копию Эдмона – сына портновского манекена. Я молча смотрела на куклу.
Потом, подумав, вымыла руки, после чего аккуратно вынула свою.
– Марта, – представила я ее Эдмону. Эдмон уже видел ее раньше, но не знал, как ее зовут.
Я положила Марту на стол. А он бережно положил рядом Эдмона. Кукольный Эдмон был сшит из десятка или дюжины разных кусочков холстины, в основном серого цвета, туго обернутых толстыми нитками, так, чтобы холщовое тело не развалилось. Его туловище состояло из вырезанных или вырванных кусков ткани, и я так и не поняла, где у него руки и ноги. Куклу много раз ремонтировали, судя по множеству ниток и новых лоскутков, прилатанных поверх старых. Миниатюрный холщовый мальчик, хранитель домашних секретов, крошечный человек, о ком надо беспокоиться и с кем можно шепотом беседовать. Мы сидели за кухонным столом, я глядела на кукольного Эдмона, а живой Эдмон смотрел на мою Марту, и так продолжалось до тех пор, пока живой Эдмон не вернул кукольного Эдмона в карман, встал и, ни слова не говоря, вышел за дверь. Я осознала всю важность этой встречи. Он полностью открылся мне единственным доступным ему способом: с помощью влажной и мятой холщовой куклы. Это был первый визит Эдмона на кухню.
Потом всякий раз, когда его мать уходила из дома, бледноликий молчун навещал меня. Эдмон приносил с собой пуговицы, чтобы чем-то занять себя, выстраивая их в шеренги на своей коленке. Поначалу он не произносил ни звука. Я пыталась его нарисовать, но как только карандаш касался бумаги, чтобы по своему обыкновению начать портрет с носа, я смущалась, потому как в его носе не было ничего примечательного, как и в глазах, да и в губах, – только в его ушах, когда они краснели, было нечто особенное.
Сначала я опасалась, что в холщовом дубликате индивидуальность выражена лучше, чем в живом мальчике. Но чем больше я на нем концентрировалась, тем больше проявлялся его характер – так жук-точильщик появляется лишь после того, как разлетятся все остальные насекомые, кружившие над трупом, а ты остаешься в одиночестве на ночное бдение. Однажды я ухватила его скрытый характер, поймала-таки его карандашом, а потом уж разглядела очень отчетливо – словно он был загадкой, которую я сумела разгадать.
У Эдмона были пухлые губы, зеленые глаза, не вполне симметричные ноздри, около переносицы виднелись веснушки, а под затылком на шее – небольшая родинка. Я принималась рисовать его несколько раз, пока он к этому не привык. А через какое-то время, если я его не рисовала, он, похоже, чувствовал себя не в своей тарелке.
В те дни я еще пребывала в тумане иноземца, как называл это состояние месье Мерсье, и это означало, что я существую, но как бы не вполне. Я мало что понимала помимо тех немногих слов, которые вдова вбила мне в память. А потом, когда она уходила с моим наставником по делам, у меня появился новый ментор. Стоило Эдмону зачастить ко мне на кухню, как я решила, что ему будет тут чем заняться – не все же доставать своего холщового двойника и раскладывать пуговицы на коленках. Я взяла тряпку – этому слову меня обучила вдова – и показала ему.
– Тряпка, – произнесла я по-французски. – Тряпка, тряпка.
Эдмон ничего не ответил.
Я указала на окно.
– Окно, – произнесла я. Потом указала на куриную тушку, висящую на крючке.
– Курица, – сказала я. – Курица.
Эдмон ничего не ответил.
Я указала на пуговицу в его ладони. Ткнула в нее пальцем. И снова ткнула.
Наконец он спросил на своем языке:
– Пуговица?
– Пу-го-ви-ца! – ответила я.
Только после слов «сорочка», «воротник» и «волосы» он наконец сообразил, что от него требуется: учить меня французским словам. Мы отправились в портняжное ателье, которое, совсем заброшенное его матерью, стало теперь его владением. Я указывала на тот или иной предмет, а он называл его по-французски, и я должна была запоминать, а он в следующий раз устраивал мне экзамен. Он очень серьезно подошел к этому делу. Когда я ошибалась, его невыразительное лицо досадливо искажалось, но он никогда не повышал голос. Он всегда был со мной тих и вежлив.
Я овладевала французским с помощью языка портных. Точно так же, как мой наставник показывал мне разные приемы своего ремесла, так и Эдмон учил меня тому, что сам знал. Моими первыми французскими словами были не «кошка» и «мышка», а «нитка», «ножницы» и «катушка». Я знала, как сказать «вставка-клин» прежде, чем выучила «спокойной ночи», «мешковина» – раньше, чем «здравствуйте», «ситец» – до «привет», «наперсток» – до «псалтырь». Я знала, что такое craquette и poinçon, marquoir и poussoir, mesure de colette и mesure de la veste[3]. Я окунулась в водоворот таких слов. Самым главным предметом в жизни Эдмона, помимо холщового Эдмона, была его измерительная лента – длинная тонкая полоска кожи с крупными и мелкими насечками на боку. В ателье имелись и другие приспособления для снятия мерок – например, длинные деревянные рейки с цифрами сбоку, но лента была собственностью Эдмона: он повязывал ее на талию, когда не пользовался. Эдмон снимал с меня мерки. Через много месяцев после начала наших тайных уроков французского мне уже было недостаточно уметь говорить: «Меня зовут Мари», – теперь мне надо было сказать: «Меня зовут Мари, мои плечи два с четвертью дюйма шириной, а шея – семь дюймов и полчетверти, руки от подмышки до обшлага рукава пятнадцать дюймов и одна треть, длина моей ноги – шестнадцать и одна седьмая, а окружность талии – семь дюймов и одна треть». К тому времени, как с помощью Эдмона я узнала свои размеры, я уже понимала большей частью все, что он мне говорил. Позже я требовала от Эдмона большего. Мне хотелось читать книги, хрестоматии, чтобы они мне помогали учить язык. Я не желала ограничивать себя портняжным словарем. Благодаря наставничеству Эдмона мой французский прогрессировал. Я быстро догнала моего наставника, опередившего меня в овладении французским, а вскоре уже и обогнала его, ибо вдова порой останавливала меня и вопрошала: «Откуда ты знаешь это слово? Я тебя этому не учила!»
Стоя перед магазинными манекенами в передней, Эдмон обратился ко мне в свойственной ему манере – тихо и вкрадчиво, со множеством подробностей:
– Позволь я покажу тебе наши витринные манекены. Мы продаем их магазинам на рю Сент-Онорэ, штук по пять в год. Некоторые мужские, некоторые женские, вот они, рассмотри их внимательно. У них одинаковые лица и одинаковые выражения, вот видишь, независимо от их пола. Они различаются только тем, что одни сидят, а другие стоят, у одних есть грудь, а другие слегка шире в бедрах. Больше тех, кто стоит, чем тех, кто сидит. И всех их сделали по образцу моей фигуры, ты заметила? С меня сняли мерки и на их основе сделали манекены: и женские, и мужские. Это была идея маман, ей нравится, что по всей рю Сент-Онорэ я стою в разном платье. Можно сказать, все они мои братья и сестры.
Интересно, подумала я, сколько же всего в мире Эдмонов?
– Благодарю тебя, Эдмон, благодарю за то, что ты мне их показал.
– Не за что.
– Ты сегодня разговорчивый.
Я думала об Эдмоне, когда его не было рядом. Он один составлял мне компанию, больше никто.
Дни шли, и я узнавала массу нового. Я выучила слова, обозначающие части тела: руки, ноги, голову, уши, глаза. Это было легко. Но недостаточно.
– Мне нужно знать больше, – сказала я. – Мне нужно видеть уличную жизнь. Я просто изголодалась.
– Да что ты? Мы же на кухне. Тут полно еды. Я и сам проголодался.
– Это не то. Я говорю про другой голод.
– Не то? Мари, а что ты имеешь в виду?
– Я очень хочу видеть жизнь, хочу узнать обо всем! Даже тут, в этом доме, можно многое узнать. Но кажется, я уже все тут видела. Я заглянула во все шкафы, во все ящики, подняла каждую занавеску, исследовала все полки снизу доверху. И когда мне кажется, что больше тут ничего нет, когда я думаю, что уже везде все посмотрела и искать больше нечего, вдруг я нахожу нечто новое.
– Мари, ты что, опять совала свой нос куда не следует?
– Речь о тебе!
– Обо мне?
– Ты же человек!
– Ну да, а кто же еще?
– А я не знаю, как ты выглядишь! Под одеждой. Этот ящик я еще не выдвигала. Сними-ка рубашку. Я хочу тебя нарисовать.
– Тебе нельзя!
– О, прекрати! Не бойся! Я видела так много человеческих тел. В Берне. Я заглядывала внутрь тел. Давай, Эдмон, разреши мне на тебя поглядеть.
– Что ты делаешь?
– Хочу тебя раздеть.
– О нет!
– Собираюсь снять с тебя сорочку.
– Прошу, нет!
– Я все знаю про человеческие тела. Доктор Куртиус меня обучил.
– О Боже!
– Смотри, я расстегиваю пуговицы.
– Я ничего не вижу. Но чувствую.
– Я хочу изучить тебя, Эдмон Пико. Каждый участок твоего тела.
– Маман! Маман может войти!
– Ее нет дома.
– Она может вернуться.
– У нас есть время. Ты же сам знаешь.
– Мне холодно.
– Тогда подойди поближе к огню.
– Зачем ты смотришь на меня?
– Я хочу на тебя смотреть.
– Ты смотришь во все глаза.
– Можно потрогать?
– Я лучше пойду.
– Вижу твою небольшую фигуру, ребра, и жизнь под кожей бьется, пульсирует! Эдмон с настоящей человеческой кожей. Ты такой милый!
– Мари! Мари! Остановись!
– Я хочу посмотреть! Убери руки, Эдмон, я хочу на тебя посмотреть!
– Не могу! Я не могу! Это уж слишком, не гляди так на меня!
Звякнул колокольчик. Вдова и Куртиус вернулись домой. Эдмон в совершеннейшей панике торопливо натянул через голову сорочку.
– Эдмон! – позвала вдова. – Эдмон, ты где?
С трясущимися руками он помчался на ее зов.
И потом несколько дней он не появлялся на кухне. А когда все же появился под каким-то предлогом, было видно, что он ужасно смущен.
– О, ты тут! Я и не знал, что ты тут…
– А где ж мне еще быть. Обычно я нахожусь на кухне.
– Ну да, пока ты тут. И возможно, тебе лучше оставаться тут, до конца месяца. Возможно.
– Почему до конца месяца?
– Я не думаю, что ты у нас пробудешь дольше месяца. Ты не нравишься маман, а она привыкла все делать по-своему.
– О, Эдмон! Прошу тебя, Эдмон, помоги мне поладить с твоей маман. Я не хочу от вас уходить. Мне же некуда идти.
– Ты должна делать все, что она просит.
– Я буду! Я буду стараться изо всех сил!
– Тебе нельзя разбивать посуду и перекладывать вещи на другие места.
– Я буду стараться!
– И еще она говорит, что ты вечно прячешься и шпионишь!
– Я не хотела. Они должны мне заплатить, Эдмон. Мне еще ни разу не заплатили.
– И не проси об этом, Мари. Не серди их.
– Постараюсь. Это не всегда легко.
– И ты не должна снимать с меня сорочку.
– Не буду, Эдмон, больше не буду.
– Ты прислуга!
Тут я промолчала.
– Ты прислуга, а я твой самый младший хозяин в доме.
Я молчу.
– Однажды я стану портным!
Молчу.
– Однажды я буду великим портным. А ты – прислуга!
– Ты поможешь мне? – спрашиваю.
– Да, я постараюсь.
– Я хочу остаться.
– Тогда ты должна хорошо себя вести.
Я работала. Я была прислугой. Лучшей, насколько могла. Я испарилась. Я изобрела гениальную систему исчезновения, с помощью которой могла так спрятаться, что внешне меня можно было принять за прежнюю девочку, а на самом деле я стала другой. Я засунула все свои мысли и чувства глубоко в себя, и там, внутри, они пребывали в полной безопасности, но внешне я вела себя как заводной механизм. Мою пружину заводили их указания и задания, которые я выполняла механически, но безупречно. Я притихла и безропотно играла роль служанки, чтобы иметь шанс жить в этом доме. Но оставаясь одна, когда все они были далеко, я вспоминала о себе настоящей и вновь превращалась в Мари. Которая никуда не делась.
Глава пятнадцатая
Гражданин 2440 года
А сейчас я немного расскажу о больших событиях, имевших важное значение для Франции.
Потому что вдруг выяснилось, что я знакома с весьма знаменитыми людьми. Пока у нас в доме изготавливались и одевались восковые бюсты, в совершенно ином, как мне казалось, мире французский дофин женился на Марии-Антуанетте Австрийской. В Париже во время всенародных гуляний по случаю этой свадьбы не вовремя зажженный кем-то фейерверк вызвал панику, и в толпе были затоптаны насмерть сто тридцать три жителя Парижа, среди которых было немало женщин и детей. После фатальной давки Луи-Себастьян Мерсье был так взволнован и возмущен, что долго не мог успокоиться. Заполняя заметками свои записные книжки, он заметил, что через них красной нитью проходит одна тема – людских страданий. И в течение нескольких дней он никак не мог собраться с духом и пойти прогуляться по любимым улицам.
– Я теперь ненавижу этот город, Крошка, эту скотобойню, эту клоаку. Мы же самые обычные чудовища. На какие зверства мы способны!
Он долго беседовал с моим наставником и вдовой, пока та его со злобным выкриком не выгнала, и тогда он заглянул ко мне. Я его усадила, налила ему стакан вина из графина вдовы.
– Расскажите мне, – попросила я, – расскажите мне все. Да побыстрее. Пока вас не позвали назад.
И он поведал мне про раздавленные тела, крики и кровь. И что король ничего в связи с этим не предпринял. Мерсье снял башмаки и поставил на кухонный стол.
– Мои башмаки оскорблены, – объявил он.
– Я только что отдраила этот стол, – заметила я.
– Может быть, это правильно, что ты сидишь тут взаперти.
– Нет, не говорите так.
– Мир ужасен. Я не хочу в нем жить.
– Правда? Расскажите!
– Если бы только я мог бродить по просторам этой деревянной поверхности, отмытой и сияющей, по этой плоской земле, куда не ступала нога человека. Да, если бы только… но… но почему бы и нет? Да, именно так! Новый дом! Да, чистый! Да, Крошка, заставь все вокруг сиять, пустив в ход свою щетку!
Он схватил башмаки со стола и бросился вон из дома.
Мечтая о прогулках в куда более счастливом краю, Мерсье вознамерился написать путеводитель по Парижу будущего – городу без проблем, метрополису гармонии, утопии. Он хотел назвать свою новую книгу «Париж в 2440 году». Всякий раз приходя к нам в гости, он приносил исписанные листы и читал мне на кухне.
– В Париже 2440 года колеса экипажей не давят детей. Сам король частенько ходит по городу пешком, следуя правилам уличного движения, где бы он ни появлялся. На улицах нет грязи. Бедняки получают бесплатную медицинскую помощь. В 2440 году на площади, где некогда высилась жуткая крепость Бастилия Сент-Антуан, теперь возведен храм Милосердия.
В конце концов он дописал свою книгу и издал. В 1770 году многие парижане прочитали сочинение Мерсье и обнаружили, каким их город станет через шестьсот семьдесят лет. Написанная в лихорадке ярости, книга наполняла яростью своих читателей. Внезапно многие осознали, что им выпало жить в Париже не в то время: им претил 1770 год, они мечтали о 2440 годе. И Мерсье стал знаменит.
Вдова выставила в окне бюст Мерсье с табличкой, гласящей ГРАЖДАНИН 2440 ГОДА, чтобы прохожие могли останавливаться и любоваться ею. И толпы зевак, каждый день собиравшихся около ее магазина, вдохновили вдову на грандиозную задумку. Как-то днем вдова потащила Куртиуса, который едва успел подхватить свой черный мешок, к Мерсье. К вечеру они вернулись в компании с Мерсье и с новым гипсовым слепком. Вскоре слепок получил табличку ЖАН-ЖАК РУССО. Я узнала эту голову: то был Рену, мужчина в сером костюме, побывавший у нас в Берне вместе с Мерсье. В ту пору он скрывался, но потом вернулся в Париж и теперь выглядел совершенно больным. На следующей неделе все трое вновь отправились куда-то и принесли новую голову – с лицом дружелюбным и полным жизни. Голову снабдили табличкой ДЕНИ ДИДРО. После чего в доме появилась очень печальная голова, поименованная ЖАН ЛЕ РОН Д’АЛАМБЕР. Все эти люди несомненно были хорошо известны всем: я не знала, чем они прославились, но их головы явно заслуживали славы.
Три старика, по-своему размышляющие о смерти
Вдова заказала огромную вывеску, извещавшую, чьи бюсты выставлены в окне, и толпа зрителей возле дома стала еще больше. Вдова без устали кивала. Мой хозяин ей аплодировал. Вдова снова куда-то ушла из дома, на сей раз в одиночестве. Она была очень деловита.
Потом, как-то вечером Эдмон прокрался в кухню и сообщил, что я должна отнести графин вина и два стакана наверх, в комнату маман. И помог мне поставить все это на поднос.
Мой наставник сидел в спальне вдовы. Я разлила вино по стаканам. Вдова развязала свой капор, и непокорная грива каштаново-огненных волос вырвалась на волю. Куртиус несколько раз сглотнул.
– Эдмон, – распорядилась вдова, – можешь начать меня расчесывать. Анри расчесывал меня перед сном каждый вечер. После его смерти эта обязанность перешла к Эдмону. А теперь, доктор Куртиус, будьте очень внимательны. Я хочу, чтобы вы поняли. Я хочу поведать вам историю. Крошка, выйди вон!
Я вышла. Но чувствуя необычную важность происходящего тем вечером, я осталась стоять под дверью – и все слышала.
– Прошу вас, послушайте меня со вниманием. Я, Шарлотта, вдовствующая дама, хочу кое-чему обучить вас, доктор Куртиус. Мы теперь хорошо друг друга знаем, у нас общее дело, и поэтому я могу быть с вами более откровенной…
– О да, мы знаем! Друг друга!
– Эдмон, расчесывай, расчесывай! Я хочу честно рассказать вам о себе, месье, поведав историю своего дела. Я расскажу вам о своем покойном супруге.
– Да? – послышался жалобный отклик.
– Родители моего Анри Пико торговали ношеной одеждой. Так было в самом начале. У них была маленькая лавка здесь, в Фобур Сан-Марсель… Расчесывай, Эдмон, сильнее!.. Первое, что вам надо знать о лавке ношеной одежды, – это то, что внутри должен всегда стоять полумрак. Важно, чтобы покупатели не могли внимательно разглядеть товар. Это просто удивительно, какие чудеса со старой одеждой творит тусклый свет! Вы не заметите ни пятен, ни вылезших ниток, ни заплаток. Поначалу его родители меня невзлюбили, но я стояла на улице и зазывала покупателей, а по понедельникам, когда на Гревской площади открывался большой рынок старой одежды, я кричала громче всех, расхваливая свой товар, и его родители видели это и одобряли мое усердие… Расчесывай, Эдмон, не бойся!.. Мы продавали нижние сорочки, снятые с покойников, панталоны, в которых ходили уличные девки, засаленные чепчики, которые покрывали головы усохших вдов до того, как те испустили дух. Штопаные-перештопаные чулки. Старую одежду, выношенную и много раз надеванную на разные тела. Сохранилась сорочка, которая висела у нас в лавке, так она возвращалась к нам семь раз! У нее было семь разных парижских владельцев. Наши товары продолжают жить своей жизнью помимо нас.
К нам в лавку приходили люди, которые пытались карабкаться вверх по скользким ступеням общественной лестницы Парижа. Рыночная торговка могла нацепить кружевной капор вдовы адвоката. Молоденькие женщины готовы были раздеться донага в нашей лавке и чуть не подраться из-за какой-нибудь нижней юбки. Иногда по ночам, когда его родители мирно спали, мы с Анри приходили в лавку и примеряли там разное платье. Он наряжал меня как светскую даму… Заплети косу, Эдмон, да потуже! Туже!..
Через какое-то время Анри захотелось торговать только красивыми вещами. Вид поношенных холщовых чепцов его угнетал. Он мечтал одевать богатых клиентов в шелка и атлас. Родители не понимали его грез, они тормошили его, щипали, просили меня разбудить его. Но потом они умерли: одна – поскользнувшись февральским утром на скользком камне мостовой, а другой – в мае от заражения крови, полученного от пореза какой-то старой пряжкой, и их уход открыл для нас новые возможности, Анри стал портным. Но это дело, в отличие от торговли поношенной одеждой, никогда не было прибыльным.
А теперь послушайте, доктор, что я вам скажу, слушайте внимательно. Некоторые предприятия не имеют будущего и их вообще не стоило бы затевать. Другим предприятиям следует помогать, выбрав нужный момент, иначе они зачахнут. У нас есть коммерческое предприятие по изготовлению бюстов. Вы весьма умелый мастер, доктор Куртиус, это всем видно, и предприятие наше растет, и мы могли бы добиться еще больших успехов, особенно сейчас, когда у нас есть головы знаменитых людей, где-то в другом месте – не в этом тихом переулочке, а, скажем, на одном из бульваров. Мы сможем находить больше голов, особенно голов великих мира сего. Сейчас мы, вы и я, на распутье. Пико решил изменить свою жизнь, и это убило его. Но теперь мы попробуем внести перемены в свою жизнь. Мы попытаемся перескочить сразу через две ступеньки общественной лестницы. И я задаю вам вопрос: вы готовы пойти со мной?
– Да, да, готов! – ответ Куртиуса прозвучал без промедления.
– Вы будете тверды до конца и не дадите слабины?
– Буду, буду непременно. Но куда, скажите на милость, мы отправимся?
– Короче говоря, дорогой доктор, я кое-что нашла. Это большой дом, больше, пожалуй, чем нам требуется, но его можно приобрести за хорошую цену. Плату за аренду нужно уплатить вперед. Здание требует ремонта, но оно достаточно прочное. Снимавший его делец разорился, и мы можем этим воспользоваться. Только мы не пойдем его путем. Так что, доктор Куртиус, плыть или тонуть?
– Плыть, плыть!
– Эдмон, можешь надеть мне на голову мой капор!
Звякнули стаканы, и я тихонько спустилась вниз. И куда же мы отправимся? Что нас ждет на новом месте? И тут меня осенило: а меня-то возьмут? Что будет со мной? Никто даже не упомянул, что и меня возьмут, но никто и не сказал, что не возьмут, а я побоялась спросить. И я помогла им паковать вещи и вообще была очень полезной. В день, когда приехали повозки для наших вещей, я пошла следом за ними, трясясь от мысли, что меня прогонят.
Вдова и мой наставник шли первыми. За ними Эдмон. И потом я, чуть сзади. Я тоже переезжала в новый дом. Куртиус обернулся, посмотрел на меня, слегка кивнул и снова устремил взгляд на вдову. Но вдова думала о чем-то своем.
– Эта улица не была для нас удачной, Анри, – произнесла она, обращаясь к холщовому мужу на повозке. – Мы продолжаем двигаться вперед и не станем оглядываться.
Книга третья 1770–1778 Обезьянник
Я в возрасте от десяти до семнадцати лет.
Глава шестнадцатая
Косматый
Дом номер двадцать по бульвару дю Тампль был деревянной постройкой возле глубокой сточной канавы у городской стены. Выведенная тонкими буквами надпись на фасаде объясняла назначение этого строения: ДОМ ВСЕМИРНО ЗНАМЕНИТОГО ПАСКАЛЯ, ЖИВОГО ПРИМАТА-ФИЛОСОФА, И ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫХ БРАТЬЕВ, а поверх этой надписи красовалась вывеска: HÔTEL SINGE, то есть «Городской обезьянник». Дом был похож на прямоугольный храм с тремя колоннами на фасаде и двойными дверями. Обойдя дом вокруг и поглядев на его заднюю стену, можно было обнаружить, что эта постройка не разваливалась только благодаря двум гигантским деревянным подпоркам по бокам – можно сказать, дом держался на костылях. И это было наше новое жилище.
Перед Hôtel Singe на нескольких повозках громоздились предметы мебели и всякая всячина: клетки и чаны, старые стулья и скелеты диковинных существ. А над всей этой горой мертвого хлама сидели, забившись по углам в тесных клетках, три живых зверька с быстрыми черными глазками, с ранками на шкурках и крупными участками голой кожи без меха. Это были обезьянки. При нашем приближении к дому на подпорках они начали истошно визжать.
Куртиус с изумлением воззрился на животных.
– Какие длинные! Какие худые! Какие косматые!
Тут одна обезьянка издала ужасающий, очень печальный, очень человеческий вопль. Все мы были потрясены этим воплем – даже вдова.
– Здравствуйте! – поприветствовал Куртиус обезьян, приподняв свою треуголку.
Мы вошли в деревянный дом.
Весь первый этаж занимал просторный зал, и наши шаги гулким эхом отдавались под потолком, такой он был пустой – ну, почти пустой, если говорить точнее, – потому как на скамеечке для ног сидел толстый человек, очень странно одетый: в нечто вроде костюма медведя, и все его тело, за исключением головы и кистей рук, было покрыто сшитыми вместе кусками меха. Это был разорившийся хозяин обезьянника Бертран ле Велю, что в переводе с французского означало Бертран Косматый. Чуть поодаль стоял облаченный в черный сюртук городской чиновник: по всему было понятно, что Бертрана ле Велю препровождают в долговую тюрьму. У него на коленях лежал небольшой меховой комочек – тот самый Паскаль, Примат-Философ, но уже мертвый. Вокруг Бертрана Косматого и Паскаля толпились еще люди в черных сюртуках и выносили на улицу предметы мебели, которые складывали на землю возле входных дверей.
– Эти звери в черном, – изрекла вдова, – судебные исполнители, и они кусаются!
Покуда вдова ставила подписи в бумагах, которые ей передали судебные исполнители, нотариус, выселяемый хозяин обезьянника, отчаянно жестикулируя, поманил меня к себе. Ему, видно, ужасно хотелось поговорить, и во время беседы он постоянно чесался – то макушку почешет, то под мышками, то свой зад, и все это он проделывал со странными ужимками, и я решила, что эти жесты он перенял у обезьян.
– Должен тебе сказать, я занимаюсь обезьянами с двенадцати лет. Мой отец был богат: он торговал корицей и кумином, мускатным орехом и ванилью. Из своих длительных поездок он привозил не только специи, но и живность. Первым животным, которого он привез, был pan troglodyte – шимпанзе, я назвал ее Флоранс. Флоранс откусила мне палец, вот здесь, – и он продемонстрировал обрубок пальца. – Но я ее любил и все удивлялся, сколько же на земле живет всяких существ. Я стал их коллекционировать и потратил на них весь отцовский капитал. Я их покупал у разных торговцев. Но мне всегда было мало. Я имел дело со многими человекообразными обезьянами, я считал бабуина своим другом. Я предпочитаю обезьян людям. Они честнее. Ты всегда знаешь, чего от них ждать. Обезьяны – это мое призвание. У меня однажды была курносая обезьяна, но долго зверек не прожил. Курносый был родом из тропиков и размером не больше этого, – и он показал пальцами: четыре дюйма. – Крошечное создание. Милый малыш. Я назвал его Эмманюэль. Там стоит его скелет. Я его самолично сварил в кипятке. Это его шерсть, – и он тронул кусок меха на своем плече. – Я заплатил за него двести ливров. Людям он нравился за крошечный размер. Думаю, когда я его купил, он уже болел. Но лучше Паскаля у меня не было никого. Правда, мой милый? Никто теперь тебя не обидит. Говорят, будто я его убил. Но зачем мне тебя убивать, если я тебя люблю? Если благодаря тебе я прославился? Ты же веришь мне, не так ли?
– Я пытаюсь, месье, – ответила я.
– Ты и сама похожа на обезьянку, крошка. С таким большущим носом, с такими тонкими ручонками. Вылитый носач. Имея такую внешность, ты, возможно, можешь понять, как тут все было: весь этот дом был населен обезьянами. Помню время, когда здесь жили двадцать обезьян и трое людей. У каждой обезьяны была своя клетка. И ты ходил от клетки к клетке, наблюдал за их обитателями: как они спят на своих постелях, как расчесываются, как надевают на головы парики или накладывают мушки. У меня был шимпанзе, который в ливрее подавал еду на подносе. Какой же был славный дом! Люди толпами валили сюда и, глядя на обезьян, изучали собственные повадки. Паукообразная обезьяна жевала сигару – такое до конца жизни не забудешь! Капуцин причесывался гребнем, инкрустированным хрустальными стразами. Бабуин отхлебывал вино из графина. Какой был дом! Но все это просуществовало недолго. Некоторые наши обитатели, хотя я их прекрасно кормил и они получали хороший уход, погибли, запутавшись в шелковых простынях.
Бертран указал на клок меха на своем левом локте.
– Детеныш макаки-резуса утонул в фарфоровом ночном горшке.
Он почесал грудь.
– Бесхвостый макак случайно повесился на шнуре от колокольчика. У меня не хватало средств, и пришлось расстаться с прислугой. А однажды упал стенной канделябр, и пламя от свечей перекинулось на мех моего шимпанзе в ливрее…
Он потрогал меховую заплату на правом локте.
– Обезьяны взбунтовались. И их было не унять. Но у меня тогда еще оставался Паскаль. Величайший из приматов! Видела бы ты его в смокинге, в шапочке с золотой тесьмой. Я не мог полностью держать их под контролем, иногда они брали надо мной верх. Такой дом, мой дом, он постепенно пустел. Само собой, первыми опустели жалкие комнатушки наверху.
Хозяин обезьянника принялся разглаживать лоскуты меха в разных местах.
– А люди продолжали приходить и смотреть, как Паскаль пьет коньяк из бокала. Но все пошло наперекосяк. Говорили, будто каждую ночь я кричу на тебя, Паскаль, будто соседей каждую ночь будили мои крики и твой визг. А теперь ты не проронишь ни звука. Всех у меня забрали. Говорили, будто я бью тебя. Да я ни разу тебя не ударил! Зачем мне тебя бить, если я тебя люблю? И вот в среду я подхожу к твоей клетке и вижу, что ты лежишь в углу, такой одинокий и неподвижный.
Косматый замолк, поглаживая труп обезьяны.
Помолчав, я сказала:
– Благодарю вас, месье, за ваш рассказ.
Он продолжал гладить мертвую обезьяну.
– Простите, месье, – проговорила я. – Позвольте я его потрогаю.
– Ты хочешь?
– Да, прошу вас.
– Тогда можешь потрогать, душа моя, и бесплатно.
Я взяла Паскаля за правую лапу. Она была продолговатая и черная, длиннее моей, но тоньше, с острыми когтями, холодная и затвердевшая.
– Мне так жаль, что он умер, – сказала я.
– Да, такая жалость!
– Сударь мой, – отвлекаясь от своих грустных мыслей, обратилась я к Куртиусу на понятном нам с ним языке, – а давайте вместе его нарисуем!
– Что за странная идея! – улыбнулся мой хозяин, обнажив зубы.
– На французском! – строго заметила вдова. – Прошу вас, говорите на французском. Доктор Куртиус, мы же должны понимать друг друга, разве не так?
– Разумеется, вдова Пико!
– Тогда давайте с этого момента, раз и навсегда, говорить только по-французски.
– По-французски, – эхом отозвался мой наставник.
– Паскаль был гений, – прошептал мне Бертран. – Я такого больше уже не встречу. И что мне теперь делать? – Он схватил меня за руку. Другой рукой я все еще держалась за Паскаля. – Что теперь со мной будет? Что нам теперь делать, а, мой любимый человечек? Я в тупике.
Он взглянул на вдову, потом спросил у меня:
– Она у вас главная?
– Так ей кажется, – шепнула я.
– Прошу прощения, мадам, – произнес он с жаром. – Вы держите каких-нибудь животных? Я очень хорошо управляюсь с животными!
Вдова повернулась к судебным исполнителям.
– Теперь этот дом наш. Так что попрошу вас его покинуть. Крошка, ты выйди, а не то еще подхватишь какую-нибудь заразу, которая не позволит тебе быть нам полезной. Это очень на тебя похоже – якшаться со всяким сбродом!
– Позвольте я помогу вам ухаживать за вашими животными! – опять взмолился Бертран. – Я ласковый. Я очень-очень ласковый. Я… – и тут Косматый не смог совладать со своими чувствами. Он выпустил мою руку, а я отпустила лапу Паскаля, и Бертран, зарывшись лицом в мех мертвого зверька, разрыдался. Когда его выводили, он крикнул:
– На мне надеты все мои воспоминания, поэтому я ничего не забываю. На мне надеты все мои друзья. Они всегда рядом. Они меня согревают. Какая чудесная шляпа получится из тебя, Паскаль, какая чудесная шляпа! Я всегда буду любить тебя!
Стоило ему выйти за дверь, как вновь послышались его вопли, которые быстро затихли вдалеке. Мы остались в доме одни.
Глава семнадцатая
Обезьянник
Ну и пустота. Вряд ли кому-то из нас там было уютно. Мне казалось, что вдова допустила ужасную ошибку. Она рубанула сплеча, не подумав. Нас было четверо в огромном доме, всего четверо – и масса следов, оставленных теми, кто тут жил до нас. Возможно, некогда это знаменитое место привлекало толпы посетителей, и здесь действительно перебывали тысячи людей, но болезни и смерти осквернили этот дворец природных чудес. Парижане явно утратили вкус к обезьянам, словно все разом решили, что обезьяны их больше не интересуют. Но обезьяны, пусть и отсутствующие, напоминали нам о себе на каждом шагу.
И не только афишками с надписями вроде ОБЕЗЬЯНЫ В ПАРИЖЕ. Все лестничные пролеты, все неровные коридоры, все стены были испещрены царапинами и дырками. Сами же лестничные ступени были изгрызены. Вообще следы зубов встречались повсюду: это было сильно покусанное и изжеванное жилище.
– Это наш новый дом? – нервно спрашивал Эдмон.
– Обезьянник – вот что это такое, – отвечал мой хозяин.
Обезьянник, несмотря на то что когда-то здесь размещался небольшой отель, а еще раньше кафе с рулеточными столами, а потом мы превратили его в выставку восковых фигур, всегда именовался Обезьянником.
– Крошка, – распорядилась вдова, – будь полезной, распакуй вещи! Иди!
Я перетащила наши коробки и чемоданы наверх. На дверях комнат-клеток во втором этаже – причем на некоторых еще сохранились железные прутья – были написаны имена их бывших обитателей: МАРИ-КЛОД, ФРЕДЕРИК, КАТРИН И СИМОН, ДОМИНИК, ЛАЗАР, ОГЮСТИНА, ОГЮСТЕН, НИКОЛЯ И МАРИАНЖ, КЛОДИА И АРНО, ЖАН-ВЕЛИКАН, ПОЛИН, ЭЛОИЗА И АБЕЛЯР. Рядом с каждым именем располагался небольшой рисунок животного или животных, обитавших в той или иной клетке, чтобы люди, поднимавшиеся по лестнице, заранее могли знать, кого им надо высматривать под одеялом, за занавесками, на дверной притолоке. Вдова выбрала себе в качестве спальни комнату с табличкой КАТРИН и СИМОН на двери, где когда-то обитали обезьяны-ревуны. Для Эдмона она выбрала комнатку слева от своей спальни, бывшее обиталище паукообразной обезьяны по имени Полин. Комната Куртиуса располагалась справа от комнаты вдовы, там раньше жил крупный бабуин по прозвищу Лазар из восточной Африки, отловленный уже в зрелом возрасте. На двери красовалась его эпитафия, сочиненная Бернаром Косматым: «Лазар умер в возрасте тридцати пяти лет, проглотив серебряную погремушку».
Вдова поручила Эдмону отнести холщового двойника отца наверх и поставить его на лестничной площадке напротив ее двери лицом к перилам, как будто он мог бы, возникни у него такое желание, перегнуться через перила и поглядеть вниз. С манекена сдернули черное покрывало: в новом доме он мог быть выставлен на всеобщее обозрение.
– Ну вот, Анри, – сообщила она ему, – отсюда ты сможешь видеть почти все. Мы очень горды. У нас все хорошо. Больше я не буду тебя прятать. Я хочу, чтобы ты следил за нашими успехами. Видишь, я тебя выставляю напоказ!
– Прошу прощения, сударь, – обратилась я к своему хозяину, – а где мне спать?
В ответ вдова проводила меня вниз по лестнице.
– Кухня! – произнесла она. – На кухне! Подальше от наших глаз.
Это было темное мрачное помещение с исцарапанными половицами и стенами, покрытыми сажей и копотью, точно эту комнату долго запекали в печи.
– Тебе поставят сюда лежанку, тут будет удобно. Кухня расположена в задней части дома, поближе к сточной канаве бульвара. Здесь тебе самое место!
– По-моему, это очень печальная комната.
– Она такая, вне всякого сомнения, из-за тебя.
– Да, мадам!
– Ты будешь почти все время находиться здесь, отсюда ни на шаг! У нас появится новая клиентура, и когда в большом зале будут находиться наши клиенты, ты должна сидеть тут безвылазно.
– Да, мадам.
– Но сейчас приберись здесь, я имею в виду во всем нашем особняке!
– Да, мадам.
– Тогда за дело!
Ясно: швабру в руки!
– Мы назовем наше новое предприятие «Кабинет доктора Куртиуса», – объявила вдова в зале. – Слова «Вдова» или «Пико» не привлекут внимания. Они звучат слишком обыденно. А вот «Доктор» и «Куртиус» – в них есть нечто особенное!
– Неужели? – спросил мой хозяин. – И что же в них особенного?
– А если наше предприятие прогорит, мне придется искать себе новое занятие, и к тому же не стоит нам обоим отвечать за наше фиаско. Я же вдова, а вы – мужчина.
– Да, понятно. Вдова. Мужчина. Да, именно так.
– Но самое главное, – продолжала она не без горечи, – женское имя в названии предприятия не привлечет публику. Считается, что женщины не могут заниматься коммерческими делами. Конечно, доктор, мы не прогорим!
Дом нуждался в тщательной уборке, поэтому мы вчетвером взялись за швабры и тряпки. После нескольких часов неустанной работы Обезьянник выглядел намного лучше, но Куртиус то и дело заходился надсадным кашлем, и его пришлось вывести на воздух. Вдова с сыном отправилась с ним на прогулку, а я осталась в доме одна и продолжила уборку.
– Привет! – тихо сказала я, когда они все ушли. Ответом мне были скрип и скрежет. Я закрыла глаза и тут же ощутила дуновение в воздухе: несчастные призраки мертвых обезьян сбегались ко мне, раскачиваясь на невидимых лианах, морща губы, скаля зубы.
– А я не боюсь!
Дом щелкнул. Что-то упало.
– Я вижу: ты великолепен!
Наверху раздался стон.
– Я буду здесь жить. Я приехала сюда жить.
Вокруг меня клубились клочья пыли.
– Ну давай, дом, покажи самое ужасное, на что ты способен! Мне больше некуда идти! Я остаюсь. И я собираюсь добиться, чтобы мы с тобой, дом, подружились.
Послышался треск, сначала тихий, он становился все громче, пока не превратился в протяжный визг. Похоже на скрип костылей, подумала я, как будто снаружи кто-то подлаживал костыли-подпорки дома под мой вес.
– Прошу тебя, – взмолилась я, – давай придем к взаимопониманию.
Наверху раздался топот ног, словно кто-то затеял беготню по лестничной площадке, хотя, когда я туда поднялась, там не было ни души. Плохо, подумала я, что они оставили меня одну в таком месте, где сумеречные привидения только и ждут, чтобы напасть.
– Ну ладно! – крикнула я, обращаясь к дому. – Тогда вперед, сожрите ребенка! Я тут. Нападайте, я не стану сопротивляться!
Дверь со скрипом отворилась. Но никто не вышел. Там никого не было.
– Я знаю, вам грустно! Ну, выходите же, давайте поговорим, и нам станет тут уютнее. Так это правда: вы меня проглотили! И я накормлю тебя, о, большой дом, твои гигантские кишки смогут напитаться мной. Я накормлю тебя до отвала. Я стану твоим сытным ужином. Мое худосочное тельце – оно твое. Я тебе все расскажу. Я отдаю тебе всю себя!
Не знаю уж, это мне все почудилось или нет, но тут дом вроде как слегка задышал и позволил без неприязни трогать себя и исследовать каждый свой уголок. Здесь мне теперь предстояло жить, внутри этой зверюги, и превратить его в наилучшую из всех возможных зверюг на свете.
Подметая углы, я беседовала с домом и поведала ему, кто я такая, и чему меня обучили, и как сильно я хочу снова быть в услужении у своего хозяина, и какая интересная у него работа, и как Эдмон показал мне свою куклу, и что, хотя он с виду тихоня и зануда, с ним мне интересно, и что дом должен с ним обходиться хорошо, и хотя он временами держался как напыщенный индюк, на самом деле он совсем не противный, со своими веснушками на носу и белой грудью. А вот его мамаши, внушала я дому, ты не стесняйся, ставь ей подножки, чтобы она спотыкалась и падала, терзай ее во сне, пускай она ощущает себя жутко несчастной в такой прекрасной и роскошной обители.
Когда я излила душу огромному жилищу и перестала его бояться, как раньше, и почувствовала себя в нем почти как дома, раздался приглушенный шелест – это издалека приближалась гроза. Поначалу я решила, что это огромная стая мертвых обезьян, решивших меня здесь навестить, но потом поняла, что слышу какие-то новые звуки – не внутри пугающего здания, а снаружи. С бульвара.
Это хлопали ставни на окнах. И задвигались засовы на дверях. И на тротуары поверх слякоти швырялись деревянные настилы. Так с шумом вспыхивает пламя в печи. Потом послышался резкий клекот, точно откашлялась сотня человек одновременно, а потом раздалось бурчание сотен голосов, становясь все громче и громче, точно весь бульвар дю Тампль завертелся в вихре этих голосов, загудел, как огонь в топке, пока тишина не утонула в какофонии звуков и безумолчный оглушающий шум не накрыл все вокруг, тревожно усиливаясь и заполняя все полые пространства Обезьянника. Так бульвар дю Тампль, парижский район развлечений, эта живая раскрашенная декорация, пробуждался от сна.
Я взбежала вверх по лестнице и прильнула к окну. Я наблюдала, как бульвар заполняется всяким народом: от склейщика разбитого фарфора до крысолова, от водовоза до носильщиков паланкинов, от торговца пером до каменщика – все парижане стекались сюда. Здесь встречались противоположности: обсыпанные мукой подмастерья изготовителей париков шагали рядом с истопниками, покрытыми толстым слоем угольной пыли. Среди них затесались бульварные завсегдатаи, оравшие на разные лады: бродячие музыканты, кукловоды со своими марионетками, торговцы игрушками, актеры в ярких костюмах, человек с громадным медведем на цепи, слепые скрипачи, поющие дети, танцующие старики, огнеглотатели, шпагоглотатели – словом, бульвар заполонила большая цирковая труппа диковинных людей. Вот где бурлила жизнь!
В Обезьяннике шум с бульвара отдавался эхом – таким громким, что я не услыхала, как внизу хлопнула дверь и в дом вошла вдова, я очнулась, только когда она нависла надо мной. Вдова грубо приказала мне вернуться в большую гостиную и скрести там пол до тех пор, пока не выветрится ужасная звериная вонь. Но этот запах так до конца и не исчез.
Когда пришло время ложиться спать, вдова, собрав вокруг себя все обезьяньи привидения, с лампой поднялась наверх в сопровождении Эдмона и моего хозяина. Оставшись в темноте, я слышала крики, рыдания и хохот со стороны бульвара. Многие из этих звуков, похоже, неслись из дома напротив, на котором висела вывеска «НЕБЕСНОЕ ЛОЖЕ» и – более мелкими буквами – «Доктор Джеймс Грэм (недавно из Лондона)». Глядя сквозь ставни, я наблюдала, как туда уже совсем поздно ночью съезжаются люди: иногда пары, а иногда одинокие мужчины.
Дважды той ночью в двери Обезьянника шумно дубасили чьи-то чужие руки. Я изо всех сил старалась не уснуть, потому что меня вновь обуял прежний страх, и я не была уверена, что в таком доме можно, ничего не опасаясь, спать, но в конце концов, обессиленная, я смежила веки. Мне снилась обезьянка, сидящая на кухонном стуле: она раскачивалась взад-вперед и таращила на меня огромные глазищи. В ужасе я села на лежанке и увидела, что здесь и впрямь кто-то есть. Это был Эдмон.
Глава восемнадцатая
Голоса в ночи
– Маман спит, – сообщил он.
– Ясно.
– И доктор спит.
– Да, уже очень поздно, Эдмон. Или очень рано.
– Он кричит во сне, доктор Куртиус.
– Да, мне это хорошо известно.
– Я не могу уснуть.
– Ясно.
– А ты можешь уснуть?
– Да.
– Я подумал, что, может быть, лучше мне прийти и посмотреть, как ты.
– Ну, вот она я.
– Честно говоря, мне было страшно. Маман вряд ли позволит мне зайти к ней в спальню. Она уличит меня в ребячестве. А мне не хочется идти в комнату к доктору. Меня пугает это здание, понимаешь, и то, что вокруг него. Но в основном здание. Я скучаю по нашему старому дому. Не думаю, что это здание когда-нибудь станет нашим домом. Я просто не понимаю, как он может стать. Боюсь, в этом здании я умру. И еще тут есть привидения, тебе не кажется?
– Полным-полно.
– Так я и думал. Я слышу, как они скребутся.
– А я с ними познакомилась – они ко мне приходили, веришь ли? Я видела, как они шастали в темноте. И слышала их перешептывание. Сегодня днем, когда вы ушли и оставили меня тут одну, они пришли ко мне – сразу сбежались!
– Не может быть!
– Может! Они меня щипали, трогали и уже собрались сожрать целиком, но тут…
– Но тут что?
– …я заговорила с ними и пожурила, и теперь, мне кажется, мы с ними лучшие друзья.
– А я смогу с ними подружиться?
– Вряд ли они захотят.
– Почему?
– Они очень угрюмые.
– Я тоже угрюмый.
– Но не такой, как они.
– Они что, свирепые?
– Тебе надо быть смелым.
– Буду!
– Очень смелым!
– Буду!
– Тогда, быть может, со временем я тебя с ними познакомлю.
– Лучше бы они ко мне не приставали.
– Не говори так – никогда так не говори! Ты их рассердишь.
– О, прошу прощения, я не хотел…
– Ты видел?
– Что?
– Вот тут только что один появился. Стоял прямо перед тобой, с длинными клыками и когтями. А меня заметил – и бросился наутек.
– Правда? Я ничего не видел.
– Правда. Только что тут был.
– Ты хочешь меня напугать.
– Вот и нет.
– Я иду обратно в кровать, – печально проговорил он.
– Эдмон, погоди, это необязательно.
– Лучше я пойду. Маман может нас услышать. Ей это не понравится.
– Тут, кроме нас, никого нет.
– Да, но что, если вдруг маман услышит?
– Ну, конечно, ты всегда должен делать только то, что тебе говорит маман.
– Вовсе нет. Но теперь я уже меньше боюсь. После того как я увидел тебя, хотя ты и пыталась меня напугать. И все же. Могу я снова прийти, Крошка…
– Мари!
– Да, прошу прощения. Могу я снова прийти к тебе, Мари? Если мне станет страшно, можно я к тебе приду?
– В любое время.
Он отправился наверх, и всякий раз, когда его нога опускалась на ступеньку, привидение на лестнице издавало истошный скрип. А я, ворочаясь на своей лежанке, всю ночь не могла сомкнуть глаз от счастья.
Глава девятнадцатая
Третья группа голов
Пчелы выделяют воск из особых желез в их теле, из этого воска они строят свои сотовые дома, где в длинных коридорах и залах обитают тысячи насекомых, их города тоже сделаны из воска, их молодняк растет внутри восковых стенок, там же они копят мед. Воск необходим им для жизни. Без воска у них не было бы жилища, и их потомство не имело бы крыши над головой. Люди забирают воск у пчел и с его помощью удаляют грязь. Из воска делают свечи. Воск дает нам свет; без воска мы бы жили во тьме. А как много всего нам удалось увидеть в жизни благодаря воску! Как бы мы освещали театры и бальные залы, не будь его? А как бы маленький мальчик смог прогнать злых чудищ, поселившихся у него под кроваткой, если бы не воск? А как подслеповатая старуха, обуянная страхом темноты, узнала бы, что она еще жива, если бы не успокоительное пламя свечи? Мы чиркаем спичкой и зажигаем свечу, возвращая себе капельку дневного света – благодаря воску.
В Обезьяннике из воска строилось наше будущее. Мой наставник отрезал от куска воска тонкие ломтики и плавил их в большом медном котле при температуре от шестидесяти двух до шестидесяти четырех градусов. Из этого воска он лепил головы парижан. Вдова повесила над входными дверями Обезьянника старый колокольчик из дома Анри Пико. Она выставила в гостиной головы знаменитостей. Головы эти почти потерялись в огромном помещении.
Спустя два дня после нашего переезда в Обезьянник я услышала их разговор в гостиной. Они обсуждали меня.
– Почему вы с ней так строги?
– Потому что она меня оскорбляет!
– Она же всего лишь ребенок, вдова! К тому же признайте, ее поведение заметно улучшилось.
– Она такая простушка. И чужеземка! С такой-то скверной рожей! Ничего не могу с собой поделать, ее лицо действует мне на нервы. Словно она давно умерла, а все еще кажется живой. Это лицо из кошмарного сна, что каким-то образом пробралось в нашу повседневную жизнь.
– Это все, что вы можете про нее сказать? Вам не нравится ее внешность?
– А разве этого мало? Это же лицо несчастья!
– У вас слишком богатое воображение, вдова Пико!
– Но я так чувствую. У женщины могут быть чувства?
Да, да, у женщины могут.
Я не все расслышала из их беседы, но чуть позже услыхала кое-что еще.
– Я вам так благодарен! – произнес мой хозяин.
– Да.
– Я хочу, чтобы вы поняли всю глубину моей благодарности, моей симпатии.
– Мы деловые партнеры, доктор!
– Могу ли я осмелиться… Возможна ли между нами близость более тесная, чем просто деловое партнерство?
– Я в глубокой скорби, и в настоящий момент я недоступна.
– Но настанет же день?
– Не знаю. Не давите на меня. Первым делом наше предприятие, здесь нет места для глупостей. Глупость убила моего мужа!
– Да, да, я понимаю, дело! Дело прежде всего. Но мы занимаемся делом дома, вдова Пико, вы и я. Это же наш дом, дом!
– Да, это наш дом, если мы сможем им правильно управлять.
Дом, дом. Если я смогу ею правильно управлять. Кроме дела, ее больше ничего не интересовало, и я молила небеса, чтобы так оно и оставалось впредь.
Мой хозяин и вдова принялись навещать самых успешных дельцов бульвара дю Тампль и вскоре преподносили им их восковые головы. Среди них был долговязый, вечно нахмуренный Жан-Батист Николе, владелец театра канатоходцев, и низенький толстяк Николя-Медар Одино, владевший труппой детей-циркачей, был еще и улыбчивый веснушчатый, с огненно-рыжей копной волос, доктор Джеймс Грэм из «Небесного ложа», который увеселял взрослых посетителей своего заведения.
Николе и Одино владели двумя единственными кирпичными зданиями на бульваре, все остальные здания там были деревянные. Когда по бульвару гулял ветер, деревянные дома стонали и скрипели. Особенно громко выводил скрипучие рулады наш Обезьянник. Чердак, самая хлипкая часть здания, стенал всю ночь без умолку. Он словно вел громкие беседы сам с собой, сетуя на свою печальную судьбу. Однажды, во время обследования чердачного помещения, нога вдовы пробила там пол и целиком провалилась сквозь потолок помещения во втором этаже. С тех пор вдова объявила чердак слишком опасным местом для посещений, и чердачную дверь наглухо забили. Однако чердак продолжал напоминать о себе. Он обращался к нам, бубнил и манил, умоляя его не забывать.
Ателье в Обезьяннике располагалось во втором этаже, в просторной комнате, где ранее обитала пара пегих шимпанзе, поэтому я, находясь все время в кухне внизу, была от него слишком далеко. А чтобы обследовать его по ночам, приходилось подниматься по главной лестнице – и при этом деревянные ступени недовольно покрякивали и вздыхали, – и мне приходилось затаиваться и ждать, когда все удовлетворят свое любопытство, выходя из своих комнат узнать, что стряслось.
Когда могла, я наблюдала за тем, как идут дела на бульваре. Соседнее здание справа было небольшим кафе для шахматистов. Слева располагался МАЛЕНЬКИЙ ЖИТЕЙСКИЙ ТЕАТР МАРСЕЛЯ МОНТОНА. Обитатели этих заведений, думаю, не слишком нас жаловали. Когда Куртиус кланялся им при встрече на улице, они отворачивались. Еще в свободное время я разглядывала людей на бульваре, когда те были предоставлены сами себе. Я видела безногого, который ездил в своей коляске взад-вперед по бульвару, часто обгоняя прохожих. Другой дядька выгуливал свору бульдогов в намордниках. Еще один выводил на прогулку четырех карликов, а еще появлялся месье с неуклюжим медведем. Я часто видела рыжеволосого доктора Грэма, в ярком платье, с сигарой во рту, причем всякий раз в обществе разных красивых дам. Какая же удивительная и разнообразная жизнь там кипела! Я бы никогда не увидела этого и даже вообразить себе не могла бы, что такое может быть, останься я жить в родной деревеньке.
Среди персонажей на бульваре я скоро заприметила одного чрезвычайно уродливого парня, бродяжку, который, похоже, дружил с бездомными собаками. Я видела, как он с ними играл, скалился на них, выл вместе с ними, искал вместе с ними еду на улице. Когда я обратила внимание моего наставника на этого парня, он немало изумился и с интересом уставился на изъязвленную кожу бездомного, спутанные волосы и грязную одежонку.
– Представляешь, Мари, даже он, пусть и опустившийся на самое дно, он ведь тоже парижанин.
А я заранее знала, что Куртиус заинтересуется этим чумазым оборванцем. Я знала, какие головы могут привлечь моего хозяина. Вдова вечно талдычила, что ему следует отдавать предпочтение благородным головам, головам исключительных людей, но Куртиус усматривал благородство в уличных оборванцах. Если какая-то голова пробуждала в нем страсть, то ему уже трудно было потом от нее отделаться. Я несколько рад ловила его взгляд, устремленный на того уродливого парня, и видела, как его руки быстро двигаются в воздухе, точно вылепливают его лицо. В свою очередь, как-то ночью я мимолетно дотронулась рукой до лица Эдмона.
– О! Не делай так!
Он снова зашел ко мне. Иногда он заходил дважды в неделю, учась бесшумно спускаться по ступенькам. Он так грустил на новом месте, что ему нужно было хоть с кем-то потолковать. Именно в такие минуты Эдмон медленно, опасливо заговаривал. Всю жизнь его сопровождал голос маман, звучащий на повышенных тонах, и он затихал, подавленный ее повседневной голосистостью. А мы беседовали вполголоса, и в этом шепоте, в этом убаюкивающем бормотанье он охотнее раскрывал свою душу.
– Я тихоня, да, Мари? Я таким был не всегда. В школе я бегал и орал вместе со всеми. У меня было много друзей, но когда папа заболел, я бросил школу, чтобы помогать ему с заказами. Наверное, тогда я и стал тихоней, а папа, наоборот, становился все шумнее и часто кричал, пока болел. Это были печальные крики. Маман требовала, чтобы я не шумел, все повторяла, что мне нельзя его беспокоить. Так я приучился быть тихоней и привык говорить только шепотом. Да я и не возражаю, по правде сказать, мне даже нравится шептать, потому что все вокруг такие шумные!
– А еще, Эдмон? Расскажи что-нибудь еще.
– Да нечего. Нечего больше рассказывать.
– А о чем ты мечтаешь?
– Стать в один прекрасный день отличным портным.
– Об этом мечтает твоя маман.
– Нет, нет, это мое самое сокровенное желание.
– А я, Эдмон? Как думаешь, кем буду я?
– Служанкой, наверное. Кем же еще?
– Я умею рисовать. Я умею смешивать краски, делать заготовки лиц, плавить воск.
– Хватит, Мари! Маман этого не потерпит. Ты должна знать свое место.
– Но что если мне не нравится мое место?
– Маман, недолго думая, вышвырнет тебя на улицу.
– Но сначала она должна мне заплатить.
– Будь хорошей, Мари.
– Хотя я этого не хочу.
– Тебя кормят. У тебя есть кров.
– Я рада, что ты ко мне заходишь. Мне жизнь тут была бы немила, если бы ты не заходил.
– Я не прочь иногда спускаться к тебе.
– Надеюсь.
– Ты лучше не надейся, Мари. Это же не твой дом.
– Ты еще придешь?
– Могу. Но ты не жди.
Глава двадцатая
В дом проникает шум извне
Как-то раз, когда чумазый бездомный с бульвара расположился спать неподалеку от нас, прислонившись к стволу тополя, мой хозяин вышел из дома, чтобы получше его разглядеть. Хотя парню ничего не угрожало, тот сразу открыл глаза, и его взгляд вперился в моего хозяина. Куртиус поспешно ретировался к Обезьяннику. Когда он, сделав несколько шагов, обернулся, парня уже и след простыл. Но, входя в Обезьянник, Куртиус заметил, что бездомный, оказывается, никуда не сбежал, а примостился на ступеньках заведения доктора Грэма. Парень вынул из кармана колбаску, отер ее грязными пальцами, отгрыз изрядный кусок и принялся его свирепо жевать. Когда я, по просьбе хозяина, выглянула проверить, парень все еще сидел на прежнем месте. Он околачивался около Обезьянника весь вечер. Увидев Куртиуса и поняв, какой тот тощий и хилый, думаю, он решил, что Обезьянник ему вполне по зубам. Напуганный близостью страшного бездомного, Эдмон по ночам не высовывал носа из своей комнаты, боясь разбудить его, спящего у нас на крыльце, а я не осмеливалась подняться к нему наверх и успокоить, потому как стоило мне раз попробовать, и на пятый скрип ступеньки под моей ногой вдова отозвалась истошным воплем: «Кто здесь? Я тебя слышу!» Наставник и вдова тоже чувствовали себя не в своей тарелке. Бездомный преследовал Куртиуса повсюду, куда бы тот ни ходил, идя в пяти шагах позади него. Такое было впечатление, что наш дом и мы сами оказались в осаде.
– Он не уходит, – стонал Куртиус.
– Не обращайте на него внимания, – посоветовала вдова. – И он уйдет.
– Я начинаю опасаться, вдова Пико, что вам известно отнюдь не все.
Эдмона принарядили и отправили распространять заказанные вдовой афишки. Он раздавал их прохожим в парках, на богатых улицах, в приличных общественных заведениях.
ЗНАМЕНИТЫЙ ИНОСТРАННЫЙ СКУЛЬПТОР
ДОКТОР КУРТИУС, ГЕНИЙ ВОСКА,
ВЕЛИЧАЙШИЙ ПОРТРЕТИСТ В ПАРИЖЕ,
ЗАКАЗЧИКИ ПОРАЖЕНЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СХОДСТВОМ ЕГО ТВОРЕНИЙ С ОРИГИНАЛАМИ!
АВТОР СКУЛЬПТУРНЫХ ИЗВАЯНИЙ РУССО, ДИДРО,
Д’АЛАМБЕРА И ДР. УБЕДИТЕСЬ САМИ: ВАШИ БЛИЗКИЕ, ЖЕНЫ, ДОЧЕРИ, СЫНОВЬЯ, ВНУКИ – КАК ЖИВЫЕ!
(За разумную цену)
Привлеченные этими афишками, к нам зачастили бульварные герои и именитые философы, а также и новые лица: дамы. Дамы, с которыми должно вести беседу, дамы, чьи скульптуры нужно лепить. Их препровождали в гостиную и усаживали на кресла. Какие дамы! Парижанки! С нежной кожей, мягкие, морщинистые, обветренные, грубые, в мозолях, засаленные, чистые, благоуханные, смердящие, пахнущие луком, мукой, шоколадом или клубникой. Куртиус перетрогал их всех. И когда его пальцы зависали над женской плотью, он замирал в замешательстве, и его глаза увлажнялись, но иногда, оказавшись слишком близко от лица очередной заказчицы, его ладони соединялись в неслышном хлопке. В окружении такого обилия женских тел, полагала я, пылкая симпатия моего наставника к вдове, возможно, увянет. Помню один редкий момент, когда он подошел ко мне и заговорил:
– О, этот нос! Эти носы! О, эти веснушки на их лбах. О, эти складки на губах, такие безупречные, с этими трещинками, с этим ароматом вина. А эти завитые ресницы! О, эти ямочки! О, эти скулы! Эти мушки, этот румянец! И белизна! И свежесть! Розовые, румяные, голубые и желтые! Я покорен! А шеи! Сколько слез я пролил, склонившись над их затылками. И губы! О, эти губы! – воскликнул он в изумлении. – Счастье, какое это счастье! Они живые!
Куртиус изготавливал из воска кожный покров. Вдова обряжала его. Эдмон пришивал пуговицы. Я скребла полы.
Грязнуля с бульвара по-прежнему спал на нашем крыльце.
На вторую неделю, невзирая на все еще околачивающегося поблизости оборванца, Эдмон соизволил наконец спуститься. Я услыхала его на лестнице: он медленно переступал со ступеньки на ступеньку. Я навострила уши: это и впрямь был он, потому что я смогла расслышать тяжелое дыхание спящей вдовы и бормотание моего наставника во сне. Почти неслышный звук опасливых шагов Эдмона становился все ближе и ближе. Я вскочила с лежанки, замерла у двери и стала ждать. Снаружи, с крыльца, донесся шорох – это, ясное дело, заворочался спящий там оборванец. Я вслушалась в звук шагов Эдмона: он остановился, и на мгновение все стихло, но потом опять раздался тонкий скрип, когда он снова двинулся вперед. Я потянулась к дверной ручке, приотворила дверь, и дверь чуть слышно возвестила, что ее открыли. Шаги Эдмона вновь стихли. На крыльце снаружи опять завозились. Эдмон продолжал идти ко мне. Скрип. Я распахнула дверь настежь. Скрип. Кто-то стоял на крыльце, прямо перед входными дверями. Треск. Теперь в утренних сумерках я увидела Эдмона, а он меня. Нас отделяли, наверное, футов шестьдесят, даже меньше. Но мы стояли, не шелохнувшись. С крыльца вновь раздался треск. Потом наступила тишина.
– Мари, – прошептал Эдмон почти беззвучно.
– Эдмон, – отозвалась я шепотом.
Тишина.
– Наконец ты пришел, – проговорила я.
– КТО ТАМ? – неожиданно громко прозвучал вопрос. Какой басовитый голос! Крик донесся с крыльца.
Мы стояли затаив дыхание.
– КТО ТАМ, Я СПРАШИВАЮ! ЧТО ВНУТРИ? ЧТО ВЫ ТАМ ПРЯЧЕТЕ? ОТОПРИТЕ!
И тут кто-то начал колотить в двери и трясти их. Кто-то снаружи пытался ворваться в дом. А затем за дверьми раздался свирепый рев, словно мы, встав без разрешения со своих кроватей, невольно разбудили чудовище. Как же он дубасил в дверь!
– Помогите! – прошептал Эдмон. – Сейчас дом обрушится нам на голову!
И тут он бросился ко мне, я его схватила, крепко обвив руками.
– ОСТАВЬ МЕНЯ В ПОКОЕ! ОТВЯЖИСЬ! – голос снаружи теперь орал с неистовой яростью.
– Кто это там? – раздался голос, совсем другой, сверху – вдова!
– Маман! – вскричал Эдмон.
– Эдмон? – рявкнула она. – Что происходит? Почему ты не спишь? Кто это там с тобой?
– Шум, маман, это шум меня разбудил.
– Крошка? Крошка! – заголосила вдова. – Что ты делаешь?
Тут я успокоилась.
– Вы разве не слышите, мадам? – проговорила я. – Там кто-то снаружи.
И тут снова с крыльца донесся громоподобный рев, и в дверь снова стали дубасить, а потом раздался истошный вопль. И как этот похожий на рык раненого зверя вопль снаружи ужаснул нас, точно так же нас напугал эхом откликнувшийся внутри дома вопль вдовы, низкий нарастающий рык, какой, вероятно, издает завязшая в болоте корова. За ним последовал визг Эдмона – пронзительный и тонкий, как визжит попавший в силки кролик, – а потом его подхватил еще один крик, прозвучавший, точно конское ржание, с лестничной площадки наверху – это закричал хозяин, и весь дом наполнился воплями и криками, визгом и ревом, словно в гигантском зоопарке заголосили все звери разом. Тут и я не смогла удержаться и тоже вставила в шум и гам свой тоненький вскрик, словно пискнула мышка или землеройка.
Внезапно стук в дверь оборвался, грохот стих, послышался скулеж и торопливый топот ног, словно кто-то убегал наутек. Мы четверо стояли на отдалении друг от друга, точно островки, не осмеливаясь подать голос, пока наконец с крыльца не послышался глубокий храп, словно туда пожаловал огромный мастиф. Постояв немного, мы, все еще трясясь от немого ужаса, разошлись по своим постелям, зная, что нам уже не уснуть до зари, но с надеждой, что утренний рассвет развеет наш кошмар.
Глава двадцать первая
в которой Кабинет обзаводится сторожевым псом
А с рассветом пришло и объяснение ночного происшествия. Кто-то – похоже, какой-то бульварный пьянчуга – шатался вокруг Обезьянника, намереваясь переполошить обитателей стуком в дверь, и случайно споткнулся о бездомного, спящего на нашем крыльце. За эту свою проказу он вместо забавы получил одни неприятности, недосчитавшись двух зубов, которые уже никогда не отрастут снова. Мой хозяин стоял у окна и глядел на злобного оборванца, все еще спящего на третьей ступеньке крыльца.
– Полагаю, – произнес он, – нам следует его отблагодарить.
Я стояла в дверях кухни и наблюдала, как он отворил входные двери и кашлянул.
– Едва ли ты выспался сегодня, – сказал он. – Мы все плохо спали.
А мы подошли ближе – посмотреть, что будет дальше.
Оборванец, скривив губы, медленно поднялся, но Куртиус не оробел и не ретировался в дом. Парень поднялся на верхнюю ступеньку, и Куртиус сделал единственное, что ему оставалось: засунул пальцы в кармашек жилета и выудил оттуда монетку. Оборванец ее взял. И завладев монетой, тут же перестал рычать. Куртиус победно взглянул на нас: в глазах вдовы он должен был выглядеть героем. А та, не ожидавшая такого поворота событий, сердито забурчала и запыхтела, но не смогла найти правильные слова.
– Эта тварь принадлежит к отбросам общества, – заявила вдова. – Он сюда не войдет!
– Ты добрый малый, – продолжал новоявленный Куртиус. – Ты мне нравишься. Но ты груб. А в доме немало хрупких вещей. Поэтому сиди снаружи, можешь рычать и топать сколько угодно, ведь ты создан для жизни на улице, не так ли? Тебя не должны стеснять стены. Поэтому да – не стоит входить в дом.
– И вообще, – встряла вдова, – держись от нас подальше!
Она повернулась, пыхтя от возмущения, и с неудовольствием обнаружила меня слишком близко от себя и сразу же вспомнила нечто, что неприятно поразило ее прошлой ночью.
– Ночью, Эдмон, – строго заметила она, – я видела тебя!
– Да, маман, а я вас! Там такая битва разразилась!
– Ты стоял чересчур близко к служанке.
– Я… я…
– Ты станешь это отрицать?
– Нет, маман, я не могу этого отрицать.
– Ты не можешь лгать своей матери!
– Нет, маман, никогда в жизни!
– Тогда чем объясняется твое поведение?
– Я испугался, маман. А она… оказалась рядом.
– Эдмон! Знай свое место! Ты не можешь находиться вблизи от этой кухонной крысы!
– Да, маман.
– Тебе нужно утешение? Приходи ко мне. Я утешу тебя!
– Да, маман.
– А ты, Крошка, грязная, мерзопакостная тварь, если ты хоть пальцем дотронешься до моего сына, я вышвырну тебя в сточную канаву.
– Да, мадам, конечно, мадам.
Желаю тебе сдохнуть в муках, подумала я и очень четко представила себе эту картину. Интересно, почему она так бессердечна, при том, что я все это время работала на нее не покладая рук? Может быть, ей просто требовался кто-то, стоящий ниже ее, чтобы быть уверенной в том, что сама она не находится на низшей ступеньке общества? А может быть, она считает бессердечие зримым признаком своего успеха?
Я не сомневалась, что после этого выяснения отношений между матерью и сыном я больше не услышу скрипа ступенек по ночам. И что я обречена на вечное одиночество в кухне и «мое место» поглотит меня всю без остатка.
– Это просто возмутительно! – заявила вдова напоследок. – Только потому, что этот бродяга устроил драку на наших ступеньках, неужели нужно поднимать такой тарарам! Остается надеяться, что этот живой отброс устанет от нас очень скоро и все снова вернется в нормальное русло!
Но этого не случилось.
После того как чумазый оборванец окончательно обосновался на крыльце Обезьянника, ни его, ни моего хозяина уже было не остановить. Парень не только ночевал на крыльце, но и оставался там весь день, а вскоре начал выполнять небольшие поручения, связанные с Кабинетом моего хозяина.
Оборванец не просто привязался к Куртиусу. Он еще и высылал нам своих личных посланцев в виде блох. На локтях у Эдмона появились крошечные волдыри, и сквозь приоткрытую дверь кухни я видела, как он их расчесывал. А вдова обнаружила у себя на шее под затылком клеща. Куртиус отнесся к этому клещу с величайшим вниманием и обратил процесс его удаления в душещипательную драму. Меня вызвали – настолько серьезной была травма, нанесенная вдове! – и приказали принести таз с горячей водой.
– И зачем тебе понадобилось глазеть на мои плечи? – прокудахтала вдова. – Жук сидит у меня на шее! Нет, я не расстегну жакет!
Сии медицинские заботы Куртиуса также следовало связать с появлением чумазого оборванца, ибо мой хозяин никогда бы не осмелился дотронуться до шеи вдовы, если бы не клещ, ниспосланный нашим бродягой, и теперь он обнимал и сжимал эту шею с нежностью. Потом Куртиус хранил этого клеща на лоскуте красного бархата в коробочке, которую поставил на каминную полку у себя в спальне. Я сама ее видела, когда пришла к нему опорожнить его ночной горшок.
Одни оставляют своих собак на улице, на холоде, другие позволяют им жить в доме, забираться на колени и даже в постель. Можно понять, что за характер у человека, по его отношению к собакам. И вот вам черта характера моего наставника: Куртиус не только настоял на том, чтобы бродяге позволили спать на крыльце, точно ему могли в этом воспрепятствовать, но даже отдал ему свой прикроватный коврик.
Наконец Куртиус поинтересовался у парня, как его зовут. В ответ бродяга выдавил из себя звук, больше похожий на собачий лай, чем на человеческое имя.
– Как-как? – переспросил Куртиус. – Попробуй еще раз. Скажи снова.
На сей раз я различила слова: Жак – тут я почти не сомневалась. Что же до другого слова, то я ничего не поняла.
– Визаж? А… Бовизаж! – воскликнула вдова.
Бовизаж? Красивое лицо?
– Жак Бовизаж, – прорычал он и кивнул.
А Куртиус, кому в лицо швырнули эти слоги, был в восторге. Какое чудесное имя у этого уродца! И вместо того чтобы расхохотаться, глядя на такого зверя, Куртиус слегка улыбнулся.
– Да, ты и впрямь красавчик, Бовизаж!
А с наступлением ненастья Куртиус вновь проявил характер. После долгих переговоров за закрытыми дверями с обомлевшей вдовой он пригласил Жака спать в доме – ему дозволялось свернуться калачиком под дверями. Теперь я точно была уверена, что Эдмона никакими коврижками не заманишь спуститься вниз. В отчаянье я подбросила ему записку. Записка гласила:
ПРИВЕТ, ЭДМОН! От Мари
Получив мое послание, он, похоже, испытал шок и быстро смял клочок бумаги, но его уши, я заметила, покраснели пуще обычного. Жаку Бовизажу было приказано всегда оставаться у входных дверей и ни под каким видом никогда не прикасаться к восковым головам. Но было уже слишком поздно: если позволяешь псу спать в доме, это разрешение уже никак не отменишь. Никогда не приводите диких животных к себе в дом! Его старинные друзья, бродячие псы с бульвара, сбежались к нашему крыльцу и завыли, призывая его вернуться, но в конечном итоге, придя в полное замешательство, они разбежались. И дикарь остался в Обезьяннике без единого друга.
Присматривать за ним пришлось мне.
Глава двадцать вторая
Я становлюсь учительницей
Я, кухонная девчонка, исчадие сала и сажи, призрак пара и огня, я, грязнуля с вечно чумазыми руками, именно я должна была присматривать за нашим новым жильцом. Его надо было обучить правилам. Ему нельзя было появляться в большой гостиной – то бишь в выставочном зале – в дневное время. Как и мое, его место было в комнате для прислуги. Так в мою жизнь вошли прекрасные родительские заботы. Мое новое дитя, мое тяжкое бремя, стало объектом моей терпеливой заботы и любви. Наверное, я испортила его, давая ему лакомые куски, но я была с ним строга. Я повышала голос, я грозила пальчиком. Он вскидывался, а я, стиснув зубы, раз за разом вступала с ним в битву. О, как Эдмон возмущался моими свежими царапинами! Я как-то заметила его в дальнем коридоре: он заглядывал в кухню, в ужасе прижав ладонь ко рту.
А я приручала дикого зверя, и это отнимало у меня массу времени и сил. Жака нужно было приучить мочиться и испражняться в ночной горшок, на что ушли долгие месяцы. Я чувствовала вонь, я натыкалась то на лужу, то на кучу, и Жак с воем выбегал на улицу.
Возможно, я немного переборщила. Возможно, охваченная страстью родительства, я утратила четкость зрения, возможно, я представляла его большим дикарем, чем он был на самом деле. Он умел говорить, конечно, его не надо было учить словам, хотя иногда я это забывала, и покуда я скребла пол шваброй и сгоняла его с места, он в отчаянье выкрикивал имена разных людей. Он, например, изрыгал имя «Ив Сикр» или скрывал свое смущение, вопя «Жан-Поль Клемонсон». Он мог долго колотить ладонью по полу, повторяя «Анна-Жером де Марсьяк-Ланвиль». Произнося эти имена – имена людей, которые, как я предположила, он слышал на бульваре, – Жак вроде бы немного успокаивался. Он научился не взвывать и не взвинчиваться, когда в Обезьянник приходила очередная дама-заказчица. И он, как неустанно наказывала ему вдова, должен был пуще глаза беречь имущество Обезьянника.
Лицо Жака идеально передавало его чувства: печаль, гнев, страх, радость – все эти эмоции открыто проявлялись на его лице. В отличие от воска, он был никудышным актером, он не мог быть никем иным, кроме самого себя, он был одержим своей персоной, и временами ему было тошно и невыносимо пребывать в своей оболочке.
После того как Жак стал спать в доме, думаю, он начал бояться наружного мира. Это произошло не сразу, страх завладевал им постепенно. Он немного набрал вес, привыкнув находиться в тепле. Когда мы вместе сидели у меня на кухне, я рассказывала ему про маменьку и папеньку, о своей жизни до переезда в Париж, и не расскажи я ему про себя, можно ли было с уверенностью утверждать, что это вообще со мной произошло? Если бы я ему ничего не рассказала, моя жизнь так бы и засохла на корню, и мне было бы суждено остаться бессловесной крошкой-кухаркой в четырех закопченных стенах.
Он медленно впитывал мои рассказы, а однажды днем он раскрыл рот, и оттуда вылетели слова.
У Жака Бовизажа нашлись свои истории.
– Бернар Байак порезал свою жену. На куски. И скормил их собакам.
Я распознала в этих словах явные признаки интеллекта. Я нагнулась к нему, стараясь не пропустить ни слова. Помолчав, он продолжал.
– Мясник Оливье изрубил топором свою семью. Жену. И детей, двоих. Продал их на корм свиньям. Но этот корм не пошел свиньям впрок. Свиньи заболели. Вмешались законники.
Я сидела тихо как мышка. А он продолжал. Выплевывал слова маленькими порциями, как благодарственные послания мне.
– Изабель Ториссе и Паскаль Фиссо лежали вместе в постели. Но с ними там же лежал еще кое-кто. Ее муж, Морис. Он был калека. Как говорится, трое – это уже толпа. Они отвели Мориса на крышу дома, крыша была плоская, и там стояла клетка с птицами, их дом стоял у реки, рядом с амбарами. Они посадили мужа в клетку. И птицы исклевали мужа, и его нашли спустя несколько месяцев. Живого! От него остались одни кости! Не то с любовниками. Те скоро умерли. Их повесили на Гревской площади. Публичная казнь. Я сам видел.
Это было мое достижение! Мои уроки и инстинктивные догадки были в тот вечер вознаграждены. Потому что после этого, словно я одержала все мыслимые победы сразу, он принялся выкладывать мне свои потаенные желания и мечты, которые раньше держал при себе. Жак, как я узнала, был кладезем сведений о чуть ли не всех знаменитых преступлениях и убийствах, совершенных в Париже. Мы сидели вдвоем на кухне, и Жак рокочущим баском делился со мной леденящими кровь историями о том, как несчастные люди второпях расставались с жизнью. Я слушала их одну за другой до глубокой ночи, а он излагал мне их все более доверительно. Расскажи еще, Жак, расскажи еще что-нибудь – я не могла отправиться спать, не услышав его очередную повесть. И от него я узнала о многих чудовищных деяниях. Он мне и о своей жизни поведал. Я буквально мольбами вытянула из него этот рассказ:
– Прошу тебя, Жак, расскажи! Ну пожалуйста!
Глава двадцать третья
Жак Бовизаж, рассказ о себе
– Я видал, как вешали людей, не убийц. Хотел бы я как-нибудь увидать хорошее убийство. С кровью. Я всего на пару минут запоздал к поножовщине на бульваре, когда там одному глотку вспороли. Кровь из него ручьем хлестала, это я видел, но не тот самый момент, когда ему глотку взрезали.
– Сколько тебе лет, Жак? – спросила я.
– Не знаю. А ты как думаешь?
– Думаю, лет двадцать. Не знаю. Или тридцать? Я не знаю.
– Ладно, еще что?
– Ты откуда родом?
– Отсюда. Из Парижа.
– Кто твой отец?
– Не знаю.
– А мать?
– Не знаю.
– Что же тогда ты знаешь, милый мой? – ласково настаивала я.
– Ты говоришь, как старенькая бабушка.
– Расскажи, что с тобой приключилось.
– Меня подбросили в приют для подкидышей на рю Сент-Онорэ. Это точняк. Там сиделки дали мне имя. Я никогда не был симпатягой, так говорили: у меня большое лицо, которое от жизни на улице стало еще больше. Мне дали имя Жак, так меня и сейчас все называют, а фамилию Бовизаж придумали из-за моей завидной внешности.
– А как там было? В приюте?
– Ну, жил себе. Кормили. Еды было всегда маловато, и я отбирал у других, кому силенок не хватало драться за еду. Наверное, они голодали. Но так было. Я чуть что орал и пускал в ход кулаки, не привык я, чтоб мной командовали. Я ударил одну монашку, а другую покалечил своим ором – говорили, она оглохла. Дети у нас помирали, особенно много зимой. А я не помер. Не смогли меня свести в могилу. По крайней мере, пока что. Однажды зимой я приболел, думал, конец мне настал: лежал много дней без памяти, в канаве у стены, в грязи, как в могиле. Потом очнулся, сел, чего-то пожрал, просрался и снова был как огурчик. И пошел на поправку.
– А после приюта?
– Забрали меня. Одино, театральный директор: он всегда приходит в приют, кого-то забирает, четырех или пятерых в год, и выпускает их на сцену в своем театре «Амбигю комик».
– Да, я его знаю. У нас тут есть его голова!
Жак сплюнул.
– Все его актеры – дети, всех он подобрал в сиротских приютах, потому что они ему дешево обходятся, за них не нужно платить – ему самому платят, чтоб только он их забрал. Я у него обычно играл диких зверей. Меня знали, публика приходила в театр посмотреть на меня, только им не нравилось сидеть в передних рядах, когда я был на сцене, потому как я мог спрыгнуть в зал и начать их колошматить. У меня был дикий нрав, сейчас-то я стал поспокойнее, а тогда мог ударить человека просто потому, что мне так хотелось, и Одино орал на меня, потому как боялся, что я и его могу поколотить. У меня была подружка в «Амбигю», звали ее Генриетта Пере, мы хорошо знали друг дружку, и она была для меня самой главной. А потом она заболела и умерла у меня на руках, и я так разозлился, что расколошматил все, что попалось под руку, и пригрозил Одино, что убью его, тогда он выпустил на меня своих мордоворотов, и они переломали мне все кости и вышвырнули вон. Так я и оказался в канаве на бульваре и уж решил, что там и подохну. Но в конце концов выжил. Тогда-то я и прибился к стае бродячих собак, и они меня приняли в свой круг и бегали за мной повсюду. Мы распугивали народ и часто затеивали драки. Даже не знаю, сколько я с ними пробыл: наверно, несколько лет. И сам, думаю, почти что стал собакой. И вот появляется Куртиус, а с ним и ты – старушка и девочка в одном лице, и ты заставляешь меня снова заговорить. И вот я здесь. Среди людей, но сам по себе, неприметный и вечно при деле. Я же околачиваюсь каждый день на бульваре – кроме тех дней, когда происходят повешения. Тогда я иду на Гревскую площадь. Это хорошие дни. Мне нравится смотреть, как вешают, очень нравится!
После того как он начал делиться со мной своими историями, я немного привела его в божеский вид – добрым отношением. Я уговорила его сесть в жестяную ванну, смыть грязь, и так день ото дня он преображался, обретая нормальный человеческий облик. Под слоем грязи обнаружился молодой мужчина, грубоватый, с ужасными зубами, который разражался смехом по самому неподходящему поводу: неуклюжий, с замашками разбойника, и тем не менее, даже повествуя мне о своей непутевой жизни, он не был лишен некой своеобразной красоты. Его кожа была вся в шрамах и рубцах – от ожогов, переломов, порезов, расчесывания. Я расспрашивала его о той или иной ране, а он, сидя в ванне, как ни в чем не бывало подробно рассказывал мне о каждой.
– Эту я получил в театре. Месье Одино ткнул меня гвоздем. Я тогда был совсем малютка, потом он бы не посмел. А эту – в уличной передряге. Вот это я сам порезался – проверял на остроту лезвие ножа, я тот нож спер, хороший был нож. Очень даже!
Под присмотром вдовы Эдмон сшил для него костюм из двуслойной шерстяной ткани, чтоб был долговечнее, и каждый шов обметал четыре раза. Но Жак быстро его прорвал, и тогда для него стачали облачение попроще, но попрочнее – из кожи.
Истории Жака были настолько занимательны, что они не удержались в стенах кухни, а довольно скоро разлетелись по всему дому. Словно привидения обезьян, они стали всплывать в комнатах наверху. И хотя хозяин и вдова никогда их не слышали из уст Жака, тем не менее эти истории стали им известны, как будто ночью во сне влетали им в голову через ноздри. А иначе почему было слышно, как по ночам мой наставник ходит по комнате взад-вперед? А иначе отчего вдова вставала каждое утро в мрачнейшем настроении? Он сильно от меня отличался, этот Жак, и я, как невинное дитя, постигала тайны жизни. И вот ученик сам стал учителем, повествуя мне, как умел, каково это – бороться за жизнь – и как много существует способов умереть. Такое создавалось впечатление, будто я вовсе ничего не знала о жизни до того, как встретиться с ним, словно до моих ушей раньше долетали одни лишь сплетни, невнятные шепотки о том, на что способны люди. Я была как игрушечная кукла из детской, которую обучила житейским премудростям старая крыса. Потом, когда, утомленный своими повестями, Жак дремал, я отправлялась в гости к восковому населению выставочного зала, ведь, как бы он ни называл меня, я была ребенком, но, вышагивая среди имитаций живых людей, я сбрасывала с себя покров детства.
Однажды рано утром я убирала посуду в столовой перед приходом посетителей, как вдруг заметила там Эдмона, который сидел на стуле и прятал от меня глаза. После появления в доме Жака он держался отчужденно.
– Жак такие истории знает! – выпалила я.
– Что? – вскинулась вдова. – Ты что-то сказала?
– Жак Бовизаж знает много удивительных историй. Вы бы только послушали!
– Пошла прочь! – фыркнула вдова.
– Истории? – переспросил мой наставник. – Какие истории?
– Парижские истории, сударь, и очень много. – Я откашлялась. – Об убийствах, о казни на виселице. Он их все знает. И они очень необычные, сударь. Эти истории связаны с головами, о которых нам ничего не известно. Я уж точно никогда не видела лиц мужчин и женщин, совершивших такие вещи…
К моему восторгу, Куртиус попросил меня отправить Жака наверх. Они с вдовой изъявили желание послушать его истории. Я ждала, что скоро услышу хлопки моего хозяина, но вместо того услыхала вопли вдовы. Она ладонями зажала Куртиусу уши. Жак с несчастным видом удалился.
Когда же я вернулась наверх, вдова накинулась на меня с упреками:
– Ты наполняешь мой дом уродством! Это место изысканных лиц, красоты и совершенства, а не грязи, которая тебя так влечет! Твоя бы воля – мы бы валялись в сточной канаве! Не рассчитывай тут пригреться! – Она бросила взгляд на пол и заметила катышек уличного мусора. – Вот, погляди, грязь!
Потом мой хозяин слегка пожурил Жака.
– Скверный парень! Я же тебя привел сюда – а ты такой скверный!
Но выражение его лица не соответствовало словам. Мне же он сказал только:
– Ты прекрасно потрудилась, Мари, посмотри, он просто ожил! Ты о нем славно позаботилась. Благодарю тебя!
Глава двадцать четвертая
в коей описана прогулка огромной значимости
– Какая новость, какая у меня новость, Куртиус, и вы, дражайшая вдова! – вихрем ворвавшись в Обезьянник, обратился Мерсье к моему наставнику и вдове, вне себя от радости.
– Ваша новость, разумеется, – скривилась вдова, – будет сопровождаться питьем нашего вина, чтобы вам рассказывалось лучше!
– Не откажусь! – проворковал Мерсье.
– Вы никогда не отказываетесь! – отрезала вдова и кивнула мне.
Я сбегала за вином.
– Ну что ж, – заметила вдова, – теперь, полагаю, вы на взводе.
– Год одна тысяча семьсот семьдесят четвертый начался с головных болей, – приступил Мерсье к изложению своей новости.
– Спаси нас, Боже, – вздохнула вдова, – мы знаем, который сейчас год.
– В течение января, – продолжал Мерсье, пропустив мимо ушей ее замечание, – пришли боли в теле и лихорадка. В феврале появилась сыпь. В марте все тело пошло красными пятнами, которые не проходили. Они стали появляться повсюду. К апрелю смрад уже ощущался вовсю. К середине апреля красные пятна превратились в язвы, вскоре наполнившиеся жидким гноем, а концу апреля язвы покрылись струпьями. Восьмого мая язвы закровоточили, девятого святых отцов согнали в тесное помещение, а десятого мая тысяча семьсот семьдесят четвертого Людовик Пятнадцатый, Божьей милостью король Франции, умер от оспы. Наступили лучшие времена для вас, доктор Куртиус, вдова Пико, и для тебя, Крошка! И даже для вашего нового волкодава. Франция вновь стала великой! Да здравствует новый король и да здравствует новая королева! В Версале вновь созван парламент. Теперь Париж будет спасен!
– Король умер! – вдова явно была в ужасе.
– Умер и гниет в земле, – отозвался Мерсье. – Теперь нас интересуют юные тела.
Но после обсуждения этой новости наступило смятение. А позже Мерсье вернулся и, страдальчески тряся головой, забегал по Обезьяннику. В городе сменился правитель, но его присутствие никак не ощущалось. А когда новое не проявляется, когда жизнь течет как обычно, тут-то призраки и вылезают. На улицах возникали беспорядки, убивали людей. Мимо нас по бульвару носились толпы, чьи вопли и гиканье сотрясали Обезьянник. Жаку не терпелось выбежать наружу, но вдова не позволяла, и он целыми днями сидел под дверью и жалобно подвывал. Беспорядки усмирили, кого-то арестовали, суды вынесли приговоры. Жак благим матом вопил, что ему нужно обязательно присутствовать при казнях, и орал не переставая, пока Куртиус не пообещал взять его с собой следующим утром. Вдова запрещала моему хозяину выходить из дома одному, поэтому отправилась вместе с ним, а еще к ним присоединился и Эдмон, который, как она пояснила, сопровождал ее. На казнь. А я должна была остаться и стеречь дом.
Люди, вышедшие тем утром из Обезьянника, сильно отличались от вернувшихся сюда днем. Жак принес мне сувенир. Это была кукла, небрежно сшитая, в форме человеческого тела, но без рук, с болтающимися ногами. На ней не было никакой одежды, и на голове никто не нарисовал ей лица, волосы тоже отсутствовали. Она была изготовлена из куска одноцветной холстины и набита высушенной кукурузой. Вокруг ее шеи был намотан кусок шпагата. Жак объяснил, что подобные куклы всегда продаются на площади перед повешением, чтобы люди могли трясти ими в сторону эшафота. И когда тело повешенного повисало на веревке, дергаясь и извиваясь в воздухе, судороги его туловища повторяли движения куклы на шпагате в людских руках – ноги висельника, точно холщовые ноги повешенной куклы, дрыгались в отчаянной попытке нащупать твердую почву.
– Шарль Лекийе! – возвестил Жак. – Хлебокрад!
Куртиус плакал, когда я приняла у него сюртук.
– Лишили жизни! Прямо на моих глазах. А я смотрел.
Вдова пребывала в тумане воспоминаний.
– Я не видела повешения с того дня, как была на площади с Анри. Мы всегда ходили вместе. В лучшую пору.
Эдмона трясло, он побледнел больше обычного. Бредя по залу, он споткнулся, а потом рухнул на пол. Вдова заголосила. Жак отнес его наверх. Вызвали врача. Когда я, босая, отважилась той ночью подняться по лестнице к нему в спальню, вдова спала подле его кровати в кресле, но Эдмон не спал и не мигая смотрел на меня. Я увидела, что он плачет. Но я не могла с ним заговорить из опасения разбудить его маман и просто вернулась в кухню.
Глава двадцать пятая
Наш первый убийца
Неимущие наводнили Париж. Число их с каждым днем росло, рассказывал Мерсье, и помочь им было некому. Наш сосед, месье Пийе из шахматного кафе, потерял работу, и дом, и свои шахматные фигуры. Многих, подобно ему, постигла та же судьба. Вдова записывала имена пострадавших, вывесив этот скорбный список на стене в мастерской.
Покуда Эдмон оправлялся после зрелища казни, ему не позволяли спускаться вниз и держали в спальне, в окружении мягких предметов. Я считаю, что, став очевидцем смерти на виселице, он как-то проникся этой смертью, словно вдохнул в себя ее частицу, и понял, что ему надо от нее решительно избавиться. У меня даже возникли жуткие предчувствия о его скорой кончине.
Одно убийство следовало за другим. Мы словно обучились новому языку, который прежде не долетал до наших ушей. И теперь, когда слово «убийство» было постоянно у нас на устах, мы слышали его повсюду. И вот, словно по мановению волшебной палочки возникнув из наших бесед, принеслась очередная жуткая новость – мрачная история с душераздирающими подробностями. В нашем доме был, разумеется, Жак, который с удовольствием поведал нам эту новость – малоприятную историю Антуана-Франсуа Дерю.
– Он травил мышьяком! – выкрикнул Жак. – Мышьяк в горячем шоколаде! Сначала мать выпила и упала замертво. Грохнулась на пол! Он сунул ее дряхлое тело в сундук и закопал в арендованном погребе. Ну что за субъект! В какое время мы живем! Но это еще не все! На сцене появляется сын, что пришел навестить мать, а с ним и чашка горячего шоколада, и сын тоже умирает. Грохнулся на пол! Но на сей раз его кладут в ящик, называемый гробом, и хоронят в поддельной могиле. И что потом? Приезжает отец – и угадай, что происходит!
– Горячий шоколад? Грохнулся на пол?
– Нет, нет, Мари, прошу прощения, но нет! Приходит отец, да не один, а с полицией, и, видимо, у Дерю на них на всех не хватило шоколада, и они, заподозрив что-то неладное, расклеили по всем стенам Парижа объявления, и дама, владевшая тем погребом, узнала в портрете Дерю и завопила: уж как она завопила! И они вскопали погреб, и что ты думаешь, Мари, они там нашли?
Понятное дело, разлагающийся труп.
На шум пришел доктор Куртиус, и Жак снова рассказал ему свою историю, а тот позвал вдову, и та с омерзением выслушала рассказ Жака. Я потом слышала их беседу, на повышенных тонах, в мастерской.
– Вам все равно, с кого лепить! – говорила вдова. – Мы не можем выставлять головы всех подряд!
– Но меня весьма интересует именно его голова. Я хочу на него посмотреть. В нем есть нечто новое – нечто, чего я раньше никогда не видел.
– Прошу вас, доктор! Позвольте мне решать, чьи головы изготавливать!
– Но я хочу! Вдова Пико, именно эту голову! У меня должна быть его голова!
– Мы ваяем благородных людей, красивых и выдающихся!
– Одну только эту!
На следующий день Куртиус и вдова ушли. Я сосчитала до ста и взлетела вверх по лестнице. Эдмон лежал в своей комнате, укрывшись одеялом, утонув головой в подушке. Сперва я решила, что он спит, но потом заметила, что он лежит с открытыми глазами и раскрытым ртом. Он лежал очень тихо.
– Эдмон, – прошептала я.
Он, жутко бледный, молчал.
– Эдмон! – повторила я.
Он моргнул.
– Он умер, – шепнул Эдмон. – Я видел, как он умирает. Я потрясен. Бедный висельник. Не могу выбросить его из головы. Я закрываю глаза, и он встает передо мной.
– А ты не думай о нем.
– Я ни о чем другом не могу думать.
Я поцеловала его в щеку. Подумала, что надо его поцеловать. Этот поцелуй я заранее не планировала, просто так вышло само собой, а потом я поспешно вернулась к своим обязанностям. Он теперь вроде выглядел получше. После моего поцелуя его щеки порозовели, они уже не были бледными как полотно.
Мой наставник с вдовой дошли до Консьержери, где содержался убийца Дерю, и добились разрешения за небольшую мзду навестить его в камере и снять с лица слепок.
– Но правильно ли мы делаем? – сомневалась вдова.
– На наших глазах многие предприятия сегодня разоряются, – ответил Куртиус. – Подумайте, как много придет им на смену.
– Но такое ощущение что мы прославляем его деяния!
– Нет, нет, разумеется, мы шокированы тем, что он совершил! Шокированы больше, чем кто-либо другой. Мы весьма возмущены этими убийствами! Вот почему мы должны взглянуть ему в лицо, дорогая вдова. Я уверен: мы просто обязаны!
– Но разве убийце место рядом с нашими головами благородных людей? Мы как будто говорим, что между ними не существует никакой разницы.
– У него другая внешность.
– Какая?
Куртиус замолчал. Потом пожал плечами, отвел взгляд от вдовы, снова взглянул на нее.
– Великие люди в нашем зале, вдова… политики, писатели, философы – все это люди умственного труда. Мы показываем их головы. Дерю – убийца. У него больной ум, который позволил его телу убивать. Вот что я предлагаю: мы вылепим его целиком! Во всех подробностях, в полный рост, не только бюст, но все тело этого злодея. И мы скажем: вот как выглядел злодей, который ходил среди нас.
Вдова ничего не ответила, а я вернулась к своей швабре. Но ближе к вечеру все опять ушли. Мне же было снова поручено сидеть и сторожить дом. Даже Эдмона решили взять с собой, чтобы немного его приободрить, закалить его дух, так сказать. Вдова все повторяла, что он не должен быть, как отец, таким же мягкотелым. Пусть сходит, к его же пользе, сказала она. А то он такой худенький, так нетвердо держится на ногах.
– Не берите его, – попросила я. – У него больной вид.
– С каких это пор служанки мне будут приказывать? – вопросила вдова.
– Я просто подумала…
– А ты не думай! Твои мысли никого не интересуют!
Когда они вернулись, Жак чуть не приплясывал от увиденного.
Наставник направился прямиком в мастерскую, вдова, трясясь и потея, к себе в спальню, а Эдмон, бледный и несчастный, приплелся на кухню поведать мне все, что с ними приключилось.
– Когда мы вошли к нему, он рыдал. Он плакал все время, из-за чего не сразу удалось снять гипсовый слепок его лица. Он все приговаривал: «Они меня убьют, они меня убьют!» Но Жак его так крепко схватил, что доктору Куртиусу удалось-таки наложить ему на лицо слой гипса. Когда Куртиус снял высохший слепок с его лица, тот заволновался: «Что, теперь так и будет? Все вдруг потемнело вокруг!» А когда мы выходили из его камеры, Дерю воскликнул: «Отец наш сущий на небесах, о Боже, о Боже!» Боже мой, Мари, я снял с него мерку. О Боже, Мари, там повсюду смерть!
Я снова поцеловала его в щеку. Он стоял неподвижно. Не убежал. Я взяла его за руку. Его уши вспыхнули на мгновение, но потом снова побелели. Эдмон никак не мог избавиться от воспоминаний о Дерю. Тут его позвала мать – точно она с самого начала знала, что сын вместе со мной, – и он ушел. Но произошло еще кое-что. Прежде чем покинуть меня, он прильнул ко мне, и я ощутила легкое прикосновение, словно мушка чиркнула крылышками по коже и улетела. Это Эдмон меня поцеловал. Потом я прижала ладонь к щеке и так держала, пока Жак не поднял меня на смех, а ночью я снова и снова вспоминала этот момент. До этого никто еще так со мной не делал.
Я увидела нашего Дерю только после того, как Куртиус изготовил его восковую скульптуру целиком. Закончив работу, он позвал нас всех посмотреть. Антуан-Франсуа Дерю был тщедушный человек с бледным, рыхлым лицом. И его лицо ничем не было примечательным. Самый обычный типаж, из тех, кого можно встретить каждый день на любой парижской улице. Но потом, при более тщательном рассмотрении становилось ясно, что это все-таки голова убийцы, с жуткими физиогномическими признаками.
– Это может привести нас, – задумчиво проговорил мой хозяин, – к более точному пониманию природы людей. По меньшей мере, это станет зримым доказательством того, что такой человек мог существовать. Мы запечатлеем варварство в воске!
Реального Антуана-Франсуа Дерю облачили в белый балахон, белую шляпу, как у епископа, и дали в руки распятие. Потом его руки и ноги разбили кувалдой, а останки несчастного сожгли заживо. Жак сходил поглядеть на сожжение и, вернувшись, все мне подробно рассказал.
Муляж Дерю был первой нашей восковой фигурой в полный рост. Он был изображен в стоячем положении, слегка склоненным вперед, держащим в руках фарфоровую чашку на блюдце. Слухи о его появлении в Обезьяннике привлекли массу посетителей. Те, кого не интересовали ни Руссо, ни Дидро, пришли поглазеть на Дерю – в их глазах он был заманчиво ужасающим.
Вот так «Дом Куртиуса» стал специализироваться на убийцах. Вдова прибила к полу зала длинную веревку, разделившую просторное помещение надвое. Благородные бюсты она собрала в одной половине, а во второй поместила Дерю в полном одиночестве. Стоило нам заняться убийцами, остановиться уже не было никакой возможности. Жак взахлеб рассказывал об изувеченных телах, найденных в глухих закоулках. Эдмон кричал во сне по ночам, и вдове приходилось его утешать.
Однажды утром, когда я накрывала стол к завтраку, вдова принялась размышлять вслух:
– Если мы открыли свой дом убийцам, кто же мы после этого?
– Смельчаки? – высказал предположение мой наставник.
– Кто про что, а вшивый про баню, доктор Куртиус!
– Я искренне вас благодарю за то, что вы позволили установить у нас Дерю. Вы заметили, как быстро развивается теперь наше дело? Вы такая замечательная женщина! – проговорил Куртиус и с не свойственным ему легкомыслием тронул ее за локоть.
– Я вдова в скорби, – напомнила она ему. – Там наверху стоит мой муж.
Изваяние Дерю сильно увеличило доходы Кабинета, этого нельзя было отрицать. Вдова, почесав капор, неохотно кивнула, и, поднявшись наверх, отвернула манекен мужа от перил, откуда он взирал на большую гостиную, которая отныне стала пополняться фигурами убийц. Дело в том, что, как только восковой Дерю подтвердил свою доходность, новые негодяи быстро составили ему компанию. А Куртиус не на шутку увлекся убийцами: он ведь еще в Берне изготавливал муляжи частей тел повешенных, но раньше у него никогда не было столь богатого набора разнообразных типажей. Они буквально завораживали его, и он нервно чесал себе шею, расцарапывая кожу до красноты. По его собственному признанию, он изучал способы убийств, практиковавшиеся этими людьми, и настолько вживался в них, что иногда, как он говорил мне украдкой, ему казалось, будто он вживе переживает причиненные ими смерти, а то и сам чувствует себя убийцей. Они, возможно, обладали невероятной притягательной силой, эти головы убийц, и зазывали Куртиуса проникнуть в самое нутро людей. Он был словно дитя на краю колодца, держась за окоем шеи гигантского обезглавленного туловища и заглядывая внутрь, ужасаясь тому, что он там увидел, но не в силах оторвать взгляда и всматриваясь в бездонную кровавую глубину, рискуя потерять равновесие и сорваться вниз. И сверзнувшись туда, он уже никогда бы оттуда не выбрался.
Рано поутру я бродила в зале среди новоприбывших убийц, подметала пол между ними, подготавливая их к очередному просмотру. Наши самые последние экспонаты.
Глава двадцать шестая
О зуде
Одновременно с третьим убийцей появились муляжи и других людей, вызывавших у вдовы восторг: два гения воздухоплавания по фамилии Монгольфье, которые, коли верить слухам – хотя я лично этого ни разу не видала – могли взмыть высоко в небо на гигантских шелковых шарах. Еще композитор Глюк с лицом, изрытым оспой. И еще один, его соперник, худощавый красавчик Пиччини. В какой же компании я оказалась! Жак помогал выполнять самую тяжелую работу в мастерской: перетаскивал мешки с сухим гипсом, распиливал древесину для каркасов восковых скульптур. Правда, ему не позволяли приближаться к готовым изваяниям. Он был ужасно неуклюж и не умел бережно обращаться с вещами. Жак буквально их терроризировал. Сам того не желая, он походя разбивал стеклянные или фарфоровые предметы; этим бедняга ничего не хотел показать, он просто не мог вести себя иначе. Люди от него буквально шарахались. А Жаку просто хотелось быть поближе к своим убийцам. Однажды ночью меня разбудили жуткие вопли и стоны – но не обезьяньи, хотя крики были пугающие и пронзительные, словно запоздавшее на много лет эхо обезьяньих воплей. Мы обнаружили Жака наверху в мастерской – его нога застряла в большом ведре с гипсовым раствором. В надежде продемонстрировать Куртиусу свою сметливость, он захотел снять слепок с собственной ступни и замешал гипс, но, когда опустил ногу в железное ведро с жидкой белой массой, его ступня там и застряла. Гипс на кожу следует накладывать тонким слоем, а если опустить всю ногу в глубокий сосуд с гипсовой смесью, гипс захватит ее в плен и будет держать до тех пор, пока кожа не сморщится и не сопреет. Жак не мог вытащить ступню, и я не смогла, и мой наставник не смог, и даже вдова, а Эдмон только и знал что верещал: «Ну, сделайте же что-нибудь! Сделайте что-нибудь!» Жаку было нестерпимо больно, вдова дала ему бренди, я держала его за руки, а он кричал и кричал. К тому моменту, как Куртиус сколол запекшийся гипс и высвободил его ступню, гипс совсем остыл. А Жак не дал ранам нормально зарубцеваться, потому что постоянно их трогал и расчесывал. Так он до конца своих дней и ходил, прихрамывая.
– Гипс, – строго заговорил Куртиус с Жаком, корчащимся от боли (его наставления звучали музыкой для моих ушей!), – ничего не знает о жизни. Это мертвая субстанция. Когда на него падает луч света, для него это лишь отсутствие цвета. Он передает факты без индивидуальности. Он демонстрирует поры на коже или морщины, он способен копировать – но без передачи характера. Смешанный с водой, гипсовый порошок превращается в гипсовую массу, на какое-то мгновение смесь воды с гипсовым порошком сильно разогревается, но это горячка без страсти. Смесь горяча, да, но это горячее ничто. Гипс не воспринимает плоть. А вот воск, напротив, сродни плоти. Воск – как кожа.
Обитатели Обезьянника страдали от зуда. Зуд терзал ноги Жака, но то было только начало. Зуд поразил все тело Куртиуса, и он весь исчесался, впиваясь ногтями в кожу, раздирая ее до крови, до глубоких царапин, обвиняя в своих страданиях населивших наш дом убийц.
Когда на Жака нападал зуд, мы все об этом знали; его ничего не могло сдержать. Он садился на пол и раскачивался взад-вперед или лениво чесался, глядя в окно на бульвар. Даже вдова временами принималась яростно похлопывать пальцами по голове, а иногда даже вооружалась большим ножом для масла и изо всех сил чесала им темя.
Порой я слыхала шаги моего наставника на лестничной площадке наверху, когда он шел навестить манекен Анри Пико. Примерно раз в месяц, в самые укромные часы, он заимствовал из ящичка с бытовыми инструментами вдовы маленькие ножнички с загнутыми лезвиями, которые называют тупе, и взрезал ими швы на манекене, но вдова ничего не замечала. И довольно скоро у холщового истукана отделилась спина, шея провалилась внутрь, и под ним росла горка опилок и пыли, дополняемая обрывками ниток из взрезанных швов, – там явно требовалось вмешательство метлы. И однажды вдова Пико, которая не присматривалась к фигуре мужа с того самого дня, как она развернула ее прочь от перил, вдруг про него вспомнила и в порыве страсти и в приливе скорби заключила манекен в свои широкие объятья. Она подремонтировала фигуру, наложила где надо заплатки, словом, скрепила его узами своей любви, восстановив при этом все изгибы и впадинки туловища возлюбленного покойника. И через несколько дней он вновь занял привычную позицию у перил, представ куда более важным Анри, нежели прежде. Что привело моего хозяина в уныние.
А тут еще зуд в доме разыгрался с новой силой. Меня одолел зуд. И Эдмона одолел, это я точно знала.
– Ты достиг определенного возраста, Эдмон, – однажды утром за завтраком глубокомысленно заметила вдова. – Тебе семнадцать лет. Ты уже не ребенок. Теперь тебя в жизни ожидают новые вещи. Новые начинания. Будешь встречать новых людей, снимать новые мерки.
– Каких новых людей, маман?
– Я хочу, чтобы ты, Эдмон, повзрослел. И ты должен еще кое о чем подумать, о чем любому человеку твоего возраста, твоих достоинств пора бы поразмышлять.
– О чем, маман?
– О том, чтобы выбрать себе жену, – выпалила она и замолчала, мысленно наслаждаясь картиной «Эдмон и женщины».
Но в данный момент это был Эдмон без женщин. Ибо когда его под белы руки подводили к представительницам противоположного пола, они, за исключением разве что меня, сразу превращали Эдмона в немой манекен. Как и у меня, у него была разработана специальная система навыков, помогавших ему исчезать. В нужный момент он волшебным образом набивал себя опилками и лоскутами, во всем его теле оставалась лишь кровь, которая приливала к ушам, и он превращался в безликое существо. Живые движения вновь возвращались к нему лишь после того, как очередная особа удалялась, и он несколько минут стоял в одиночестве, дожидаясь, когда в его члены вернется жизнь, и кровь медленно отливала от ушей и бежала по всему телу, омывая все эти опилки и лоскуты, пока те снова не становились его легкими, печенью, мочевым пузырем и кишечником.
Самой первой из потенциальных жен Эдмона была дочь торговца хлопком. Краснорожая деваха с крошечными свинячьими глазками и белесыми ресницами, от которой несло мочой. Ее папаша был похож на причавкивающего борова, а мамаша – на толстобрюхую хрюшку. Их свинарник был полной чашей, и маман мечтала объединить свое предприятие с их свинарником. Деваха уселась рядом с Эдмоном, как ей было указано, и мрачно глядела на него, но Эдмон сидел, точно окаменев. Ее родители о чем-то говорили с ним, но тот не проронил ни звука, отчего они обиженно насупились, а дочка заметно погрустнела: ее белесые лохмы на моих глазах засалились и повисли как пакля. Наконец она отважилась взять Эдмона за руку. Но при этом ее белое лицо побелело еще больше, она что-то прохныкала и после недолгих раздумий отдернула руку. Больше они в нашем доме не появлялись.
Той же ночью в дверь кухни постучали.
– Привет, Мари!
– Кто здесь?
– Это я. Эдмон. Можно мне немного побыть с тобой?
– Входи. Дверь закрой.
– Благодарю.
– Эдмон, ты сегодня с гостями был великолепен!
– Да?
– Конечно.
– Мари, я не хочу жениться!
– А тебе и не надо. Тебе надо остаться здесь, со мной.
Он пробыл у меня целых полчаса. Он принялся показывать мне куклу Эдмона, имея при этом очень печальный вид – из-за своих переживаний. А мне хотелось, чтобы он убрал куклу подальше, потому что такое было впечатление, будто между нами втиснулся кто-то посторонний, разрушив интимность ситуации. Когда же наконец он сунул любимую игрушку в карман, то сразу встал и ушел.
Визит семейства хлопкоторговца был лишь первым в череде кошмаров, через которые прошел Эдмон. Потом была дочь женского портного, которая нашла Эдмона «забавным», а за ней последовала дочь цирюльника-хирурга, которая все удивлялась: «Да он вообще здесь, с нами?» Никому из них он не показался желанной партией, напротив, все сочли, что он держится отчужденно и вообще какой-то неприглядный. Все они были глупыми слепцами, недостойными людьми, и я, ощущая огромное облегчение, готова была вопить от радости, что никто на него не посягнул. Однако его маман продолжала начатую ею охоту.
Мы с Эдмоном были в очаге зуда, охватившего дом, а может быть, и его источником. В то лето мы тесно общались, словно догадываясь, что наше время истекает, и нам, пока не поздно, нужно открывать новые грани в наших отношениях. Каждую ночь скрипели ступеньки на лестнице. Ночь принадлежала нам, и мы сполна пользовались этими часами.
Он проскальзывал ко мне, когда Жак уже спал глубоким сном.
– Только погляди на себя! – говорила я. – Ну, ты хорош!
– Да, я такой.
Мы разглядывали друг друга и болтали.
– Во мне росту пять футов пять и одна восьмая дюйма, – говорил он.
– Моя голова доходит тебе до сердца, видишь? Дай-ка я послушаю! Вот, стучит! Это звук Эдмона. Какой ты шумный!
Мы болтали о том о сем, мы держались за руки, а потом он уходил.
Дом был весь напоен этим зудом. Предприятие приносило изрядные барыши, и вдова с наставником смогли приобрести Обезьянник в свою собственность. Едва совершив эту покупку, они принялись декорировать здание по-своему. Стены на нижнем этаже оклеили алой бумагой.
– Всякий раз, когда я оказываюсь на пороге этого дома, – говорил Куртиус, – мне представляется, что я вступаю в необъятное тело титана и что эти красные стены – стенки отделов колоссального человеческого туловища.
Для украшения выставочного зала Куртиус и вдова покупали всякие безделушки, которые находили в лавке театрального реквизита. Они поставили огромные напольные часы, которые на самом деле были цельным куском дерева, вырезанным в форме часов, а циферблат и стрелки были нарисованы, поэтому часы всегда показывали одно и то же время. Под стать этим часам были изящные комоды из крашеных досок, и хотя ни один ящик в комодах не выдвигался, выглядели они как настоящие. На пол положили большие деревянные квадраты, выкрашенные под мрамор. Ночью, когда Жак похрапывал в своем углу, мы с Эдмоном уединялись в зале и бродили от одного предмета к другому, притворяясь, будто мы богатые парижане, осматривающие свои королевские покои. В просторном помещении и впрямь казалось, что ты находишься в великолепном дворце, хотя окна выходили вовсе не на ухоженный парк, а на замызганную мостовую бульвара дю Тампль и на фасад дома доктора Грэма напротив.
– У Тома-Шарля Тикра, владельца типографии, – объявила вдова Эдмону за завтраком, – есть дочь Корнели. Нам следует об этом поразмыслить. Какое это может быть будущее. Весьма завидное будущее!
Глава двадцать седьмая
Наши последние великие головы
Мы приобрели еще двух докторов. В феврале 1778 года на пляс Луи ле Гран, площади, где я никогда не была, доктор Франц-Антон Месмер, недавно сбежавший из Вены, устроил клинику. Вскоре у него отбоя не было от пациентов. Он исцелял, как уверяла принесенная мне Эдмоном афишка, все болезни – от паралича до запора, от импотенции до кишечных ветров, от мозолей до герпеса, от ячменя на веке до катаракты, от камней в желчном пузыре до гангрены, от эпилепсии до водянки, от истерии до икоты, от бесплодия до ночного недержания. Он был чудотворец, он возлагал на людей руки, и они ощущали, как на них нисходит неведомая сила. Я познакомилась с доктором Месмером, но не лично, а в восковом обличье. У него было весьма плоское лицо, с почти отсутствующим профилем, словно он с младенчества рос, уткнувшись лицом в сковородку.
Вторым был посланник Свободной Америки доктор Бенджамин Франклин. Этого человека я тоже не видела – в смысле живьем, хотя мой хозяин и вдова были удостоены им аудиенции, однако у меня есть веская причина его помнить. Я особенно благодарна доктору Франклину за его длинные седые волосы, потому как именно благодаря им мне вновь дозволили вернуться в мастерскую – в качестве подмастерья. В те дни времени у нас было в обрез, множество новых голов ждали своего завершения, и моему хозяину требовалась помощь – тут-то обо мне и вспомнили. Самой нудной и отнимающей массу времени работой было покрывать восковые головы волосами. Обычно мы просто надевали на голову парик, потому что в ту пору почти все значительные люди, как мужчины, так и женщины, носили чьи-то чужие волосы – человеческие или конские. Но этот американский доктор предпочитал собственные.
– Данный инструмент, сударь мой, – заметила я, – это длинная игла с кольцом на одном конце и утолщением на острие.
– Верно, Крошка. Откуда ты знаешь?
– Вы же сами меня учили, сударь, в Берне.
– Разве? Действительно, учил. Я и забыл. Но теперь не забуду. А для чего она нужна, знаешь?
– Она нужна для удержания мышечных тканей во время хирургических операций, но вы используете ее для закрепления отдельных волосков на восковом черепе.
– Да, совершенно верно!
– Ей обязательно этим заниматься? – поинтересовалась вдова.
– Да, вдова Пико, чтобы нам успеть вовремя с работой. У нас слишком много заказов!
– Но чтобы никакой болтовни, Крошка! Работай молча!
– Да, мадам!
– Как будто тебя тут нет!
– Да, мадам!
Так состоялось мое триумфальное возвращение. Я тщательно изучила Бенджамина Франклина. Его голова напоминала массивный корнеплод, гигантскую человекообразную картофелину. В нижней части лица имелся двойной морщинистый подбородок, две щеки, подобные двум кускам ветчины, свисали по бокам, а сверху высился массивный лоб. В центре лица торчал нос луковицей, а по обеим сторонам от него располагались серые глаза под набрякшими веками, рот окаймляли изрядные складки кожи.
– Этот господин приехал из самой Америки? – спросила я.
– Да, Крошка, – подтвердил мой наставник.
– Он что, изучает мир, да?
– Можно и так сказать.
– Не ори! – рявкнула вдова.
Волосок за волоском, и мой восковой Франклин скоро стал как две капли воды похож на реального. Я вставляла в восковой череп волоски, срезанные вдовой у старого торговца каштанами на Пон-Нёф, который весьма нуждался в деньгах. С помощью утолщенного кончика иглы я заталкивала конец волоса в воск, а когда убирала иглу, волос там оставался. Эту операцию я проделала несколько тысяч раз, то и дело поглядывая на лежащий передо мной портрет американского доктора. Дешевенькие оттиски его портретов можно было найти повсюду в Париже: на открытках, на табакерках, на спичках, на веерах, даже на ночных горшках – и с неизменной надписью: «Он лишил богов молнии, а тиранов скипетра!»
– Возможно, на сей раз, – рискнула я заметить, любуясь волосяным покровом своей работы, – вы мне заплатите.
– Я же тебе сказала: помалкивай! – отрезала вдова. – Чтоб я тебя не слышала!
– Мы этим займемся, Мари, – сказал наставник. – Обязательно займемся. Наберись терпения.
Завершая покрывать волосами голову американского доктора, я улыбалась. Может быть, я наконец и впрямь стану настоящим членом семьи. А может быть, если моя работа будет высоко оценена, мне даже позволят стать невесткой…
Люди толпами валили поглазеть на восковых Месмера и Франклина. Кое-кого даже допускали среди дня повидать Куртиуса и вдову в мастерской во втором этаже. А я, будучи теперь вовлечена в предприятие, каждый день встречала новых людей. Одним из них был Жан-Антуан Гудон, весьма знаменитый скульптор. Не знай я этого, я бы называла его просто Очередной Лысый Дядечка.
– Я, разумеется, слышал ваше имя, – заявил Гудон. – Вы изображаете воров и убийц. Вы лишаете людей привлекательности. В человеческих фигурах нет ни достоинства, ни возвышенных чувств, одно лишь вырождение. Вы циник, вы не любите своих собратьев по роду человеческому, вы глухи к музыке.
– Я люблю головы, – мягко заметил мой наставник. – Я очень люблю головы.
– Ваше занятие, вероятно, хорошо для уличной толпы. Ваш исходный материал дешев, его легко приобрести, он такой обыденный. В нем нет ничего утонченного. Ни ума. Ни блеска.
– Воск… это плоть! – возразил Куртиус.
– Тогда мрамор – это душа.
– Воск – это вся моя жизнь.
– Якшайтесь с убийцами, – скривил губы Гудон. – Они вас заслуживают. Но эта голова, – он ткнул пальцем во Франклина, – унижена вами. Вы ее обесчестили!
В феврале 1778 года, когда я официально стала работником предприятия, больной и беззубый восьмидесятитрехлетний старик Франсуа-Мари Аруэ, известный во всем мире как Вольтер, проведя почти тридцать лет в изгнании в Швейцарии, вернулся в Париж. Парижане пришли в неистовство, устроив ему грандиозную встречу. Старику, в чьем хлипком теле едва теплилась жизнь, оказывались всяческие знаки внимания. А чем ответил Вольтер? Кровотечениями. В ожидании выздоровления его водворили в дом маркиза де Виллета на набережной Сены. Взволнованная толпа сутками не расходилась от дома, в надежде хоть краешком глаза увидеть знаменитого старца, но этой чести были удостоены лишь самые именитые визитеры, среди них и доктор Франклин. Дважды лысый коротышка-скульптор Жан-Антуан Гудон получал возможность сделать рисунки с натуры, после чего он ринулся в свою студию, заперся и не выходил оттуда в течение полутора недель. Гудон был настроен решительно: это его произведение станет величайшим достижением всей жизни. Днем и ночью он без устали откалывал кусочки от мраморной глыбы. Очень медленно из-под его резца появлялись выпирающая нижняя челюсть, тонкие насмешливые губы. Долгие годы все его мысли вращались вокруг впалых щек, лысых голов античных героев, морщинистых цыплячьих шей знаменитых стариков.
В доме маркиза у реки находился старик, который день от дня выглядел все менее похожим на Вольтера. И теперь, чтобы увидеть настоящего Вольтера, надо было лично, со всем своим семейством, отправиться к Гудону в студию. Вот где его можно было гарантированно застать, в назначенный час, и при этом не испытать никаких разочарований. И так ежедневно, с одиннадцати утра до семи вечера, он встречал всех неизменной кривой усмешкой.
Мой хозяин сходил туда.
– Без цвета, без признаков жизни, – бросил он, но при этом досадливо кусая костяшки пальцев.
– Вот если бы у нас был Вольтер, – мечтательно проговорила вдова, – только представьте, сколько бы к нам пожаловало посетителей!
– Я хочу голову Вольтера! – объявил Куртиус. – Я этого хочу так сильно, что у меня самого голова болит!
Мой хозяин и вдова каждый день ходили к тому дому на набережной, присоединяясь к редеющей толпе. И каждый день им отказывали в аудиенции. И каждый день мы с Эдмоном просиживали в мастерской. Мы болтали во время работы, и я подумала: вот оно как могло бы быть, будь мы женаты. Каждый день они уходили, вдова безрезультатно стучалась в дверь, хозяин с огромным кожаным мешком своего отца, набитым закупоренными бутылками с водой, помадой для волос и сухим гипсом. И только тридцатого мая, уже после того как старика перенесли в домик для прислуги за господским особняком, и после того, как они передали слуге деньги – о чем мой хозяин и вдова упомянули как о «некоей сумме», – их впустили внутрь. Потому как уже все было кончено. Вольтер скончался. И Куртиус снял с него посмертную маску.
Восковую фигуру Вольтера следовало изготовить как можно скорее, но лицо, вылепленное моим хозяином, было искажено предсмертной гримасой, это было обмякшее лицо, лишенное жизни.
– Я знаю, что он умер, – сказал Эдмон, – это же мертвое лицо. Вы были у его могилы, маман!
– Не могилы! – поправила вдова. – Доктор Куртиус дал мне ясно понять, Эдмон, что нет ничего предосудительного в том, чтобы снять посмертную маску великого мужа. С незапамятных времен снимали посмертные маски королей. Это вполне приемлемо.
– Но убийцы были живы, когда вы их видели. А этот человек был мертв. Это же мертвец!
– Ах, Эдмон, Эдмон, – произнесла она, отирая слезы, покатившиеся из его глаз, – ты такой чувствительный! Прошу тебя, найди способ умерить свои нервические порывы.
Мой наставник подправил внешность великого философа, оживив его черты, придав им здоровый вид. Воспользовавшись глиной, он превратил посмертную восковую маску в округлое лицо, с широко раскрытыми глазами, с ядовитой улыбочкой. Он тщательно изучил голову работы Гудона, рассмотрел множество напечатанных портретов философа. Я наблюдала, как он мял собственное лицо до тех пор, пока оно не приобретало сходства с выражением лица Вольтера. А потом принимался укрощать воск и глину, добиваясь сходства своего муляжа с живым Вольтером. Я наблюдала за процессом как завороженная. И вот по прошествии всего лишь четырех изнурительных дней с момента его смерти Вольтер возродился в доме на бульваре дю Тампль.
Этот Вольтер, столь жизнеподобный, что, казалось, он вот-вот заговорит, привлек массу зрителей.
– У Куртиуса, – говорили посетители, – Вольтер еще жив-живехонек!
– Знаменитая голова, – одобрительно кивала вдова, – блестящая голова!
Посетителей у нас было очень много, в Обезьяннике прибавилось работы и пришлось нанять новую прислугу. Флоранс Библо была крупной женщиной с лоснящимся лицом, которая уже работала кухаркой в нескольких заведениях на бульваре. Иногда она готовила прямо в доме, но чаще приносила нам еду с собой. Она была не больно разговорчивая, эта Флоранс. Когда ее хвалили, она никак не реагировала, а только усмехалась, слегка раскрыв рот и обнажая язык – он у нее при этом ходил ходуном вниз-вверх, с севера на юг и обратно, – да сточенные зубы. Она всегда так смеялась.
– Благодарю тебя, Флоранс, очень вкусное жаркое, – говорил мой наставник.
– Гыгыгы…
– Ну наконец мы можем вспомнить, какой вкус у настоящей еды! – хвалила ее вдова.
– Гыгыгы…
Я научила ее готовить кое-какие швейцарские блюда, какие очень любил мой хозяин. Рёшти – тертый картофель, обжаренный в жире, и фляйшкезе, который делается из смеси фарша разных сортов мяса и вместе с луком запекается в форме для хлеба.
– Гыгыгы… – смеялась она, пропуская печенку через мясорубку.
Число наших посетителей все росло, да так, что вдова вместе с Эдмоном отправилась с визитом в типографию месье Тикра.
Глава двадцать восьмая
Новое платье
С процветанием появились кирпичи. С кирпичами появились строители, которые принялись обкладывать кирпичами все стены дома, пока старый деревянный Обезьянник не был облачен в элегантное кирпичное платье. По краям были добавлены четыре кирпичные башенки, чтобы укрепить деревянные опоры-костыли.
– Это нарушает дух места, – возражал Мерсье, забежав как-то в мастерскую. – Ничего хорошего из этой затеи не выйдет. На бульваре не должно быть никаких кирпичей. Вас за это возненавидят! Настанет день, и вам отомстят за эти кирпичи!
– Да кто вы такой, чтобы это говорить! – возмущалась вдова.
– Я – Мерсье собственной персоной!
– И на каком основании вы это заявляете?
– Я ваш старинный друг. Вы разве забыли, что именно я познакомил вас с Куртиусом? Да вы загляните в гостиную: там стою я, созданный его умелыми руками!
– О, благодарю вас за напоминание. Я так привыкла к нашим произведениям, что иногда забываю, кто перед мной. Я как раз еще месяц назад собиралась задвинуть вас подальше. Жак, убери-ка эту голову прочь! Можешь не особенно с ней нежничать, все равно мы отправим ее на переплавку.
– Но я же Мерсье!
– Да уж знаю! Какая жалость, что вы не можете стать кем-то другим.
– Я написал книгу «Париж в…»
– Да, да, но, видите ли, она уже ровным счетом никого не интересует. Сочините что-нибудь новенькое! И сообщите нам, когда получится. И уж постарайтесь на этот раз создать нечто более долговечное!
– Прошу вам, мадам, не уносите мое изваяние!
– Вопрос решен. У нас тут не благотворительная лавка.
– Мне так нравилось ее рассматривать, – уныло изрек он.
– Мы выставляем только самые изысканные и самые отвратительные головы. А ваша голова, как и подавляющее большинство прочих голов, находится где-то посередине. Вы понимаете, не так ли?
И Мерсье безмолвно удалился.
Поначалу казалось, что он был прав. Соседи, проходя мимо нашего обновленного здания, качали головой и потрясали кулаками, кто-то сплевывал, а иногда, в кромешной ночи, когда Жак крепко спал, кто-то выливал ведра помоев на наше крыльцо. Из всех домов на бульваре только три были выстроены из материала более прочного, чем дерево: театр канатоходцев «Гран дансёр дё корд» Николе, «Амигю комик» Одино, а теперь вот и наш «Кабинет доктора Куртиуса».
После обкладки кирпичами Обезьянник начал издавать непривычные диковинные звуки, словно гигантский рот скрежетал зубами. Чердак мучительно стонал – громче обычного. Кое-где во втором этаже пол слегка перекосился. И однажды, когда вдова шла по лестничной площадке и наступила на болтающуюся половицу, та вздыбилась и чуть не хлопнула ее по лбу.
Облачившись в новое платье, Обезьянник произвел революцию и в стиле одежды своих обитателей. Все началось, как и следовало ожидать, с вдовы. К своему обычному черному она добавила новые оттенки – какие-то алые оторочки, темно-синие манжеты, а свой чепец украсила алым шелком. Еще она купила себе мужскую трость из ротангового дерева с серебряным набалдашником, украшенным резным узором, и теперь не выпускала ее из рук. Кроме того, как мне показалось, на ее лице поселился новый выводок мушек, коих ранее я там не замечала, да они бы и не появились, наверное, если бы не кирпичная обновка дома. Эти темные бугорочки на коже были как медали на груди солдата, знаки отличия и доблести, словно каждая родинка возвещала о завидном жизненном успехе вдовы. В моем же хозяине кирпичи вызвали лишь некое окаменение, как будто здание мечтало превратить его в кариатиду. Вдова выразила неприятие привычного хлопчатобумажного платья Куртиуса: такой костюм, заявила она, пристал человеку, понятия не имеющему о кирпичной кладке. Эдмон снял с Куртиуса мерки, и была создана новая личность, облаченная в черный бархат, который у моего хозяина сразу вызвал боли в спине и нервное подрагивание ляжек, но при этом он исторгал еще более громкие признания в нежных чувствах к вдове Пико и благодарности за все ее щедроты.
Есть люди, которые буквально выпрыгивают из своей одежды, в них жизнь так и бурлит, они суть сплошь движение и порыв. Такие энергичные двуногие и четырехлапые – сущие враги нитки. Жак Бовизаж не был создан для одежды. Он отчаянно старался вместиться в нее, да все без толку. Даже разодетый, он крушил все вокруг себя. Однажды вечером этот нескладный увалень свалил воскового убийцу и разбил его голову вдребезги. Покуда Куртиус печально собирал осколки, на авансцену выпорхнула вдова. Она пророкотала трубным голосом:
– Ножницы! Горячей воды! Бритву!
Она вознамерилась вырезать из Жака зверя. В ту пору торжества шелка она провозгласила конец эпохи меха. Это она, прятавшая под капором исполинскую копну волос, теперь решила запретить бедняге Жаку щеголять спутанными космами. Она оттяпала его гриву под корень, а потом и вовсе сбрила оставшуюся на его черепе щетину. Его нечесаные лохмы отправились следом за старым костюмом Куртиуса: они мягко упали на лист бумаги, расстеленный на полу, и вместе с последней приметой звериной природы Жака там же оказались и полчища вшей, коих я самолично предала огню. Ежели вдова вознамерилась создать опрятного и прилично выглядящего господина, она жестоко просчиталась, ибо лишенный своих косм, Жак выглядел ужаснее прежнего. Я сидела с ним, пока он горестно оглаживал свой щетинистый скальп, смахивающий на выщербленное пушечное ядро.
Даже меня не миновал сей одежный переполох – эта платяная война, завершившаяся славным триумфом обновок над старьем. От вдовы мне достались ее темные платья, очень простые, очень ловко пошитые, три одинаковых как сестры-близнецы – и новый чепец. Все из справного, хотя и не больно дорогого, материала. Впрочем, хотя бы так меня признали за члена семьи. Я ее поблагодарила, весьма пылко. Она скорчила гримасу.
И даже манекен Анри Пико по-новому засиял на площадке второго этажа – в новенькой белой кружевной сорочке с перламутровыми пуговицами. Эдмона лишили его любимого ситца и облачили в шелка. Что исторгло из него жалобное нытье несвойственной ему громкости. Из его комнаты и из комнаты вдовы доносились раскатистые рулады семейной размолвки.
– Прошу вас, маман, не надо! Я не желаю!
– Я не потерплю, Эдмон, я не потерплю этого!
– Говорю вам, маман, не надо! Вы совершите огромную ошибку!
– Ты мне говоришь?! Ерунда! Откуда эта дерзость? Что за новости! Откуда это в тебе? Надень немедленно! Даже если мне придется собственноручно раздеть тебя донага, ты это наденешь!
Эдмон в белом шелковом костюме с иголочки выглядел альбиносом; одни лишь уши цветом отличались от остального Эдмона. Вот он какой, помню, я подумала тогда, только поглядите на него в новом костюме! Большинство людей его почти и не замечало, большинство людей не удостаивало его своих эмоций, о нем всегда забывали; и, по-моему, это его вполне устраивало, да и меня тоже. Но вот он предстал передо мной в новом белом костюме, в котором он был словно выставленным напоказ – вот, мол, полюбуйтесь! На его висках проступили голубые вены. Тонкие аквамариновые ручейки, протекавшие по стране Эдмона. И кто же вычертит карту этой территории? Где найти нужных первопроходцев? Я увидала его в этом белом костюме, ну да, увидала однажды рано-рано утром, когда он обыкновенно еще ходил в ночной сорочке. Он явился ко мне, облаченный в этот жуткий белый наряд. Он ничего не сказал. Вместо этого белое лицо Эдмона приблизилось к моему почти вплотную, так близко, что мои губы дотронулись до чего-то, что на ощупь показалось хлопковым лоскутом, но на самом деле это были губы Эдмона Пико. А потом мы поцеловались, и этот поцелуй был дольше и нежнее, чем то бывало раньше, его губы раскрылись, под хлопковым лоскутом оказался Эдмон, настоящий, сокровенный. Но он быстро все пресек.
– Виноват, – пробормотал он. – Я виноват.
– Почему ты виноват, Эдмон?
– По-моему, ты красивая.
– Правда, Эдмон? Эдмон! Правда?
– Я не хочу уходить. Прости.
– Эдмон, что?
– Я так виноват!
Но он так и не сказал, в чем. А когда я приложила пальцы к своим губам, белый костюм растаял. Вот так вдова объявила всему миру, что в наличии у нее имеется сын. Словно прибила объявление на входную дверь Обезьянника, и объявление это вскоре пожухло под ветрами, дождями и снегопадами, иссохло, сморщилось и пожелтело под солнечными лучами, бумага утратила белизну, так что буквы стало почти не разобрать – и все же невероятным образом, внезапно, кто-то его там заметил. Кто-то внимательно изучил послание, безошибочно понял его смысл и даже прочитал последнюю строчку мелким шрифтом: ОБРАЩАТЬСЯ ЗДЕСЬ. И обратился.
Глава двадцать девятая
Сим объявляется бракосочетание Корнели Тикр
Я, наверное, была не вполне честна. Наверное, в моей голове кирпичи перепутались с одеждой. Я забыла упомянуть, что новый белый костюм предназначался для одного события и что этим событием было бракосочетание Эдмона Анри Пико и Корнели Адрианы-Франсуазы Тикр, дочери владельца типографии на рю Сен-Луи.
Типография Тикра печатала все объявления, что распространялись по Парижу. Они печатали не только афиши для «Кабинета доктора Куртиуса» – «ВСЕ ЛУЧШИЕ И ХУДШИЕ ЛЮДИ ПАРИЖА – ВНУТРИ!», но еще и афиши для «Комеди франсэз», для «Андромахи» Расина, и это еще не все. Типография работала день и ночь и даже по воскресеньям. Они не переставали работать ни на минуту; их печатные станки, словно огромные рты, не замолкали, подобно парижским сплетникам. Печатные прессы поднимались и опускались, с головокружительным постоянством выплевывая тысячи и тысячи слов; буквицы на металлических и деревянных рамках, расположенные зеркальным образом, покрытые типографской краской, а затем прижимаемые к бумажным листам, заставляя их содрогаться от боли. О, эти мастера готовы были напечатать что угодно! Они привлекали внимание парижан к новой книге, к новому лекарству, к очередным шокирующим фактам банкротства, к необходимости иметь в своем гардеробе набор эластичных чулок и к новейшему средству для полировки зубов. Сколько же стен в Париже, гадала я, завешаны продукцией одной только типографии месье Тикра? Все эти слова, раскрывающие тайны тысяч людей, этих крошечных песчинок людской массы, их предприятий, их надежд, их будущего. Это типография Тикра печатала афишки о предстоящих казнях на виселице, церковных службах и кукольных представлениях, а также о пропажах – собачке, черепахе, трости, табакерке. ПРОПАЛА: МЕХОВАЯ МУФТА. ПРОПАЛИ: СЕРЕБРЯНЫЕ ЩИПЦЫ ДЛЯ СПАРЖИ. ПРОПАЛ: ИЗЯЩНЫЙ СВЕЧЕТУШИТЕЛЬ. ПРОПАЛ: ШЕЛКОВЫЙ ЗОНТИК. ПРОПАЛИ: КАРМАННЫЕ ЧАСЫ С ДВУМЯ ЦИФЕРБЛАТАМИ. ПРОПАЛ: ТУКАН. ПРОПАЛ: ЛЮБИМЫЙ ПЕС. ПРОПАЛ: РЕБЕНОК.
Пропал, пропал. Попал в руки к Корнели Адрианне-Франсуазе Тикр. Пропал: Эдмон Анри Пико, модель для витринных манекенов. Мой шанс. Пропал навсегда. Потерянная, я сидела в кухне. Никому в голову не пришло спросить моего мнения. Никто не поинтересовался у меня, стоит ли Эдмону жениться на стороне. Никто не подумал, что мне не все равно. Никто не подумал, что я с ним как-то связана. И они не увидели моего горя, как не услыхали моих рыданий по ночам. Даже Жак отвернулся. Жалкая служанка – кому какое до нее дело!
Вдова наконец-то нашла покупателя. И когда бедный Эдмон пропал, попав в чужие руки, в своем белом шелковом костюме, два мощных предприятия объединили в одно. С этим бракосочетанием на Обезьянник пролились семь тысяч ливров. Бледный юноша отправился жить в дом при типографии Тикра, где ему предстояло обучиться новому и весьма прибыльному делу, чтобы в один прекрасный день стать его полновластным хозяином. Вдова не питала особой веры в светлое будущее, полагаясь только на доходы Кабинета; она упрочивала свою финансовую независимость, возлагая надежды на более многообещающее предприятие.
Новая мадам Пико, зарисовка не с натуры
В печатном деле крутилось больше денег, нежели в портновском, даже нежели в восковом. Вдова частенько проведывала Эдмона, а я – никогда. В те моменты покоя, когда я оставалась одна на своей кухне, зная, что никто сюда больше не войдет, я закрывала глаза и взрезала вдове брюхо, а потом медленно вспарывала Корнели, от рта до ануса. В те тоскливые ночи меня, одинокую, одолевала бессонница, и я тайком подворовывала у Куртиуса и у вдовы. Склонившись над украденной свечой, я утаскивала Эдмона у Корнели – или пыталась это сделать. Я воровала воск и глину, я воровала бумагу, карандаши и проволоку для каркасов. Я вылепила из воска небольшую головку Эдмона размером с сердце или кулак (они же одного размера). Было трудно вспомнить черты его лица, еще труднее было представить его целиком. И я ходила разглядывать манекены в витринах магазинов на рю Сент-Онорэ, в надежде, что они мне помогут, и всегда начинала изучать их с ушей. Это быстро вошло у меня в привычку – и воровать по мелочи, и сидеть ночами, скрючившись и щурясь, вылепливая маленькие головы. И это всегда был Эдмон, прочие головы меня не интересовали. Даже при том, что, возможно, мне уже было не суждено его когда-нибудь увидеть, я все равно считала, что, быть может, однажды это случится, если только я не оставлю попыток.
Вероятно, мои вечно красные глаза в конечном счете заставили моего хозяина встревожиться. Я беспокоюсь, сказал он как-то, приподняв пальцами мои веки и заглянув мне прямо в глаза. Словно проблема была в моих глазах! Но он, видно, решил, что у меня глазная болезнь. Большинство людей, наверное, стали бы действовать наобум, имея дело с таким незначительным недугом, как у меня, но мой наставник немедленно озаботился моим здоровьем. Он отвел меня к врачу, который начал ставить у меня перед глазами стеклянные диски и назвал меня «заморыш». Мне требовалось нечто такое, что помогло бы мне лучше видеть вещи вблизи. Вещи вдали не представляли такой уж важности. И врач посоветовал средство для исправления моего зрения: очки с двумя складными дужками, надеваемыми на уши. Он измерил мою голову и пообещал изготовить для меня дужки длиной не более шести дюймов. «Стальные или серебряные?» – осведомился он. Куртиус поглядел на меня. «Я хочу для нее дужки из серебра, но пока что, боюсь, пусть будут стальные». Мои наглазники обошлись ему в двадцать ливров.
– Она что, слепая? – воскликнула вдова, когда мы вернулись. – Слепая. Слепая!
– Не слепая! Не слепая! – буркнула я.
– Если она ослепла, Куртиус, какой от нее прок? Нам понадобится новая прислуга.
– Я не слепая, сударь мой!
– Как же она кричит! – сварливо заметила вдова. – И не только с нами. И еще она плачет на кухне. Позавчера я видела, как она колотит себя руками по башке. А еще она нерадивая. Вы можете ничего не говорить, Куртиус, но я заметила, что в последнее время она работает спустя рукава. Вы только посмотрите, как она скалит зубы!
– Крошка, – обратился ко мне мой наставник, – ты вообще что-то ешь?
Жак Бовизаж был опечален видом моих очков. Он счел, что они служили символом какого-то моего изъяна, словно я сама была сделана из стекла. Он боялся меня разбить.
– Я все та же, Жак, что и раньше. Я просто теперь все вижу четче, яснее, лучше. Я и тебя ясно вижу впервые в жизни.
– А как ты на меня смотришь? – вскричал он. – И что ты теперь видишь? Что изменилось?
– Да ты сам посмотри. Вот надень!
– Нет! Что ты! Не надену! Ни за что!
Я стала лучше видеть и наконец-то смогла разглядеть их всех. Я увидала все неровности на коже, увидала влажную пленку на глазах, увидала волоски на кончиках носов. Я увидала чудесные малоприметные особенности человеческих лиц, о которых раньше даже не догадывалась. И что хорошего в такой остроте зрения? Стоит ли этому радоваться? Нет, если я не смогу видеть Эдмона. Мне просто хотелось посмотреть на него, и здесь в доме были все, кроме него. И поначалу я просто не могла найти применения своей новообретенной зоркости. Но не могла не смотреть. Даже у детей обнаружились морщинки на коже. Я этого раньше не знала. Все было таким, как раньше, только с большими подробностями.
– У Флоранс Библо на губах маленькие отметины от зубов, – заметила я.
– Неужели, Мари! Это интересно! – произнес мой наставник.
– Шрам на лбу у Жака немного синеет, или зеленеет, или краснеет, в зависимости от его настроения.
– Неужели? Ха-ха-ха!
– У вдовы Пико маленькая родинка на левой ноздре.
– Ничего подобного! Нет там ничего!
– Есть-есть!
– Никто не знает ее лица лучше меня!
Тем не менее он ушел посмотреть.
– И правда есть! Но я никогда ее там не замечал! Крошечная родинка.
И от осознания сего факта у него слезы брызнули из глаз.
В те дни всякий раз, когда я снимала с носа очки, на переносице оставалась красноватая вмятина от зажима. А сама я вечно оставалась в тени, незаметная прислуга, посудомойка, маленькая, потерянная мастерица по волосам. Но не успело покраснение на коже переносицы покрыться роговой коркой, как к нам пожаловал совершенно необычный визитер – и все перевернулось вверх тормашками.
Глава тридцатая
Меня нашли
В Обезьянник приходили представители всех слоев парижского общества. Приходили аристократы и торговки рыбой, кровельщики и уличные золотари, композиторы, мастерски выстраивавшие из нот оперные партитуры, и каменщики, мастерски выстраивавшие из кирпичей стены. Так что, в конце концов, чего же удивляться, что у нас появилась и королевская особа.
Этому королевскому отпрыску – ибо с визитом к нам пожаловал лишь один представитель монархии – было четырнадцать лет от роду. Точнее ей – девочке. В те дни Париж и даже Версаль сходили с ума от Вольтера, и ее юное высочество решило, что ей надобно узнать побольше о знаменитом философе. И сия веточка королевской династии, само собой, узнала, что на бульваре дю Тампль находится зал, наполненный знаменитыми и незнаменитыми людьми из воска – как уверяли, весьма жизнеподобными, – и среди оных находился месье Вольтер, точное его подобие по форме и размеру. И ежели ее юное высочество имело желание получить представление о недавно усопших, то именно сюда ей и надлежало прийти. Так в моей жизни произошло крохотное чудо – мне чудесным образом повезло.
Она вошла в сопровождении своей свиты. О визите она не предупредила заранее, а просто пришла в компании своих придворных как-то утром, когда мы еще были закрыты. Она поступила очень правильно, потому как, если бы она предупредила о своем визите, меня бы наверняка не оказалось в большом зале, где я смахивала пыль с восковых голов, когда зазвякал старый дверной колокольчик. Я бы не отодвинула засовы и мне бы никто не сообщил, кто стоит на пороге Обезьянника.
Мадам Елизавета Филиппина Мари-Элен Бурбон, внучка Людовика XV, младшая дочь покойного дофина Людовика, сестра короля Людовика XVI, ростом была не более четырех футов одиннадцати дюймов. Она была полноватая, с выразительными серыми глазами и очень бледной кожей, но эти подробности можно пропустить. Важно, что у нее нос был довольно крупным и изогнутым, как у всех Бурбонов. А подбородок, ее подбородок был… – я не могла скрыть своего восторга! – весьма длинным и выдавался вперед. И следует ли мне и об этом упомянуть? Она была совсем не симпатичная, эта маленькая девочка. Вот так, скажу, как есть!
Я сняла очки.
Эта королевская особа выглядела в точности как я.
Я выглядела в точности как королевская особа.
Да, мне тогда было семнадцать лет. Да, без обуви росту во мне было четыре фута восемь дюймов. И я готова согласиться, что мой квадратный подбородок, славное наследство папеньки, был куда шире и выпячивался больше. И еще, признаюсь, у меня карие глаза, а не такие красивые серые, да, да. Но взгляните на оба эти носа – на хобот Вальтнеров и на клюв Бурбонов! Они же почти близнецы!
Словно мир внезапно удвоился.
Мы мгновенно прониклись друг к другу симпатией. И что поделать с этим странным, тревожным сходством? Мне сразу захотелось ее одновременно расцеловать и оттолкнуть. Заорать и зашептать. Станцевать и сбежать. Ну и лицо! Просто вылитая я – но более изысканная версия, безусловно, более дорогая, но, без сомнения, моя копия. Интересно, а она это заметила? Да, заметила-заметила, я сразу поняла. И даже стала подозревать, что она заранее про меня что-то выведала. Мне захотелось прикрыться и вместе с тем сорвать с себя всю одежду. Было такое ощущение, что я знакома с ней всю жизнь.
Мое сердце колотилось в груди радостно и боязливо.
Сходство иногда ломает преграды, а иногда их возводит. Стоя перед ней, я сделала книксен. Но не смогла держать язык за зубами. Мне хотелось рассказать ей все-все.
– Мой отец умер, – начала я. – Он стоял за пушкой, которая выстрелила назад. Мать тоже умерла. Скоропостижно.
– Ее высочество, мадам Елизавета Французская, – объявил один из свиты, когда в зал вошла вдова. Вдова побледнела и поклонилась. Но принцесса уже завязала беседу со мной.
– Мой отец умер, – проговорила она тихим голосом. – И мать тоже. Туберкулез унес их обоих. Ты покажешь мне восковых людей?
– Крошка, – прошипела вдова. – Кухня!
Но я ее не слушала и стала показывать гостье наши экспонаты. Сначала Вольтера, потом доктора Франклина и доктора Месмера. Остановившись перед доктором Месмером, мадам Елизавета обернулась и удивила меня, признавшись, что хотела бы заняться скульптурой. Может быть, я научу ее изготовлению изваяний из воска?
– Я? – Мне это было удивительно.
– Она делает только волосы, ваше высочество, – заметила вдова.
– Верно, – ввернула я, – но знаю гораздо больше.
– Крошка, – угрожающе произнесла вдова, – довольно! Иди на кухню! Ваше высочество, она всего лишь служанка.
– Хотите посмотреть мои работы? – обратилась я к принцессе.
– Никаких работ, Крошка! – отрезала вдова.
– Если позволите, ваше высочество, пройдите сюда, я покажу!
– Жак, – сказала вдова, – уведи ее отсюда!
– Жак, – возразила я с неслыханной дерзостью, которую мне придавали очки на носу, а еще стоящая рядом моя копия, – не делай этого!
И тут принцесса произнесла:
– Я с радостью посмотрю твои работы!
И я провела ее на кухню: гулкий стук сердца отдавался у меня в ушах. Мы с принцессой вошли в кухню, и я плотно закрыла дверь. Потом выдвинула свой рундук. Открыла крышку. Там лежали все мои головы Эдмона.
– Это я их сделала. Все до единой.
– А кто это?
– Мальчик один. Я по памяти вылепила.
– И кто он?
– Неважно. Его нет.
– Это все ты сделала? – спросила принцесса.
– Я.
– Они чудесны!
– Повторите, прошу!
– Может быть, ты научишь меня так лепить?
Я сложила головы обратно в рундук. А когда отворила дверь, все стояли и ждали. Потом я повела принцессу показать наших милых убийц, там вперед выступил Жак, и его уж было не унять:
– Виктор Жоли рубил на куски своих невест!
– О боже! – прошептала мадам Елизавета.
– Одре Верон, – продолжал Жак с присущим ему в такие моменты энтузиазмом, – копалась в мусоре на свалке, убила свою сестру Жаклин, подравшись с ней из-за находки, сломанных карманных часов. Располосовала ей горло ржавым железным прутом.
– Бедняжка, – прошептала мне принцесса, – жить в таком окружении!
– А это, – продолжал Жак, который, начав вещать, не мог остановиться, несмотря на сигналы, подаваемые ему вдовой тревожным взглядом. – Антуан-Франсуа Дерю. Он в сундуке…
– Остановитесь! Прошу вас, замолчите! – крикнул кто-то из свиты.
– Находиться каждый день среди таких монстров, – проговорила принцесса, оглядев, правда, не наших милых убийц, а моего наставника, вдову и Жака.
Она выразила мне свое сочувствие, заметив, как это, должно быть, ужасно для такой милой девушки, как я, обитать в столь жутком месте, бок о бок с убийцами. Вскоре она удалилась. Ну и визит! Для меня это событие стало праздником!
Я широко улыбнулась, и улыбалась до тех пор, пока не затворилась дверь и не были задвинуты все засовы. Но затем улыбка сошла с моих губ, потому что меня ждало возмездие. Дверь кухни снова открыли, как и мой рундук.
– Это еще что? – строго спросила вдова.
– Головы, мадам.
– Они завернуты в мой муслин!
– Признаю, я взяла немного муслина, я чистосердечно признаю это, и еще кое-что. А почему нет? В конце концов, мне еще ни разу здесь не платили за все мои труды.
Поначалу она не поняла, чьи все это головы. Да и как она могла? Она же никогда не видела Эдмона моими глазами. В ее глазах он был совершенно другой. А вот мой наставник, великий знаток человеческих лиц, тот сразу все понял.
– Неужели? Правда? Эдмон? Да, думаю, это он. Но почему так много Эдмонов, Мари?
– Кто? Кто это? – подала голос вдова и пребольно стукнула меня по голове восковым бюстиком Эдмона.
От воска я опустилась до угля. Меня отправили в угольную комнату. Я просидела там несколько долгих часов. Ко мне туда заглянул Жак.
– Чем они заняты? – спросила я у него. – Что происходит?
– Вдова все ломает. Ломает все головы.
– Она же ломает головы своего сына. Ей, полагаю, очень хочется побить меня, да?
– Вдова приказала не давать тебе еды.
– Это на нее похоже. Вполне в ее духе. И как долго?
– Не сказала. Вдова хочет тебя выгнать.
К двери угольной комнаты подошел Куртиус.
– Но я стараюсь ее отговорить.
– Благодарю вас, сударь мой.
– Или найти тебе другой дом, куда бы тебя взяли.
– Нет! Я должна остаться с вами!
– Я боюсь подумать, что может сделать вдова, если ты останешься здесь. Она разошлась не на шутку. По правде говоря, боюсь, она может тебя покалечить. Ей особенно не нравится, что ты так часто думаешь о ее сыне. Боюсь, что она тебя накажет за это.
– Прошу вас, сударь, поверьте, я не могу не думать о нем.
– О, Мари, я стараюсь все сделать правильно. У меня возникла одна идея, я даже письмо написал.
– Мне нужно здесь остаться. Здесь мой дом.
– Еще ничего не решено, Мари. Но может так случиться, вполне может.
Все разрешилось довольно быстро.
К нам с официальным предписанием прибыл человек.
Я узнала об этом, когда Жак сказал, что мне нужно быстро привести себя в порядок и поспешить в мастерскую. Куртиус и вдова сидели рядом у одного конца верстака, а у другого конца сидел незнакомец.
– Вы, – обратился ко мне незнакомец, – Анна-Мария Гросхольц, воспитанница этого дома?
– Воспитанница, месье?
– Да, Мари, – заметила вдова, – скажи: «Да».
– Мари? – переспросила я. Вдова еще ни разу не называла меня по имени. И обратилась к месье: – Я здесь служанка. Я занимаюсь волосами.
– Я хочу предложить вам место, в порядке пробы, учителя скульптуры Ее высочества Елизаветы Французской. Вы принимаете предложение?
Я ничего не ответила. Все слова застряли у меня в глотке.
– Вас не устраивает это предложение? – спросил гость.
Я не могла дышать. Я смогла, лишь по истечении нескольких секунд, кивнуть.
– Так я и думал, по правде сказать, – продолжал гость. – Вашим опекунам каждый месяц будет выплачиваться ваше жалованье.
– Да, месье. Но деньги будут мои?
– Вы должны это обговорить с вашими опекунами.
– Думаю, эти деньги нужно выплатить мне. Дело в том, месье, что мне здесь еще никогда не платили.
– Это не мое дело, мадемуазель. Прошу вас, давайте закончим беседу: на том, что мы назначим дату вашего приезда, через неделю, начиная с сегодняшнего дня. Полагаю, для вас это также приемлемо?
– Да, месье.
– Вы будете, разумеется, обеспечены жильем и пропитанием.
– Прошу прощения, месье, – проговорила я, начиная что-то понимать. – Мне придется там жить, не так ли?
– Разумеется. Это предусматривается условиями вашего найма. Но это все только в порядке пробы, поймите, – уточнил посланник, обращаясь к моему хозяину и к вдове. – Ваша воспитанница может отсутствовать всего только неделю, а может быть, и один день. Но если ее пребывание окажется благотворным, она сможет остаться на столь долгий срок, как это решат при дворе мадам Елизаветы и с вашего согласия как ее опекунов.
– Хорошо, месье, благодарю, месье.
– Ваши документы останутся здесь, – сообщил он мне, – по просьбе ваших опекунов.
– Она же наша! – проворковала вдова, чарующе улыбаясь.
– С самого Берна, – уточнил мой хозяин.
– Договорились, – заключил посланник. – Вам все ясно?
– Да, месье.
После его ухода вдова притихла, сидя с кислым выражением лица. Раз-другой я перехватила ее пристальный взгляд. Жак держался в стороне, но из кухни доносились его завывания, и было слышно, как он царапает пол ногтями.
– Я не хочу уезжать, – сказала я Куртиусу.
– Так будет к лучшему. Пока тут все не успокоится.
– Это вы написали во дворец?
– Маленькая принцесса очень этого хотела. Поэтому человек от нее приехал так быстро!
Но он чуть кивнул. Без очков я бы этого кивка даже не заметила.
– Сударь, как же я уеду?!
– Мари, будь умницей.
Вечером на кухню пожаловала вдова.
– Там люди сплошь королевских кровей, – заговорила она, – во дворце. Королева, к примеру, она там живет, и все ее обожают!
– Думаю так, мадам!
– Ты время от время сможешь встречаться с ними, с такими людьми!
– Да, мадам.
– Ты должна хорошо себя вести в любых ситуациях. Ты не должна заставлять нас краснеть за тебя! Ты должна только наилучшим образом отзываться о нашей работе.
– Да, мадам.
– И вот еще что. Тебе нужно добиться аудиенции у королевы для месье Куртиуса, чтобы он снял слепок с ее лица! Нам нужно иметь прижизненную статую королевы! И других придворных. Но главное – королева, самая модная дама страны!
– Да, мадам, я постараюсь. Мадам, могу я задать вопрос?
– Можешь.
– Как поживает Эдмон?
Белая масса ее лица побагровела – гора грозно зарокотала, подбородок сотрясся, но вулкан не извергся, а быстро стих, когда она коротко ответила:
– Мой сын со своей женой.
– Мадам, – продолжала я, вдруг задохнувшись, – я хотела выйти за него замуж. Почему вы ничего мне не сказали?
– Ты? Ты?
– Я очень этого хотела!
– Да не все ли равно, чего ты хотела? Твои желания – это чепуха! Эдмон не хотел тебя! Да и как он бы мог? И кто бы вообще захотел? Как мог мой сын быть с иноземной служанкой? Ты понятия не имеешь, как устроен наш мир!
– Я еду во дворец, – заявила я. – Меня пригласили.
– Тебе суждено всегда быть нашей кухонной крысой, Мари!
Как же я ее ненавидела – тогда и всегда, безмерно! Могу ли я описать свою ненависть к ней? Не стоит, она отравит эти страницы. Так что лучше я промолчу.
Вечером накануне моего отъезда Жак, как когда-то старые обезьяны, принялся громить Обезьянник. Он колотил кулаками в стены и, двигаясь по залу сначала в одном направлении, потом в другом, крушил псевдодеревянную мебель, пинал ее ногами и вопил от боли. При этом он еще истошно визжал; его необузданную пляску было не остановить. Он выл точно раненый зверь. С моим отъездом его хрупкий мир рушился. И ничто не могло его переубедить в том, что его не бросают на произвол судьбы. Куртиус нервно дожидался, пока этот взрыв протеста сам собой выдохнется, вдова поднялась наверх подсчитывать убытки. Когда гнев Жака наконец утих, мы навели порядок в доме. Я подмела осколки.
– Жак, – говорила я, поглаживая его большую голову, – это совсем ненадолго. Но я очень-очень благодарна тебе за твои слезы.
На следующее утро я отправилась в путь в компании Мерсье (его одежда к тому времени сильно поизносилась), Куртиуса и Жака, ковылявшего позади и волочившего мой рундук, где лежали платья, Марта, папенькина серебряная челюсть и уцелевшие рисунки, которые в ящике кухонного шкафа пережили учиненную вдовой бурю. Прохожие на бульваре, завидев моего наставника, останавливались, снимали шляпы и кланялись, как было тогда принято:
– Доброе утро, доктор Куртиус! Какая чудесная погода, доктор Куртиус!
Так мы добрались до пляс Луи ле Гран, где некогда работал доктор Месмер, – площадь была такая широкая, что мне даже стало страшновато и захотелось держаться с краешку, но Мерсье ласково потянул меня за собой на противоположную сторону. Мне был куплен билет на караба – версальский омнибус, запряженный восьмеркой лошадей, который простонародье называло «ночным горшком». Подсадив меня в омнибус, Жак прошептал сквозь сжатые зубы:
– Не позволяй никому обижать тебя. А если будут обижать, скажи Жаку!
– В Версале нет ничего особенного, просто колоссальный зал с армией слуг, – поморщился Мерсье. – Не застревай там надолго, Крошка. Тем, кто там застревал, это не принесло ничего хорошего. Впрочем, даже я вынужден признать: тебя ждет отменное приключение.
– Дорогая моя Крошка, – сказал мой наставник, – милая моя девочка, я буду по тебе очень скучать. Я буду звать тебя сегодня Мари. Мари, кто же теперь станет изготавливать волосы для моих голов? Кто будет сидеть рядом со мной, пока я работаю? Кому я стану рассказывать о своих успехах?
– Прощайте, сударь, – ответила я. – Благодарю вас за все.
И «ночной горшок» тронулся в путь.
Держа Марту на коленях, я наблюдала, как Париж беспечно занимается своими делами. Омнибус отъехал довольно далеко от бульвара дю Тампль и от Обезьянника, от типографии Тикра, миновал Версальские ворота и покатил по полям, и все, что я видела в окно, было мне в новинку, и теперь я осталась совсем одна. Мне предстояло стать учительницей принцессы Елизаветы. Версаль манил меня.
Я покинула Париж.
Книга четвертая 1778–1789 Буфет в Версале
Повествование начинается, когда мне семнадцать лет, а завершается, когда мне исполнилось двадцать восемь.
Глава тридцать первая
в коей я прохожу краткое собеседование с новым работодателем и мне показывают мое новое жилье
Я увидела его задолго до того, как мы до него добрались, и по мере приближения к нему омнибуса он увеличивался в размерах, а потом стал еще больше, и еще больше, и еще. Когда мы наконец остановились и пошли по брусчатке, а дворец – я о нем говорю – уже закрывал собой все небо, так было странно увидеть здесь самых обычных людей, того роста, к которому я привыкла. Это был целый город, уместившийся в одном исполинском здании. И как тут не заблудиться? Дворец переворачивал все усвоенные мною раньше представления о размерах. Я чувствовала себя, как Иона, любимый персонаж маменьки, но только этот кит перед моим взором был весь из золота. Нежели такое возможно? Неужели мне предстоит жить в этом дворце? Мне захотелось воскликнуть: маменька! Погляди, погляди, куда я попала! Я же в королевском дворце! Меня пригласили в нем жить.
Ко мне подошел привратник в голубой ливрее. Мой рундук, сказал он, будет доставлен отдельно, а мне надлежало следовать за ним. Он помог мне пройти по булыжникам (каждый размером с надгробный камень, причем между ними могли бы улечься люди, и их бы там никто не увидел), войти в ворота (они были выше, думаю, любого здания в Париже), потом в дверь для прислуги (она была похожа на гигантское заднепроходное отверстие), потом повел меня по коридорам (они напомнили мне кишечник), по залам мимо множества людей (они были как перевариваемая пища). Чуть ли не стремглав к нам подбежал камердинер. Я трепетала, подавленная этой грандиозностью; люди и помещения наваливались на меня со всех сторон. На мгновение, привлеченная громкой беседой группы придворных, я потеряла камердинера из виду, но он сам меня нашел и строгим голосом предупредил, чтобы я его впредь не задерживала.
Взгляд вверх: расписной потолок. Взгляд вниз: деревянные полы с красивыми узорами. Взгляд вперед: спина лакея в голубом камзоле быстро удаляется. Взгляд вбок: люди, люди повсюду. Оказавшись наконец в пустынном коридоре, я заметила, что одно из окон разбито. Я даже обрадовалась при виде этого окна: оно несколько ободрило меня, вселив уверенности. Камердинер распахнул дверь:
– Ждите тут. Ничего не трогайте.
С этими словами он закрыл дверь и ушел.
Я осмотрелась. Это была комната в первом этаже, сплошь заполненная дорогими, необычными и весьма злобными с виду предметами. Я никогда не представляла себе, что настольные часы в форме кареты могут выглядеть настолько враждебно, как не думала, что канделябр мог так красноречиво отказываться светить на меня. Я никогда еще не стояла на ковре, которому были противны мои ноги, как никогда не чувствовала такого осуждения со стороны мраморного камина. И до сих пор еще не видела золоченого табурета, чьи толстые ножки норовили вцепиться в мои лодыжки. Ни разу такого не случалось, пока меня не привели в эту комнату.
В Обезьяннике я жила среди театральной бутафории. А здесь я увидела самые настоящие часы-карету, а не кусок дерева в форме часов с нарисованным циферблатом, и эти часы по-настоящему отсчитывали бег секунд. Здесь был самый настоящий мраморный камин, а не рисунок на доске, создающий впечатление мраморного камина. Здесь жили настоящие, а не фальшивые люди, вылепленные из воска. Но я тогда почувствовала – и сейчас чувствую, – что мне было уютнее среди сделанного наспех театрального реквизита, чем среди настоящих вещей, изготовленных руками мастеров. Я добрых полчаса стояла в центре комнаты, ощущая на себе злобные взгляды всех этих предметов, пока наконец не появился другой прислужник: это была бледная девушка, которая молча вошла и занялась своими делами. На меня она не смотрела, точно меня там не было.
– Мне нужно ждать здесь? – спросила я.
Но служанка ничего не ответила.
– Она скоро придет?
Молчок.
– Как вас зовут?
И тут она помотала головой.
– Можно мне сесть?
– Прошу вас, – сказала она, и ее лицо приняло тревожное выражение. – Мне нельзя разговаривать. Это не позволено.
– А с кем я могу поговорить?
– Я всего лишь горничная. Вы не должны задавать мне вопросов.
Тут дверь отворилась. Служанка застыла. Из-за двери раздался голос старой властной дамы.
– Ты с кем тут говоришь, Пайе? Не заставляй меня ловить тебя за язык!
Служанку как ветром сдуло.
Старая дама медленно обошла вокруг меня и опустилась на одну из оттоманок.
– Ты что здесь делаешь? – произнесла она – и я не сразу поняла, что ее вопрос обращен отнюдь не к оттоманке. – Что-то я не возьму в толк. Если повезет, все продлится не дольше, чем этот день, после чего нам не придется находиться в одной комнате. У мадам время от времени появляются капризы. Одно утешение, что мадам безусловно быстро найдет нечто, что заинтересует ее больше, чем ты, потому что в тебе нет ничего интересного. Она скоро придет. Тебе следует поклониться, называть ее «ваше высочество» или «мадам Елизавета». Ты должна в точности выполнять все ее просьбы, что бы они ни попросила. Но не дотрагивайся до нее, никогда не дотрагивайся до нее, это не дозволяется.
Я услышала топот ног. Через мгновение в комнату вбежала, с раскрасневшимся лицом, Елизавета.
– Ах, ну наконец-то ты приехала, – воскликнула четырнадцатилетняя принцесса. – Как мило!
– Ваше высочество! – произнесла старая дама, многозначительно кивнув мне.
– Ваше высочество! – повторила я, поклонившись.
– Я очень рада, что ты здесь. С тех пор как мы познакомились, я ни о чем другом не могу думать. Я думаю обо всем, чем мы займемся вместе. Ты мой двойник, мое второе тело – вот ты кто! Моя сестра Клотильда – она замужем за Шарлем-Эммануэлем Сардинским, о, и я ведь тоже скоро выйду замуж, – так вот, у нее никогда не было такой душеньки, как ты. Но вот ты здесь. Я напишу Клотильде и расскажу про тебя. Говорят, она сильно растолстела. Как же я по ней скучаю. Ладно, так чем мы займемся? Порисуем? Поиграем в прятки? Отправимся с визитом? Я расскажу тебе про свои визиты.
– Ваше высочество, – прошептала я. – Мне казалось, мы будем…
Тут часы-карета злобно зазвонили, и маленькая принцесса ужасно побледнела. Ее круглое личико исказилось гримасой, а серые глаза увлажнились.
– Пора, мадам Елизавета, – подчеркнуто строго объявила старая дама.
– О нет, нет, – горестно прошептала принцесса.
– Ваши тетушки, мадам Елизавета! – вновь подала голос старая дама.
– Мне надо уйти. Мне надо уйти, мой милый двойник! – сообщила принцесса. – Мои тетушки не любят, когда из заставляют ждать, они это просто ненавидят. Я так рада, что ты здесь. Покажите ей ее комнату, дорогая Мако!
С этим маленькая принцесса упорхнула, оставив меня наедине с мадам Мако.
– Вне всякого сомнения, она опять опоздает, – пробурчала старая дама, как только дверь закрылась. – Ничего я тебе не покажу, – продолжала она. – Даже и не думай, что я тебе буду что-то показывать. Жди тут!
Старая дама вышла, а спустя несколько мгновений появилась другая служанка.
– Прошу вас, следуйте за мной!
Выйдя из комнаты, мы прошли по коридору и остановились перед очень высоким и широким двустворчатым шкафом, закрепленным у стены. Около шкафа уже стоял мой рундук.
– Вы можете открыть дверцу.
Я открыла одну.
– Это же буфет для посуды, – разочарованно сказала я.
– Да, – подтвердила она, – к вашим услугам, это ваш буфет.
– Мне здесь разложить свои вещи?
– Вы будете здесь жить!
– В шкафу?
– Вы будете здесь только спать. Проводить свое свободное время. Если вы ей понадобитесь, вы всегда будете рядом. Спать будете на этой полке. А вещи положите на полку сверху. Там достаточно много места.
– В шкафу?
– Конечно. В шкафу.
Буфет предназначен для хранения различных предметов, а кровать – приспособление, на котором люди обычно спят. Мне казалось это очевидным. Но в Версале все было не так, как у людей, и мне предстояло привыкнуть к здешнему образу жизни; мой наставник научил меня этому первым делом после переезда в Париж. Очень важно обучиться правилам поведения на новом месте. Возможно, этот буфет мало чем отличался от каморки без окон, куда меня поместили в доме покойного портного. Я стала гадать, не содержатся ли в этом дворце все остальные слуги тоже в буфетных ящиках, которые выдвигают, только когда они требуются для какого-то дела. А что бывает, думала я, если твой ящик буфета никогда не открывается – ты что же, лежишь там, умирая от голода и надеясь, что, может быть, скоро в тебе опять возникнет нужда? Потом я узнала, что во всех монарших домах Европы слуг частенько размещали в буфетах, потому как это было удобно хозяевам – так прислуга постоянно находилась у них под рукой. Например, английский король Георг III поселил слуг в комоде по соседству со своей опочивальней; герцог Урбинский выделил слуге место в письменном столе; баварские бароны размещали слуг на вешалках в гардеробных; еще мне рассказали, что у герцогини Блуа была любимая камеристка, которая сорок лет прожила в пустующем ватерклозете. А я в тот день испытывала такую симпатию к различным предметам во дворце, что просто залезла в буфет и легла на пол. Там было очень темно.
Глава тридцать вторая
Мой уголок дворца
Дверцы моего буфета открывались и изнутри, и снаружи: ручки были с обеих сторон. И все же, лежа на кровати-полке, за закрытой дверцей, я представляла себя в гробу. Пробудившись после короткой дремы, я принялась колотить в закрытые дверцы, в ужасе от мысли, что меня заживо похоронили. Мне приснилось, что я лежу мертвая в канаве на бульваре дю Тампль. Даже вспомнив, где я нахожусь, я все продолжала дергать за ручки – убедиться, что смогу отсюда выбраться. Ну и ночка…
На второе утро во дворце меня снова ввели в комнату с неприветливыми предметами. Вскоре пришла старая дама, а потом наконец и Елизавета, в сопровождении месье в облачении священника.
– Ну, душенька моя, теперь мы помолимся вместе.
И мы по наставлению ее духовника, аббата Мадье, стали молиться. Я сочла его сладкоречивым лицемером – неужели Господь создал его таким? «О, святое сердце Иисуса, как же я люблю тебя, обожаю тебя, готов думать о тебе каждый день моей жизни, особенно в час моей смерти. O vere adorator et unice amator Dei, miserere nobis. Amen»[4].
После молитвы Елизавета сказала мне:
– Ты так замечательно молишься!
– Благодарю вас, ваше высочество!
– Я хочу тебя познакомить с кем-то, кто мне очень дорог.
Особа, которую она мне представила, также жила в шкафу, правда, в нем стенки внутри были обиты бархатом, а сам шкаф оказался переносной, хотя, по правде сказать, это была обычная коробка. И обитала в нем особа, сделанная из раскрашенного гипса. Кукла с неправдоподобно гладкими чертами лица, простоватая и жалостливая. Не очень большая – не более фута в длину – и не слишком тщательно выделанная. Кукла изображала Спасителя рода человеческого. Я с ним уже встречалась, разумеется, с этим парнем, с сотнями его вариаций, он пользовался большой популярностью в народе, его можно было встретить повсюду, и он был старым любимцем моей маменьки.
– Его нельзя брать в руки, – предупредила Елизавета, – но ты можешь на него смотреть.
– У меня есть кукла, – сказала я, – ее зовут Марта. Вы бы не…
– Иногда я сижу с ним часами. Мне кажется, что он живой и слушает меня.
– Нет, – возразила я, – он же из гипса. Это всего лишь раскрашенный гипс. Он ничего не слышит.
– Я его уберу.
И Иисус вернулся к себе в коробку, предварительно получив поцелуй. Я подумала: лучше бы она меня так поцеловала. И сказала:
– Просто замечательно, что вы меня сюда пригласили. Я вам очень благодарна.
– Это вовсе не обязательно.
– Думаю, мы хорошо поладим. Мы же с вами как близнецы, вы и я.
– Мне не кажется, что мы так уж похожи, – заметила она. – Есть, возможно, между нами некое поверхностное сходство, я уже слышала, как кто-то это сказал. Но у тебя, уж прости, такой большущий нос, разве не так? А подбородок, боже ты мой! Они торчат как два утеса и, в общем, выглядят довольно пугающе. Но тебе не стоит беспокоиться. Мне все равно, как ты выглядишь. Нет, пускай даже некое подобие есть, я просто не думаю, что мы можем быть похожи друг на друга. Я все-таки сестра короля. О, не грусти! Какая же ты глупышка. Разве можно быть грустной, имея такое лицо? Ты мне нравишься гораздо больше, когда не куксишься. Пойдем, я тебе покажу еще кое-что.
И она потащила меня в комнату, всю увешанную множеством любительских рисунков, в основном изображавших распятия и святых.
– Ты только посмотри на все эти рисунки! – с энтузиазмом воскликнула она.
Я глянула на них и обернулась к Елизавете.
– Они все мои! – с гордостью заявила она. – Это все я нарисовала.
Я ничего не ответила.
– Что ты о них думаешь? – спросила она.
– Я думаю, ваше высочество, вы уж простите меня, я думаю, нам нужно начать наши занятия немедленно.
– Что ты такое говоришь, душенька моя?
Я помолчала, но поняла, что выбора у меня нет.
– Вы не… умеете смотреть, как нужно, не так ли? Покамест не умеете. Но я уверена, вы сможете. Мой наставник учил меня смотреть на вещи, и нам пришлось потратить немало усилий, прежде чем я научилась что-либо видеть.
Ее лицо побагровело, но я продолжала:
– Мне не стоит вам лгать, ваше высочество. Если мы хотим совместно добиться успехов, если я могу быть вам полезной, мне нельзя лгать.
– Но я принцесса Елизавета Французская!
– Да, ваше высочество.
– Так! – она топнула ногой.
Я не могла сказать, что ей следует делать. Наступило долгое молчание. Наконец она изрекла:
– На сегодня довольно.
И меня отослали в шкаф.
Когда во мне не было нужды, то, согласно полученным мною инструкциям, мне нужно было по возможности проводить все время в шкафу. По негласному взаимопониманию, если уж я и выходила из него по надобности, то не далее чем на ведро в боковом чулане. Шкаф был поместительный, и спальная полка не менее широкая, чем моя кровать в Обезьяннике. Человек может ко всему привыкнуть. Мне в нем было довольно удобно лежать, и времени на раздумья было достаточно, даже больше, чем раньше, и частенько я неизбежно думала об Эдмоне, о том, что для него в этом шкафу-гробу не хватило бы места, если бы мы решили тут с ним жить, но так, значит, тому и быть, раз его у меня украли. Я жалела, что ни одной из вылепленных мною его восковых голов не сохранилось, они бы меня сейчас утешали, но вдова уничтожила их все. Мне больше не следовало думать об Эдмоне. Мне следовало выкинуть его из головы. Он не имел ко мне никакого касательства.
Я изо всех сил старалась не думать об Эдмоне, но меня так часто оставляли в одиночестве, что он стал для меня человеком, с кем я мечтала проводить время, хотя он и был женат. Хотела бы я знать, думает ли он обо мне. Как бы он удивился, узнав, что я в Версале, что меня наняла королевская особа. Но я бы ему сказала, что быть в услужении у королевской особы совсем не так замечательно, как он мог бы предположить. Если я находилась в шкафу чересчур долго, я начинала желать Эдмона так сильно, что мне грезилось, будто надо мной возникал его призрак, впиваясь мне в мозг и замедляя биение моего сердца. И если бы я слишком долго пробыла там в одиночестве, меня бы до смерти замучили посещения этого витринного манекена, чей прототип вызывал во мне столь острую тоску. Посему я приказала себе смотреть вперед, постараться отогнать этот призрак, похоронить его под бременем новых забот.
В Версале свечей у меня было сколько угодно – стоило только попросить. Лежа в шкафу, я вслушивалась в шум дворца, в звук шагов марширующих солдат, а ночью – в топот крыс, шаставших по коридорам, и в доносившиеся снаружи вопли одичавших котов, питавшихся продуктами жизнедеятельности большого дворца.
И я могла учиться. Мне дали большую книгу в картонном переплете – «Альманах Версаля», в котором содержался длинный список людей, работавших во дворце, от королевской свиты до департамента дворцовых посыльных. Я много раз перечитывала скучный том малого формата в попытке отогнать призрак Эдмона. Я старалась вообразить рядом с каждым именем лицо его обладателя. Я пыталась представить себе обоих королевских зубных врачей, Бурде и Дюбуа-Фуку, предполагая, что Бурде должен быть тучным господином, а Дюбуа-Фуку – немного самовлюбленным. Я изучила список конюших короля. После чего приступила к разделу, названному BOUCHE DU ROI, то есть «рот короля», имевшему отношение к питанию монарха, и особенно меня восхитил список четырех специальных мужчин, отвечавших исключительно за мытье королевской посуды. (Даже сейчас я помню все их имена: Шеваль, Колон, Мюлохор и де Рольпо. Кажется, мне более всех нравился этот самый месье де Рольпо). Мой палец скользил вдоль длинного перечисления важных придворных короля, страницы и страницы людей, пока я не добралась до придворных королевы (среди тысяч служак этой необъятной армии я все еще помню четырех: Колла, Мора, Карре и Ле Кин – скромнейших из шестнадцати дам, заведовавших фруктохранилищем королевы).
Наконец, одолев все двести двадцать шесть страниц набранного убористым текстом «Альманаха», я добралась до раздела MAISON DE MADAME ELISABETH DE FRANCE, или «Двор мадам Елизаветы Французской», – самого последнего в книге. Я сосчитала челядь мадам Елизаветы, седьмого «двора» и явно самого малочисленного. Семьдесят три человека обслуживали одну четырнадцатилетнюю девочку. От ее личного священника и духовника до мадам Мако, которая тут именовалась «достопочтенной дамой». Затем следовала стая фрейлин (числом пятнадцать), единственный почетный рыцарь, четыре главных конюших. Под заголовком Chambre перечислялись камеристки спальни (две), горничные спальни (шестнадцать), камердинеры спальни (четыре), камердинер, отвечавший за мебельную обивку, постельничие (четыре) и лакеи будуара (четыре). Затем помимо камеристок и камердинеров перечислялись: доктор мадам Елизаветы (ле Монье), ее личный хирург (Лустоно) и ее личный зубной врач (Бурде, который также занимался и зубами короля, имея доступ в святая святых его величества). Тут же фигурировал библиотекарь мадам Елизаветы, ее чтец, ее секретарь, ее учитель игры на клавикордах, ее учитель игры на арфе, ее учитель живописи и масса других слуг: гобеленщицы (две), гардеробные лакеи (два), носильщики (четыре), porte-chaise d’affaires[5] (два), чистильщик серебра (один) и наконец горничная (одна) Пайе, Люси, стоящая на самой нижней ступеньке придворной иерархии, выполнявшая всевозможные незначительные поручения. Я закрыла книгу, задула свечу и сидела с чуть кружащейся головой в полной темноте. И в который уже раз вызвала призрак Эдмона, потому как мне стало очень одиноко.
Глава тридцать третья
имеющая касательство к моему найму приближенной ее высочества принцессы Елизаветы
На третий день моего пребывания в Версале Елизавета вновь послала за мной – но не для того, чтобы взять урок рисования, а поиграть в прятки, свою любимую забаву. Мне нужно было зажмуриться и сосчитать до ста, после чего попытаться найти принцессу и ее фрейлин. Когда я открыла глаза, вокруг никого не было, одна только мебель стояла в комнате, но мне понадобилось лишь несколько мгновений, чтобы обнаружить в соседней комнате всю стаю придворных дам, кого их изумительная выдумка привела в совершеннейший восторг. Несколько долговязых мадемуазелей застряли в дверном проеме, я протиснулась сквозь них – в неподобающей манере, чем позже меня попрекнули, – и обнаружила Елизавету: та поедала небольшие кексы прямо с блюда. Кексы выглядели очень аппетитно. Мне не предложили.
– Ку-ку! – сказала я. – Вот вы где! – И тронула ее за локоть.
– Нет! – завизжала Мако. – Нет! Ни за что! Не трогай!
Старая дама поволокла меня по коридору и втолкнула в весьма неприглядную комнату, которую я до сих пор не видела.
– Покажи руки! – приказала она.
Я показала.
И услыхала легкий свист воздуха – в мою кожу впилась ее трость. Трость отскочила вверх и снова опустилась. На третий раз я убрала руки.
– Нет, нет! – отрезала старая дама. – Нужно три раза.
В слезах, я вытянула руки, и трость тотчас донесла до меня свое внушение. Я не была достаточно взрослой для телесного наказания. Возможно, мой малый рост их смущал.
– В следующий раз будет десять. Ты не имеешь права дотрагиваться. Повторяю: не дотрагивайся!
– Я не дотрагиваюсь.
И я отвернулась. За мной стояла Елизавета. Она все это время была здесь.
– Это я должна говорить «ку-ку», а не ты! – заявила она. – И игра в прятки должна длиться не меньше получаса, ты неправильно играешь.
– Да, – подхватила Мако, – мы должны повзрослеть. Мы все должны повзрослеть.
На следующий день мы принялись за работу. Я положила перед Елизаветой лист бумаги. Она взяла карандаш. Могу сказать, что душевная близость между нами испарилась. Первым делом мне стало ясно, что мадам Елизавета ничего не смыслит в анатомии. К примеру, сердце, самый шумный внутренний орган, а потом и легко обнаруживаемый, по ее мнению – несомненно, сформированному многими недостоверными религиозными картинами, – располагался ровно посредине грудины. Она не могла понять, почему в теле человека две почки, две половинки легких, и полагала, что это удвоение органов каким-то образом связано с вынашиванием двойни. Она с изумлением открыла для себя, что внутренности размещены примерно одинаково у всех представителей рода человеческого. При этом она упрямо настаивала, что внутренние органы мужчин решительно отличаются от внутренних органов женщин, и не принимала на этот счет никаких возражений. Я нарисовала ей контур человеческого тела и попыталась показать, что находится внутри, но убедить ее поверить мне оказалось делом совсем не простым. Она еще смогла согласиться с тем, что в животе есть толстая кишка и тонкая кишка, но нашла забавным, что у всякого человека, неважно какого роста, имеется и то и другое. Я решила, что было бы полезно найти человеческий образец, дабы облегчить мои поучения. Я попросила Елизавету помочь мне, и вскоре в комнате появилась горничная Пайе.
– Привет, Пайе! – сказала я.
Пайе промолчала. Бедняжке не дозволялось раскрывать рот.
– Это кто? – спросила Елизавета.
– Это Пайе, – ответила я, – одна из ваших служанок.
– Я ее раньше никогда не видела.
– Тем не менее это Пайе.
Пайе была в услужении у принцессы шесть лет, но она делала свою работу так тихо и незаметно, что казалась бесплотным привидением. Во дворце обреталось видимо-невидимо подобных людей, думаю, несколько сотен, которые вели незримое и полезное существование рядом с королевской семьей, и их даже не замечали.
– Пайе, – попросила я, – ты можешь встать посреди комнаты и развести руки в стороны?
Та повиновалась.
– Вот Пайе, – обратилась я к Елизавете. – Мы знаем, как она выглядит снаружи. Но что у нее внутри? Что лежит в комоде тела Пайе? Предположим, что ее ребра – это дверцы комода и мы можем их распахнуть вот тут, в середине. Что мы увидим? Что лежит у нее на полках?
– Постельное белье, – предположила Елизавета.
Я пропустила ее слова мимо ушей.
Пока я махала своим карандашом туда и сюда, Пайе узнала много нового о содержимом своего туловища, о чем раньше даже не догадывалась. Елизавете это все тоже было в новинку. Вознамерившись не возвращаться в свой постылый шкаф как можно дольше, я тянула время занятий, сколько могла, настаивая, что наш урок будет неполон, если я не расскажу про почки, потом про печень, а потом и про сердце.
– Трудно все это запомнить, – вздохнула Елизавета.
– Но мы делаем успехи! – с энтузиазмом воскликнула я.
– Почему мне нужно забивать голову тем, что находится внутри у этой служанки?
– Потому что то же самое имеется у всех, мадам. У всех людей одинаковые внутренности.
– Что-то я сомневаюсь.
– Но это так.
– Ты уверена?
– Да, мадам.
– Как ужасно.
И она поглядела на Пайе с нескрываемым омерзением. Мы обошли Пайе вокруг, а та покраснела и даже чуть покачнулась, когда я до нее дотронулась.
– Это всего лишь твое тело, – успокоила я ее. – Обычное человеческое тело, как у всех. Тебе не о чем тревожиться. Стой смирно, мы просто стараемся тебя изучить.
И это помогло – то, что принцесса увидела реальное тело. Наглядность всегда помогает. И когда Елизавета начала понимать, как работает тело, ее рисунки стали лучше. Я учила ее забывать о правилах и хитросплетениях дворцовой жизни и сосредоточиваться только на том, что касалось жизни человеческого тела. Ведь оно тоже было своего рода дворцом, по которому мы могли бродить и бродить без конца. Мы погружались – мысленно, конечно, – под кожу Люси Пайе, прогуливались вдоль ее органов и костей. А когда мы закончили путешествие по Пайе, я заставила Елизавету указать мне расположение того или иного органа, который я называла:
– Почки! Мочевой пузырь! Пищевод! Малый кишечник! Легкие! Прямая кишка! Сердце! Позвоночник! Диафрагма! Поджелудочная железа! Селезенка! Palma fascia! Anastomotica magna! Tuber omentale![6]
Мы и впрямь делали успехи.
Потом, уже в коридоре, Пайе дотронулась до своего живота и шепнула мне с благоговейным удивлением:
– Здесь, внутри, у меня duodenum, сокращенно от intestimum duodenum digitorum…[7]
– Что означает?..
– Кишка длиной в двенадцать пальцев.
– Да, Пайе, ты все точно запомнила!
– Благодарю вас, мадам!
– Благодарю, Мари, – поправила я.
– Благодарю вас, мадам!
После урока рисования Елизавету приходили проведать ее любимые фрейлины, девушки, кого она называла Бомба, Ярость и Фурия, а меня препровождали в мой буфет. Я лежала внутри, в кромешной тьме, и думала о Елизавете, бормоча ее имя полке надо мной, пока не являлся призрак Эдмона и не укладывался рядом.
В первые недели пребывания в Версале я ничего не видела, кроме буфета, салона принцессы и нашей комнаты для рисования. Мне хотелось походить по дворцу. Я ведь так мало видела в своей жизни, но много о чем слышала, и кое о чем имела некоторое представление, и дворец оказался для меня слишком сильным искушением. Я все думала и думала, что же такое находится за стенами известных мне комнаток. Мне наказали никогда не покидать покоев Елизаветы, но этого так хотелось – разве что столь же сильно я надеялась отогнать тревожащий меня призрак Эдмона.
И однажды днем мне представилась возможность обследовать дворец во время очередной игры в прятки. Покуда Мако была занята беседой с тетушками где-то в дальних залах, Елизавета объявила, что она со своими придворными спрячется, а мне выпала великая честь найти их в ее покоях. И они с хохотом умчались. Я закрыла глаза и сосчитала до ста, пока не услыхала, что они гурьбой метнулись в одну залу, и я знала, в какую именно, – тут я сделала глубокий вдох и пошла по коридору в противоположном направлении. Вскоре я набрела на новые залы дворца. Тут я обнаружила совсем иную географию, и мои шаги гулко отдавались в ушах. Я бегала то туда, то сюда по дворцовому лабиринту, по незнакомым коридорам, то и дело попадая в просторные помещения с золоченой отделкой. Почти перед каждой закрытой дверью ожидали люди, они стояли или сидели, и все без исключения держали в руках какие-то бумаги. Когда я поинтересовалась у одного господина, долго ли он тут ждет, тот ответил:
– С перерывами, в ноябре будет три года как.
Лицо другого просителя имело серый оттенок, будто от долгого ожидания его кожа окрасилась в цвет каменных стен. Я поднималась по лестницам, открывала какие-то двери, и многие из ожидающих говорили, что мне тут находиться нельзя. Когда же послышался громкий топот ног, казалось, наполнивший все помещения Версальского дворца, мне стало не по себе. Я подумала, что игра в прятки все еще продолжается, или же она приобрела странный поворот, и спрятавшиеся побежали на поиски пропавшего водящего. Я бы с радостью в тот момент нашла Елизавету, потому как безнадежно заблудилась.
Когда мимо быстрым шагом прошествовала группа мужчин в голубых ливреях, я спряталась за экраном незажженного камина в надежде перевести дух и успокоиться. Когда мое сердце забилось ровнее, я услыхала тихий стук и решила, что кто-то вроде меня стучится во все двери дворца. Собрав остатки смелости в кулак, я решила, что лучше заблудиться во дворце вдвоем, нежели в одиночку, и приоткрыла дверь. Стук прекратился.
– Кто здесь? – раздался мужской голос из глубины залы.
– Умоляю, – выдавила я.
– Вам нельзя сюда входить! Вам нельзя входить! Это не позволено.
– Умоляю, месье!
– Это частные покои. Частные. Вам нельзя меня беспокоить!
– Я не уверена…
– Кто здесь? Кто вы?
Я запнулась – потому что меня обдала волна пугающего неестественного жара. И я решила, что потревожила какого-то сатанинского обитателя этого дворца.
– Да кто вы? Скажите же наконец!
Я начала сбивчиво объяснять, что я учитель рисования ее высочества мадам Елизаветы. Не знаю уж, насколько можно было разобрать мое бормотание, но тут голос проговорил сквозь волны жара:
– А, очень хорошо, тогда входите, входите!
И я вошла.
Глава тридцать четвертая
Версальский слесарных дел мастер
Войдя внутрь, я увидела крупного мужчину лет двадцати с лишком, в кожаном фартуке, в сорочке с закатанными рукавами, с молотком в руках, который стоял, склонившись над кузнечным горном.
– Закройте дверь, иначе сюда весь дворец сбежится.
Я сделала, как мне было велено. Он вновь взялся за дело, принявшись постукивать молотком по небольшому куску металла. Именно это постукивание, а вовсе не стук в дверь я и услышала в коридоре. Поглощенный работой, он несколько минут не поднимал на меня глаз. Версальский дворец такой громадный, подумала я, в нем работает великое множество различных мастеров. Сейчас я набрела на слесаря, а открой я другую дверь, то могла бы обнаружить крысолова за изготовлением крысоловок или часовщика, починяющего часовой механизм, и даже свечника, отливающего свечи из растопленного воска. Я стояла у двери и глядела на мастера в надежде, что, покончив со своим изделием, он укажет мне путь к покоям мадам Елизаветы. У мужчины был до смешного высоченный лоб, крупный римский нос, мясистые губы и необыкновенно большие голубые глаза – он часто прищуривался и приближал глаза к раскаленным докрасна металлическим предметам, с которыми он работал, из чего я сделала вывод, что и ему не помешали бы очки. У него был пухлый двойной подбородок и полные, будто женские, груди, и он то и дело поглаживал эти пухлые части тела пухлыми пальцами без признаков костяшек. Казалось, он вдыхал воздух не носом, а использовал для этой цели рот. Мужчина ухватил длинными щипцами металлический предмет, который до этого отбивал молотком, и опустил в глубокую лохань с водой, на что раскаленный металл ответил жалобным шипением. Слесарь отреагировал на этот звук довольной улыбкой. Он обернулся ко мне, прищурился, кивнул, сунул руку в карман фартука и, выудив оттуда носовой платок, аккуратно расстелил его на верстаке.
Затем он сунул руку в другой карман, достал сильно помятый кусок холодного пирога с кремовой глазурью, положил на платок и, отступив на шаг, жадно уставился на пирог. Наконец из третьего кармана он достал изящный перочинный ножичек, раскрыл лезвие и разрезал пирог на две неравные части. Сжав своими пухлыми пальцами кусок побольше, он тихо проговорил:
– Никому не говори. Вот твоя награда за молчание!
Я шагнула вперед с намерением взять пирог.
– Ты что, хочешь его весь? – спросил он, торопливо заглотив свою порцию и слизывая крошки с губ. – Тут же много, а ты такая крохотная. Что, если я еще разрежу этот кусок пополам?
И оставшийся кусок пирога был снова разрезан – и снова не слишком поровну. Я робко потянулась за маленькой порцией.
– Что-то ты не слишком голодна, я смотрю, – заметил слесарь, пока я не успела дотянуться до пирога. – Я же не настаиваю. Давай-ка я сохраню его для тебя, потом съешь, – и он подхватил последний ломтик пирога. – Или мне его сразу съесть?
Он приблизил мой кусочек к мясистым губам.
– Что скажешь?
И затем, не дожидаясь моего ответа, отправил предложенную мне порцию пирога себе в рот, пожевал, сглотнул и в восторге послал в пустоту воздушный поцелуй.
– Теперь, вероятно, – заметила я, – вас стошнит.
– Но мне это нравится! Нравится! – воскликнул он, любовно поглаживая себя по выпирающему животу. – А мне это запрещено. «Только один кусок в день, говорит она. Не больше одного!» – и добавил шепотом: – Но я ее обманываю. Конечно, я обманываю. Я стал таким коварным! – Он замолчал с довольным видом, а затем стал возиться с выкованным им замком, то запирая его, то отпирая, любуясь своей работой и, удостоверившись, что все детали замка хорошо пригнаны, смазал его маслом и отполировал. Наконец он нагнулся, приблизив ко мне лицо, и я заметила, что его большие голубые глаза внимательно меня изучают.
– Ну что, голубушка, установим его вместе?
– Да, месье, давайте.
Ухватив пухлой ладонью мою руку, а в другой сжимая новый замок, он вывел меня из мастерской в длинный коридор. Мы зашли за угол и остановились у приоткрытой двери без замка. Сквозь зияющее отверстие я смогла увидеть то, что творилось за дверью: большая зала, хорошо освещенная, с огромным расписным потолком и гигантским зеркалом, занимающим одну стену, словно повторяя такое же исполинское окно на другой стене; зала была заполнена изысканно разодетыми дамами и господами, поглощенными беседой друг с другом. Я никогда еще не видела такого блистательного общества: все в зале сияло ослепительным блеском.
– Там королева? – спросила я у слесаря. – Кто из них она?
Я же должна была сделать слепок лица королевы – вдова наказала мне привезти частичку этого блистающего великолепия и поместить ее в унылую грязь бульвара дю Тампль. Мой вопрос заставил слесаря слегка подпрыгнуть, он заглянул в залу, прищурился и покачал головой.
– Нет, королевы тут нет. Только декорации.
Декорации – он имел в виду придворных дам – не обратили на нас никакого внимания. Слесарь разложил платок на полу и опустился на колени. Я встала на колени рядом с ним и принялась доставать из карманов его фартука разные гвозди и железки, а потом держала их наготове, чтобы передать ему, когда они понадобятся. Слесарь аккуратно вставил замок в дверь. Замок встал как влитой и выглядел, о чем я не преминула ему сообщить, очень мило.
– Думаешь? Я его сам сконструировал. Да, мне тоже нравится.
Я услышала за спиной движение, обернулась и увидела нескольких лакеев, а между ними старую даму Мако. Она знаком приказала мне следовать за ней, и по этому жесту я поняла, что она ужасно недовольна. Я распрощалась со слесарем, который все еще стоял, коленопреклоненный, на носовом платке и глядел в замочную скважину.
– Значит, уже уходишь? – произнес он. – Желаю здравствовать!
– Я вернусь, обещаю, – прошептала я.
Глядя на свои бесчисленные отражения во множестве зеркал, я казалась себе такой нелепой и чужеродной, что невольно подумала, как бы не упасть в одно из зеркал и не утонуть в нем. Я медленно приблизилась к мадам Мако, которая вытолкала меня из роскошной залы и повела по коридору. Она уверяла, что от моей наглости буквально лишилась дара речи, но сейчас он к ней вернулся, потому как всю дорогу до покоев мадам Елизаветы она злобно повторяла, что мне следует знать свое место. На мои поиски, по ее словам, отправилось немало лакеев, и им доложили, что низкорослая незнакомка суется подряд во все двери, которая она не вправе открывать.
– Этот дворец построили не для твоих забав, – шипела она, цепко ухватившись костлявой рукой за мою шею. А потом я оказалась в знакомой мне пугающей комнате – хотя комната уже не могла меня испугать, теперь-то, когда я побывала в той великолепной зале с зеркалами, – и там была Елизавета.
– Ку-ку! – произнесла она, хотя и безо всякого энтузиазма. А потом обратилась к старой даме:
– Она моя приближенная, а не ваша, мадам Мако.
– Ее нашли…
– Отпустите ее немедленно! – приказала Елизавета, и в ее голосе лязгнуло железо.
Моя шея оказалась на свободе.
– Может, тебя снова наказать? – задумчиво произнесла Елизавета.
Я вытянула обе руки.
– Отошлите ее прочь, – посоветовала Мако. – Но сначала ей надо всыпать.
– Ты не поедешь домой до тех пор, пока не научишь меня всему!
– Она нарушила правила! – вскричала Мако.
– Я очень хочу… – с приятной моему слуху твердостью сказала Елизавета, – Я очень хочу, чтобы мы опять поиграли в прятки.
– Нам пора повзрослеть, – пробурчала старая дама.
– Но на сей раз я решила, дорогая моя Мако, – продолжала принцесса, – что вам выпадет удовольствие прятаться. А мы сосчитаем до ста.
– Но я никогда не прячусь.
– Уже давным-давно настала ваша очередь. Один… два… три… бегите, Мако, прячьтесь! Вы же знаете правила: бегите со всех ног! А мы пойдем вас искать. Идите и прячьтесь, да так, чтобы вас трудно было найти. Иначе я очень осерчаю.
Мако, вся в сомнениях, вышла из комнаты.
– Садись, – произнесла Елизавета. – Я хочу тебе кое-что сказать.
– Вы очень умно поступили, – улыбнулась я.
– Благодарю. Сама удивилась. Это ты меня вдохновила. Взять и сбежать! Но только никогда больше так не делай, душенька моя, мой двойник!
– Не буду! Обещаю!
И мы, похожие как две капли воды крошки-девушки, сели рядышком на диване, предназначенном для куда более крупных людей, и завели беседу.
Глава тридцать пятая
Несчастные страдальцы мадам Елизаветы, о коих рассказано ею самой
– Я расскажу тебе о моих людях, – начала Елизавета. – О людях, которых я собираю и размещаю здесь. – Она держала в руках красивый том в кожаном переплете.
Это ее брат, король, надоумил принцессу собирать людей в книге. Он вечно все записывает, сообщила Елизавета, он очень любит составлять всякие списки. Версальский «Альманах» он знал чуть ли не наизусть. Он записал, сколько ступенек на лестнице, ведущей в апартаменты королевы, и сколько окон во всем дворце, и сколько раз их дед посылал за ним (не так уж много, вспомнила она). Он знал точное количество секунд, часов, дней и лет, прожитых их братом, герцогом Бургундским, прежде чем того поразил туберкулез костей, и точное количество лет, дней, часов и минут, протекших с момента его рождения и до смерти их матушки. Король, казалось, считал все и вся и все записывал. У него скопилось множество томов разных списков.
– Я решила, что мне стоит делать так же, – доверительно призналась она мне. – И я начала составлять список людей. Помимо дворца есть много домов, жутких, отвратительных мест, где я тоже встречаюсь с людьми. Как же они меня печалят… И я записываю свои посещения, я даю им немного денег и говорю им, что я, Елизавета Французская, буду за них молиться. Вот что это за записи, понимаешь? Почитай.
И она передала мне длинный список людей с указанием их недугов и невзгод. Барс, Рено: сломанная нога. Грюлье, Мадлен: боли в животе. Жибье, Агнес: головные боли. Билинже, Жан: мизинец, нос у дочери. Эндерлен, Одиль: почки. Роже, Ролан: мать кричит не переставая. Пинсон, Роз: обесцвеченная кожа на спине. Парлан, Альфонс: голод. Мулен, Доминик: снова беременна. Левек, Пьер: умер сын. Сальвия, Югетта: шпоры на ногах, зубная боль, слепота. Венсан, Франсуа и Оливия: не могут зачать ребенка. Кютар, Аделина: угри.
– Я за всех них молюсь, – сообщила она.
И тут у меня возникла идея.
– Можно поступить еще лучше.
– Посоветуй, мой двойник, предложи!
– Вы могли бы вылепить их болезни.
– Вылепить?
– Ну да! Представьте себе: самые печальные людские болезни, запечатленные в воске.
– Миниатюрные изваяния? В воске? – Она немного поерзала на стуле, точно вообразила, как держит в руке чей-то недуг. – О, мы можем потом отнести их в церковь! Боже мой! Мы же можем! Мы могли бы сделать из них вотивные дары, ведь так? Они же будут очень жизнеподобные? Тогда Господь наверняка прислушается. И увидит, как много добра мы делаем. О, двойник мой, хотя у тебя довольно грустное лицо, ты, несомненно, очень умна. Да! О да!
Не зная, что сказать, я потянулась с намерением взять ее за руку.
– Нет! Назад! Не приближайся. Но какая чудесная идея!
В тот день мы так и не пошли искать мадам Мако. Спустя несколько часов ее обнаружила стоящей за гобеленом одна из фрейлин королевы. Когда та объяснила, что прячется от юной Елизаветы, фрейлина спросила, почему – уж не боится ли она принцессы? Рассказ быстро облетел весь дворец, став всеобщим достоянием, так что, когда старая дама появлялась на людях, на нее глядели с печальными улыбками. Ее авторитет растаял, и она постепенно начала спасаться от всех, обернувшись покровом воображаемых хворей.
На следующее утро, еще до рассвета, меня разбудил громоподобный стук в дверцы моего буфета. Во тьме я оделась, и меня препроводили в комнату, где раньше по стенам были развешаны рисунки мадам Елизаветы – теперь они все исчезли. На середину комнаты был выставлен стол, заваленный инструментами и кусками воска и глины. Я пробежалась пальцами по инструментам, потрогала глину. А напоследок поднесла к носу восковой слиток.
– Я буду звать тебя, – проговорила Елизавета, разминая мягкую глину, – я буду звать тебя «сердце мое»! – И через неделю преподнесла мне сей предмет, вылепленный из воска – грубовато, но все же узнаваемо. Я попросила разрешения дотронуться до ее тела, что она запретила: мол, мне об этом даже помыслить нельзя! Но меня переполняла радость, я не удержалась и снова попросила дозволения. И она снова ответила «нет», но как-то тихо и не вполне уверенно. И я поняла, что надо будет попробовать как-нибудь еще. В другой раз я даже просить не стала, а просто обвила руки вокруг ее талии и почувствовала, как ее голова прижалась к моему плечу. И еще я ощутила ее аромат – глубокий, теплый, чуть напоминающий запах спелой капусты. И только когда откуда-то снаружи раздался голос мадам Мако, Елизавета поспешно отпрянула и вернулась к работе. А я опустила восковое сердце в карман передника и с тех пор всегда хранила его среди своих вещей.
По моему предложению, нам с кухни принесли требуху разных животных, чтобы мы могли их изучать, разрезать и зарисовывать, – так моя ученица могла лучше понимать их местоположение и назначение. Коровье сердце, овечьи легкие, мочевой пузырь свиньи. Поначалу не испытывая никакого энтузиазма, Елизавета в конце концов принялась охотно погружать пальцы в их нутро. Из библиотеки доставили тяжеленные фолианты, изумительные тома с вклеенными иллюстрациями, которые раскладывались гармошкой и изображали строение человеческого тела. Это было отличное учебное пособие: сначала мы тщательно все изучали, а затем приступали к работе. По мере изготовления восковых муляжей мы все с большей охотой откровенничали друг с другом. Я показала ей Марту, а она поведала мне свои секреты. Более всего Елизавета мечтала выйти замуж. А самым большим ее страхом было остаться старой девой, как ее тетушки. Она рассказала, что однажды ее руку обещали португальскому инфанту, но по какой-то причине их союз распался, не свершившись. Инфант португальский был объявлен «неподходящим». Король при этом заявил, что кого-нибудь подходящего обязательно найдут, что Елизавете следует набраться терпения, и она набралась терпения, и хотя она довольно часто виделась со старшим братом, более ее брак не обсуждался.
– Не хочу повторить судьбу тетушек Аделаиды и Виктуары, – призналась Елизавета. – Они только и знают, что жалуются весь день, едят, пьют и говорят о бесполезных вещах. Они просто проживают свои дни, один за другим, и все в их жизни одно и то же, все повторяется снова и снова, и так будет до того дня, когда они просто лягут и умрут. Больше надеяться им не на что. Ох, сердце мое, я чувствую себя куда увереннее с тех пор, как ты здесь. Я не хочу себе такого будущего, как у тетушек. Господи всемогущий, сделай милость, спаси меня от такой судьбы!
Мадам Елизавета сама составляла график своих визитов вне дворца, в поисках своих нуждающихся, и всякий раз, когда она возвращалась, мы вылепляли новые анатомические дары. Как-то я попросила ее взять меня с собой. Она на мгновение нахмурилась, но затем с радостью согласилась. Хотя ее бедняки и страдальцы жили не слишком далеко от дворца, сказала она, их жилища никто не замечал. Страдальцы скрывались за деревянными стенами жалких лачуг, пребывавших в состоянии полного обветшания. Мы отправились туда в карете, в сопровождении двух стражников. Я спросила, зачем они нам.
– Для защиты, – ответила Елизавета. – Иногда простолюдины слишком несчастны и не всегда скрывают свои чувства.
Заслышав стук колес нашей кареты, люди выходили из лачуг. Первое, о чем я подумала при виде их, что их лица и туловища кажутся частью унылой архитектуры. Они с любопытством подходили к карете. Елизавета попросила меня опустить стекло.
– Здравствуйте, доброго вам утра, – поприветствовала она народ.
Ей кланялись, срывали шляпы с голов.
– Как поживаете? Как ваши дела?
И потом один за другим они стали подходить к принцессе и делиться с ней своими невзгодами, а иногда и демонстрируя свои заболевания. Только поговорив с ними и узнав про их горести, Елизавета давала им монетку.
– Ну не поразительны ли они, сердце мое? – обратилась ко мне принцесса.
– Они голодают?
– Не уверена. А ты что думаешь?
– Как они дошли до жизни такой, проживая вблизи от дворца?
– Им привозят еды.
– Но явно недостаточно.
– И я их навещаю.
– Мне вот интересно, как там у них внутри, в домах?
Тут она явно пришла в замешательство.
– Внутри? Я даже не думала об этом.
– А вам не любопытно?
– Пожалуй, да, любопытно.
– Тогда давайте заглянем.
И я распахнула дверцу кареты. Люди бросились врассыпную, давая мне пройти. Елизавета устремилась следом. Мы подошли к покосившемуся домишке, и я спросила дряхлую старуху на его пороге, можем ли мы войти. Она что-то прошамкала, я не вполне разобрала, что, но потом она пожала плечами, и я толкнула дверь. Внутри было темно, так что нашим глазам потребовалось некоторое время, чтобы рассмотреть сумрачное жилище, хотя оно было совсем крошечное. Земляной пол. Лежанка на кирпичах. Замызганное одеяло, колом вздыбившееся на кровати. Стены, почерневшие от плесени. Пара щербатых горшков. Табурет, не раз чинившийся. В доме воняло требухой полусгнившего животного, в воздухе витал дух отчаяния и безысходности. Больше в доме не было ничего, за исключением привязанного к табурету худющего пса, единственного утешения в жизни одинокой старухи. Оба обитателя этой лачуги, видно, питались из одной миски. При взгляде на пса можно было отчетливо увидеть все особенности его скелета. При виде непрошеных гостей пес ощетинился и, глядя на нас с нескрываемой злобой, обнажил гнилые зубы, а потом зашелся лаем, и теперь его уже было не угомонить. Елизавета в страхе прижалась ко мне. Если псу удастся сорваться с привязи, не сомневалась я, мы тотчас станем его первой мясной добычей за всю его жалкую собачью жизнь.
– Ужас! – выдохнула Елизавета.
Тут с нами заговорила старуха, но на чудном языке, которого я в жизни не слыхала. Невразумительные горловые звуки, вперемежку с ворчанием и мычанием, и на протяжении всего ее монолога – это меня поразило более всего – ее рот, смахивающий на рваную рану, оставался неподвижным. Она произносила невнятные слова, всхлипывая и сглатывая, и не ртом, а вроде как всем своим телом. Ее исхудалое тулово испускало возгласы, словно невольно нас браня. Казалось, к нам обращен приглушенный голос беспомощного духа, прозябающего в опустошенных недрах несчастной страдалицы. А потом она вся пришла в движение, внезапно подавшись вперед и согнувшись пополам, и мы торопливо бросились вон.
Пробыв в той лачуге, наверное, с полминуты, мы выбежали наружу, жадно вдыхая свежий воздух. Я потом не могла забыть жалкую лачугу, и тощего пса, и его престарелую хозяйку.
Не в силах видеть эту хибару, я отвела от нее взгляд. За деревенскими домишками стояла небольшая часовня и располагалось обширное кладбище с несколькими свежевырытыми могилами.
Мы вернулись в карету.
– Как могла эта женщина так опуститься? – запальчиво воскликнула Елизавета.
– Ясное дело, не в одночасье.
– Ей можно чем-то помочь, как думаешь?
– Не знаю. В иных случаях смерть – единственная помощь.
– Я должна ей помочь. Боже, сердце мое, ну что она за человек?
– Просто женщина.
– О! Это ужасно! Что я могу сделать? Что я могу сделать для нее? Вотивные дары! Больше даров! Мари, ты должна мне с этим помочь.
Когда мы вернулись во дворец, мир, похоже, вновь обрел живые краски. Я и не думала, что все вокруг может так быстро меняться.
После каждой подобной экскурсии стены часовни церкви Сен-Кир неподалеку от дворца постепенно заполнялись восковыми человеческими органами. Поначалу мало кого волновали эти прибавления, никто не думал, как быстро возрастет их число. Мы приносили почки и мочевые пузыри, легкие и руки, глаза и сердца, печень и желудки. Передавая друг другу восковые и глиняные муляжи, мы пару раз соприкасались руками и, думаю, чувствовали свою дружескую связь, великую свою близость – среди нагромождения частей человеческого тела.
Так прошло три месяца. Мне предстояло возвращаться в Обезьянник. Но уезжать мне совсем не хотелось. Я бы с радостью осталась с Елизаветой. Когда я ей в этом призналась, она ответила, что нет ничего проще: кто-нибудь напишет им в Париж, что я нужна во дворце. От моего хозяина последовал ответ – или, возможно, его написала вдова, – что в таком случае им должны выплатить компенсацию за мое отсутствие. Это было в ее духе. Я никогда этого письма не видела. Но была очень рада, что мне не нужно никуда ехать. Я не хотела туда возвращаться – в тот момент, во всяком случае. Это было бы невыносимо. Чем дольше я жила в версальском буфете, тем легче я могла забыть о своей жизни в других местах.
Глава тридцать шестая
На крыше
Мы с Елизаветой проводили все больше времени вместе, вылепливая муляжи человеческих органов. Я входила к ней в опочивальню, как только она пробуждалась. Она посвящала меня в свои дела на грядущий день и постоянно интересовалась, довольна ли я. Очень довольна, говорила я, очень. И это было правдой. Вскоре мое присутствие сочли обладающим благотворным влиянием на королевского отпрыска, и днем за мной посылали в разное время. А потом мне настрого вменили ни под каким видом не удаляться от моего буфета. Ибо я в любой момент могла понадобиться принцессе. Если же я в чем-либо нуждалась, мне следовало вызвать лакея, который тотчас же появлялся у моего обиталища. Порой я просто сидела в углу комнаты с враждебной ко мне обстановкой, покуда принцесса со своими фрейлинами были заняты вечерней трапезой. Бомбу, как я выяснила, на самом деле звали маркиза де Бомбель, Ярость – маркиза де Режкур, а Фурию – маркиза де Монсье-Меринвиль. Это были три милые девушки, соученицы принцессы; они приветливо улыбались мне, угощали шоколадом, или пирожным, или кусочком сахара, и гладили по голове. Если Елизавете нужно было провести какую-то официальную аудиенцию, меня размещали поблизости, я стояла с прямой спиной, не шелохнувшись, и знание, что я нахожусь рядом и готова перехватить ее взгляд, производило на принцессу особенный эффект: она избавлялась от обуревавшего ее ужаса. Иногда лакей оставлял меня в самых странных местах, например, за экранами каминов в больших залах, чтобы Елизавета за вечер могла бы разок-другой мельком взглянуть на меня, ущипнуть за нос или ухватить за подбородок и таким образом снять душевное напряжение.
Как-то ранним вечером один из лакеев Елизаветы, облаченный в голубую ливрею, отвел меня на крышу дворца и приказал ждать там в определенном месте, пока меня не позовут. И я стояла, прильнув к балюстраде, между двух каменных вазонов, прямо над покоями мадам Елизаветы, – и оттуда открывался вид на дорогу к церкви Сен-Кир, не говоря уж о большом канале дворцового парка, простиравшегося до горизонта, точно он служил наглядным пособием для изучения законов перспективы. Хотя я и обитала в тесном шкафу, подобные просторы меня уже не изумляли. Мне было наказано занимать позицию на крыше, чтобы Елизавета, отправляясь в экипаже на очередную аудиенцию, могла бы опустить окно и увидеть меня наверху, что бы ее, несомненно, обрадовало. И я стояла там неотлучно, как мне и приказали, и наблюдала, как волны людей перекатывались по бескрайнему парку. Начал накрапывать дождь, но я все стояла, согласно данным мне указаниям. Вскоре сгустились сумерки, и я уже не различала в полумраке ни канала, ни парка, а вскоре уже ничего не слышала, кроме разве что взрывов хохота, веселых вскриков откуда-то из дворца да кошачьего мяуканья внизу. Я уже почти не сомневалась, что обо мне попросту забыли, как вдруг услыхала чьи-то шаги на крыше – они приближались.
Кто бы это ни был, он остановился невдалеке и облокотился о балюстраду, держась за один из каменных вазонов и глядя вниз. Человек стал возиться с чем-то вроде длинного прута. А последовавший затем грохот едва не заставил меня спрыгнуть с балюстрады и дать деру по брусчатке: мой сосед по крыше поднял ружье и выстрелил прямо по кошкам внизу. Я услыхала громкий взрыв, увидела язык пламени, и затем раздался дикий визг, который я приняла за кошачий. Потом, очень быстро, грохнул еще один выстрел, но за ним не последовало никакого визга. Боясь быть подстреленной, если бы он по ошибке принял меня за кошку, я крикнула:
– Прошу вас, сударь, прошу вас, здесь я. Не стреляйте в меня! Не стреляйте!
– Кто вы? Кто здесь?
Стрелок бросился ко мне, и я по мере его приближения различила во мраке большое белое лицо. Это был мой старый знакомец – слесарных дел мастер, одетый в просторную куртку.
– О, это вы! – с облегчением проговорила я. – Очень рада! Мне жаль, что я не захватила для вас пирога, я весьма занята.
– А, – произнес он, оказавшись от меня достаточно близко, чтобы хорошенько рассмотреть. – А, все в порядке.
– Что вы делаете?
– Не надо их жалеть. Их тут полным-полно, – объяснил он. – Кошки повсюду, куда ни глянь. Шерсть, вонь – по всем углам дворца. И у меня время от времени возникает желание справиться с этой напастью. Иди сюда, садись, – слесарь похлопал по скату крыши.
– Начинается дождь, – заметила я. – Может быть, мне лучше спуститься вниз?
– Перестань, только чуть-чуть покапало. Я все оботру. Вот. Давай, садись, садись. Я настаиваю!
Я присела рядом с ним, и меня обдало волной тепла от его крупного тела. Он накинул на меня полу своей объемистой куртки, и так мы сидели рядышком в кромешной тьме.
– Тебе тут нравится? – спросил он и продолжал: – А я вот что скажу. Мне здесь нравится! Я частенько сюда прихожу. Эта крыша, так мне иногда кажется, единственное спокойное место во всем дворце, ну разве что когда я не стою возле своего горна. Как же я люблю такие моменты покоя! Ах!
– Ах! – повторила я, подражая его вздоху.
– Хорошо тут. На крыше.
– На крыше, – повторила я. – И вокруг никого! Можно притвориться, что, кроме нас, вообще никого нет. И во дворце внизу ни души. Только мы и ночь!
– Чудесная идея! Думаю, мне было бы проще, если бы меня не окружали люди. Я человек практический. С умелыми руками. Полагаю, если бы я очутился на необитаемом острове, я бы прекрасно справился с тяготами жизни. Я бы точно знал, чем заняться. А тут вечно люди. И конца им нет. Есть одна замечательная книга о жизни на необитаемом острове. Я много раз ее перечитывал. Ты ее знаешь?
– Не думаю.
– Она называется «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего двадцать восемь лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля кроме него погиб; с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написанные им самим»
– Очень длинное название.
– Но книга изумительная.
– Давайте вообразим, что, кроме нас, тут, на крыше, больше никого нет, – пустилась я фантазировать, – а мир погиб при потопе.
– Прелестно!
– Правда?
– Правда.
– Ни законов, ни войн, ни аудиенций, ни этикета.
– О таком и Ной не мог бы мечтать!
– Но остались бы только пироги, да?
Так мы сидели вдвоем на крыше, в полном одиночестве, и беседовали о необитаемых островах, о муке, масле и яйцах, из которых готовится тесто, а еще о замках и пружинах, пока лакей в голубой ливрее на нарушил наш безмятежный покой, принеся нам зонтик. Сначала я решила, что он пришел за мной, чтобы увести внутрь, но это был другой лакей, и он не вступил с нами в беседу и даже старался отводить взгляд, а просто раскрыл над нами зонтик. Мне сие показалось странным, но вскоре я и думать про него забыла, покуда мы со слесарем продолжали нашу беседу. Мы просидели на крыше уже часа два, когда появился лакей Елизаветы. Поглощенная беседой, я и не заметила возвращения ее кареты. Я распрощалась со слесарем и оставила его сидеть на крыше, в компании лакея в ливрее и зонтика. Напоследок я подумала, какой это был в общем приятный вечер, если не считать пропущенного мной приезда кареты принцессы.
Глава тридцать седьмая
О женщинах, горизонтальных и перпендикулярных
Все больше людей во дворце замечали благодетельное влияние Елизаветы на простой народ. В то же время старая мадам Мако все чаще оставалась в постели, ссылаясь на многочисленные болезни, не мешавшие ей, впрочем, поглощать столь ею любимые миндальные пирожные. Однажды мы с Елизаветой навестили старую даму в ее затхлых покоях в третьем этаже. Она поприветствовала принцессу, назвав ее «мое чудесное преданное дитя», и поблагодарила за то, что та не забывает «старого друга», но мне не сказала ни слова. Когда же Елизавета поинтересовалась, где у нее болит, та сконфузилась и толком не смогла объяснить.
– Везде болит! – только и ответила она, причем весьма запальчиво. Елизавета записала ее слова в реестр, а потом мы вылепили из воска миниатюрную мадам Мако и оставили ее в часовне рядом с прочими дарами. После чего вернулись к Мако, так как Елизавета пожелала сообщить ей об этом благодеянии, но старая дама лишь стонала в постели, повернувшись к нам спиной.
– Болезнь, – заявила она, – не знает правил приличия.
В то лето Елизавета обрела почти полную свободу. Тирания Мако подходила к концу. Все последние недели она шмыгала носом и потела, неизменно обещая вернуться на службу, но постель обладала для нее слишком притягательной силой. Тяжелый матрас взял тело старой дамы в гостеприимные объятья, служа надежной опорой ее дряхлым костям, и она уже не мыслила себе жизни без него. Матрас вбирал, впитывал ее в себя – точно так же, уверена, он поглощал жир из ее дряхлого тела, так что когда старая дама совсем разболелась, матрас заметно поздоровел, раздавшись вширь и став пухлее. Этот хищный матрас, точно гигантская пиявка, высасывал из старой дамы жизнь. В отсутствие Мако, покуда та постепенно сдавалась на милость матрасу, мы продолжали выезжать с визитами за пределы дворца, после чего изготавливали все больше и больше даров для местной церкви. Как-то испросив дозволения войти в бедняцкую хижину, мы получили отказ у жившего там противного юноши.
– Верно, ему стыдно, – предположила Елизавета. – Вот в чем причина.
– А может быть, – предположила я, – ему просто не хочется видеть нас у себя.
– Не хочется? Отчего же? Чем мы ему не угодили?
– Это его дом. Он там хозяин.
– Дом принадлежит моему брату.
– Неужели?
– Несомненно.
– Тогда твоему брату следует его отремонтировать.
– Моему брату надо заботиться о всей стране. Я езжу в деревню. Ты ничего в этом не смыслишь. Это не твое дело.
Она была весьма раздражена. Ей всегда с трудом удавалось найти наилучший способ отреагировать на увиденное. Обнаруживалось так много противоречий между тем, что она слышала от других, и тем, что видела собственными глазами, что ей приходилось двигаться по жизни ощупью, не полагаясь на свое положение или знание. Она была девушкой, стремящейся найти место в жизни на свой страх и риск. Да мы обе были такими.
В наших отважных поисках недужных и увечных мы нашли во дворце, помимо мадам Мако, еще одного пациента. Однажды днем Елизавета сама открыла дверцы моего буфета:
– Де Ламбаль! Идем быстрее, сердце мое! Де Ламбаль снова упала в обморок!
– Иду! А кто такая де Ламбаль?
– О, да ты никого не знаешь, что ли! Это милая дама, но очень хрупкая. Ее муж умер молодым, и она с тех пор постоянно падает в обморок. Однажды она лишилась чувств, унюхав запах фиалок. А в другой раз, можешь себе представить, увидев омара на картине! А когда Антуанетта пожаловалась на головную боль, она тут же лишилась чувств, наверное, из сострадания к Антуанетте. То есть она падает в обморок по любому поводу. Разве это не ужасно?
– А королева будет с ней, как думаете?
– Конечно, будет. Ламбаль ее фаворитка. Бедняжка…
Лишившуюся чувств даму мы нашли в одном из дворцовых салонов – все еще в глубоком забытьи. Придворные дамы окружили ее, бледную, лежащую в нелепой позе, о чем-то перешептываясь. Я огляделась.
– А где королева, мадам Елизавета? Какая из них королева?
– Королева, сердце мое? О, я нигде не вижу королеву.
Стая врачей хлопотала вокруг обмякшего тела: бедняжке уже пустили кровь. Мы с Елизаветой медленно протискивались вперед, а когда один из врачей отошел в сторону, быстро заняли его место. Дама была, безусловно, жива, ее плоская грудь вздымалась и опускалась. Я нагнулась, чтобы получше ее рассмотреть. Это была приближенная королевы. Я увидела кровь Марии-Терезы де Ламбаль в небольшом фарфоровом сосуде, в который заглядывал врач.
– Где таится ее недуг? – спросила у него Елизавета.
– В нервах, мадам. Ее нервы очень легко возбудимы.
– Благодарю вас, – ответила Елизавета и поспешила прочь. – Теперь мы все знаем.
– Прошу прощения, – прошептала я, обратившись к врачу, – а королева скоро появится?
– Королева? Что вам за дело?
– Я с мадам Елизаветой, и ее юное высочество просило узнать, – соврала я.
– Королева желала остаться, – ответил врач, – но я не мог ей этого позволить. У несчастной дамы случились судороги, а судороги, как известно, провоцируют выкидыши, поэтому королева, будучи в известном положении, немедленно была уведена.
– Давно?
– Минут пять назад.
– Всего пять минут!
– Пойдем, сердце мое! – позвала меня Елизавета.
Мы вылепили восковой мозг для мадам де Ламбаль, которая после этого довольно быстро пришла в себя. Когда мы оставались наедине, Елизавета спрашивала меня про мужчин и их тела. Я рассказывала ей все, что знала, и делала для нее муляжи, чтобы она лучше понимала предмет, кроме того, из библиотеки были принесены анатомические атласы для наглядности. Я снова вспомнила Эдмона, хотя его тело представлялось мне слишком далеким и безжизненным, как кусок холста. Наверное, я очень чувствительная, говорила я себе; так уж я была воспитана, мне нужно попытаться пережить боль. Как-то мы отправились посмотреть на кобеля и суку, помещенных вместе в один загон, но увиденное зрелище совсем не понравилось Елизавете, да и у меня это вызвало неприятие и раздражение. Тем не менее, по словам принцессы, ей надо было готовиться к бракосочетанию, которое, как она всегда уверяла меня, состоится очень скоро.
– А ты выйдешь замуж, сердце мое? – спросила она.
– Нет, мадам, я очень в этом сомневаюсь.
– Да я и не думала. Я просто так спросила, из вежливости. Когда я выйду замуж, я за тобой пошлю. Ты ведь всегда будешь при мне.
Она попросила меня нарисовать для нее пару мужских губ, чтобы она могла практиковаться их целовать.
– Нет, – сказала я, – не так. Вы все делаете неправильно. Вы клюете, мадам. Вы разве раньше не целовали никого?
– Ну, конечно, а как же! Ну, нет… не так. А ты?
– Я, можно сказать, да, целовала.
– О, сердце мое! Это правда? Кого-то вроде тебя?
– Да. Я вас научу.
Губы для практических занятий
Я поцеловала ее.
– Ты меня поцеловала!
– В учебных целях!
– Очень хорошо!
Я поцеловала ее еще раз, крепче.
Губы мадам Елизаветы
– Вот как это делается!
– Ты уверена?
– Более чем уверена.
– Это ужасно!
– Нет-нет, ничего подобного.
– Тогда давай попробуем еще раз.
И мы попробовали. И потом, как только подворачивался удобный случай, мы практиковались снова и снова – за плотно закрытыми дверями. А иногда, кроме того, мы нежно указывали и поглаживали то или иное место на наших телах, где располагались наши органы.
– Покажите мне, мадам, где у меня сердце. Дотроньтесь!
– Покажи мне, сердце мое, где у меня легкие, а где чрево.
Это было королевское тело, и я, практически ее близнец, находила радость в том, что могла до него дотрагиваться. И наши сердца, сердца двух маленьких женщин, когда мы оставались наедине, наигрывали друг другу одну и ту же мелодию.
Настал день, когда мадам Мако наконец нашли бездыханной на ее вспучившемся матрасе. И уже после того, как покойницу унесли, матрас, казалось, продолжал какое-то время пульсировать в такт ее сердцебиению, пока в конце концов не ужался и не обмяк, лишившись одутловатости и вновь обретя нормальный вид, после чего его сожгли на заднем дворе.
И из лета, прошедшего под знаком неизлечимой болезни мадам Мако, мы вступили в ужасающую осень мадам Гемене. Гемене-розга, Гемене-зануда, Гемене – вестница несчастий, почти лишенная подбородка – и отсутствие подбородка, вероятно, объясняло ее свирепый нрав, отчего злобная гримаса никогда не слезала с ее лица, придирки никогда не истощались, а взгляд всегда оставался осуждающим. Тут уж нам было не до приятных забав. Елизавете пришла пора стать женщиной, и этот процесс, как сразу выяснилось, обещал быть болезненным. Игрушки – на выброс! Скакалки, мячики, левретки и карликовые лошадки – отныне все оказалось под запретом.
– Держи спину прямо! Сиди прямо! – таков был девиз тех осенних дней. Глупышке-Бомбе запретили появляться в апартаментах принцессы. Елизавета, застигнутая за перешептыванием с ней за дверью, выслушала целую лекцию о недопустимости подобного поведения. С вечно ухмыляющейся Яростью отныне дозволялось видеться лишь раз в неделю. Флегматичная Фурия могла оставаться при условии, что хранила молчание, да так оно и было: ведь именно в этом заключалась ее роль – всегда молчать. Мой конкурент, гипсовый Иисус Христос, вынимался из коробки и почти все время оставался на виду. Когда же Елизавета выходила из себя, а поначалу это происходило довольно часто, Гемене дозволяла ей стучать ногой по полу и пинать предметы мебели, но саму даму без подбородка бить запрещалось. Эта розга в женском обличье распахивала окна пошире и предлагала принцессе высунуться наружу и звать на помощь, но никто никогда не приходил ей на выручку. Елизавета, с распухшим от гнева лицом и несчастным выражением глаз, не имела иного выбора кроме как притихнуть. Однажды, когда она куснула Гемене, та отвесила ей шлепок.
– Я же принцесса! – вскричала Елизавета.
– Ну так и ведите себя соответственно!
Гемене вытряхнула из Елизаветы всю ее жизнерадостность и заменила привычкой сидеть с прямой спиной и держать язык за зубами. И очень скоро Елизавета уже с трудом могла поддерживать беседу, боясь получить очередное замечание. Запертая в буфете и все реже вызываемая оттуда, я как-то приноровилась к новым строгостям той осени, всегда одетая в чистое платье и всегда отвешивая низкий реверанс при виде Гемене, и мне позволили остаться при Елизавете, хотя мы с принцессой долго опасались, как бы меня не отослали домой. В те осенние дни ее последних протестов и в течение зимы ее смирения Елизавета ни на минуту не оставалась одна. Около нее всегда кто-то сидел, делая замечания по поводу манеры держать чашку, привычки много есть и осанки. Но временами, если я соблюдала осторожность, мне удавалось подержать ее за руку или торопливо запечатлеть на ее щеке мимолетный поцелуй, пока мы были в скульптурной мастерской. Я все повторяла, что никуда от нее не уеду, ведь я ее приближенная, ее второе тело. И в доказательство этого я обнаружила свое имя напечатанным в новом издании «Альманаха», в самом низу списка ее учителей и наставников:
М-м ле Ру, библиотекарь мадам Елизаветы
М-ль Пайан, чтица
М-м Симон, мастерица игры на клавесине
М-м Бойи, мастерица игры на арфе
М-ль Гросхольц, мастерица по воску
Эту страницу я изучила особенно тщательно. В минуты одиночества я читала ее себе вслух. А вскоре после того, как появилась эта книга, мне наконец выпала возможность оказаться рядом с королевой.
Глава тридцать восьмая
Незначительные происшествия, связанные с событием национального значения
Событию предшествовал утренний перезвон колоколов Королевской часовни, церкви Сен-Кир и всех прочих церквей Версаля, за которым последовало появление принцессы де Ламбаль в нашем коридоре. Я приоткрыла дверцы буфета и выглянула из-под горы одеял. Стоял декабрь, мы пребывали во власти студеной непогоды Гемене, и мне было довольно зябко. Завернувшись в одеяла, я наблюдала, как прибыла де Ламбаль, несколько изумленная и суетливая, в окружении лакеев и придворных дам с тревожными лицами.
– Мадам Елизавета! – вскрикнула она, стучась в дверь опочивальни принцессы. – Королева! Королева разрешается от бремени!
Мы с Елизаветой, как могли, загодя начали готовиться к пополнению в королевской семье. Мы изготовили двенадцать крошечных восковых младенцев, отнесли в церковь Сен-Кир и выложили в безупречно ровную линию, словно в колыбельках. Все прочие просьбы мы временно отложили в сторону, ибо ни о чем другом не могли думать, кроме как о рождении королевского отпрыска.
– Все во дворце, – сообщила мне Елизавета, – пребывают в нетерпеливом ожидании.
И вот наконец тот момент, которого все так ждали, настал, зазвонили колокола, и заголосила принцесса де Ламбаль. Когда же она в состоянии ажитации умчалась (в этот момент она походила на худосочную курочку, с кудахтаньем бегущую через двор), наш коридор наполнился гомоном голосов и топотом ног. Сидя на нижней полке в буфете, все еще в ночной сорочке и ночном чепце и свесив ноги вниз, я завернулась в одеяло и глядела по сторонам: то налево, то направо. Треснувшие окна вдоль стены были залеплены бумажными полосками, спасавшими от зимней стужи, но не вполне: когда я дышала, белый пар изо рта доказывал это весьма красноречиво.
Наконец появилась Елизавета, полностью одетая, в сопровождении своих трех фрейлин. Когда она шла к покоям королевы-роженицы, лакеи, выстроившиеся двумя шеренгами вдоль коридора, учтиво ей кланялись. Я тоже поклонилась, и Елизавета остановилась.
– О, мой двойник, сердце мое, что ты тут рассиживаешь? Ты сегодня будешь нужна мне более, чем кто-либо. Одевайся, да поживее. Ежели у королевы возникнет нужда в наших молитвах, ты должна будешь сбегать в нашу мастерскую, быстро вылепить из воска младенца и отнести его в Сен-Кир. Поторопись, сердце мое, душенька моя!
Итак, в день появления на свет первенца Марии-Антуанетты Австрийской и короля Франции Людовика XVI я облачилась в платье прямо на людях, в зябком коридоре, и многие при этом глядели на меня и поторапливали. Когда я была готова – но ни мгновением раньше, как мне четко дали понять, – маленькая Елизавета решительно двинулась к месту события с намерением стать теткой. Я замыкала ее свиту, шагая чуть позади маркизы де Монсье-Меринвиль. Но чем дальше мы продвигались по коридору, тем больше усилий от нас требовалось, ибо весь дворец был охвачен желанием засвидетельствовать рождение нового Бурбона. Елизавета, как сестра короля, заставила море людей расступаться перед ней, и так мы, подобно Моисею, шли вперед, слыша, как за нашими спинами людские волны вновь смыкались. Я буквально кожей ощущала, вначале не без удовольствия, как в коридорах дворца становится все теплее по мере того, как мы приближались к его центральным покоям. С тех пор как зазвонили церковные колокола, вельможи все плотнее толпились во дворце, оглашая его громким гулом голосов и обогревая теплом своих тел – тем больше, чем ближе они находились от родильной комнаты. Теплее всего в Версале тем утром было в опочивальне королевы: жарко, как в печи у булочника, – а самым горячим местом в этой печи – просто раскаленным докрасна угольком в ней, – был вздутый живот королевы Марии-Антуанетты. По французским законам, в момент разрешения от бремени у королевского ложа должны были находиться избранные придворные, дабы удостоверить, что произведенное на свет дитя действительно вышло из чрева королевы.
Мы успели вовремя. Ребенок еще не появился. Елизавета села на стул впереди, рядом с креслами других важных свидетелей, для менее важных расставили простые скамьи. Я же была предоставлена самой себе. Я еще не видела старшего брата Елизаветы, самого короля, но будущий отец должен был также находиться где-то тут. Я потолкалась в толпе, слегка отодвигая каких-то знатных очевидцев важнейшего события, пока не заняла удобное место, откуда мне все хорошо было видно. Оттуда я – наконец! – увидала Марию-Антонию-Жозефу-Жанну, или попросту Марию-Антуанетту, королеву Франции.
Лоб королевы был покрыт испариной от натуги. У нее оказалась удлиненная голова, светло-голубые глаза, довольно широко поставленные. Тут я вдруг потеряла ее лицо из виду, а потом, совершив небольшой маневр в толпе, вновь увидела. Крупный орлиный нос, нижняя губа выдавалась вперед чуть больше, чем верхняя, милый округлый подбородок. Меня вновь оттеснили, но я снова заняла наблюдательный пункт. Над ее лицом возвышался купол лба, покрытый бисеринками пота. Ощущая волны жара, исходящие от ложа роженицы, я позабыла, как мне было холодно в тот день поутру или что за окном декабрь. Королева села в кровати, заставив присутствующих ахнуть и зашуршать платьями: все старались получше разглядеть роженицу. Какая красавица! Какая лебяжья шея! Какие покатые плечи! Но потом она глубоко вздохнула и вновь упала на подушки, вызвав новый всплеск движения в толпе – и тут я окончательно потеряла ее из поля зрения. Я огляделась в поисках места, где мне было бы лучше видно. В королевской опочивальне окна были без подоконников, а немногие скамьи перед окнами уже все были заняты. В этой тесной душной комнате среди множества предметов – и людских тел – лишь одно место показалось мне подходящим, откуда уж точно ничто бы не застило мне обзор. В углу стоял комод из палисандрового дерева пяти футов высотой, с накладкой сверху, или, скорее, крышей, и я решила, что смогу там преспокойно сидеть, и никто мне не будет загораживать вид. Я попыталась вскарабкаться наверх по его инкрустированной стенке, но она была покрыта толстым слоем лака, и я безнадежно скользила по полированной поверхности. Тогда я попыталась выдвинуть ящики, надеясь, что по ним смогу взойти, как по ступеням, но все пять ящиков оказались заперты, точно сомкнутые звериные челюсти. Но это меня не обескуражило. Я в нетерпении ждала подходящего момента. В комнату входили все новые и новые люди, и из-за их спин я вообще перестала видеть королеву, но полагала, что не пропустила пока ничего важного. Королева произнесла несколько приглушенных слов, и окружившие ее члены королевской семьи отвечали отрывистыми тихими фразами, но ни криков, ни плача новорожденного слышно не было, из чего я заключила, что у меня еще есть время. Наконец удобный момент настал. Внезапно все пришло в движение – не по причине явления младенца на свет, но из-за того, что кто-то вдруг бросился поправлять огромный гобелен над ложем королевы, боясь, как бы толпа его не задела и не свалила на роженицу. Началась суматоха, все повскакали на ноги, и я, улучив секунду, схватила пустой стул, подтащила к комоду, взобралась на него и так увеличила свой скромный рост. Наконец мне удалось присесть на верхний край комода. И точно: оттуда мне открылся прекрасный вид на королевское ложе.
В покои королевы к этому моменту набилось, по моим подсчетам, человек пятьдесят. Королева лежала на ложе, в окружении врачей и родственников, беседуя с ними и, видимо, забыв, что вокруг собралась огромная толпа зрителей в предвкушении представления, которое она должна им дать. И мы все ждали, устремив взоры на ее вздувшийся живот, покрытый простынями, но ничего не происходило. Ее лоб лоснился, дамы обмахивали ее веерами, грим тек по щекам. Принцесса де Ламбаль, во втором ряду публики, выглядела особенно разрумянившейся от жары. И вдруг я узнала кое-кого в толпе, он стоял ближе к первому ряду: это был мой добрый друг, слесарных дел мастер! Как это чудесно, подумала я, этого человека так любят в Версальском дворце, что ему даже дозволено присутствовать при столь важном событии. Затем королева издала громкий стон – и представление началось.
Антуанетта заворочалась и застонала, врачи бросились наперебой давать ей советы, а принцесса де Ламбаль смертельно побледнела. Люди зашептались, повскакали с мест, чтобы получше разглядеть королеву и поймать каждый ее потуг, каждый вздох и стон, каждую гримасу. Бедняжка тужилась, пыхтела и потела, лицо у нее раскраснелось, она закричала, но младенец все не появлялся. Дитя никак не желало выходить, оно оставалось во чреве еще довольно долго, и в наступавшие моменты тишины, когда несчастная королева отдыхала, тяжко дыша, все вновь занимали свои места и начинали тихо переговариваться, а уже в следующее мгновение опять подпрыгивали и вперяли взоры в стонущую королеву. Так оно и продолжалось: зрители то вскакивали, то садились в такт родовым схваткам королевы, пока наконец, где-то после одиннадцати утра, ребенок не начал выходить.
Скоро стала видна целиком красная головка, потом розово-красное скользкое тельце, две ручки и две ножки. А затем, ко всеобщей радости, младенец издал первый крик. Глядя на это сверху, с крыши комода, я невольно подумала, что все это мне известно: вот пуповина, там, где ей и должно быть, как говорил доктор Куртиус, а вот слизь и плодная оболочка, об этом он тоже мне рассказывал, – и наконец, через некоторое время, как и описывал мой наставник, показалась плацента. Как чудесно! Я заучивала новые уроки! Какие только чудеса не вытворяет женщина! Смотрите, смотрите: из нее вышла новая жизнь!
В помещении стало нестерпимо жарко, запахло неприятным смрадом уксуса и эссенций – это в дело вступили врачи. Я развязала чепец и распустила тесемки платья, а потом заметила, что многие проделывают со своей одеждой точно такие же манипуляции. Покуда младенец выходил на свет Божий, толпа напирала сильнее и все ближе придвигалась к ложу. И когда он вышел весь, повитухи обернули его в простынку и быстро унесли прочь. За ними вышли еще какие-то люди, а среди них, по-видимому, и король, потому как когда я огляделась по сторонам, его нигде не было видно. Потом толпа в помещении немного рассеялась, и я вновь увидела королеву. Она вдруг стала вторым действующим лицом этой драмы. Она была бледна как полотно, и я даже подумала на миг, что она умерла, во всяком случае, на ее простынях я заметила пятна крови, но потом она села и кого-то позвала.
Но никто не заметил.
Публика рукоплескала, ведь природа творит такие удивительные вещи, особенно когда дело касается королев. Но затем публика начала выражать озабоченность, и довольно громко, по поводу того, какого пола был ребенок, мальчик или девочка, дофин или дофина. Сначала по покоям пополз шепоток, разочарованный шепот: «дочь, дочь, дочь».
И никто не обращал внимания на королеву. А я, восседая над всеми, стала махать с крыши комода, привлекая внимание людей.
– Королева! – воскликнула я. – Королева!
Ибо я заметила, с высоты своего положения, что у королевы начались конвульсии.
И опять никто не обратил внимания.
Но через мгновение нашелся некто, кто обратил. Принцесса де Ламбаль, всегда мертвенно бледная, всегда на грани обморока, всегда беспорядочно размахивающая руками, точно крыльями, заметила судороги королевы, но, охваченная паникой, не смогла вымолвить ни слова. Встав с кресла, наверное, чтобы схватить кого-то за воротник и привлечь внимание к ее величеству, Ламбаль затряслась мелкой дрожью, ее огромные глаза закатились, и она упала в обморок, опрокинувшись навзничь и роняя все и вся, что попалось ей на пути, а таковых предметов и людей было изрядно, и ее обморок повлек падение еще нескольких человек, в результате чего все устремили взоры на обморочную принцессу, вообще позабыв о корчащейся в судорогах королеве.
И лишь после того, как принцессу де Ламбаль унесли, я так отчаянно замахала рукой, что меня наконец-то заметил один человек. Это был дворцовый слесарь. Стоя в гуще толпы, он, разумеется, не мог слышать моих криков, заглушаемых десятками голосов, но я поймала его взгляд и многозначительно мотнула головой в сторону королевы. При виде ее величества, задыхающейся на своем ложе, он отважно ринулся сквозь толпу, но не к королеве, а в противоположном направлении – возможно, все дело было в дворцовом правиле, запрещавшем простолюдинам касаться королевских особ, и у него не оставалось иного способа выказать свою полезность, кроме как растолкать людей и добраться до окон, которые, как и в моем коридоре, были плотно залеплены бумагой, защищавшей от зимнего холода. Обладая недюжинной физической силой, слесарь начал отдирать бумажные полосы с окон, и наконец ему удалось распахнуть створки и впустить в помещение свежий воздух. Затем другие мужчины, не такие отважные и не такие сильные, последовали его примеру и открыли еще несколько окон, – в комнату ворвался декабрьский мороз. Но они, по-видимому, не имели понятия, зачем слесарь распахивает окна, и решили, будто он хочет криком привлечь внимание собравшихся в саду перед Версальским дворцом, поэтому отважный слесарь теперь бросился назад к ложу королевы, где она лежала, все такая же бледная, на пропитанных кровью простынях, у всех на виду. И только тогда все увидели, что произошло.
Опять возникла суматоха, крикнули принести горячей воды, которую так никто и не принес. Врачи пытались привести бледную королеву в чувство, но поначалу безуспешно. Тогда отворили вену на ноге и пустили кровь. Врачи отмерили пять блюдец крови, сочли, что это достаточное количество, остановили кровотечение, и тут королева выказала признаки жизни. И все это время слесарь, настоящий герой момента, не отходил от нее. В его глазах стояли слезы, самые настоящие слезы. Она умерла? Но наконец королева вздохнула, и все опять было хорошо. Судя по выражению его лица, слесарь испытал невероятное облегчение. Он поднес платок к глазам, чтобы никто не видел его слез. Все это было и впрямь незабываемо!
Когда же слесарь поднялся и отошел от кровати, придворные принялись ему кланяться, наверное, подумала я, в знак благодарности. Потом он обернулся и, поглядев на меня, очень коротко кивнул. Ему все кланялись, и только теперь мне в голову закралась новая, абсолютно неправдоподобная мысль. Королева была замужем за слесарем… И слесаря, за которого она вышла, звали Людовик XVI.
Мне хотелось веселиться. Мне хотелось рассказать кому-нибудь. Но кому? Я не могла об этом рассказать Эдмону. Кому же тогда? И я твердо решила написать моему наставнику и сообщить об этом, а еще рассказать Жаку о событии, прямо противоположном повешению, но потом меня охватило беспокойство: если я напишу, это послужит доктору Куртиусу напоминанием о моем существовании, и вдова наверняка разгневается, отчего это я еще не удосужилась заручиться дозволением королевы снять с нее слепок. Но все равно как же это замечательно: я знакома с самим королем! Да-да! Я, Крошка! И я чуть слышно хлопнула в ладоши, в точности как это сделал бы Куртиус. Этот король, мой знакомец, этот король, с которым я чуть было не разделила кусок пирога, теперь просил присутствующих покинуть помещение. Королеве следует остаться одной. Лакеи всех выпроводили. Этот король, мой собеседник на крыше, с кем я сидела под зонтиком, приказал слугам вывести всех и потом сам, слегка враскачку, поспешил вон, чтобы побыть с новорожденной дочерью. Когда же я вспомнила про Елизавету и стала искать ее взглядом в толпе, оказалось, что она и ее свита уже ушли. Они оставили меня одну в королевской опочивальне. Когда же пришли кормилицы, королева слабым голосом попросила принести ей ребенка, и ее утешили, заверив, что малышка в полном здравии. Но она хотела увидеть ребенка, увидеть нового Бурбона, произведенного ею на свет наследника французского престола. Нет, возразили ей, это не наследник, совсем нет. Это девочка, дочка, боюсь, не наследник, мадам, а девочка, розовенькая, здоровенькая, но тем не менее девочка, да-да, мы в этом уверены. И тут королева, утомленная долгими родами и присутствием толпы соглядатаев, разрыдалась. И мне в голову пришла догадка, что я здесь уже лишняя. Это помещение стало вновь личными покоями королевы. И все же я осталась – последняя из шумной толпы. У меня, разумеется, возникла мысль уйти, но ведь наконец-то я оказалась в обществе королевы, и она уже ничем не была занята, суета и суматоха улеглись, и почему бы именно теперь, подумалось мне, не подойти к ней и не попытаться снять слепок. Не прямо сейчас, конечно, но, возможно, мне удалось бы договориться об аудиенции для доктора Куртиуса. Подобная возможность, согласитесь, выпадает не каждый день.
В опочивальне становилось все тише, королева рыдала уже намного сдержаннее, и я сочла, что удобный момент настал. Я тихонько слезла с комода и, когда до пола оставалось несколько футов, спрыгнула с легким стуком. Стук заставил ее величество открыть глаза и поглядеть на меня. Я улыбнулась и сделала несколько шагов в направлении своей цели, и, как мне показалось, при этом не улыбалась, а прямо смеялась в голос, но прежде, чем я осмелилась высказать свое кроткое предложение, королева раскрыла рот и выдавила весьма неуместные слова:
– Черт! Вот черт!
И в ту же секунду мои надежды рухнули. Я перепугалась, и она еще усилила мой страх, издав жуткий вопль, – и я, сгорая от досады, разочарования и ужаса, опрометью побежала прочь от вопящей жены слесаря по анфиладе дворцовых комнат, минуя группки людей, пока не добежала до своего комода. Я забралась внутрь, захлопнула обе дверцы и зарылась в одеяла.
Глава тридцать девятая
Служанка и король
Два дня спустя я оказалась вдали от тесноты и кромешного мрака своего буфета – еще ближе к центральной части дворца, даже по сравнению с опочивальней королевы. Никогда не поворачивайся спиной, кланяйся, говори, только когда к тебе обращаются, не приближайся меньше, чем на метр, и, разумеется, никогда не прикасайся. Я уже встречала короля, и даже чувствовала себя в тех обстоятельствах довольно спокойно, я свободно вела с ним беседу, и однажды даже на меня была наброшена пола его куртки, но тогда король для меня был всего лишь дворцовым слесарных дел мастером, простым изготовителем замков, каких во Франции полным-полно, тысячи, я думаю, поскольку там все любят запираться от других людей. Но в стране обычно есть только один король. Таково правило. А иначе будет кровопролитие. Я видела много портретов короля, его профиль был выбит на всех французских монетах. Но отчеканенная на них голова короля и голова короля, поедающего глазурованный пирог, имели мало сходства, так что можно сказать, я его не знала.
Тем не менее в этот самый момент его величество, Божьей милостью, король Франции Людовик XVI сидел передо мной в кресле.
– Ну, Мари Гросхольц, – начал он.
– Ваше величество, – отозвалась я, склонившись в низком поклоне.
– Должен сказать, королеве сейчас много лучше. В следующий раз мы позволим присутствовать лишь тем, кому это абсолютно необходимо. К примеру, никто не будет сидеть на комодах. В следующий раз все будет сугубо приватно.
– Да, ваше величество, – сказала я, а в голове у меня крутились разные мысли: это губы короля, за ними зубы короля и язык в монаршей ротовой полости, а еще там имеется надгортанный хрящ короля и слюнные железы короля, а за ними зияет королевская гортань, ведущая в глубокие недра монаршего тела.
– Скажи мне, – требовательно продолжал он, – ты и правда не знала, кто я?
– Нет, ваше величество, я думала, вы мастер по замкам.
– И я этим горд. Но ведь тогда на крышу пришел лакей в ливрее королевского цвета.
– Но лакей вашей сестры тоже носит голубую ливрею.
– Елизавета тебя просто обожает, не так ли? Наконец-то она перестала быть нелюдимой. Нам не следовало позволять мадам Мако заниматься ее воспитанием. Она очень тяжело переживала смерть наших родителей, как и нашего брата. Их смерть нас сблизила ненадолго. Она, как тебе самой известно, бывает немного нервной. Слезы, сцены. Но ей теперь лучше, мне приятно это отметить, в последнее время – безусловно лучше. Другими словами, я хочу сказать: ты молодец! И я тебя благодарю. За Елизавету и за твое недавнее внимание к нуждам королевы. Что бы я мог для тебя сделать в награду за это?
Мне вновь представилась возможность, и предложил ее сам король.
– Прежде чем приехать сюда, ваше величество, я была в услужении у изготовителя восковых изваяний, весьма одаренного скульптора в Париже. Я уверена, самым драгоценной наградой для него и самым ценным экспонатом в его коллекции могло бы стать вылепленное с натуры ваше лицо, если ваше величество соблаговолит дать на то свое согласие.
– О, мне что-то это все не нравится. Звучит малоприятно.
– Вас весьма поразит его искусство!
– Да? Интересно. А ты его ученица?
– Да, он обучил меня в Швейцарии, в Берне, откуда я приехала.
– У нас швейцарцы в королевской гвардии, они стоят в карауле внутри дворца и снаружи, это наш личный караул. Мы без них никуда. Так что я кое-что знаю о швейцарцах, да уж. Твой хозяин, он был хорошим учителем?
– О да, чудесным!
– А ты – хорошей ученицей?
– Я занималась прилежно и многому обучилась.
– Тогда ты сможешь сама сделать мой слепок.
– Я, ваше величество?
– Да, ты.
– Вы, верно, шутите.
– Я абсолютно серьезен.
– Нет, нет, я не могу.
– Почему не можешь?
– Ну, то есть я могу, но не должна.
– Почему не должна?
– Нет, это было бы неправильно, совсем неправильно.
– А я если я скажу, что это правильно?
– Но, видите ли, сир, это для моего наставника…
– Я дам согласие только тебе.
– Это его сильно обидит.
– Значит, пускай обижается.
– Но он никогда меня не простит!
– Простит! Ты ему скажешь: такова была воля короля.
– Это выше моих сил!
– Так подрасти, девочка, подрасти, чтобы найти силы!
– Это было бы преступлением, сир!
– Гросхольц, сейчас или никогда!
И я, хотите верьте, хотите нет, сняла с него слепок – сама.
Мы находились в одном из помещений апартаментов короля, посреди комнаты стоял небольшой кузнечный горн. Сначала мы лакомились клубничными тарталетками. Король снял расшитый золотом камзол и надел простой редингот. Комната была заставлена глобусами, повсюду валялись географические карты. На столах виднелись миниатюрные модели странных зданий и множество всяких диковинных штуковин: телескопы и микроскопы, секстанты и теодолиты, движущиеся модели Солнечной системы и инструменты, коих я в жизни не видывала. И по всей комнате, среди глобусов Земли и планет, рядами стояли сотни книг, все в идеальном порядке. Среди них я заметила полное собрание «Энциклопедии» Дидро, а также – о, как я мечтала ему рассказать об этом! – «Париж в 2440 году» Л. С. Мерсье.
Я промыла королю лицо, умастила маслом брови и, слегка похлопывая кончиками пальцев, пригладила их. Потом я вставила в монаршие ноздри соломинки – да, я сделала это! Я наложила гипс на его лицо и разгладила по коже так, будто накрыла его салфеткой – да, я сделала и это. В комнате стояла полная тишина, ведь там были только мы с королем. Мы были словно одни в целом мире. Потом я осторожно удалила гипсовую маску, после чего очистила ему лицо. Я сняла необходимые мерки. Ширина головы от уха до уха: восемнадцать дюймов. Окружность шеи: двадцать два дюйма и одна треть. Измеряла Мари.
Итак, у меня все было готово для отливки головы короля. Но не королевы. Я страшилась обратиться к нему с еще одной просьбой, но мне следовало это сделать.
– Ваше величество, могу ли я попросить вас еще кое о чем?
Король кивнул.
– Я была бы весьма вам признательна, ваше величество, если бы вы помогли мне устроить аудиенцию для того, чтобы мой наставник смог сделать слепок головы королевы.
И тут вдруг король превратился в сурового стража, оберегающего покой супруги.
– Королеву нельзя тревожить! Королева не игрушка, ее нельзя теребить и тискать! Нельзя допустить, чтобы все, кому не лень, на нее пялились! Ее нельзя выставлять напоказ. В наши дни люди совсем позабыли о приличиях. Нет, нет! Королеву беспокоить нельзя!
– Да, ваше величество!
– Я этого не позволю!
– Нет, ваше величество!
– Это меня огорчает.
– Да, ваше величество. Я благодарю ваше величество!
Он в ажитации стал озираться по сторонам, словно на миг потерял ориентацию в мире, несмотря на все свои глобусы.
– И мы больше не будем вести наши беседы, – объявил он, покачав головой. – Это было бы неправильно. Совсем неправильно. Я растерялся. Когда мы впервые встретились, в моей мастерской, понимаешь, я принял тебя за свою сестру. Меня в тот раз ввели в заблуждение твои очки. Но теперь-то я вижу, что ты не она. Совсем не она, ты ее карикатура. Возможно, ты и не виновата. Но этого больше не будет. Я – король, а ты всего лишь Гросхольц. Доброго дня!
После этого я несколько лет больше не видела короля так близко. Позднее, уединившись в нашей мастерской, я все рассказала Елизавете.
– Я, Анна-Мари Гросхольц, нюхала пот короля!
– Ты груба, сердце мое! Мне же не надо напоминать тебе, что ты – мое тело, моя копия, моя, а не кого-то еще.
– Я сделала слепок головы короля, и мне теперь надо отправить слепок моему наставнику в Париж.
– Но ты же моя копия, не так ли?
Как же легко было вызвать ее ревность!
– Да, дорогая мадам Елизавета, – поспешно заверила я ее. – Конечно, я ваша копия!
– И ты меня не оставишь?
– Нет, если только вы сами этого не захотите.
– Я никогда не захочу.
– Прошу, повторите эти слова! Тогда можно мне вас поцеловать?
– Думаю, можно.
Мне упаковали гипсовую голову в ящик с соломой. Внутрь я вложила письмо, которое я написала после нескольких неудачных попыток, пока не осталась вполне удовлетворена получившимся текстом. Вот как выглядел окончательный вариант:
Сударь мой!
Я надеюсь, у Вас в Париже все хорошо. Я часто думаю о Вас и восковых людях. Уверена, что дела идут успешно. Я здесь очень занята и работаю каждый день для принцессы Елизаветы. Думаю, не будет большим преувеличением сказать, что я стала ее фавориткой и, сударь, надеюсь, ей захочется, чтобы я находилась при ней постоянно. Я была бы этому очень рада. Я весьма обязана Вам за ту особую заботу, с которой Вы занимались моим образованием, и нижайше Вас за это благодарю. Я буду всегда вспоминать о Вас с великой признательностью. Я также хочу добавить, шепотом, что я служила Вам, безо всякой оплаты, довольно долгое время, и надеюсь, моя работа доставила Вам некоторое удовлетворение. Говоря коротко, сударь мой, не будете ли Вы добры теперь отпустить меня и прислать мне сюда мои бумаги?
В этом ящике Вы найдете слепок с натуры головы его величества короля Людовика XVI. Его величество настоял, чтобы именно я сняла с него слепок, подчеркнув, что другой возможности не представится. Я просила его послать за Вами, но он не позволил. Прошу Вас меня за это простить, но надеюсь, Вы увидите, что я выполнила слепок очень тщательно. И теперь, чтобы завершить работу, требуется Ваше несравненное мастерство. Прошу Вас принять этот слепок как плату за меня, и не соблаговолите ли Вы написать во дворец и официально передать меня в услужение принцессе Елизавете и посему выслать мои бумаги.
Благодарю Вас,
Искренне Ваша,
Крошка, урожденная Мари Гросхольц, Ваша прежняя служанка в БернеОтвет пришел через две недели, и написан он был не рукой моего хозяина.
Кроха,
Ты себе даже не представляешь, как ты огорчила своего хозяина. В последние несколько дней ему было очень плохо. Я даже думала, что он умрет. Знай, что твое имя здесь смешано с грязью, и ты не получишь свои бумаги.
Я подтверждаю получение слепка. Много же лет тебе понадобилось на то, чтобы отплатить нам столь малым. Я без возмущения не могу об этом думать.
И какой нам прок от короля без королевы? Добудь королеву, да побыстрее, а не то тебя быстро вернут сюда, и уж мы с тобой разберемся!
Добудь ее!
Искренне,
Ш. Пико (вдова)Я аккуратно сложила письмо, от которого веяло великой печалью, и, встав на одолженную у Пайе стремянку, положила его на самую верхнюю полку моего буфета, куда я никогда не заглядывала. И все же, даже спрятанное так высоко, это письмо потом приснилось мне, спящей тремя полками ниже.
Глава сороковая
Об игрушках и их владельцах
Очень скоро возникли новые обстоятельства, о коих, при нашем ежедневном тесном общении с Елизаветой, я даже и не обеспокоилась.
– О, дражайшее сердце мое, – воскликнула принцесса, отворяя дверцу моего буфета, – случилось нечто невероятное! За меня посватались. Я уезжаю. Это должно было случиться! Я выхожу замуж! Я буду скучать по тебе, сердце мое, но я выхожу замуж! И уеду отсюда. Я распрощаюсь с прежней жизнью. Но все будет хорошо. О, Господи, благодарю тебя! Я благодарю тебя от всей души!
– Нет, – отважно возразила я, ведь здесь были мои владения, – вряд ли от всей.
– Уже объявили обо всем. Моим мужем станет герцог Аоста. Герцог Аоста!
В моем представлении Аоста звучало как аорта. Аорта располагается выше сердца. Она показала мне портрет своего герцога: мне он не показался сколь-нибудь интересным. Как-то, когда Елизавета была занята чем-то очень важным и не смогла составить мне компанию в мастерской, она попросила меня нарисовать копию этого портрета, потому как ей очень хотелось иметь дубликат, чтобы его можно было в сложенном виде всегда носить с собой.
Герцог Аоста
Аорта человека
От многократных просмотров мой рисунок быстро смазался и покрылся морщинами.
Однажды Елизавета постучалась ко мне в буфет.
– Я больше не смогу проводить с тобой так много времени.
– Так сказала мадам Гемене?
– Мадам Гемене назначили гувернанткой маленькой дофины. Теперь за моим домом надсматривает мадам Диана де Полиньяк. Ярость отослали прочь, и даже Фурии дозволено не более двух визитов в месяц. У меня теперь новые фрейлины. Я взрослею, я это чувствую.
– А я? Что сказала мадам де Полиньяк обо мне?
– О, сердце мое, сердце мое! Теперь все по-новому. Сердце мое, у тебя тут такая теснота. Хочешь, я найду для тебя нормальную пристойную комнату? Она будет располагаться чуть дальше, но, возможно, оно и к лучшему.
Можно лишь пожалеть бедные игрушки, ведь к ним обычно привыкаешь и любишь их очень недолго; старые ломаются, или им на смену приходят новые. И их уносят с глаз долой в дальние комнаты, где свален прочий постылый хлам. Поколения кукол валяются, заброшенные, в сараях и там гниют.
Я попала в новые покои Версаля, но дворец уже выглядел в моих глазах не золотым левиафаном, каким казался в первые дни пребывания здесь, а скорее исполинским скелетом, останками некоего убитого зверя, внутри которого все мы обитали. Теперь в моем распоряжении оказалась целая комната, холодная и пустая, и ничто не могло ее согреть. Я попыталась вызвать призрак Эдмона в это печальное место, но он не появлялся. Он исчез, чтобы уже никогда более не возвращаться ко мне.
И все же, как всем известно, даже о выброшенных игрушках порой вспоминают, они вдруг воспламеняют старую любовь, за них хватаются, потому что в минуту отчаяния их привычность оказывается необходимым утешением.
Столь же внезапно, как возникли разговоры про герцога Аосту, всего неделю спустя после того, как мне показали мою новую комнату в сорока минутах ходьбы от мастерской, все эти разговоры разом оборвались, закончились коротким словом: герцог тоже оказался «неподходящим». Елизавете пришлось с этим смириться. И тотчас вспомнили обо мне.
И я переселилась обратно в буфет.
В тот же вечер, когда я вернулась в буфет, ко мне пришла Елизавета, тихая, заплаканная, с чуть вздрагивающими плечами. Тем вечером она призналась, что поставила на себе крест и что отныне решила посвятить себя заботам о бедных страдающих людях, а для себя она уже не ждет ничего хорошего. Она попросила меня принести ей гипсового Иисуса из его коробки-шкафчика и потом все время держала его на коленях, точно дитя, которого ей было не суждено родить. С того момента наши дни исполнились сугубо религиозных дел, в которых участвовали только мы втроем: Елизавета, я и гипсовый человек. И если я порывалась ее поцеловать, она меня мягко отстраняла.
Глава сорок первая
Боль найдется в церкви Сен-Кир
После этих событий время стало отмеряться поездками в церковь Сен-Кир. В этой церкви, в ее различных приделах, стремительно росло число восковых человеческих органов, прибитых один поверх другого, отчего пустая поверхность стены быстро сокращалась. Список несчастных страдальцев Елизаветы растянулся и уже дошел до третьего тома; текли месяцы, и вот наконец сменился год, начался следующий, который обещал быть таким же, как предыдущий, и такими же обещали быть все последующие, и все оставалось как есть, и тела несчастных страдальцев недужили и испытывали боль, и они демонстрировали нам, с горькими слезами и стиснутыми зубами, где у них болит. Они и вправду сильно страдали в то время, очень страдали, и их количество казалось неисчислимым и все росло. Они не всегда встречали нас радостно, и порой принимали от Елизаветы деньги с весьма мрачным видом. Причиной тому, по нашему разумению, были ненастье и неурожай. Другой причиной был, возможно, бывший конюший, упавший с лошади и заработавший хромоту. Как-то раз этот хромой пришел во дворец за подаянием. Караульные избили его и отослали обратно в деревню, где он умер от ран. Семье дали денег, но что толку: когда избитый хромой скончался, деревенские совсем пали духом. Однако Елизавета не прекратила своих визитов, мы замечали людские горести и потом делали из воска дары для церкви, молясь за облегчение их трудностей. И мы обе становились старше. И хотя нас еще можно было считать молодыми, а мадам Елизавета всегда выглядела моложе, годы откладывались на наших телах слой за слоем, и Елизавета постепенно превращалась в старую деву, отбросив мысли об ином будущем для себя.
И внутри ее тело тоже иссыхало.
Нас к тому же еще и переселили.
Новые покои принцессы Елизаветы располагались в самом конце длинного коридора в юго-западном крыле дворца во втором этаже; такое расположение объясняли тем, что-де принцессу не надо беспокоить, но на самом деле это было сделано, чтобы позабыть о ее существовании. Из окон ее новых апартаментов мы видели Большой канал, но что важнее – дорогу к Сен-Киру, ведь мы постоянно смотрели в том направлении. Под нами располагались большие апартаменты королевы, над нами – покои дворцового конюшего, которого мы вечно слышали: он топал взад-вперед в своих сапожищах. Вокруг нас кипела дворцовая жизнь, но нас она не касалась. Новые апартаменты состояли из восьми комнат: прихожей, второй прихожей, большого кабинета, бильярдной, библиотеки и будуара. За стеной спальни стоял мой новый буфет, в нем было на одну полку меньше, чем в прежнем, и внутри, когда я впервые открыла его дверцы, повсюду лежал мусор. Его прежняя обитательница не обращала на такие мелочи внимания, и к тому же на внутренних стенках остались царапины и следы от подошв. Я прибралась и забралась на полку. Вместе со мной там жили муравьи, и даже время от времени на нижнюю полку захаживала мышь.
Наступили длинные сезоны мадам де Полиньяк. Диана де Полиньяк, сестра новой фаворитки королевы, была уродлива лицом, горбатая и неряшливо одетая, с сухой кожей и влажными губами, и при виде мужчин постоянно сглатывала слюну. До Елизаветы ей не было никакого дела – о чем она недвусмысленно дала понять, заняв свою должность. Она населила коридоры апартаментов Елизаветы своим собственным гаремом: они насмехались над Елизаветой намеренно громко, чтобы та все слышала. Ее единственными друзьями были мы с гипсовым Иисусом. Сколь бы тягостным ни было владычество вначале Мако, а за ней Гемене, ими хотя бы двигали искренние побуждения, и их методы воспитания, пускай своевольные и властные, все же были благожелательными. Напротив, Полиньяк думала исключительно о своей выгоде. Именно она приказала поставить в одной из комнат бильярдный стол: королева Антуанетта пристрастилась к настольной игре в шары, и теперь всем обитателям дворца вменялось освоить новую забаву. Елизавета шаг за шагом отступала. В других частях дворца кипела шумная светская жизнь, устраивались большие рауты, празднества, игры. Но сама я ни разу там не присутствовала. С нижнего этажа до нас доносились смех и шум веселья, сверху – хлопанье дверями и грохот сапог. Хотя ей было всего семнадцать лет, выглядела Елизавета на все тридцать.
– Не покидай меня, мой двойник! Никогда не уходи!
Мы тихо проживали свои дни, заводя духовных друзей в приделах церкви Сен-Кир. Каждый придел носил имя какого-то святого. В те дни я быстро выучила своих святых. Маменьке было бы приятно это узнать.
Святой Викентий де Поль – живший в старину человек, который посвятил свою жизнь беднякам и строил для них жилища. Мы заполнили его часовню нашими восковыми изваяниями, не оставив местечка для очередной больной почки и сломанного пальца, не говоря уж о глазной катаракте. Святой Мартин Турский тоже жил в старину, он как-то разрезал свой плащ надвое и отдал половину нищему; в его часовню мы приносили раздробленные ноги, опухшие руки, увечные туловища, ушибленные головы, разорванные носы, рты с язвами – все из воска, пока там не осталось ни единого свободного пятачка для новых скорбей. Святой Дионисий был первым епископом Парижа, и в его часовне появились вылепленные из воска сломанные ребра, лопнувшие легкие, изношенные сердца, изможденные печени, воспаленные мочевые пузыри, бесплодные яичники, выкрученные тестикулы, желтушные куски кожи, кровоточащие культи. Боль, страдания, нищета…
Местный епископ разволновался: его церковь была захвачена, святой храм превращен в лавку воскового мясника. Но мы с мадам Елизаветой не знали покоя. Подобно самому святому Киру, так и не дожившему до зрелого возраста, потому как ему размозжили голову о стену по причине того, что он называл себя христианином, Елизавета сделалась мученицей во имя чужих страданий. Она жаждала боли, чужой боли, дабы умерить свою собственную. Боль обычных бедняков питала ее жизнь. Она стала одержима их невзгодами. Мы накопили восковые горы человеческих органов и конечностей. В дверцу моего шкафа стучали в разные часы дня, а иногда и ночи, до рассвета, чтобы призвать меня к работе. Елизавета свято верила в силу этих восковых предметов – они служили зримым доказательством ее благих намерений, – даже если для бедных и страждущих они не значили ничего.
– Пошли, сердце мое, нам нужно работать!
Я повзрослела в Версале. Я обрела новые формы, похудела, во мне возникла угловатость, и я стала спокойнее. Устраиваясь поудобнее в своем домике-буфете, я рисовала ночами при свече, а когда делала ошибки – я все еще ошибалась в рисунке, – то стирала неверные линии комочком растительной резины, недавно изобретенным инструментом для художников, ведь у Елизаветы всегда были новейшие и лучшие вещи. Прощай, хлебный мякиш!
Так мы и жили с Елизаветой среди фрагментов человеческих тел, в гигантском обиталище восковой плоти, и дни наши были наполнены молитвами, обретшими осязаемость.
Глава сорок вторая
Сделано Мари, или Четвертая группа голов
По воскресеньям, это уже вошло в привычку, мне предоставлялась полная свобода: Елизавета почти все время проводила исключительно с членами семьи в стенах то одного, то другого Божьего храма, и я ей не требовалась.
По воскресным дням я час или около того мыла и проветривала свой буфет, после чего попивала эль с Пайе. Мы с ней проводили время в беседах о телах. В одно воскресенье, когда она отлучилась из дворца, потому как кто-то из ее родственников занедужил (мы помолились за него и вылепили восковой пищевод), мне взгрустнулось от одиночества. Хотя я давно уже не рисковала прогуливаться одна по дворцу, все же я решилась выйти из покоев Елизаветы. Сопровождавшие мадам де Полиньяк дамы, усмехаясь, дали мне пройти, и я оказалась на воле. Вскоре я уже шагала по коридорам к месту рождения монарших отпрысков, следуя за толпой парижских визитеров, которые спешно двигались в том же направлении. Не имея никаких дел, я решила к ним присоединиться. Затем наша толпа выстроилась в длинную очередь перед Залом караула короля и учинила небольшую давку перед Аванзалом королевы – покоями, известными также как Аванзал Большого столового прибора. Тут стояла охрана, которая пропускала людей внутрь, только проинспектировав у всех платье. Будучи обысканы, мы вошли в Аванзал. Сначала казалось, что вся эта суматоха связана с отрядом швейцарских гвардейцев, в чьих шляпах красовалось по три белых пера. Но потом, заглянув между ними, я высмотрела большой подковообразный стол, вокруг которого стояли стулья с высокими спинками, а на них восседала королевская семья в полном составе.
Они ели.
В первый момент мне почудилось, что это искусно изготовленные механические куклы, имитирующие королевское семейство, настолько машинально они подносили ко ртам ложки с супом или разрезали мясо на куски. Но потом я заметила, как королева моргнула. Потом – как король сглотнул. Потом увидала, как широко улыбнулся граф Прованский, средний брат короля, и как затем ему в ответ улыбнулся младший брат короля граф д’Артуа, после чего оба, в отличие от прочих, хранивших молчание, завели негромкую беседу. Там же я высмотрела и Елизавету: она поглощала еду короткими порывистыми движениями – так курица клюет зернышки. Она сидела между двух престарелых дам, коих я сочла ее тетушками. В основном члены королевской семьи забавлялись с едой, а не по-настоящему ели, а позади них стояли слуги, помогавшие королевским едокам в процессе королевской трапезы. И мне сразу стало понятно, что королевские родственники не получают от еды никакого удовольствия и им неприятно находиться под перекрестными взглядами зевак, а самое главное, что мне стало понятно: эти королевские особы и их отпрыски – самые обычные люди, вот почему просто наблюдать за ними и было так увлекательно.
Довольно скоро нас всех выпроводили из помещения.
– Это Аванзал Большого столового прибора, – сообщила мне Пайе. – Такое тут бывает каждое воскресенье. Вы не знали?
– Каждое воскресенье?
– Если только они не уезжают.
– И что, сюда может любой прийти?
– Только надо быть надлежащим образом одетым. Мужчины при шпаге, в чулках и в парике. Но если у кого нет таких вещей, их можно взять в аренду у ворот, когда входишь во дворец.
– И их может увидеть любой?
– Если одет надлежащим образом.
– А зачем это делается?
– Правило Людовика Четырнадцатого. Он когда-то повелел, что прилично одетая публика должна раз в неделю лицезреть королевскую семью.
В следующее воскресенье я снова пошла туда. И потом ходила каждое воскресенье. Поначалу я себе говорила, что мне это нужно, чтобы находиться поближе к Елизавете, но потом все-таки призналась, что просто хотела поглазеть на монаршую семью Франции за трапезой. Я протискивалась сквозь свиту Дианы де Полиньяк и мчалась вперед. Мы выстраивались в очередь, и через равные промежутки времени наше наблюдение прерывалось швейцарскими гвардейцами короля, служившими барьером между нами, простыми людьми, и ими, особами королевских кровей. Меня эта церемония никогда не утомляла, и я с нетерпением ждала очередного воскресенья, а скоро стала брать с собой листы бумаги и карандаш, делая быстрые наброски с натуры и снабжая их пометками.
И теперь, закрывая глаза, я представляла себе процесс королевского пищеварения. Я видела, как пища пережевывается в однородную массу, видела, как ее глотают, видела крошки на королевских губах. Но в трапезе принимала участие не вся королевская семья. Например, королева сидела за столом, не снимая перчаток, и аккуратно расставленные перед ней тарелки почти не удостаивались ее взгляда. Интересно, заинтересует ли такое зрелище моего наставника?
От скуки, лежа в своем шкафу, я начала превращать свои записи в эскизы голов членов королевской фамилии. Мне бы этого не делать, ибо довольно скоро, в точности как мой наставник, я уже мечтала вылепить эти головы. Держа в руках восковые легкие, я мечтала приделать им нос, а кладя на ладонь печень, мечтала приделать ей рот. И коль скоро меня захватила новая идея, я уже не могла с собой совладать: группа людей в мизансцене. Ростовые фигуры. На близком расстоянии друг от друга. Общаясь друг с другом. Такого никогда не делали в Обезьяннике. Это было нечто новенькое. А какая мизансцена? «Королевская семья за трапезой». Королевские рты приоткрыты, королевские щеки выпирают, королевские челюсти ходят вверх-вниз, королевские кадыки прыгают.
Я рисовала их каждую неделю. Но никому об этом не рассказывала. Месяц за месяцем. Пока не выросла гора листов с моими эскизами и пометками. Но со временем я обеспокоилась, что мой хозяин не сумеет разобрать моих пометок и что, наверное, благоразумнее было бы вылепить все эти головы самой, чтобы уж наверняка передать точное сходство. А потом, размышляла я, мой хозяин и вдова могли бы их подправить или вообще выбросить, словом, поступить, как им вздумается. В общем, я вознамерилась вылепить все королевское семейство. Вот так я обманывала сама себя.
И стоило начать, как меня понесло. Эти головы заполнили всю мою жизнь. Я не рассказала о них Елизавете, пряча от нее свои работы в недрах буфета. Довольно скоро там стало тесно от глиняного населения. Я тащила из нашей мастерской все подряд. Мы уже израсходовали так много глины, что никто даже не заметил, как я потихоньку забирала себе еще и еще. А вскоре то же самое произошло с гипсом и даже с воском. Сколько бы я ни заказывала, все приносили сразу же и без лишних расспросов. По правде говоря, люди во дворце не испытывали искренней симпатии к вещам, они никогда их не ценили должным образом, относясь к ним так беспечно, будто те никогда бы не иссякли. О воске и его тонких талантах они вовсе ничего не знали. Они не умели оценить ни горделивого достоинства, ни скромной скорбности восковой свечи. Они никогда часами не просиживали с вещами, тихонько их подбадривая. Они их не знали, и на них им было наплевать.
Голова. И еще голова. И еще. Рот. И еще рот. И еще. Кадык за кадыком. Я ловила каждое их движение. Я разминала глину кусок за куском, я возвращалась в Аванзал каждое воскресенье и сверяла свои изделия с оригиналами, и поправляла, и начинала заново, бросала, отчаивалась и начинала вновь. И медленно, очень медленно едоки становились мне подвластны. Я снова и снова изучала подбородок короля, и мочки ушей королевы, и лоб графа. Снова и снова. Гляди, гляди внимательнее, тут не так, еще нет сходства, разровняй здесь, сомни эту часть лица опять в бесформенный кусок глины, и гляди внимательнее, сконцентрируйся. У тебя не получится. Получится! Нет, не получится.
На это мне потребовались месяцы. Да какое там – годы! Я работала, покуда Елизавета проводила время со своими тетушками и очень часто – когда дворец погружался в сон. Сначала их было четыре: король, королева, два брата короля. Четыре головы с железным каркасом, прилаженным к деревянным планкам и покрытым влажной тканью, которые я после работы всю ночь напролет прятала в своем буфете, а когда их стало слишком много, я тайно хранила их в шкафах в нашей мастерской. Только головы. Тела можно было приладить после.
Форма каждой головы далась мне довольно быстро, но затем последовали месяцы и месяцы доработок. Под конец я могла часами всматриваться в глиняный череп и вносить одну незаметную поправку, добавляя лишь шарик влажной глины размером с рисинку, на что уходило часа два, после чего я валилась без сил на лежанку, и мне снились глиняные головы. Но их кожа была глиняной, а глиняная кожа, выровненная и гладкая, не имеет пор, но настоящая человеческая кожа ведь вся в порах и неровностях: на этом настаивали мои очки. И чтобы мое королевское семейство выглядело правдоподобнее, я спросила Елизавету, можно ли мне съесть несколько апельсинов в своем шкафу, и она их мне прислала. Апельсиновая кожура, как кожа, имеет поры. Сделав гипсовый слепок с апельсина, я обнаружила, что можно этот обратный слепок припечатать к глиняной коже королевских голов, и тогда на их коже отобразятся все-все детали, все мельчайшие впадинки, как на настоящей голове. Я поразилась этому открытию. И зааплодировала.
Вот так я их теперь оформляла. Я накрывала глиняные лица мертвящим гипсом, точно решила убить свои произведения, и затем уничтожала глиняные головы, снимая с них гипсовые половинки формы для отливки. Потом заливала расплавленный воск в форму, ждала, когда воск застынет, разнимала форму – и милости прошу! То, что раньше было глиняной плотью, теперь было плотью восковой. Это королева? Высокий лоб, выпяченная нижняя губа? Я закрывала глаза, снова их открывала. Неужели это королева – изготовленная не с гипсовой маски, снятой с ее лица, но вылепленная исключительно в результате наблюдения и по памяти? Закрой глаза! Снова открой. Да, получилось. Самая настоящая королева!
И это было мое клеймо мастера. Отпечаток меня. Моих рук, моих мыслей. Это королева, но не только она: это еще и Мари Гросхольц, обе ожившие в этой голове. И в тот момент, когда я это осознала, меня охватила неодолимая страсть. Вот чем я пожелала заниматься в жизни – и ничем другим.
Я пустилась танцевать вокруг головы королевы. Я тебя сделала. Я. Добро пожаловать!
– Что за шум? Вы всех перебудите! – Это была Пайе. – Что тут происходит? Чем вы заняты… О, ведь это же королева, да?
– Повтори!
– Это королева!
– И еще раз, прекрасная Пайе!
– Это же королева!
Да, это была королева. А за ней последовал король (еще один), граф д’Артуа и граф Прованский. Мое королевское семейство. Ночами, или в отсутствие Елизаветы, я сидела со своими королевскими головами и вела с ними беседу, будто сама была частью этого семейства. Теперь я хотела проводить время со своими головами, а не с реальными людьми. Я подержала их какое-то время у себя, ведь они были мне так дороги, мои первые головы. Этим головам, моей королевской семье, должны устроить триумфальную встречу в Кабинете Куртиуса в Париже – так я уверяла себя, лежа в своем буфете.
Когда они получат головы, мечтала я, мне разрешат наконец остаться во дворце. Я вновь попрошу хозяина меня отпустить. Так я говорила себе. И, конечно, лгала. Я мечтала быть оцененной. А кто ж не мечтает? Все мы мечтаем.
И я себя выдала.
Я отослала им головы.
Я написала им письмо, объясняя, какая тут голова чья, и дополнила описание своими многочисленными эскизами. Каждая восковая голова была уложена в свою форму, и обе половинки форм были стянуты бечевкой для сохранности. Все это я упаковала в ящик и отослала на бульвар дю Тампль. Я закрыла глаза, пытаясь представить себе, как они достают эти головы. Я печалилась тому, что не могла присутствовать там и наблюдать за происходящим, но мой дом теперь был здесь, здесь я была на своем месте – в этом буфете, в нашей с Елизаветой мастерской. Теперь, говорила я себе, мне придется забыть об этих королевских головах и сосредоточиться на других частях человеческого тела, которые раньше я так любила. Как же я скучала по ним, как скучна была моя жизнь без них.
Через неделю пришло письмо от моего наставника:
Дорогая моя Крошка Мари Гросхольц,
Мы с вдовой Пико в следующее воскресенье будем в Версале присутствовать в Аванзале Большого прибора и оценим сходство твоих моделей. Надеемся, ты встретишь нас у ворот и покажешь нам ту, кто послужил причиной твоего столь долгого отсутствия.
Напоминаю тебе, что я твой хозяин,
КуртиусГлава сорок третья
Моя семья в Версале
Омнибус выпустил своих пассажиров. Можно было безошибочно их опознать. Обитатели Версаля подчинялись правилам, строго их соблюдали и, хотя все были облачены в платья разных цветов, они сами оставались бесцветными. Обитатели же Обезьянника громко и самодовольно заявили о своем прибытии, и их сразу можно было заметить в толпе. В Версале, впрочем, они казались чужаками, потому как не были созданы для дворцов, и подобная разновидность архитектуры не предназначалась для таких, как они. Прямо на моих глазах произошло столкновение двух чужеродных миров.
Первым я увидела доктора Куртиуса – с прямой спиной, напряженного, похожего на старого журавля в ослепительном новом костюме, словно очутившегося во дворце по ошибке, на его левой щеке сиял большой синяк.
– Сударь! – вскрикнула я. – Я здесь!
– Это ты? – изумился он, и радостная улыбка расколола его застывшее лицо. – Так и есть. И правда ты. Сколько же тебе теперь лет?
– Сударь мой! Доктор Куртиус!
– Мари, Крошка Мари!
– Крошка. Просто Крошка! – раздался громоподобный возглас.
Вдова, с раскрасневшимся лицом, возбужденная, вышла вперед, опираясь на трость, неуклюже передвигаясь в огромном платье с кринолином. Она курила сигару.
– Мадам! – отозвалась я.
– Ну, ты и доставила нам забот!
– Крошка! – рявкнул кто-то. Ко мне ковылял, прихрамывая, Жак, одетый в явно стеснявший его жилет. – Желтый нанкин. Прямо из Японии.
– О, Жак! – воскликнула я. – Милый Жак! Сколько убийств произошло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Скольких повесили на Гревской площади?
– Жуть сколько! Много!
Вся семья пожаловала, за исключением, понятно, Эдмона. Он мало того что отсутствовал, так о нем даже не упоминали. Были и еще новые люди, какие-то мальчишки, одетые в одинаковые костюмчики, все с красными гербами на груди, и в центре каждого была вышита буква К. У Жака в подчинении был один, деревенского вида увалень с бритой головой.
– Кто это такие? – поинтересовалась я.
– Кто, спрашиваешь? – отозвалась вдова. – Мы значительно расширились после твоего отъезда, и теперь у нас много прислуги. Не могли же мы сидеть и ждать твоего возвращения.
– Разумеется нет, мадам.
– У нас теперь еще двадцать четыре изваяния, и у нас теперь не один только Обезьянник. Мы пристроили к нему новые здания!
– Здания! Боже мой! – воскликнула я. Мне показалось, что по мере возрастания их архитектурных приобретений расширялась и сама вдова, чье тело зримо отражало прибавление их недвижимости. – Никогда бы не подумала…
– Насколько я помню, твоя крошечная голова вообще мало думает. Не потому ли тебя прозвали Крошкой?
Двое парней несли тяжеленные картонные коробки.
– Что в них? – спросила я.
– Не твоего ума дело, – фыркнула вдова. – Пойдем, покажи нам все. Мы хотим все увидеть. Мы проделали такой длинный путь не для того, чтобы на тебя глядеть. Полагаю, вовсе не за этим!
Я показала ей, в какие окна обычно выглядываю. Потом привлекла ее внимание к крыше. Вскоре зазвонили колокола королевской часовни: настала пора зайти во дворец. Вдова стреляла глазами по сторонам. Мой хозяин опоясался взятой в аренду шпагой, и с нею стал похож на гончую с торчащим хвостом.
– Вам понравились мои головы? – спросила я.
– А тут вообще-то довольно грязно! – сварливо заметила вдова.
– Вообще-то дворец очень большой, сами видите, – объяснила я, – настолько большой, что очень трудно содержать его в чистоте. Это все дикие кошки. В мой буфет однажды пробралась мышь. Так как вам мои головы?
– И что, сюда всех пускают? – не унималась вдова, завидев толпу перед Аванзалом Большого столового прибора. – Но, разумеется, мы не такие, как все, – заявила она громогласно. – Наша девочка – дворцовая художница при принцессе Елизавете. А что там за дверью?
– Нам пора в Аванзал Большого столового прибора, – сказала я. – Надо поторопиться.
– Никто меня никогда не торопит. Правда, Куртиус?
– О нет, Крошка, не надо ее торопить!
В зале караула, где все дожидались своей очереди, парни с коробками начали их спешно распаковывать. И тут я увидела в коробках мои восковые головы короля и королевы.
– Нет, прошу вас! – воскликнула я. – Не надо вносить их туда! Вы не должны этого делать!
– Нет, должны! – отрезала вдова. – Нам же надо оценить их сходство!
Я не смогла ей помешать. И раньше никогда не могла. Они вошли в зал. Вначале вдова, за ней Куртиус, потом парни с восковыми головами, а за ними Жак со своим слугой. Я не стала пробираться к швейцарским гвардейцам, как обычно, а держалась поближе к окнам, чем избежала начавшуюся суматоху.
В отличие от моих прошлых посещений Аванзала Большого столового прибора, сегодня переход людей из одного помещения в другое происходил не группами через определенные интервалы времени. Все встали толпой перед подковообразным столом. И сегодня гул голосов раздавался только за оцеплением королевских гвардейцев, со стороны публики. С другой стороны оцепления, где находились королевские особы, все только смотрели – но не на еду в тарелках, а на собравшийся народ.
Потом я заметила головы, мои головы, но их держала не я. Восковые король и королева, а перед ними – сам король и сама королева. Сходство обеих пар голов было полным. И если в самый первый момент по завершении работы я ощутила радость и гордость – это же были мои работы! – то сейчас меня внезапно одолело сомнение, которое как ядовитая лужа расползалось в моей душе. Головы, которые были подняты вверх, не имели тел, хуже того: обе были лысые, ибо на них отсутствовали парики, и посему выглядели они скальпированными. Они были устрашающе голыми и незаконченными. Там, где должны были быть глаза, зияли пустоты. Такое возникало впечатление, будто эти головы приволокли сюда прямо из прозекторской, и король с королевой лицезрели себя после смерти. Но я же этого вовсе не хотела. Это неправильно. Это чудовищная ошибка. Они никогда не должны были встретиться – мои король и королева и их живые прототипы. И тут я услыхала отчетливые хлопки в ладоши. Это, безусловно, аплодировал Куртиус. И я подумала: «Как чудесно! Как все-таки чудесно!» Но затем послышался стон, стонала женщина, затем раздался лай, похожий на собачий, а потом со всех сторон раздались крики, вопли, стенания.
Я убежала.
Я бросилась наутек.
Я спряталась.
Глава сорок четвертая
Дверцы буфета закрываются
Камеристки мадам де Полиньяк наконец меня отыскали: я пряталась на дворе, возле псарни. Меня отвели обратно во дворец, в апартаменты Елизаветы, втолкнули в мой буфет и заперли дверцы. Спустя, наверное, час, дверцы распахнулись, и Полиньяк самолично выволокла меня наружу. Две служанки задрали мне платье, и Полиньяк, занеся над головой трость, осыпала меня двадцатью тяжкими ударами. Со мной обошлись как с нашкодившим ребенком, хотя в ту пору мне было без малого тридцать! Когда она завершила экзекуцию, меня водворили обратно в буфет. Я судорожно дышала, и все у меня болело и ныло.
И запертая в буфете, я лежала без свечей в кромешной темноте и выглядывала в замочную скважину. Никто даже не остановился у моего узилища. Елизавета раз прошла мимо, она было подбежала к буфету, но за ней по пятам шла одна из наушниц Полиньяк, и ей пришлось пройти дальше по коридору, не перемолвившись со мной ни словечком.
В скважину я увидела, как из мастерской мадам Елизаветы лакеи выносят вещи: воск, краски, банки со скипидаром и маслом, все наши инструменты. Я звала и колотила пятками в дверцы, но никто не пришел ко мне.
Когда же дверцы наконец отперли, я увидала Пайе, и та взмолилась не заговаривать с ней. Странно было такое слышать от нее. Потом я заметила, как что-то свисает с дверцы буфета: это был восковый предмет, подвешенный на бечевке. Елизавета, оказывается, подходила к буфету – не поговорить со мной, как я сразу подумала, но чтобы прикрепить что-то к дверце. Это был хорошо выполненный восковой муляж селезенки.
– Хорошая я наставница, – пробормотала я. – Теперь сомнений нет никаких!
Записка под муляжом гласила:
В ЭТОМ ШКАФУ
НАХОДИТСЯ ХАНДРА[8]
ПРИНЦЕССЫ ЕЛИЗАВЕТЫ
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ
Пайе шепотом известила меня, что отныне Елизавета не будет со мной видеться.
Но я сама отправилась к ней. Комната, которая всегда относилась ко мне в лучшем случае осуждающе, теперь казалась особенно враждебной.
– Ты уедешь домой, – объявила Елизавета.
– Мой дом здесь, – тихо произнесла я.
– Я тебе его одолжила. Временно. И твое время истекло.
– Я не понимаю.
– Ты нужна своему хозяину.
– Но я не хочу уезжать.
– Это не имеет значения.
– Я должна остаться здесь, с вами.
– Ты не моя.
– Мне еще нужно многому вас научить. Очень много чему.
– Мы закончили.
– Но я смогу приезжать сюда раз в неделю? Смогу я вас навещать?
– Гросхольц, послушай, сердце мое, мы больше не увидимся!
– Но так нельзя!
– Эти ужасные головы, лысые, безглазые. Королева была глубоко оскорблена. Лица с разинутыми ртами, вздутыми щеками. Точно простолюдины в городском кабаке.
– Но у меня было совсем иное намерение…
– Твои намерения ни при чем, дело не в них. Ты не спрашивала дозволения. Ты взяла и сделала. Твоего хозяина наказали. И лишь благодаря моему вмешательству их не арестовали и не посадили в тюрьму. Один из твоих домочадцев вел себя особенно буйно, и его пришлось усмирять. Мы приютили тебя, мы тебя кормили, к тебе относились с любовью и вниманием. А в знак благодарности ты изобразила нас свиньями в хлеву.
– Нет же, такими, какие вы в жизни. В точности как в жизни.
– Не тебе о нас судить.
– Я и не судила.
– Ты не должна на нас смотреть. Служанка не может смотреть на короля и королеву. Ну что ты наделала, Мари! И как только ты могла сделать эти головы?
– Прошу, Елизавета, прошу вас, верьте мне! Я не могла совладать с собой. Теперь я очень сожалею, очень-очень сожалею, но, когда я работала, мне это было просто необходимо, что я просто не могла заставить себя прекратить. Я больше не буду так делать!
– Не будешь!
– Я обещаю!
– Уже поздно.
– Мое место – быть рядом с вами!
– Больше нет.
– Мадам Елизавета, вы меня выгоняете?
– Мари Гросхольц, не только твой хозяин настаивает, чтобы ты уехала отсюда. Мне пора повзрослеть. Я хочу от тебя избавиться. Я больше не хочу тебя видеть. Игры закончились. Говорят, я слишком долго оставалась предоставленной сама себе.
– Как сама себе? Но я же была с вами!
– Нельзя оставаться так долго в одиночестве. Мне нужно больше времени проводить с тетушками. Прощай, Мари Гросхольц. Думай обо мне. Нет, нет, не трогай меня! Ты не должна до меня дотрагиваться!
– Но это же я, ваше сердце. Послушайте меня, я вас умоляю, я хочу быть с вами!
– Нет, сегодня я не стану плакать. Мне это больше не нравится.
– А я плачу.
– У прислуги не может быть чувств. Ты не плачешь, у тебя просто насморк. И я буду молиться, чтобы он как можно быстрее прошел. Что бы ты ни чувствовала, пересиль себя, спрячь свои чувства. Этого никто не должен видеть. Ты так нелепо выглядишь. Ты всегда такая неприглядная? Пожалуй, да. Наверное, я просто привыкла к твоей внешности.
– Но как вы справитесь? Что с вами будет?
– Подумать только: было время, когда тебе казалось, будто мы внешне похожи. Но теперь разве кто-нибудь такое скажет?
– Вы превратитесь в старую тетушку уже к концу недели.
– Прощай, Мари.
– Вы еще пошлете за мной. Вы всегда говорили, что пошлете за мной. Я буду ждать.
– Прощай, прощай!
– Я разве не могу сказать, что мне жаль? Вы сами не видите, как мне жаль?
Последним ее подарком мне была восковая селезенка.
– Елизавета!
Так я узнала, не только что твой любимый человек может от тебя отречься, бросить тебя ради кого-то другого, но и еще что, пускай ты любишь кого-то, этот кто-то может от тебя убежать, и даже если ты раскроешь объятья, никто в них не упадет. Той Елизаветы, которую я любила, больше не существовало. От нее осталась только скорлупа, гипсовая фигура. Пустая. В ней не было ничего, кроме запертого внутри затхлого воздуха. Как же мне хотелось ее расколотить!
Но мне было позволено лишь опустошить полки моего буфета.
Я привыкла втискиваться в мир, в его крошечные пустоты. Я никому не навязываюсь, не корчу из себя чего-то грандиозного. Я нахожу прорехи и поселяюсь в них. Но теперь очередная прореха закрылась перед моим носом.
Я аккуратно сложила свои пожитки в рундук. Рундук снесли вниз.
Я открыла дверь ее спальни и заметила коробку, в которой обитал гипсовый Иисус.
– Ты поедешь со мной, – предупредила я. – Только будь осторожен: не выпади из высокого окна.
Но раскрыв его коробку, обитую изнутри бархатом, я увидала, что его там нет, он был с Елизаветой. Он меня одурачил. Час спустя, когда я пошла попрощаться с Елизаветой, ее комнату со злобными предметами караулили лакеи, запретившие мне войти. Мне нужна была одна последняя голова. Я не могла уехать без нее.
– Мадам Елизавета, мадам Елизавета! – громко позвала я. – Прошу вас, мадам Елизавета, я не делала вашего изваяния. Мне нужно сделать вашу голову не для кого-то, а только для себя. Прошу вас, мадам! К вам взывает ваше сердце! Ваша хандра, если угодно. Ответьте мне!
Вышла ее фрейлина.
– Фурия! Слава небесам, это вы! Впустите меня к ней!
– Меня зовут, прошу заметить, маркиза де Монсье-Меринвиль, – холодно ответила она. – Мы тебя не знаем. Ты разве раньше была в Версале?
– Прошу вас, Фурия…
– Не обращайся ко мне!
– Прошу, мне надо попрощаться с мадам Елизаветой.
– В тебе больше нет нужды.
– Я могу увидеть ее лицо? Хоть на минуту.
– Иди прочь. Тут тебе не место.
И она отвернулась, эта Фурия. Такая неприступная, точно мы с ней до этого не встречались, сейчас она вела себя как взрослая дама. Мне отказали последние фавориты – Фурия и раскрашенный гипсовый человек. Два лакея отвели меня вниз, плотно держась возле меня с обеих сторон, словно торопились выпроводить.
Покуда меня поспешно вели по коридорам, я заметила, что была не единственная, кого попросили с вещами на выход. В коридоре стояли многочисленные сундуки, сновали лакеи, неся в руках какие-то вещи, обернутые в тряпицы.
– Куда это все уезжают? – спрашивала я. – Почему покидают дворец?
Но мне никто не удосужился ответить.
Жак ждал меня у ворот. Я обрадовалась ему. Но вид у него был неважный: синяки под обоими глазами и глубокая царапина на лбу, да и со мной он держался скованно и как-то неприветливо. С ним был и его прислужник со свирепым выражением лица – тоже весь в синяках.
– Тебе сделали больно, Жак? О Жак, мне так жаль, если тебе больно!
– Жаку не могут сделать больно, – буркнул он. – Никто не может.
Когда омнибус тронулся в путь, я думала только о любви. Я любила Эдмона Пико, но потом его у меня отняли. Теперь в одном кармане у меня лежало сердце, а в другом – селезенка. Иные доказательств мне были не нужны. Я уже возвестила о себе миру. Я оставила свои восковые клейма. Она еще за мной пошлет, думала я, она обязательно пошлет за мной.
– Мой буфет! – горестно воскликнула я. – Хочу к себе в буфет!
Но мой буфет заперли, и я уже не могла туда вернуться.
Книга пятая 1789–1793 Народный дворец
Моя жизнь с двадцати восьми лет до того, как мне исполнился тридцать один год.
Глава сорок пятая
Вход и выход
Всю дорогу до Парижа Жак не спускал с меня глаз – как и его бритый парень. И я поняла, что уж коли между нами могла бы завязаться беседа, начать ее предстояло мне.
– Кто твой друг, Жак?
– Это мой малец. Звать Эмиль.
– Привет, Эмиль, очень рада с тобой познакомиться. Я – Мари.
Эмиль молча скривил губы.
– Да он в точности, как ты! – воскликнула я. – Ты такой же был!
– Он меня малость копирует. А мне что? Он же мой лакей. Ему платят, чтобы он мне помогал.
– Ему платят, ты сказал?
– Нам всем платят.
– Видно, у вас и впрямь большие перемены и так много новых слуг.
– Это да. У нас места стало куда больше, чем раньше. И у меня теперь есть Эмиль, мы отлично ладим.
Эмиль оскалился на меня.
– Она хорошая, Эмиль, она – друг. Мы давно не виделись.
– Теперь я с тобой.
– Ну да. Со мной.
Поначалу мне показалось, что Жак Бовизаж поправился, но потом поняла, что он раздобрел не от жирка, а от заботливости. У него появилась привязанность, родительские чувства придали округлой мягкости грубым чертам его лица. В мое отсутствие, как я предположила, он нашел объект, на который можно было излить накопленный им запас нежности, чему я не удивилась, но все равно меня кололо чувство ревности.
Мы въехали в Париж и покатили по кривым людным улочкам, которые запомнились мне не такими унылыми, какими они выглядели сейчас, и наконец моему взору предстал наш бульвар дю Тампль.
И я его увидела – Обезьянник, значительно разросшийся за годы моего отсутствия. Я даже оробела. Это было похоже на встречу после десятилетней разлуки со старым другом, который из худенького юноши превратился в корпулентного господина. Некогда юноша стал взрослым мужчиной – и преобразился полностью.
На фасаде я увидела уже не одну дверь, а целых две – над одной висела вывеска ВХОД, над другой – ВЫХОД. Наш прежний сосед по бульвару – Маленький житейский театр – был снесен, и на его месте выросло новое крыло Обезьянника. Справа, на пустыре, где некогда располагалось кафе шахматистов, появились новые пристройки. Всю эту разросшуюся архитектурную громаду теперь защищали высокая металлическая ограда и широкие ворота с торчащими вверх пиками, в которые меня впустил Жак. Высоко на воротах висел старенький колокольчик Анри Пико. Я подошла к двери с вывеской ВХОД, но прежде чем поднялась по ступенькам крыльца, Жак взял меня за руку.
– Не сюда, Крошка, входить надо через заднюю дверь.
Я последовала за ним и вступила на незнакомую территорию: крашеные стены, грязные полы, повсюду сновали мальчишки, занятые своими делам. Возле заднего входа громоздились витринные манекены. Я их узнала! Это были последние останки воспоминаний об Эдмоне Пико, сгинувшем в типографии Тикра. У одного манекена на лице виднелись усы. Я поглядела на них с ужасом. Но Жак потащил меня дальше.
– Идем, – озабоченно произнес он. – Скорее! Нельзя заставлять их ждать.
В кухне я увидела Флоранс Библо: ее лицо по-прежнему лоснилось, но теперь появились новые морщинки и складки, и ей помогала худенькая девчушка в фартучке.
– Привет, Флоранс! – воскликнула я. – Помнишь меня? Как же я соскучилась по твоей стряпне!
– Гыгыгы, – произнесла она со смешком, в точности, как раньше.
– Крошка, поспешим. Не надо их огорчать!
Меня привели в кабинет. По полу были расставлены металлические котелки, наполненные сигарным пеплом и окурками, типографские оттиски портретов разных людей висели на стенах и валялись на большом письменном столе в центре. Жак попросил меня подождать и исчез.
Такое со мной уже было, подумала я, это похоже на мой первый день в Версале. Но как же не походил этот дом на дворец, и как не походила эта комната на дворцовые покои. Через мгновение головы на бумаге, казалось, содрогнулись в ужасе: распахнулась дверь, и появилась вдова Пико. Она была массивная и вся в родинках, гора волос горделиво возвышалась над ее головой, губы и брови непотребно выпячивались, и вся она смахивала на гигантскую смазливую жабу в роскошном платье, наглую, злобную и, как всегда, не в духе. Ее стянутые лентой волосы были спрятаны под огромным кружевным капором, но вся ее одежда, что не ускользнуло от моего взора, выглядела не вполне свежей и слегка выношенной.
– Хватило же нахальства заявиться сюда! – буркнула она. – И зачем нам те, кого выгнали из дворца пинком под зад?
– Я хочу туда вернуться. Я не хочу оставаться здесь.
– Но ты не сможешь туда вернуться, мерзавка, так что не унывай!
Дверь снова отворилась, нарисованные головы на стенах вздрогнули, и в кабинете появилась, в шелках и в пудре, тощая фигура моего дорогого хозяина, сильно исхудавшего, но в новой одежде и в новых перстнях с сияющими камнями, хотя все это богатое убранство прикрывало одряхлевший и насквозь больной остов. Игривая мушка теперь перебралась на его подбородок, но и она не могла приукрасить общую картину.
– Дорогая вдова Пико, – произнес он.
– Доктор Куртиус, – кивнула та в ответ.
– Все хорошо?
– Вполне, вполне.
– Я чувствую себя великолепно.
– Рада это слышать.
Из чего я заключила, что хозяин и вдова видятся не каждый день.
– Она вернулась.
– Я хочу обратно в Версаль, – заявила я.
– Но тебя там не примут, Мари, – возразил мой наставник. – Тебя же отправили домой.
– Я уже ей это сказала. Но она мне не верит!
– Елизавета непременно пришлет за мной, – уверенно заявила я.
– От тебя одни несчастья, – запричитала вдова. – Швейцарский гвардеец избил Жака. У него кровь шла из раны на голове. Вот какие люди в твоей родной стране!
– Мне очень жаль.
– Да уж как не жалеть!
– Мне, как и раньше, придется заниматься волосами? – спросила я.
– Будешь заниматься, чем скажут! – отрезала вдова. – Ты, может, из дворца к нам пожаловала, но тут у нас свой дворец, который называется Большой Обезьянник. И я не желаю слышать ни про какой другой!
– Да, мадам.
– Боюсь, я не смогу дать тебе ключ от шкафа с воском, Мари, – добавил Куртиус.
– Разумеется, нет! – подтвердила вдова.
– Тебе еще многому нужно научиться, Мари, но нам предстоит сделать так много голов и рук, что ты должна немедленно приступить к работе.
– Я должна? – переспросила я. – Благодарю вас, сударь. Я вам за это премного благодарна!
– Ты смотри, нос-то не задирай! – добавила вдова. – И не броди там, где нельзя. На чердаке опасно, там пол может провалиться. Если заберешься туда – полетишь вниз и убьешься насмерть! Строители Большого Обезьянника нам настрого наказали туда не подыматься.
– Не буду, мадам. Прошу прощения, сударь мой, мадам, можно спросить? Вы будете выставлять королевскую семью за трапезой?
Повисла тишина, прежде чем вдова пробормотала:
– Требуется возмещение Жаку.
– Значит, будете? – прошептала я. – Будете!
– И чего она раскричалась? Никогда не могла терпеть ее воплей!
– И мне будут платить, как всем остальным. Теперь мне будут платить?
– Покончим с этой беседой, – заявила вдова. – Я не больно хотела ее заводить, а теперь она мне вконец испортила настроение. Я ухожу. Вернусь вечером. Это будет не слишком поздно. Если я вам понадоблюсь, пошлите за мной мальчишку. Я буду находиться среди достойных людей.
Она выплыла из кабинета, что-то бурча себе под нос. Мы с моим наставником стояли и глядели друг на друга, не зная, что сказать. Наконец Куртиус, потрогав свою мушку, пробормотал:
– Она ушла в Пале-Рояль. У нее там комнаты. Ее облагодетельствовал сам герцог Орлеанский, он дал ей свое разрешение.
Я промолчала, а Куртиус продолжал:
– Эти дни она проводит там почти все время, курит сигары. Мы держим в Пале-Рояль наши лучшие восковые фигуры, самых благородных представителей высшего общества. Вообще-то нам здорово повезло. Такое место, и весьма приемлемая плата. А тут у нас остались только преступники и самые жуткие уроды. Понимаешь? Здесь – самое низкое отребье, а там – только благородные люди. Она присматривает за благородным семейством, а я стерегу сброд. Мы пришли к такому соглашению, понимаешь? Вот так мы теперь и живем: раздельно.
– Со времени моего отъезда, сударь, все так разрослось.
– Да, – печально согласился он. – Мы процветаем.
– Прошу прощения, сударь, я не могла не заметить. У вас что-то прилипло к подбородку?
– Прилипло к подбородку? – пробормотал он, снова тронув темное пятнышко. – Ах да, я иногда забываю, что у меня там это. Предполагается, что с ним я выгляжу привлекательнее.
– Вы так считаете, сударь?
– Я это делаю для нее. Знаешь, Крошка, эта мушка обошлась мне в тридцать пять ливров. Но она наилучшего качества, из черной тафты. Я так и не решил, где ее лучше пристроить. Иногда я прикрепляю ее на щеку, иногда – над верхней губой. А недавно она сама собой осталась на подбородке, и, мне кажется, там ей самое подходящее место. Но, по правде говоря, Мари, это все не стоит хлопот. Она все равно не обращает внимания.
Он вновь умолк, потом издал протяжный меланхоличный вздох и слегка встряхнулся.
– Ладно, пойдем со мной.
И мы пошли – но не в прежний Обезьянник, а через обширную новую пристройку, где я еще не была.
– Вам понравились головы? – спросила я. – Мои головы. Хотя бы чуть-чуть.
– Я надзираю за коллекцией недужных уродов.
– Мы прошли долгий путь после Берна, сударь.
– Берн? О да, я его помню, Крошка. Да, долгий путь – и да! Вот кем я стал. – Он ускорил шаг, точно за нами гнались. – Я тебе скажу кое-что, Мари. Люди поняли, в чем состоит мой талант. Я великий уравнитель. Понимаешь, я уравниваю людей. Обо мне писали в газетах – и я это читал! – и теперь, Крошка, меня называют великий уравнитель.
Он бросил на меня странный взгляд, точно внезапно пробудился ото сна.
– О, моя дорогая Мари, – воскликнул он, глядя прямо на меня и улыбаясь мне впервые за все время. – Я бы никогда не сказал этого в ее присутствии, потому что она такая властная, но я… рад, что ты вернулась домой!
– Я тоже очень рада вас видеть, сударь, но еще я скажу, что мне было очень грустно покидать дворец. Я прониклась симпатией к Елизавете, а она ко мне. Думаю, мне следует туда вернуться, и как можно скорее. Вы же отпустите меня, не так ли?
– Версаль лишается своих обитателей, Мари. Аристократы спешно его покидают.
– Неужели? Вы уверены? Но почему? Я не пони-маю…
– Не знаю, известна ли кому-нибудь причина, кроме разве что вдовы, ведь она изучает тот мир. И никто не понимает его лучше, чем она. Все рушится, надвигается хаос, Мари, ты разве не видишь? Люди затевают горячие споры по любому поводу. Хотел бы я, чтобы они не спорили так яростно, но они спорят. И это ее очень огорчает. Месье Мерсье стал такой беспокойный, все бегает, суетится, точно его замучили глисты. Все очень неопределенно.
– Так может быть, оно и к лучшему, что меня отослали оттуда прочь?
Куртиус, похоже, меня не слышал. Он ни с того ни с сего спросил:
– А она любила тебя, твоя Елизавета? Как это приятно быть любимым. Пойдем-ка…
Версаль? Аристократы его покидают? Разве такое возможно?
И я задумалась, наступит ли снова какая-то определенность.
Глава сорок шестая
Новое начало
– Появляются головы, новые головы, о которых приходится каждый день думать, – объявил мой наставник. – Обезьянник так разросся, что теперь мы уже не можем остановиться, даже если бы хотели. Вон там, Мари, твоя мастерская.
– Моя собственная мастерская?
– И с тобой будет постоянно работать Жорж Офруа.
При этих словах показался мальчуган.
– Здравствуйте, мадемуазель, – произнес он с поклоном.
Это он ко мне обратился.
– Привет, Жорж, приятно познакомиться.
Какое веселое, здоровое личико и какие кривые зубы! Он сразу мне понравился. Самый обычный тринадцатилетний мальчишечка. С каких пор мне знакомы такие создания?
– Я буду выполнять все, что вы мне поручите, – сообщил он. – Я к вашим услугам.
– Очень рада это слышать. Я и не знала, что у меня будет помощник. Раньше никогда не было.
– Я буду все хорошо делать для вас, мадемуазель.
– Не сомневаюсь.
– Я видел ваши королевские головы перед тем, как их отвезли в Пале! – воскликнул он. – Они такие знаменитые! Здоровские головы!
– Спасибо, Жорж, – вскричала я. – Так вот, значит, где они! В Пале-Рояль! Мои головы! А можно их увидеть?
– Тебе пора браться за дело, Крошка, – вмешался мой хозяин. – У тебя очень много работы!
Мастерская оказалась тесной комнатушкой, примыкающей к мастерской Куртиуса в первом этаже новой пристройки. Когда-то это был чулан с посудой, откуда все вынесли и поставили там стол и два стула. Своей двери в чулане не имелось, и туда можно было попасть, только пройдя через мастерскую моего наставника. В чулане было оконце, довольно высоко расположенное, поэтому мне пришлось приставить стул, чтобы выглянуть наружу. Но как бы там ни было, я обзавелась собственной комнатой, своей мастерской.
В первый день мои пальцы перетрогали все инструменты и банки, даже воск. Нам с Жоржем предстояло вылепить восковые руки для изваяния, для которого наставник сейчас заканчивал голову, а туловище изготавливалось в другой мастерской. Нашим первым заданием стали две лопатообразные заготовки для кистей с толстыми, как сосиски, пальцами, а потом в мою комнатку прибыло огромное туловище, с виду – типичного булочника из Шарантона, к которому предстояло приладить отлитые отдельно руки. Голова для этих пухлых рук была вся в оспинах, в пышном всклокоченном парике. Он смахивал на льва, изготовившегося к спариванию. Звали его граф Мирабо.
В тот первый день эти пухлые руки так захватили воображение, что я и думать забыла про Елизавету, идущую по коридору со своим гипсовым спутником в руках. Мысли были поглощены совершенно другими вещами. В процессе работы я обратилась к своему подмастерью:
– Прости, Жорж, не хотела совать нос, но скажи мне: тебе платят за работу?
– Конечно, мадемуазель, точно, как по часам. А иначе я бы тут не остался. Я хожу в расчетную, и мне дают мое жалованье. Хорошая работа.
– А как думаешь, Жорж, мне будут платить?
– Ну, а как же! Должны!
– Ты так считаешь? Послушай, Жорж, можешь мне показать эту расчетную? В мое время такой комнаты тут не было. Сама я ее не найду.
– Да я с радостью. Прямо сейчас? Ну, конечно, нет ничего проще.
Мы пошли по коридору, завернули за угол и сразу попали в старый дом, где я знала каждую половицу. Когда мы поднялись по лестнице во второй этаж, нас встретил манекен Анри Пико, теперь облаченный в тонкую белую сорочку и шелковый жилет в крупную полоску. В помещении, называвшемся расчетной комнатой, стоял высокий несгораемый шкаф. Холодное нутро этого железного истукана было наполнено сокровищами Кабинета доктора Куртиуса. Позже я узнала, что от него было три ключа: один у вдовы, один у Куртиуса и один у счетовода. Когда мы вошли, этот самый счетовод восседал на высоченном табурете: на вид лет двадцать пять, преждевременно поредевшие каштановые волосы, карие глаза и неприветливое мучнистое лицо.
– Вот Мари Гросхольц, – представил меня Жорж. – А это, мадемуазель, Мартен Мийо. Он ведет учет.
Мартен указал на мои очки и произнес:
– Двадцать ливров, – и помолчав, добавил: – Вы жили во дворце.
– Точно.
– Оттуда каждый месяц приходили пятьдесят ливров.
– Пятьдесят ливров! – Названная сумма меня изумила. Мне она казалась целым состоянием.
– Мы иногда столько зарабатываем за несколько часов.
– Это мои деньги? Те, что прислали из Версаля. Я могу их забрать?
– Как забрать?
– Ведь эти деньги – оплата моих услуг.
– У меня нет полномочий выдавать такие средства.
– Но деньги ведь предназначались мне, не так ли? Это мое жалованье.
– Вполне возможно, но у меня нет полномочий.
– Прошу прощения, но теперь мне будут платить? – настаивала я. – Теперь, когда я вернулась, у меня будет жалованье?
– Мне ничего не говорили, ни о том, что надо платить, ни о том, что платить не надо.
– Королевская семья за трапезой – это же я сделала головы. Это моя работа.
– Неужели? И что с того?
– Разве мне за них не заплатят?
– Что вы от меня хотите, мадемуазель? Мне об этом никто и слова не сказал, ни да, ни нет. А без указания деньги не переходят из рук в руки. У вас такой несчастный вид. Не огорчайтесь вы так, я тут ни при чем. Я складываю, я вычитаю. Я понятия не имею, что вы за птица. И я прошу вас: успокойтесь!
– Давайте вернемся к работе, мадемуазель, – произнес Жорж.
– Полагаю, так будет лучше, Жорж, – ответила я.
– Не печальтесь, мадемуазель.
– Нет, Жорж, я просто надеялась.
А когда наступил вечер, по зданию прокатилась волна нарастающего гудения, после чего все предметы в мастерской затряслись.
– Это публика, – пояснил Жорж. – Двери раскрылись, и вошла толпа посетителей. Тут у нас обычно все трясется и даже падает, пока они не уйдут. Как говорит вдова, это хороший шум! Она называет это процветанием.
Все здание, оживленное людьми с улицы, сотрясалось. Чуть позже мой хозяин набросил пальто и вышел.
– Он часто выходит вечерами, – рассказал Жорж, – с Жаком и Эмилем.
– И куда они ходят?
– Точно не знаю. По каким-то притонам и питейным заведениям, где драки и поножовщина дело обычное. Опасные, в общем, местечки. Теперь, когда он ушел, хотите увидеть их всех? Там есть щелочка.
Жорж, взяв меня за руку, повел по черной лестнице и потом по темному коридору. Мимо нас прошел человек – еще одно новое лицо.
– Ты что делаешь, Жорж? – поинтересовался он.
– Да показываю мадемуазель Гросхольц, где тут что.
Неужто я нуждалась в том, чтобы мне показывали, где тут что? Увы, да.
– Чего это ты тут шатаешься? – Из полумрака выплыло лицо паренька, почти утонувшее в огромном воротнике. Он свирепо щурился, а его глаза были расставлены так широко, что казались размещенными на разных сторонах головы. – Тебе тут нельзя.
– Я Мари Гросхольц.
– Да ну! Ну и что?
– Я сделала королевскую семью.
– А я-то думал, это Бог их сделал! – Парень вперил в нас сощуренный взгляд так, что каждый глаз по отдельности смотрел на меня и на Жоржа, после чего, ухмыльнувшись, он исчез во тьме.
– Это Андре Валентен. Билетер. Вообще-то у нас с ним никаких общих дел нет.
– Хорошо, что так.
– Ну вот мы и пришли.
И он показал мне дырочку, проверченную в стене. В нее можно было увидеть заставленный множеством восковых людей просторный зал, по которому расхаживала толпа живых людей, рассматривающих восковые статуи. Сколько же их тут было!
– Думаю, здесь собрался весь Париж, – заметила я.
– Думаю, так и есть.
Старый театральный реквизит исчез. Скудно освещенный зал купался в полумраке. Стены выглядели так, словно сквозь них сочилась вода. По залу ползали большие черные тени. Убийцы и убитые мрачно застыли в характерных позах. Это был «Салон великих воров». Здесь расположились самые отъявленные субъекты. Повсюду стояли фигуры негодяев, нагло кичащихся своими проделками. А живые люди двигались вокруг мертвых душ и вскрикивали или похохатывали при виде их застывших лиц. Там и сям были расставлены скамейки, где любой посетитель мог присесть и передохнуть подальше от этой нечисти.
– Видите господина, спящего на скамейке? – спросил Жорж.
Я увидела на скамейке мужчину средних лет, свесившего голову на плечо. К нему приблизились двое или трое посетителей, тыча в него пальцами и посмеиваясь. Один из них подошел и постучал мужчину по коленке. Когда тот не шевельнулся, посетитель стукнул его посильнее. А затем все трое разом вскрикнули, и я услыхала чье-то восклицание:
– Да он же восковой!
– Восковой человек притворился посетителем! – ахнула я.
– Этот спящий господин, – со смехом сказал Жорж, – восковая копия Сиприена Бушара, мастера росписи по фарфору. Он выиграл в лотерею.
А лотерея, как объяснил мне Жорж, разыгрывалась каждые полгода. Это было шумное публичное событие: в мешок складывались бумажки с именами, и тот, чье имя вытаскивали, становился новым экспонатом музея восковых фигур. До сих пор было три победителя лотерей: судомойка, парикмахер и мастер по росписи фарфора. Их расставили в зале среди знаменитых и одиозных персонажей. Судомойка рядом с убийцей, парикмахер рядом с вором, художник по фарфору рядом с невестой-утопленницей.
– Ну и задумка! – покачала я головой.
Все шумы расширенного Обезьянника, его трескотня и перестуки, его беспорядочные голоса и отголоски были мне в новинку. Той ночью после того, как посетители покинули здание, я примостилась на лежанке в своей мастерской и вслушивалась в дыхание здания, которое производило массу странных звуков – так дом разговаривал, и так бывало всегда раньше, но теперь звуки были совершенно иные, в них слышались новые жалобы, поэтому как только я собиралась наконец уплыть по волнам сна, так меня будил новый звук. И вскочив и вслушиваясь, я не сомневалась, что услышала чьи-то шаги неподалеку.
Глава сорок седьмая
Визит
Звуки возвращались каждую ночь, когда я лежала на своей лежанке: кто-то бился в стенку и царапался. Иногда, в полусне, мне казалось, что кто-то пробрался ко мне в комнату. И я в испуге вскакивала и глядела на дверь: иногда она оказывалась приотворена, хотя я всегда перед сном ее плотно закрывала. Наверное, успокаивала я себя, это мой хозяин бродит по дому.
Однажды ранним утром я проснулась, когда свет едва брезжил в оконце, и вдруг осознала, что не одна. Кто-то сидел на стуле передо мной.
– Привет! – произнесла я.
Ответа не последовало.
– Кто здесь?
Но вошедший не издал ни звука.
– Это ты, Жорж? Не глупи, что ты тут делаешь?
Но тот лишь молча смотрел на меня. Когда от утренней зари в комнате стало чуть светлее, я различила едва заметный абрис чепца. Маленькая женщина.
– Это ты? – воскликнула я. – Елизавета! Ты пришла ко мне!
Но она ни слова не вымолвила.
– Ку-ку! – вспомнила я нашу детскую игру.
Никакой реакции. Рассвет уже сиял вовсю, и я постепенно рассмотрела сидящую фигуру. На ней было черное платье и белый чепец, а на груди красный круг с буквой К в центре – сейчас все работники в доме носили такие. С каждой секундой я различала больше деталей. Женщина смотрела на меня черными блестящими глазами.
– Вы кто? Зачем вы пришли?
Но она просто сидела и смотрела немигающим взглядом.
– Прошу вас, не молчите. Поговорите со мной. Зачем вы здесь?
Но она смотрела и смотрела.
Тогда я подалась вперед и слегка ткнула ее, а она качнулась, упала на пол и осталась лежать неподвижно.
Я нагнулась и потрогала ее волосы. Волосы сползли с головы.
Я вскрикнула.
А потом поняла: странная лысая женщина была не живая, а совершенно мертвая и никогда не была живой, потому как это была кукла. Кукла-коротышка, сделанная не из воска, а из дерева, одетая в полотняное платье, со стекляшками-глазами, вставленными в лицо. Я усадила ее на стул. Она оказалась довольно тяжелая и неуклюжая, ее конечности болтались в разные стороны. Кто-то подложил ее ко мне в комнату, чтобы напугать меня. Какое жуткое, отвратное лицо! На меня таращились невидящие глаза. Я водрузила ей на голову парик, хотя мне было неприятно до него дотрагиваться. Когда я вернула несчастной кукле более-менее нормальный вид, дверь скрипнула, и кто-то, кто все это время прятался за ней, бесшумной тенью метнулся через мастерскую моего наставника в коридор. Я поспешила следом, направляясь за скрипом половиц, точно дом указывал мне путь, желая, чтобы я настигла злоумышленника. Я остановилась у ведущей на старый чердак лестницы, оказавшись на рубеже запретной территории. Но в ту минуту я не думала, что чердак представляет смертельную опасность – теперь меня уже ничто не могло остановить. Я медленно двинулась вверх по скрипучим ступенькам, осторожно делая шаг за шагом. Встав на верхней ступеньке и оглядевшись, я никого не увидела во тьме. Но затем, спустя довольно долгое время, уже когда мое дыхание выровнялось, заметила в кромешной темноте небольшое пятно, которое двигалось ко мне и становилось чуть светлее. И у него было имя, о, его звали, да-да, Эдмон Анри Пико!
Глава сорок восьмая
Расклейка объявлений запрещена
Эдмон Анри Пико. С усами, сединой в волосах и с безумным взглядом. Я невольно прикрыла рот ладонью, чтобы не закричать. Он приблизился ко мне плавным движением, точно дуновение ветерка, произведенное пауком в паутине, и прошептал:
– У вас катар? Это мощное снадобье достоверно исцеляет. Назалиа. Очищает и прочищает органы дыхания. Проникает в самые труднодоступные складки слизистой оболочки глотки и носа, растворяет и удаляет все сухие отложения и мокроту, подавляет воспалительный процесс, избавляет от шума в ушах и устраняет частичную потерю слуха.
– О, Эдмон! – воскликнула я. – Что с тобой произошло, мой дорогой Эдмон?
– Вы страдаете от кожных болезней, – продолжал он, – в виде раздражения, прыщей, угрей и красных пятен, которые могут вызвать экзему с невыносимой чесоткой и жжением? Но разве два ливра – слишком большая цена за полное излечение экземы?
– Эдмон, что случилось? Ты что, живешь здесь совсем один?
– Слабительные и освежающие фруктовые пастилки. Очень приятные на вкус. Тамар-амар, сушеный индийский сверчок, от запоров, геморроя, разлива желчи, головной боли, потери аппетита, желудочных и кишечных недомоганий. Тамар – индийский сверчок.
– О, Эдмон, что они с тобой сделали?
– Мышеловки! – повысил он голос. – Крысоловки! Больше никаких грызунов в доме!
Думай, Мари Гросхольц, думай.
– Мы не будем об этом говорить. Мы просто здесь посидим немного. Дай-ка мне перевести дух.
– Восточный десерт в Париже – фисташки.
– Да, Эдмон, конечно.
Теперь мои глаза привыкли к полумраку. И я увидела, что чердачные помещения… населены! Эдмон расставил витринные манекены по всем пустым местам. Еще тут стоял небольшой столик, а на нем – тарелки и чашки и даже скатерть. И у меня возникла новая догадка.
– А они знают, что ты здесь? Все те, кто внизу. Ты же не прячешься здесь, а, Эдмон?
Я взяла его за руку. Все пальцы у него были перепачканы типографской краской.
– Расклейка объявлений запрещена, – прошептал он.
– Они знают, не так ли?
– Расклейщики афиш будут строго наказаны.
– Да, они знают. – Ведь кто-то же приносил ему сюда еду и питье. – Так дело не пойдет, Эдмон.
Я дотронулась до его лица. Уши белые и холодные. Я потрогала его жалкие усики.
– Жди тут, Эдмон. Я скоро вернусь.
Принеся из своей мастерской острый нож, мягкое мыло и тазик горячей воды, я осторожно сбрила ему усики.
– Ну вот, – довольно заметила я. – Так-то оно лучше. Теперь ты на себя похож.
Но, по правде сказать, оставшись без усов, он мало изменился.
– Ты же узнал меня, Эдмон. Я знаю, что ты меня узнал. Сегодня утром ты кое-что оставил в моей мастерской. Не знаю, что с тобой стряслось, но ты выздоровеешь.
– Расклейка объявлений запрещена, – повторил он.
– Правильно, – согласилась я.
Внизу звякнул колокольчик.
– Мне надо идти, Эдмон, но я вернусь. Мне надо там внизу кое с кем поговорить. Да, надо! Но я вернусь.
В мою мастерскую пришел Жорж.
– Эдмон Пико, – глядя на него, произнесла я. – Он на чердаке.
Паренек ничего не ответил, но явно смутился.
– Где вдова? – спросила я.
– Прошу вас, мадемуазель, она ушла рано утром.
– Тогда где Куртиус?
– Он тоже ушел, совсем недавно. Вы с ним разминулись.
– Верю. Он услышал, что я на чердаке, и удрал, чтобы избежать неприятной беседы.
– Вполне возможно.
– Тогда где Жак?
– Еще не приходил.
– Скажи мне, Жорж, вдове известно о человеке на чердаке?
– Да, мадемуазель, известно. Это она его туда отправила.
– О, какая же гнусная женщина!
– Он, не переставая, плакал.
– Бедняжка! Жорж, расскажи мне, что случилось.
– У него было воспаление мозга, мадемуазель, полное нервное истощение. А когда воспаление прошло, его мозги куда-то делись.
– И мне никто не сказал!
– Прощу прощения, мадемуазель, а разве они должны были? Почему?
– И он всегда один там на чердаке?
– Когда он один, то не такой нервный. Вы же видали ту деревянную куклу, мадемуазель?
– Да уж. Она меня напугала до смерти.
– Он сам ее сделал. А знаете, кого эта кукла изображает?
– Эдмон ее сделал сам? Неужели? Нет, не знаю.
– Нет, правда, вы не знаете, кого?
– Это какая-то женщина с жутким лицом, и от нее меня бросает в дрожь.
– Честно, вы не знаете?
– Нет, Жорж, не знаю. Я и правда никогда не видела никого с такой ужасной внешностью.
– Ну… вообще-то это вы, мадемуазель.
– Я?
– Вы.
– Неужели я так выгляжу?
– Ну, что-то вроде того.
– О!
Я ушам своим не могла поверить.
– Вы такая спокойная, мадемуазель.
И точно, спокойная.
– А я думал, вам это будет приятно, ну, знаете, что кто-то сделал ваш портрет.
– Такой, выходит, он меня видит.
– Он же сделал по памяти.
– Я не тщеславна. И никогда не была.
– Он так старался…
– На кукле моя старая одежда – теперь я поняла! И, полагаю, туловище сделано по моим меркам.
– Это и так видно с первого взгляда.
– Неужели?
– Он очень много труда вложил.
– Правда?
– Можно я вам что-то расскажу?
– Давай, Жорж.
– Ну вот, значит. Я вам расскажу про эту куклу. Может, вы все поймете. Ну так вот. Когда месье Эдмон приезжал к нам в гости, он сначала сидел со своей матушкой или рядом с манекеном своего папаши, а потом поднимался на чердак. И там, всякий раз когда приезжал сюда, что-то вырезал из дерева. Он, когда оказывался вдали от жены и забирался на самую верхотуру, мастерил вас. Из старой чердачной балки он вырезал вашу голову, хотя чердак очень сильно возражал, просто весь исскрипелся. Он же эту балку выдернул из кровли, после чего чердак малость перекосился. И потом, когда он сюда приходил, то садился и сидел на чердаке возле вашей головы. А когда вдова наконец нашла эту куклу, она подняла большой шум. Она эту куклу уж била-била, всю изуродовала. После того случая он стал реже приходить, жена его вроде к нам не пускала, и еще помню, они сцепились и жутко орали друг на дружку – мадам Корнели и вдова. И вдова нашла для куклы применение. Вы уж простите, мадемуазель, она поставила ее в окне отпугивать мальчишек с бульвара, когда те подкрадывались к дому поближе и заглядывали внутрь. А иногда ее использовали как груз, чтобы распрямлять вещи. Или подпирали ею двери, держа их нараспашку. Жак иногда ставил куклу на ступени крыльца и сидел там с ней рядом. И в конце концов ее оставили в доме. Вот, если угодно, мадемуазель, такая история про куклу.
Слезы ручьем лились по моему лицу – всхлипывая и шмыгая носом, я плакала из-за Эдмона и из жалости к себе.
– Он очень страдает? – спросила я. – Скажи мне, Жорж.
– Думаю, да.
– И что, Корнели его выгнала?
– Мы больше ее не видим. Месье Тикр привез его обратно. Мадам Корнели не желает с ним жить в таком его состоянии. Она расторгла брак. В суде, все чин чином. Она заявила, что месье Эдмон не пригоден быть супругом. И когда судья начал задавать месье Эдмону вопросы, тот только бормотал какую-то чушь, так что судья расторг брак, и его привезли сюда.
– С усами и пальцами, вымазанными типографской краской.
– Вдова не позволяет ему показываться на публике. У него слишком жалкий вид. Он распугивает посетителей.
– И она его прячет.
– Восковые люди приводят его в ужас. Ему лучше на чердаке. Ему туда приносят еду, а когда он спускается вниз, один из наших мальцов отводит его обратно наверх. Все чердачные помещения в его распоряжении, вдова говорит, что там темно и страшно, но это только для того, чтобы его оставили там в покое. Он и рад сидеть в одиночестве. Теперь он куда спокойнее, чем прежде. Думали, что ваше появление его сильно растревожит, вот вам и запретили подниматься наверх.
– Но он меня сам нашел.
– Да, нашел, мадемуазель.
– Он плетет какую-то ерунду.
– Это объявления, мадемуазель. Афиши, которые они печатали в типографии Тикра. Он их все выучил наизусть. В последнее время он ничего другого не произносит. Он просто повторяет их на разные лады. Снова и снова. Он способен выполнять только мелкие поручения, да и то не всегда. Иногда ему поручают что-то пришить, так он себе все пальцы искалывает иголкой.
– А вдова навещает его?
– Иногда. Но она такая гордая дама и не любит показывать свои слабости.
– И она позволила ему вот так жить одному на чердаке?
– По-моему, его это вполне устраивает.
– Посмотрим, – сказала я.
И потом весь день я поднималась на чердак и носила ему еду. Он держался тихо, еле слышно повторяя тексты объявлений. Когда же вдова наконец вернулась домой, я ее поджидала. Я поднялась на чердак, взяла Эдмона за руку и проводила вниз. Мы вошли в ее кабинет, без стука.
– Вот Эдмон, – произнесла я. – Это Эдмон!
С побелевшим от ярости лицом, вся трепеща, сжав губы, вдова прошипела:
– Уведи его прочь! Назад, на чердак! С минуты на минуту придут посетители.
– Останься, Эдмон!
– УВЕДИ ЕГО ПРОЧЬ!
Вошел мальчишка.
– Это ваш сын, – продолжала я. – Вы отказываетесь от него?
– СЕЙЧАС ЖЕ ВОН!
– Вежливое уведомление, – произнес Эдмон громче обычного. – Не входить.
И он по своей воле тихо вышел из комнаты. Мальчишка последовал за ним. Я осталась наедине с ней.
– Не воображай, будто ты меня знаешь, – заявила вдова. – Еще раз посмеешь мне возражать, и я тебя придушу. Вот этими самыми руками. Я из тебя душу вытряхну. Я тебе шею сверну и буду этому несказанно рада. Я бы и сейчас могла это сделать. Да кто ты такая, малявка, и кто я? Пошла вон!
Я ушла, но это было только начало.
Я каждый день мыла Эдмону пальцы. Я его кормила. Я ради него поднималась и спускалась по лестнице. Я приманивала его к себе в мастерскую. Я решила снова его обрести. Если Эдмон будет рядом со мной, я его обрету вновь.
– Эдмон, ты же знаешь, кто я. Знаешь! Я вернулась. Я снова здесь.
– Требуется агент по снабжению судна…
– Я не оставлю тебя на чердаке.
– Покупаем зубы.
– Ты теперь будешь внизу, со мной.
– Очень удобные помещения. Обращайтесь.
– Ты будешь со мной. Ты опять станешь моим собеседником.
– В том числе зал площадью около шести тысяч квадратных футов.
– И тогда в разговоре…
– Фасад длиной около ста тридцати одного фута.
– … проявится настоящий Эдмон.
– Сдается в аренду.
Глава сорок девятая
Все в сборе
Нас навестил Луи-Себастьян Мерсье. Он нашел меня в моей мастерской, где мы с Жоржем изготавливали руки. Эдмон молча сидел в углу.
– Ты вернулась, Крошка! Снова в гуще событий!
– Не так громко, месье! Эдмону это вредно. Вон он сидит. Посмотрите, что с ним стало!
– Ах да. Я слышал. Но, Мари, – сказал он, просияв, – я видел королевскую семью!
– Правда? Как там Елизавета?
– Нет, я имею в виду восковые фигуры. Смело! Представить их в таком виде!
– Спасибо. Как поживаете, дорогой месье Мерсье? Как ваши башмаки?
– Держимся. Еще как держимся!
Покуда мы с Жоржем работали, Мерсье рассказывал, какой кипучей стала нынче жизнь, как она заставляет его бросаться из одного конца города в другой, точно весь Париж содрогался от нескончаемого землетрясения. Иногда, признался он, ему на улице попадалась вдова, которая без устали собирала городские новости. Он снял башмаки и продемонстрировал нам. Их подошвы и впрямь сносились до предела. Он показал нам тонкую брошюрку, которую недавно завершил: «ЗНАМЕНИТЫЕ САЛОНЫ ВОСКОВЫХ ФИГУР», – и прочитал оттуда фрагмент:
В это новое время стремительных перемен Кабинет доктора Куртиуса – самая известная достопримечательность Пале-Рояль и бульвара дю Тампль. Кое-кто даже считает, что никакое иное зрелище не может затмить его во всей столице. Заведение Куртиуса – великолепное развлечение для мужчин, занятых разным ремеслом, для детей, дам, стариков и просто любопытных, для малосведущих, смельчаков и бескрылых обывателей, для утомленных жизнью и испытывающих недостаток острых впечатлений, для лощеных щеголей и оборванцев, для слабых телом и духом и для облеченных властью, для хозяев и их слуг, для дерзких и степенных, для местных, желающих постичь тайный механизм жизни своей столицы в эти времена перемен, и для приезжих иноземцев, стремящихся понять неведомый им город.
Едва ли во всем Париже найдется человек, для кого сегодня, в наше удивительное время, заведение Куртиуса никоим образом не находило бы отклик в душе. Неважно, насколько хорошо, по вашему разумению, вы знаете этот город, у Куртиуса всегда найдется для вас сюрприз, точно это доктор Куртиус и никто иной решает, кого следует выдвинуть вперед, а кого убрать в сторону. Все самое известное, самое великое, самое невероятное и вдохновляющее, как и самое гнусное, – все собралось в этом Кабинете. И если ныне живущие знаменитости могут разочаровать вас в реальной жизни, на краткий миг мелькая в отдалении перед вашим взором, у Куртиуса они никогда не разочаровывают. В его заведении у самых изысканных дам и господ всегда найдется время буквально для каждого. Ибо вот вам правда: Куртиус в своем огромном зале аннулировал все привилегии! Куртиус упразднил все правила этикета. Куртиус отменил общественные классы. Где еще в целом мире бедняк может подступить к королю? Где посредственность может дотронуться до гения? Где уродство может приблизиться – без смущения и стыда – к красоте? Такое может произойти только в этом Кабинете.
Это правда, что особая магия Куртиуса действует лишь в стенах его выставок; оказавшись вне этих стен, вы вновь попадаете под пресс повседневных забот и надежд. Но кто станет сетовать, узрев чудо встречи школяра с героем его грез? Кто станет сетовать, увидев, как ученый муж из Сорбонны с благоговейным восторгом подходит к фигуре выдающегося писателя, чьи слова наполнили новым смыслом его жизнь? И кто станет сетовать, когда обычная законопослушная матрона с ужасом увидит вблизи самого известного убийцу нашего времени? И кто, в самом деле, станет сетовать, если любой подданный Франции может прийти в Пале-Рояль и увидеть, в любое удобное для себя время, в любой день недели, монаршую семью за трапезой, и шагнуть к ним поближе, дабы ощутить свою связь с королем или королевой, какую он никогда не ощущал, и даже может, всего-то за три ливра, коли ему достанет – а кое-кому достает! – мужества и дерзости их… ПОТРОГАТЬ?
Да будет так!
Даже таинство королевской власти разоблачается в Кабинете доктора Куртиуса!
– Благодарю вас, месье Мерсье, – улыбнулась я, принимая от него тонкую книжечку. – Я буду ее беречь как зеницу ока.
– Как думаешь, Крошка, может быть теперь они сподобятся сделать мой новый бюст? Для Пале-Рояль, конечно, а не для этого дома. Как думаешь, они сподобятся?
– Кто знает, – ответила я. – Это не мне решать.
– Ты думаешь, что нет, так?
– Я просто не знаю.
– Нет, нет, – пробормотал он. – Я всякий раз участвую в восковой лотерее, бросаю бумажку со своим именем.
– Парное молоко, свежие яйца, – произнес Эдмон.
Глава пятидесятая
в которой головы похищены
Вдова поменяла униформу слуг в фойе. Шелковые платья были сняты и взамен них выданы черные хлопчатобумажные сюртуки и черные панталоны, простенькие черные шляпы-треуголки, но на одежде по-прежнему красовалась розетка с буквой К в центре. Этот унылый наряд копировал платье, которое носили представители простого народа в новом парламенте.
Как-то в воскресенье, вскоре после моего возвращения, по всему городу слышались церковные колокола, и звонили они куда дольше обычного. Мы работали в своих мастерских утром, мало обращая внимания на неумолчный перезвон, и Эдмон беспокойно ходил взад-вперед по своему чердаку. Я поднялась успокоить его, но он разнервничался не на шутку. Я прикрыла ладонями ему уши, раньше это всегда помогало. Я обещала, что колокола очень скоро замолкнут, но они все не замолкали. А днем после обеда вдова вернулась в Обезьянник и с воплями ворвалась в мастерскую к моему хозяину.
– Похитили! Наше имущество похищено! Головы! Наши головы, Куртиус!
Лицо вдовы раскраснелось, по ее щекам градом катился пот.
– Мадам! – вскричал Куртиус. – Что вас так расстроило?
– Головы! Головы! – задыхаясь, причитала она.
– Так, – спокойно откликнулся мой наставник. – Какие именно?
– Их украли у нас, – воскликнула она, пытаясь перевести дух, – из Пале-Рояль!
– Воры?
– Средь бела дня! Их были сотни!
– Сотни голов?
– Нет же, людей! Сотни воров, и все требовали одного и того же.
– Головы?
– Да, Куртиус! Нас лишили нашей собственности!
– Но чьи это были головы?
– Наши!
– Но чьи именно?
– Министра финансов Неккера и герцога Орлеанского.
– И зачем?
– Чтобы поднять их и нести по улицам в погребальной процессии.
– Но это же наши головы. Зачем они так поступили?
– Куртиус, очнитесь! Слушайте, что говорят люди! Министра уволили, герцога изгнали! Люди ходят толпами по городу, держа наши головы. Коль скоро живых людей нет, их заменили имитациями.
– Пускай они обзаведутся собственными головами Неккера и герцога Орлеанского и носят их. А это наши головы!
– Они что-то пели, стучали в окна, потом ворвались в салон без билетов и потребовали головы.
– А вы что сделали?
– Я их отдала. Они бы их забрали в любом случае и нанесли бы им бог знает какой ущерб. Им хотелось заполучить и короля, но я умолила их не делать этого, потому что король – полноразмерное изваяние, и очень тяжелое, а те двое – простые бюсты.
– Король – это моя работа, – заметила я. – И я рада, что король уцелел. Благодарю вас за то, что вы его спасли.
Вдова демонстративно повернулась ко мне спиной.
– Их следует арестовать, – простонал Куртиус. – Эти головы сделал я! Это частная собственность.
– Я запомнила два имени. Франсуа Пепин, уличный торговец, и Андре Ладри, продавец лимонада.
– Они за это заплатят!
– Они обещали вернуть головы.
– Не следовало позволять им уносить головы!
– Вас там не было, – прошептала она, очень тихо, но я услышала. – Я была там совсем одна. И я… испугалась.
После этих слов наступила тишина, такая гробовая тишина, точно вдруг в плотной ткани образовалась зияющая прореха – словно вдова распоролась по швам, а с нею лопнул и наш привычный мир.
– Вы – испугались? – с сомнением шепнул Куртиус. – Вы? Ни за что не поверю!
– Я подумала, что они меня убьют, эти люди. Это им было бы сделать легко. Они бы обступили меня и, если бы решились на такое, ничего бы их не остановило! Кто-нибудь выхватил бы острый нож, всадил бы в меня, вынул – и мне конец. Я могла бы умереть там, могла бы! Теперь я думаю, мне просто повезло, Филипп, – произнесла вдова, и слезы брызнули у нее из глаз.
– Вы раньше никогда не называли меня по имени.
И это был очередной шок.
Думаю, в то мгновение мы все испугались.
Глава пятьдесят первая
Касательно капитана Куртиуса
Воск используется в мушкетах, ружьях и мушкетонах. Им смазывают спусковые механизмы оружия, делая их более подвижными; воск, нанесенный на канал ствола, улучшает прохождение в нем пороховых паров и скольжение пули.
Всю ночь не смолкал шум. Людские крики на бульваре, звон выбитых стекол. Вдалеке гремели выстрелы. Все эти звуки проникали внутрь, после чего Большой Обезьянник словно забавлялся с ними: искажал и продлевал, перебрасывал от стены к стене и, похоже, не хотел с ними расставаться. Эти звуки ужасным образом действовали на Эдмона, совершенно лишая сна. Уж не знаю, сколько дверей и окон было выбито в ту ночь в городе, но прочные двери Обезьянника устояли. А наутро городские колокола горланили вовсю, окликая друг дружку через весь Париж. Но Большой Обезьянник стоял неколебимо. Все двери были накрепко закрыты. Работники, жившие в разных концах Парижа, не явились. Один только счетовод Мартен Мийо пришел, обеспокоенный, все ли цело. Мы, те немногие, кто остался в доме, неспешно, словно из-под палки, работали в задних помещениях. Мийо считал деньги, Жак резал полотно, вдова шила одежду для бюстов, наставник лепил головы, а я – руки. Эдмон где-то прятался, не желая находиться поблизости от своей маман. На протяжении дня, сосредоточившись каждый на своем – воске, волосах, дереве и холсте, мы забыли обо всем, думая лишь о деле.
Но ближе к вечеру звякнул дверной колокольчик. Жак пошел открывать. Он вернулся в сопровождении двух коммерсантов с бульвара: долговязого месье Николе, хозяина цирка канатоходцев «Гран дансёр дё корд», располагавшегося в кирпичном здании по соседству с нами, и огненно-рыжего доктора Грэма, владельца «Небесного ложа». Грэм был шотландцем – я этого не знала, пока он не заговорил, – то есть иностранцем, как мой хозяин и я.
Они оба пришли к нам, потому как, по их словам, на всем бульваре дю Тампль не было более известного места, чем Большой Обезьянник. Они не сомневались, что события прошедшей ночи нас сильно напугали, ибо нам было что терять. Ну не ужасно ли это, в один голос вопрошали они, что город остался теперь без направляющей десницы? Если что-то не предпринять, да как можно скорее, в городе воцарится хаос. Анархия расползется от квартала к кварталу, город будет охвачен пожаром, и все погибнет.
– Мы-то знаем, каково это потерять имущество, – заявила вдова. – Вчера нас лишили двух наших голов.
– Неккера и герцога Орлеанского, – уточнил Куртиус.
– Люди, которые вас обокрали и незаконным маршем прошли по улицам города, были обстреляны солдатами и разогнаны.
– А что с нашими головами?
– По улицам Парижа текут реки крови. Следует незамедлительно восстановить порядок!
– Мы получим назад наши головы?
Оба только что вернулись из ратуши на Гревской площади. Там состоялось большое собрание. Вот почему бил набатный колокол. Да, согласились оба месье, смутные времена настали, проще, конечно, сидеть дома, натянув на голову простыню, но если ничего не делать, кто-нибудь ворвется в дом, сорвет с тебя простыню и выгонит голым на улицу. Последнее предостережение было специально обращено к Куртиусу.
На собрании в ратуше было предложено сформировать силы гражданской милиции, достаточно многочисленные, чтобы можно было защитить Париж как от головорезов в мундирах по ту сторону городских стен, так и от расхристанной голытьбы в самом городе. Оба господина умолкли, а затем вновь заговорили медленно и внятно: было бы величайшим облегчением для всех обитателей бульвара дю Тампль и прилегающих кварталов, сказали они, если бы Куртиус, как наиболее уважаемый житель этого района, вызвался бы стать капитаном местной гражданской милиции. Вы согласны, капитан Куртиус?
Куртиус и вдова замерли, обомлев от услышанного. Сквозь стекла очков они оба теперь казались меньше ростом. Раздалось тихое журчание, издаваемое вроде бы моим наставником.
– Вы ошибаетесь, – наконец произнес он. – Я – Филипп Вильгельм Матиас Куртиус. Или доктор Куртиус. Вчера еще просто Филипп. Никогда не «милый», что правда, то правда, и не «дорогой». Просто Куртиус – что вполне приемлемо. И ничего более.
– Капитан Куртиус, – настаивали они. – Никто другой не годится на эту должность.
– Его место здесь! – заявила вдова. – Среди восковых людей!
– Но он и впрямь этого достоин, – не унимались коммерсанты. – И дабы защитить достославное население города, прежде всего надо защитить наш район.
– Нет, – возразила вдова. – Нет, это неправильно.
– Капитан Куртиус, – продолжали они стоять на своем. – Это великая честь – быть выбранным капитаном гражданской милиции.
– Не нужна ему эта честь, – проворчала вдова, обращаясь к обоим господам, – и ваша трусость не нужна!
– Но его имя уже записано в ратуше.
– Простите меня, Куртиус, за слова, которые я сейчас произнесу, – тихо проговорила она, глядя на моего наставника, и затем повернулась к посетителям. – Поглядите на него: разве он на такое способен? Да он не сможет. Он понятия не имеет о таких вещах.
– Приступайте к выполнению своего долга, капитан Куртиус.
– Капитан Куртиус? – переспросил мой наставник.
– Капитан Куртиус, вас ожидают в ратуше!
– Нет! – вскрикнула вдова. – Он никуда не пойдет!
– В таком случае есть вероятность, – заявил доктор Грэм, – что он будет арестован.
– Есть также вероятность, – подхватил долговязый Николе, – что ваш дом будет разграблен. И мы не сможем остановить мародеров.
Мой хозяин стоял молча.
– Кто-то должен пойти вместо него, – рассудила вдова. – Я пойду!
– Нет! – решительно замахали руками оба. – Нет и еще раз нет! Платье. Юбка. Ни под каким видом!
И тут заговорил мой хозяин.
– Капитан Куртиус! – объявил он. Это было заявление. Все вопросы отпали.
– Филипп, остановитесь!
– Благодарим вас! – обрадовались коммерсанты. – Мы салютуем вам!
А хозяин буквально отсалютовал им. Ни в одной армии мира не могли бы признать такое жалкое подобие воинского приветствия: короткий взмах ладони перед лицом, словно Куртиус муху отгонял.
Даже потерпев поражение, вдова знала, что делать.
– Жак, ты пойдешь с ним. И не упускай его из виду.
– Не упущу! – рявкнул Жак.
– И смотри, чтобы никто его не тронул.
– Не тронет!
– Вдова Пико, – обратился к ней мой наставник, – я – капитан. И что вы скажете капитану? У меня будет форма? Я бы не возражал. Я пойду к людям. Меня все знают. И они скажут: вот идет доктор капитан Куртиус.
Он снял мушку с подбородка и приладил ее к своей треуголке, точно это была кокарда.
– Сегодня, – объявил мой наставник, обращаясь к вдове, – я буду называть вас Шарлотта.
– Прошу вас, Филипп, не ходите туда.
– Шарлотта, Шарлотта, я ухожу. – И он вскинул руки, словно журавль расправил крылья. – Задвиньте засовы на дверях, никого не впускайте. Так-то вот. Прощайте, Шарлотта.
– Сударь! – воскликнула я.
– Филипп!
Вдова зарыдала.
Я не знала, увижу ли его снова.
И они пустились в путь – Куртиус взял с собой Жака, своего верного сторожевого пса, который, прихрамывая, трусил впереди. Они направились к ратуше по бульвару дю Тампль, к старым воротам Сент-Антуан, давно снесенным, через которые мы с моим хозяином когда-то въехали в Париж. Дойдя до конца бульвара, они должны были свернуть направо на рю Сент-Антуан и к крепости[9]. Все это происходило четырнадцатого июля.
Глава пятьдесят вторая
Богомерзкое дитя
Шум в городе достиг апогея в шестом часу пополудни. Пушечные выстрелы звучали и раньше, но теперь канонада и рев толпы слились воедино. Не в силах сосредоточиться на работе, я ушла в заднюю часть здания, поднялась по лестнице старого Обезьянника, прошла мимо манекена Анри Пико. Я уже какое-то время не видела Эдмона и хотела его проведать. На чердаке Эдмона не оказалось, и его вообще нигде не было. Я выглянула из окна в надежде увидеть источник шума, но моему взору предстало лишь пустое русло бульвара дю Тампль. Затем я услыхала нарастающий рык многоголосой толпы. Толпа приближалась. Оставшись на своем чердачном посту, я могла первой все увидеть.
И тут я заметила во дворе Эдмона. Он находился у ворот Обезьянника, ходил там взад-вперед, размахивая руками. Рот его был разинут – он что, кричал? Но рев голосов уже стал оглушающим, и я не смогла ничего расслышать. Тогда я закричала – громко, как только могла:
– Эдмон, Эдмон, вернись!
Но вряд ли он мог меня услышать. Он подошел вплотную к ограде, прислонился к ней лбом и принялся биться головой о прутья. Вдруг он ткнулся сильнее – и его голова проскочила сквозь прутья да там и осталась. Туловище Эдмона находилось по эту сторону ограды, на стороне Большого Обезьянника, а голова – снаружи. Между тем толпа приближалась.
– Всунь голову обратно, Эдмон, всунь голову!
Но он стоял, сгорбившись, прижавшись плечами к прутьям ограды, а его застрявшая голова была обращена лицом к бульвару. Я помчалась вниз по лестнице, выскочила через черный ход во двор. Здесь все происходящее предстало в ином свете. Толпа на бульваре росла, как надвигающая буря, становясь плотнее и грознее. Все постройки сотрясались от сотен криков, эхом отражаемых от стен. Но я видела только Эдмона с зажатой между прутьев головой и приближающуюся толпу.
– Ты застрял, Эдмон? Ты застрял?
– Лимонно-уксусные пастилки, – проговорил он.
– Эдмон, я сейчас попробую тебя вытянуть.
Не получилось.
– Эдмон, ты же не сможешь высвободиться!
– Картофельные пироги из Савойи.
Толпа уже была близко, она текла бескрайней массой, точно оживший исполинский орган или ревущий многозевый зверь, гигантская крыса, топающая на сотнях лап. Кто-то в толпе плясал, кто-то размахивал обломками старых клеток, все пребывали в сильнейшем возбуждении, и мне хотелось только одного: чтобы толпа исчезла. Когда я подошла к воротам, люди уже стояли вплотную к ним, так что они даже уловили мое дыхание. Что это еще за существо там?
– Тут еще одна голова, – раздался чей-то крик, и за ним последовал взрыв хохота.
– Нет, нет, все в порядке, – подала я голос. – Прошу вас, проходите.
– У него что, башка застряла?
– Помогите! Помогите! – закричала я, обернувшись к Обезьяннику. – Помогите мне!
– Ну точно! Еще одна голова! – крикнул кто-то.
– Гляньте на эту голову! Может, ей хочется свидеться с другими?
И потом, с веселым улюлюканьем, они подняли повыше свои трофеи и затрясли ими. Головы. Две головы на пиках. Очень искусно сделанные, мелькнула у меня мысль. Интересно, уж не Куртиуса ли это работа? Неужели те самые головы, которых недосчиталась вдова? Но потом мне все стало ясно: это были не восковые головы, вовсе нет. Это были головы во плоти, плоды трудов их родителей. Настоящие головы. Одну поднесли поближе к лицу Эдмона, словно для сравнения, словно чтобы они могли пообщаться. Эдмон завизжал, извиваясь всем телом, пытаясь отлепиться от ограды, но его голова никак не хотела высвобождаться из прутьев.
Из Обезьянника вышел мальчуган-работник.
– Воск! – крикнула я ему. – Принеси воску да побыстрее!
Воск, подумала я. Воск поможет. Только воск, если им обмазать прутья ограды, поможет мне вызволить Эдмона. Воск – отличная смазка. Он не дает дверям и окнам заклиниваться, им можно обмазывать и металл, и дерево. А еще его можно использовать на коже так же, как на металле. Воск не дает дверным петлям визжать. Может быть, и на Эдмона он окажет такое же действие.
Из дома выбежала вдова.
– Эдмон! – закричала она. – Эдмон! Немедленно вернись!
Оттолкнув меня в сторону, она попыталась оттащить сына от ограды, но даже ее приказ не мог заставить его сдвинуться с места.
– Отойди! – бросила она мне, побелев и трясясь от злобы. – Пусть они пройдут!
– Принесите воск! – снова закричала я. – Воск поможет освободить ему голову.
– Воск! Воск сюда! – издала вопль вдова.
Мальчишка-работник исчез в Обезьяннике.
– Да это же дом восковых людей! – крикнул кто-то из-за ограды. – Я был тут. Видал там фигуры разных знаменитых господ.
– А что с нашими будем делать? С нашими знаменитыми головами? Это, конечно, не фигуры, но уж головы точно. Эти головы все должны знать.
– Де Лонэ, комендант Бастилии!
– Бывший комендант!
– Он по нам стрелял!
– Больше не постреляет!
Прибежали слуги, принесли воск. Я отковырнула кусок и стала втирать его в прутья вокруг ушей Эдмона. Вдова отодвинула меня.
– Я здесь, Эдмон! Я здесь! – заголосила она.
– А это голова де Флесселя[10] – из-за него народ голодал!
Люди затрясли перед лицом Эдмона второй головой, насаженной на пику. Тот в ужасе зажмурился.
– Теперь не будем голодать!
– Жирный купчишка!
– Мы его выпотрошили!
Удлинившаяся шея маркиза де Лонэ
Его товарищ по несчастью де Флессель
Я никогда еще не была свидетельницей убийства, ни разу в жизни. Я даже людских голов не видала, кроме тех, что отливали из гипса. Но теперь внезапно я увидела их вблизи. И мне открылась новая истина. Я не могла отвести от них глаз. А бедный Эдмон, оказавшийся в столь неподходящей компании, истошно выл и никак не мог высвободить голову. Воск его спасет, уверяла я себя. Воск поможет. Воск должен помочь.
– Вам надо эти головы вылепить из воска! – раздался выкрик из толпы, обращенный к вдове.
– Прошу вас. Идите своей дорогой, оставьте нас в покое, – заскулила она.
– И не подумаем. Сначала сделайте головы. Вот, возьмите! И сделайте их из воска.
– Нет, нет, прошу, уходите!
– Нечего указывать, что нам делать!
– Мы не перестанем! Если только не хотите, чтобы мы насадили на пику третью башку!
– Отрежь ее! Отрежь! Вспори ему глотку!
Эдмон закричал – теперь вполне осмысленно. Боже, как он вопил.
– Мари! – кричал он. – МАРИ! МАРИ!
Он заговорил нормальными словами. Своими словами, которые повторял снова и снова.
– МАРИ! МАРИ!
– Я здесь! – каркнула вдова. – Вот она я, Эдмон, твоя мать!
– МАРИ! МАРИ!
Делать было нечего.
– Я сделаю для вас слепки голов, – произнесла я наконец. – Следуйте за мной вдоль ограды, вот сюда, и принесите мне головы.
– МАРИ!
– Бегите, мальчики, за инструментами Куртиуса. Бегите!
– А это долго? – спросили из толпы.
– Несколько минут, – ответила я. – За это время как раз гипс застынет. Я постараюсь побыстрее, и вы сможете отправиться в путь.
– Ты уж постарайся, а то мы быстро пополним свою коллекцию!
– Не надо, – поспешно заметила я. – В этом нет необходимости.
Вынесли сумку с инструментами моего наставника, которая всегда стояла наготове у задней двери. Мужчина, взгромоздившись на плечи стоящего рядом, передал мне поверх ворот голову, все еще торчащую на пике. К моему удивлению, голова оказалась такой увесистой, что я ее чуть не выронила. Мне нужно было покрыть ее гипсом. Только лицо.
– Чтобы снять гипсовые слепки с этих двух голов, потребуется куда меньше времени, чем обычно, – пробормотала я. – Им ведь не надо в ноздри вставлять соломинки для дыхания, и даже если я буду обращаться с ними не слишком аккуратно, жаловаться они явно не станут.
И расположившись прямо во дворе Обезьянника, я принялась за работу. Мартен Мийо, с трясущимися руками, помогал мне.
– Мягкое мыло, – коротко распорядилась я.
У меня на коленях лежала голова купеческого старшины Парижа де Флесселя. Его затуманенные глаза, казалось, глядели прямо на меня. Я подумала, что мне не следует держать эту голову в руках, что, вероятно, лучше отшвырнуть ее подальше. Это же мусор, грязь, правда? Но какая же грязь, если всего лишь несколько мгновений назад это был мыслящий, видящий, слышащий, чувствующий и жующий шар над человеческим туловищем? Разве мы после смерти сразу превращаемся в грязь? Этому несчастному предмету так отчаянно не хватало того, что совсем недавно находилось под ним. Как же нелепо мы выглядим в расчлененном состоянии, как несуразно. И – о! – эта жуткая, печальная тяжесть человеческой головы. Массивный предмет, который теперь уж никогда не станет предметом изучения. Жалкая сфера. Я не была с ней жестока. Все ради Эдмона, ради моего ремесла. Вторая голова принадлежала маркизу де Лонэ, коменданту Бастилии. Но она была не в столь же приемлемом состоянии, что предыдущая, хотя ее отделили от тела совсем недавно. Мой подол быстро намок. Спокойствие, уговаривала я себя, только спокойствие. Как тебя учил твой наставник. Не упусти ни малейшей детали. Вспомни, как было в Берне. Покажи все свое умение, похвастайся им.
– На шее маркиза де Лонэ, – громко возвестила я, в то время как вдова обмазывала воском шею и голову своего сына, – имеются неровные разрезы. Его правая височная фасция разорвана поперек, а мышцы в нижнечелюстной области беспорядочно рассечены. Хрящевая основа носа сильно повреждена, весь данный орган в крови и смещен набок. Из левой ноздри торчит кусок разбитого хряща. Конец пики прошел сквозь большое затылочное отверстие в основании черепа и, углубившись в черепную коробку, застрял там. Острие пики сейчас упирается в место соединения теменных костей, то есть, другими словами, в верхний стреловидный шов – и данный факт подтверждается небольшой трещиной на внешней поверхности черепа, вот, я ее чувствую под скальпом маркиза.
Вот так я сидела во дворе перед зданием Большого Обезьянника, в сгущающихся сумерках, и на глазах у изумленной толпы, которая бесновалась за воротами, делала слепки двух увесистых голов, отделенных от тел. Но покуда я трудилась, Эдмон высвободился из плена, то есть полностью втащил голову обратно, и вновь оказался под защитой стальной ограды Большого Обезьянника, бессильно обмякнув в объятьях запыхавшейся вдовы. Она рыдала в голос. Я уже видала подобную скульптурную группу – называется pietà.
Спасен, спасен воском!
Когда гипс затвердел, Мартен передал обе головы обратно, и толпа наконец двинулась дальше, хотя уже без прежнего воодушевления. Мое платье все перепачкалось кровью, сукровицей и гипсом, я отвернулась, и вдруг меня стошнило прямо на мощеную дорожку. Было неловко оттого, что я не сдержалась. В конце концов, это же всего лишь части тела. Все очень естественно. Но тут моими мыслями завладела другая тема.
– Эдмон! Эдмон! – пробормотала я. – Ты звал меня!
Но он уже ушел в дом.
Заморосил дождь. Было так приятно стоять на дворе под дождевыми струями. Я все не могла успокоиться: такое сделать! И когда все уже скрылись в здании, я была рада хоть на время остаться одна. Когда же наконец мне захотелось вернуться в Обезьянник, я обнаружила, что все его три двери заперты.
– Ты не войдешь! – заорала вдова. – Я тебя сюда не пущу! Оставайся там! Богомерзкое дитя!
Глава пятьдесят третья
Комариный укус
Три долгих часа я провела во дворе под дождем, дрожа от холода и страха, пока наконец не вернулись доктор Куртиус с Жаком. Мой наставник весь день провел в кафе «Робер» на набережной Сен-Поль – это Жак отвел его туда от греха подальше, – так что он все пропустил. Куртиус позвонил в колокольчик, и дверь ему открыл Мийо, за чьей спиной маячила широкая фигура вдовы.
– Ее я не пущу! – завопила она. – Здесь не место этой твари! Отвратное, богомерзкое отродье!
Только теперь мой хозяин узнал, что произошло в его отсутствие.
– Так ты сняла слепки с отрубленных голов?
– Именно так! Именно так! – выкрикнула вдова из-за двери.
– Чтобы отвлечь толпу от Эдмона. По-моему, я правильно поступила.
– И что тут правильного? – подала голос вдова.
– Это неправильно, Мари, – слабым голосом произнес мой наставник.
– Мне пришлось дать толпе то, что они хотели, – спокойно возразила я. – А что еще мне оставалось делать?
– Предоставить это мне.
Я не сразу поняла, что он имел в виду.
– Но вас же тут не было!
– Надо было послать за мной.
– Никто не знал, где вы.
– Меня можно было найти.
– Вы были в штабе Национальной гвардии. Вы были там нужны.
– Да… я весьма огорчен, – вздохнул мой хозяин.
– А я огорчена куда больше! – с нажимом заявила вдова. – Она привадила убийц к нашим воротам, в то время как голова Эдмона застряла в ограде.
– Я бы ни за что не сделала Эдмону больно! Я же старалась…
– Мразь! Пакость! Кем ты себя возомнила? – завопила вдова.
– Я помощница скульптора.
– Грязная мерзавка! Вонючка! – брызжа слюной, орала она.
На что я выкрикнула:
– Я вас не боюсь, старуха!
– Вы обе, успокойтесь! – встрял мой хозяин.
– Как я могу быть спокойной рядом с такой мерзопакостью?
– Войди в дом, – тихо произнес мой наставник. – Войди и обсохни.
– Она не войдет! – продолжала кричать вдова. Она подскочила ко мне и наотмашь ударила по лицу – по одной щеке, по другой.
Этого я не могла стерпеть. После всего, что она мне наговорила и сделала. Я размахнулась своим кулачком и изо всех сил влепила по ее мясистому лицу. Это избавило меня от новых пощечин. А потом, внезапно объятая гневом, я еще раз ее стукнула. Мой кулачок прямым ударом впечатался ей в лицо. Вот на что я оказалась способна. Я! Мне показалось, что я раздробила себе костяшки.
Но каково! На ее губах выступила кровь. Я не поверила своим глазам. Это сделала я? Мне сразу полегчало. У нее была рассечена губа, а я рассекла костяшки пальцев о ее зубы.
– Убивают! – заверещала вдова.
– Да, я могла бы вас убить! – орала я, потому что разошлась и уже не могла успокоиться. – Как же часто я об этом мечтала! Сколько раз я представляла себе это!
– Мари! Крошка! – воскликнул мой хозяин. – Поосторожнее! Бедняжка Шарлотта!
– Одному Богу известно, сколько я от нее вытерпела. Может быть, я насажу ее голову на пику. Сколько лет я выслушивала от нее одни только гадости! Но с меня довольно. Мне заплатят – о, Господи, да, теперь мне заплатят. Сегодня – и ни днем позже!
– Крошка, тебе надо извиниться. Ты же сама понимаешь.
Вдова покраснела как рак.
– Все, как сказал Николе: это анархия! Вот как расползается эта гидра, когда закон растоптан и смута вторгается в дом!
– У вас распухла губа, мадам!
– Ты должна попросить у вдовы прощения.
Но тут все мои унижения, накопленные за многие годы, закипели и вырвались наружу, как пар из котла. Это все головы, превратившиеся в пушечные ядра гнева и страдания.
– А вы! – Я повернулась к Куртиусу и лягнула его по коленке. – Вы тоже хороши! Сколько я для вас сделала? А что вы сделали для меня? Если бы не я, вы бы никогда не вылепили этих убийц. Это я вам подала идею. И я отдала вам королевские головы. Я грязная? Как же вы отмоете со своей кожи грязь вины? Сколько лет я мыла вам полы? Сколько лет я смиренно говорила «да, сударь» и «нет, мадам»? А что вы сделали для меня? Даже не поблагодарили ни разу. Вы даже не могли поговорить со мной по-человечески. Это было для вас слишком трудно. Какие крохи чувств для Крошки? Однажды вы, вдова, увидели зачаток счастья, слабое пламя любви, затеплившееся в вашем кукольном доме, так вы, недолго думая, затоптали его! Вы готовы угробить любую красоту, отравить ее своими ядовитыми помыслами. А сегодня я получила от вас сполна в благодарность за то, что спасла Эдмону жизнь. Я многое могу вытерпеть, но больше не намерена! Это вы должны меня благодарить! Я знаю свое место, и оно принадлежит мне по праву! Только взгляните на себя! Красная, готовая вот-вот лопнуть! Так лопните! Вы уничтожаете все, что попадается вам на пути. Как вы унижали Эдмона, низводя его до уровня половой тряпки – и все ради потрепанной куклы на лестничной площадке. Да сожгите вы ее и дайте нам порадоваться. Вы довели моего хозяина до того, что он стал как живой труп, иссохнув от любви к вам. А вы сидите, вся такая переполненная мертвой любовью, упиваясь своей скорбью. Подите прочь, вдова Пико! Подите прочь или, клянусь, я оторву вам башку!
– Ах ты дрянь, маленькая дрянь! – срывающимся голосом завизжала вдова. – Сделайте же что-нибудь, Куртиус! Как она смеет! Без меня вы все валялись бы в сточной канаве! Без меня ничего этого не было бы! На мне держится весь этот дом! Я управляю тут всем. Вы не знаете, какое это тяжкое бремя! Вы не знаете, как меня все это убивает!
– Так умрите! – крикнула я из коридора, стремительно направилась в свою мастерскую и сильно хлопнула дверью – странно, что при этом дом не обрушился. Там я посидела немного и поплакала, уткнувшись в свой окровавленный рукав. Потом, успокоившись, начала собирать свои вещи, уверенная, что уж теперь-то меня точно выставят вон.
Наконец ко мне пришел Жак с бутылкой вина. А вскоре за ним следом появился и хозяин.
– Те головы – важные исторические свидетельства, – изрек он.
– И это все, что вы можете сказать?
– Ну, знаешь, Мари, ты вела себя слишком жестоко.
– Что-нибудь еще?
– Думаю, я должен тебя поблагодарить. Благодарю тебя.
– Что-нибудь еще?
– Вдова сидит с сыном.
– Что-нибудь еще?
– У меня коленка ноет.
– И поделом вам.
– Не знаю, что на тебя нашло, но это нельзя так оставить. Ты должна извиниться. Но не сейчас. Сейчас оставь ее в покое. – Он вздохнул. – Ты была совсем не похожа на себя, Мари.
– Что ж, полагаю, я начала просыпаться.
– Никогда не видел ничего подобного. Что с нами происходит?
– Меня вынудили.
– Мари, – произнес он тихо. – Ты мне поможешь с головами?
– Да, – ответила я, помолчав. – Помогу.
И мы принялись работать. Все вдруг стало как прежде.
– Сударь, – спросила я, – как там было? В Бастилии?
– По-моему, все было ужасно.
– Вы, должно быть, вели себя отважно, сударь.
– Да, пожалуй.
– Вам не было страшно?
– Давай сосредоточимся на работе.
– Все я пропустил, – подал голос Жак. – Очень жаль. Хотелось бы поглядеть.
– Вам тоже хотелось бы посмотреть, сударь?
– Ну, Мари, мы были там недалеко.
– Мы сидели в кафе «Робер», – уточнил Жак. – На набережной Сен-Поль.
– Сударь, это правда?
– Отвел его туда, – продолжал Жак. – От греха подальше.
– Правда, сударь?
– Я умею обращаться с головами, Мари. А быть капитаном гражданской милиции – это, боюсь, не мое. Вот с головами я чувствую себя уверенно. С ними я как рыба в воде, понимаешь?
– Ты правильно поступил, Жак.
– Только жалко, что я все пропустил.
– Головы, понимаешь, вот как эти.
Те две головы привнесли что-то новое в атмосферу дома. Они пробудили мой норов, они рассекли вдове губу, а мне – костяшки пальцев, и они еще совершили нечто совершенно невероятное: вернули Эдмона с чердака. Вдова поселила его в своей спальне. Она не позволила мне приблизиться к нему в ту ночь, но на следующий день я принесла туда сверток тканей, немного белого полотна, нитки, иголку и ножницы.
– Что это? – вопросила вдова, преграждая мне путь в свою комнату. Она меня теперь побаивалась или мне так показалось?
– Это для Эдмона, – ответила я.
– Тебе нельзя заходить в этот коридор.
– Думаю, ему понравится.
– Тебе нельзя входить.
Но тут из комнаты раздался крик:
– Мари! Мари!
– Видите, он зовет меня. Я же слышу. Привет, Эдмон!
– Мари! Мари!
– Он это без конца повторяет, – волнуясь, признала вдова. – Он не в себе.
– Он зовет меня. Он хочет меня видеть.
– Нет, он просто бормочет. Эти звуки ничего не значат.
– Он бормочет мое имя. Для меня это многое значит.
– Мари! Мари!
– Он же зовет меня! Я тут, Эдмон! Я принесла кое-что тебе.
– Глупости! Ему это нельзя давать. Он себя покалечит.
– Не думаю.
– Да кого интересует, что ты думаешь! С каких это пор ты стала такая смелая и важная!
– С тех самых пор, как вы выставили меня на дождь.
– Ты маленькая уродка!
– Что вы говорите, мадам? Ничего другого придумать не можете?
– Тебя ничего не связывает с моей семьей!
– Вряд ли это так.
– Пошла вниз!
– Да, мадам. Но только потому, что я сама так решила. До скорой встречи, Эдмон. Я рада, что твоя мать снова обратила на тебя внимание.
И хотя вдова не передала сыну мой сверток, она позволила ему взять несколько лоскутов полотна, из которых он сшил человеческую фигуру, нового кукольного Эдмона. Это был прогресс. Он отважился подойти к перилам и сбросил новую куклу в зал, чтобы я потом смогла ее там найти. Так в стенах Обезьянника назрел мятеж.
Глава пятьдесят четвертая
Я при деле
А за стенами Обезьянника улицы были охвачены беспорядками. Вместо моего хозяина Жак Бовизаж патрулировал бульвар дю Тампль совместно с Эмилем Меленом и другими здоровяками. Возвращаясь домой под вечер в перемазанной кровью одежде, он обнимал нас и орал: «Мы – граждане!» Довольно быстро Жак проявил себя молодцом в порученном ему деле, и его назначили командиром отряда национальной гвардии по нашему району. Мой наставник сидел в старом Обезьяннике безвылазно, пока его капитанскую должность не передали кому-то другому, после чего он вернулся к работе в Кабинете.
По городу быстро разнесся слух о наших головах де Флесселя и де Лонэ. И теперь, когда обезглавливание туловищ было поставлено на поток, мы прослыли теми, кого следует поскорее звать для изготовления приличной копии, дабы впоследствии, когда страсти улягутся и солнце вновь взойдет над столицей, результатам событий и плодам наших трудов можно было бы дать более здравомыслящую оценку. Вот в какой атмосфере я взяла бразды правления в свои руки. Каждый работник предприятия Куртиуса получал четкие указания, что делать. Каждый из нас, от мала до велика, имел свои обязанности: носил ведра, драил полы, смешивал гипс, плавил воск, вставлял волоски в восковые скальпы, вправлял стеклянные глаза, передвигал постаменты для будущих статуй, брал деньги с посетителей. Хотя вдова по-прежнему не подпускала меня к Эдмону, теперь я, собственными ушами услышав, как он выкрикивал мое имя, осмелела. И я умела делать головы – что вполне доказала. Так что теперь я делала головы, и мой хозяин дал на это свое добро. Он удалялся, когда я принимала в свой подол тяжеленные шары – те, что отсекались от туловищ и вверялись глубокой ночью нашим заботам. Никто больше не желал заниматься подобной работой, а я не возражала. Нет, не так: я бралась за дело с удовольствием. Я ощущала себя живой, живой по-настоящему. Никогда еще я не была столь востребована. Настала пора моей популярности. Мне это самой было удивительно. Наконец я нашла свое призвание.
– Сударь, вы правда позволите мне этим заняться? – спрашивала я доктора Куртиуса.
– Да-да, Мари, конечно!
– И сами вы не хотите это делать?
– Должен признаться, я немного утомился.
– Это же хорошая голова! Посмотрите: губы целы и все зубы на месте.
– Нет-нет, у меня нет никакого желания!
– Ну как хотите! – Я не могла сдержать торжествующей улыбки. – Это же просто тела, сударь.
– Разумеется, я это знаю.
– Все совершенно естественно.
– Кроме, пожалуй, их кончины.
– И это тоже естественно! Разве это не естественно, что люди убивают друг друга? – Я осеклась, поразмыслив над своими словами. – Впрочем, вы правы. Да, сударь. Этот бедняга. И тот бедняга. Это все так ужасно, правда, сударь?
– Все ужасно, все жутко! Эти убийства… понимаешь?
– Все так, сударь, но я же должна делать эту голову, разве нет?
– Да, полагаю, должна.
– И меня не отвращает работа.
Наши работники, все эти новенькие, как они на меня глядели! Они кивали мне, когда я подходила, и держались на почтительном расстоянии – в знак уважения ко мне. Когда я их о чем-то просила, они беспрекословно выполняли. Никогда еще в моей жизни ко мне так не относились. Жорж был поглощен работой и не отходил от меня ни на шаг. Он не был столь болтлив, как прежде, но лишь потому, что из-за обилия работы у него не оставалось времени на разговоры. А мы были заняты чрезвычайно важным делом: мы снимали слепки с отрубленных голов и ставили их в зале, чтобы посетители могли их лицезреть. Вдова, даже при том, что не разрешала мне видеться с Эдмоном, начала выказывать мне знаки почтения. Это было мне в новинку! Она уже не понукала мной, а скоро и вовсе перестала появляться в Обезьяннике в течение дня, проводя время вместе с Эдмоном в Пале-Рояль. Она оставила меня в покое. Но наряду со всеми прибытками был и один убыток. У нас работал парень лет шестнадцати по имени Андре Валентен – тот самый, с широко расставленными глазами. Так вот, его выгнали, и не из-за диковинных глаз, а из-за пагубных замашек, ибо Мартен обнаружил, что Валентен подворовывал из кассы. Как-то вдова собрала всех нас в большой зале и строго спросила у Валентена, правда ли о нем говорят. Бедолага перепугался до смерти. Расплакавшись, он сознался в воровстве, но умолял простить его на первый раз. Вдова молча поглядела на него, потом нагнулась и сорвала красную розетку с буквой К с его груди.
– Нет! Нет! – закричал парень. – Месье, прошу вас!
Куртиус лишь печально покачал головой.
– Вышвырните его за ворота! – распорядилась вдова.
– Прошу! Простите меня! – кричал он, озираясь по сторонам.
Эмиль, прислужник Жака, довел его до ворот и выставил вон.
– Вы еще услышите про Андре Валентена! – вопил несчастный. – Настанет день, и я вернусь. Я разнесу этот дом по кирпичикам!
Я жалела беднягу, которому теперь было суждено жить в сточной канаве. Но мне было некогда размышлять о его печальной судьбе. Нам приходилось спешно лепить все новых и новых восковых людей и выставлять их в зале. Никогда еще мы не пользовались такой популярностью. Каждый день к нам валили посетители, мужчины и женщины, сотни и сотни, и все платили по три су за входной билет – со скидкой для Vainqueurs de la Bastille[11].
Глава пятьдесят пятая
Несколько любовных историй
Это история мастерской. История предприятия, его взлетов и падений, его работников, нанимающихся и увольняющихся, его прибылей и убытков, и в некоторой степени история большой страны и людей, которые оказывались у наших дверей. Итак, позвольте я объясню.
Королевская семья, в том числе и принцесса Елизавета – в особенности моя любезная Елизавета, – переехала из Версаля в Париж. Большая толпа рыночных торговок пришла ко дворцу и стала требовать хлеба, король оказался фактически в осаде, а его жизнь под угрозой, к нему были обращены оскорбительные крики простонародья. Дворец заперли. Я бы сильно испугалась за Елизавету, но о кровавом бунте мне стало известно лишь после того, как все завершилось. Мне принесли голову – вот так я и узнала.
Группа торговок рыбой из Ле-Аль[12] прибыла к нам с коробкой, завернутой в фартук. Они вытряхнули содержимое коробки на кухонный стол. Голова, очень неаккуратно отсеченная.
– Вот, – объявила одна из женщин. – Я вам принесла.
– Так, – говорю, – и кто это?
– Гвардеец из Версаля.
– Швейцарский гвардеец?
– Ага, один из них.
– Что-то я не узнаю лицо. Впрочем, его бы и родная мать не узнала.
– Отлейте ее заново из воска.
– Похоже, ее сильно исколошматили.
– Гыгыгы…
Это была Флоранс, кухарка. Флоранс среди них!
– Флоранс, ты была там? Ты ходила туда?
– Гыгыгы. Ходила. Да.
– Боже…
– Давай, – сказала Флоранс, – сделай голову.
– Лучше бы ты принесла мне эту голову до того, как ее изуродовали.
– Делай! – Теперь ни тени улыбки на ее лице.
Флоранс-то и поведала мне, что Елизавета переехала в город.
Они были очень горды собой, эти женщины.
– Твое старое жилище заперли, – сообщила она.
Пустота… Можно ли представить себе такую пустоту, как обезлюдевший Версаль? И еще: где же разместить всех людей, живших в Версале?
– Мне жаль это слышать.
– Жаль, говоришь? – переспросила Флоранс.
– Ну, мне жаль Елизавету.
– Жаль? Она еще говорит, что ей жаль?
– Нет, – ответила я. – Мне-то нечего жалеть, правда? Я же простая прислуга. Я делаю то, что мне говорят.
– Тогда сделай эту голову!
– Да, Флоранс.
– А после я испеку тебе что-нибудь вкусненькое.
На следующее утро я отправилась во дворец Тюильри, где разместили королевских особ. Как же билось мое сердце, когда я шла через парк. Перед дворцом выстроились шеренги швейцарских гвардейцев и солдат, а еще волновалось море парижан, пришедших сюда в надежде кого-нибудь увидеть. Я протиснулась сквозь толпу ко входу – детям это дозволялось, а я была малорослая, как ребенок, – и подступила к гвардейцам.
– Я бывшая служанка мадам Елизаветы, особая служанка. Даже, можно сказать, друг. Не пропустите ли вы меня внутрь? Передайте ей, что Мари Гросхольц, ее сердце и ее селезенка, ждет снаружи.
– Уходите, мадемуазель.
– Просто передайте ей. Мое имя. Она захочет меня видеть.
– Никаких визитов. Уходите!
Кто-то из толпы плюнул в мою сторону, потом еще кто-то меня толкнул, а потом рядом вырос Жорж, подхватил меня на руки и понес прочь, потому как к нам прибыла новая голова. И я поспешила домой, обещая себе снова сюда вернуться. В те дни произошли поистине невероятные события. Народ восстал против королевской семьи. Я восстала против вдовы Пико. И наконец: Эдмон покинул свой чердак. А Елизавета оказалась рядом. Мы жили в Париже, все трое: он, она и я.
– Скоро я уеду, – объявила я наставнику. – Воспользуйтесь мной, пока вы еще можете. Когда я уеду, вам придется самому принимать головы и отливать их из воска. Больше я этим заниматься не буду.
Но Елизавета еще не была готова меня увидеть. На другой день я вернулась в Тюильри, но гвардейцы со мной даже разговаривать не стали. Парижане тратили деньги на посещение Кабинета доктора Куртиуса. Они приходили поглазеть на самые новые головы, они беседовали о гражданах и о свободе, они рассматривали друг друга и головы. Новые экспонаты парижской жизни привлекли очень много посетителей, одни тихо плакали в сторонке, другие не могли себя заставить приблизиться. Деньги уносили наверх Мартену Мийо, он заносил суммы в книгу, а потом складывал деньги в несгораемый шкаф. Все это происходило на моих глазах, потому как теперь я могла заходить в большой зал, когда мне хотелось. Изредка туда захаживала вдова, она выходила раскрасневшаяся, иногда скорбно качая головой, иногда в слезах, и на всех орала.
А на улицах города готовилось шумное празднество.
– Что за люди, Крошка, эти парижане! – восклицал Мерсье. – Просто живая картина согласия, трудолюбия и мира. Такого зрелища еще не видывал мир. Все слои граждан собрались, готовясь к Празднику федерации[13]. Все многотысячное население города вышло беззаветно поработать ради общего блага, подготовить Марсово поле для народных гуляний. Все стали братьями и сестрами – торговки рыбой и аристократы. Крошка, наконец-то мы дожили до этого: мы увидели способность человека совершенствоваться! Все придут! Все будут веселиться!
– А принцесса Елизавета там будет?
– Все будут, все!
– Я так хочу ее увидеть!
Потоки ливня орошали участников Праздника федерации, но на дождь мало кто обращал внимание. Тысячи людей заполнили центр города, многие из них навещали восковых питомцев Куртиуса и восхищались эпохой, в которую им посчастливилось жить. В краткий период проведения этого первого национального фестиваля люди любезничали друг с другом, обменивались рукопожатиями и поцелуями. Весь город был словно озарен новым светом, то были чудесные дни, когда все вдруг стали красивыми и молодыми, и сам Париж на краткий миг обернулся городом-утопией. Даже Жак Бовизаж со своим верным Эмилем упивался моментом, бродя по улицам и подкармливая бездомных псов – наводнивших город догов, пуделей и спаниелей, ухоженных домашних собак, брошенных хозяевами-аристократами. Куртиус просиживал с вдовой в ее кабинете, отливая для нее изящные восковые украшения в виде фруктов и цветов. Она не выставляла их на всеобщее обозрение, а держала у себя в ящике стола, но и не выкидывала.
В один из тех странных дней, заинтересовавшись очередной восковой новинкой, она оставила Эдмона одного во дворе Большого Обезьянника, и я незаметно спустилась туда к нему. При ярком солнечном свете на его коже отчетливо проступали голубые вены, а еще я заметила скол на переднем зубе и родинку на шее под затылком. Я знала все эти его приметы: если он оставался на солнце продолжительное время, на бледной коже его нижних век и на переносице, чуть выше несимметричных ноздрей, выступали веснушки. И тут я увидала, как краснеют его уши.
– Эдмон?
– Мари!
– Эдмон, ты здесь?
– Да, здесь. Мари…
– Ты вернулся ко мне! Ну да, вернулся…
И почти сразу же раздался крик вдовы:
– Эдмон! Эдмон, ты где? Возвращайся немедленно!
Его мать, как всегда, была начеку, она позвала его еще раз, и он послушно пошел на ее зов. Но обернулся ко мне и помахал.
В тот краткий период оживления нашего предприятия Куртиус однажды привел меня в свою мастерскую. Его лицо запунцовело, что придало ему вполне здоровый вид.
– Тебе ведь что-то известно об этом, Крошка? – робко пробормотал он. – У тебя же есть какие-то соображения на эту тему? Какие-то мысли? Ты можешь дать мне совет?
– А что за тема, сударь? Вы не сказали.
– Не сказал? Гм, а я счел, что сказал. Ну, о любви, Мари. Тебе что-нибудь об этом известно?
– Да, сударь, известно. Это моя самая любимая тема.
– А как ты полагаешь, Мари, будучи живым человеком, ведь ты живой человек… Как ты полагаешь, возможно ли, что такой, как я, смог бы полюбить?
– Да, сударь, полагаю, да.
– А как ты полагаешь, можно ли полюбить такого, как я?
– Я полагаю, это возможно, сударь.
– Дело в том, что ввиду последних больших перемен в нашем предприятии, с нами тоже произошли некоторые перемены. Я это заметил. Шарлотта, дорогая моя Шарлотта… Раньше я нужен был ей исключительно для коммерции, но теперь, мне кажется, возникла другая потребность. Я это не придумываю. Нет! Это любовь, – прошептал он. – Любовь. Но что это, как это бывает? Увидеть ее знаки на лице. Запечатлеть ее в воске. Вот это было бы великолепно!
Глава пятьдесят шестая
Потери в семье
Она совершила величайшую глупость. Моя Елизавета. Она попыталась сбежать. Как же я на нее осерчала. Из-за того, что ей вздумалось бросить меня, не попрощавшись. Из-за того, что она подвергла свою жизнь опасности.
Вечером двадцатого июня король, королева, их двое малюток и моя Елизавета, все переодетые в платье прислуги, лакеев и гувернанток – роли, которые они вряд ли могли бы убедительно сыграть, – тайком покинули Париж в простецком экипаже. А в одиннадцать пополудни следующего дня, самого длинного в году, беглецов опознали в сельской местности, остановили и доставили обратно в столицу.
Весь возмущенный город вышел их встречать: люди заполнили улицы, зеваки торчали в окнах, вскарабкались на крыши домов, чтобы лицезреть невиданную картину, как убогая карета с королевским семейством еле тащится в Тюильри. Ассамблея вывесила транспарант с предупреждением:
ВСЯКИЙ, КТО БУДЕТ АПЛОДИРОВАТЬ КОРОЛЮ,
ПОЛУЧИТ ПЛЕТЕЙ
ВСЯКИЙ, КТО ОСКОРБИТ КОРОЛЯ,
БУДЕТ ПОВЕШЕН
Люди не снимали головных уборов, когда король проезжал мимо. Все так и норовили заглянуть в окна кареты, поэтому толпа стояла вплотную к проезжей части. Я тоже была в толпе, я пыталась ее разглядеть, мою Елизавету, но подойти поближе мне не дали. В какой-то момент мне почудилось, будто я увидала ее затылок, ее капор, прядь ее светлых волос. Она чуть не сбежала, говорила я себе, но вот теперь вернулась, и очень скоро я ее вновь увижу, когда она позовет меня. А ведь она обязательно позовет.
Тем временем другую королевскую семью, мое восковое семейство, перевозили в повозке в противоположном направлении, из Пале-Рояль в Большой Обезьянник. Я была рада получить их обратно, хотя им предстояло быть выставленными рядом с отрубленными головами да с разного рода злодеями и негодяями. И теперь они сидели не за королевской трапезой в Аванзале Большого столового прибора, а за простым столом, и к ним спешил восковой человек в форме национального гвардейца, и вся эта мизансцена как бы воспроизводила момент их задержания в городке под названием Варенн. Времени на изготовление головы настоящего гвардейца не было, поэтому мы взяли голову малоизвестного отравителя, давно отправленную в запасник, и нацепили на нее новенький черный парик. Единственным недостающим членом королевской семьи была Елизавета, потому как я никогда ее не лепила. Словно заранее спасла от позорного участия в этой композиции.
Семнадцатого июля Национальная гвардия под командованием Лафайета стреляла в многолюдную демонстрацию, убив пятьдесят человек. После чего восковой Лафайет пополнил нашу коллекцию преступников на бульваре дю Тампль, покуда вдова одиноко сторожила свою оскудевающую экспозицию в Пале. Бывший мэр Парижа, месье Байи, совершил такое же путешествие, как и Калонн и Мирабо: все восковые фигуры постепенно возвращались домой. Первого апреля и сама вдова наконец покинула Пале-Рояль. Зал с экспозицией к этому времени почти совсем опустел, за исключением считаных знаменитостей: Вольтера и Руссо, Глюка и Франклина, а также братьев Монгольфье. Эдмон тоже вернулся в Обезьянник, правда, вдова его держала наверху.
Двадцатого апреля, опасаясь иностранного вторжения, Франция объявила войну Австрии и Пруссии. А двадцать пятого разбойника Николя-Жака Пелетье казнили совершенно новым способом – с применением машины, сконструированной месье Луи. Луизетта, как ее назвали, представляла собой деревянную раму и большое скошенное лезвие; когда отпустили рычаг, лезвие упало с высоты прямо на шею месье Пелетье, после чего его голова вприпрыжку покатилась прочь. Казнь наблюдали Жак с Эмилем. Они вернулись крайне разочарованные.
– Ничего не смогли разглядеть, – пожаловался Жак. – Очень быстро все произошло. Чик – и все, не успели и глазом моргнуть.
Работа у нас кипела вовсю, все трудились больше обычного. На нашей фабрике возникла целая индустрия, мы как будто изобрели машину по воспроизводству недавней истории. Никто из нас не имел представления о том, какие силы подспудно управляли ходом человеческой истории, каждый имел дело только со своим участком большой панорамы. Кто-то был занят волосами, кто-то зубами, одни трудились над глазами, другие – над красками, кто-то смешивал воск, кто-то замешивал гипс. И никто не видел дальше своего верстака. Но совместными усилиями мы создавали анатомию меняющегося города, совместными усилиями мы претворяли отдельные события в целостную и общепонятную картину.
Вдова у себя в кабинете покуривала сигары и посасывала кончики гусиных перьев, гадая, не упустила ли она чего при решении той или иной проблемы и уже не будучи вполне уверена, как это бывало раньше, что умудряется держать нос по ветру. Для головы Людовика XVI она сшила красный фригийский колпак, а покончив с ним, решила справить новую униформу для работников выставочного зала. Но стоило ей обрядить всех в платье национальных гвардейцев, Национальная гвардия утеряла популярность в народе после июльского расстрела демонстрации граждан, так что наших парней пришлось спешно переодевать санкюлотами – в одежду простых рабочих: длинные полосатые штаны, свободно сидящие сорочки и короткие куртки. На куртки по-прежнему нашивались розетки с инициалом Куртиуса, но к ним теперь добавились кокарды-триколоры: с красной и синей полосой, старыми цветами Парижа, и с белой, цветом королевской династии.
Я трудилась в главной мастерской в конце коридора, вскрывала гипсовые формы и высвобождала из них восковые головы. Со мной в паре работал Жорж Офруа, он стоял рядом, держа наготове палитру с розовой и красной краской разных оттенков. Рядом с моей старой мастерской располагался цех по изготовлению париков, зубов и глаз. Во втором этаже возле несгораемого шкафа с деньгами восседал Мартен Мийо. Мы снизили входную плату, но посетители компенсировали нам выручку, хлынув к нам еще более широким потоком. Дети ходили по залу и нараспев цитировали «Права человека и гражданина». Молоденькие субретки оплевывали нашего воскового Лафайета, называя его развратником. А пожилые только и знали, что разглагольствовали об отечестве. Приходить в музей Куртиуса в те дни считалось высшим проявлением патриотизма. Вечером первого августа, которое не было отмечено никаким национальным празднеством, случилось важнейшее событие в жизни нашего дома: я подслушала разговор Куртиуса и вдовы на площадке второго этажа. Мой хозяин схватил манекен Анри Пико.
– Пришла пора его убрать, Шарлотта. Он же покойник, покойник! Придите ко мне!
– Я не могу! – отвечала та со слезами в голосе. – Проявите понимание! Не все сразу. Я сниму с него платье. Но не более того. Это же моя опора. Без него я бы ничего не добилась. Вы не знали его. Это был великий человек, каким вам никогда не стать.
– Но я же живой!
– Прошу, Филипп. Я еще привыкаю.
На следующее утро Анри стоял у перил раздетый.
Десятого августа в центре города собралась огромная толпа граждан, требовавших отречения короля. В Большом Обезьяннике слышались выстрелы пушек и ружей швейцарских гвардейцев, охранявших дворец Тюильри и его обитателей. Я подумала о Елизавете: сейчас она была там. Я зашла в свою рабочую комнату и достала сердце и селезенку. «Только бы с тобой ничего не случилось, только бы ничего не случилось!»
Обезьянник был заперт на все засовы, как и все прочие дома в городе. Мы не могли никуда выйти, многих из тех, кто выходил, подстреливали на улице. В нашем большом зале полые люди вздрагивали от ухающих вдалеке пушечных выстрелов, трясся Байи, и члены королевской семьи за трапезой тоже дрожали на своих стульях. Некоторых восковых людей мы уложили на пол, опасаясь, как бы они не повредились в случае падения. Все предметы в доме содрогались от грохота пушки.
«Прошу, только бы с тобой ничего не случилось, только бы ничего не случилось!»
Зазвякал старый колокольчик Анри Пико. Когда отодвинули дверные засовы и распахнули дверь, мы увидали за воротами Жака Бовизажа и Эмиля с ним. Эмиль обмяк, его лицо посерело, глаза закрыты. И он не держался на ногах. А потом Жак, наш хроникер самых живописных смертоубийств в городе, поднял светловолосого мальчишку над порогом – и сразу стало ясно, что Эмиль Мелен уже не живой. Наконец-то Жаку удалось стать первым очевидцем убийства.
– Жак, что стряслось? – крикнул мой хозяин.
– Убийство! Убийство, убийство, убийство! Убили моего парня. Моего мальца.
– О Жак! – вскричала я. – Бедняга Жак!
– МАЛЕ-ЕЦ! – ревел безутешный Жак.
К этому времени вся жизнь в городе замерла. Двери, окна, ставни – все было на запорах. По улицам ходили мужчины и объявляли, что смертная казнь ждет всякого, кто укрывает у себя швейцарских гвардейцев из дворца Тюильри. По ночам в домах производили обыски. В ходе этой охоты переворошили весь город. Но если швейцарские гвардейцы покинули свои позиции, значит, более не существовало преграды между королевскими особами и простолюдинами, и теперь все должны были слиться в общей пляске плоти. Я не знала, жива или мертва Елизавета.
– Помогите, – рыдал Жак. – О, помогите!
Чуть позже знойным утром, когда я сидела у себя в мастерской, воздух вдруг потемнел. Я подошла к окну, распахнула его, и тотчас комната наполнилась жутким жужжанием. Оказалось, на оконном стекле сидели тучи мух и застили дневной свет. Вдоль бульвара двигалась гигантская плотная масса мух. В те дни все парижские улицы были завалены трупами.
Ополченцы с трехцветными ленточками на груди встали у нашей двери и принялись дубасить в нее кулаками, требуя назвать подданство моего хозяина.
– Он Куртиус, – закричала вдова. – Тот самый Куртиус!
Но ополченцы, похоже, пропустили ее слова мимо ушей и задали тот же вопрос моему хозяину, а он ответил, что родом из Швейцарии. Тогда они спросили, есть ли еще в доме швейцарцы, и мой хозяин ответил, что да, его давняя ассистентка, женщина, тоже родом из Швейцарии.
– Два швейцарца, – рявкнул один из них. – Так и запишем.
– Они благонадежные граждане Франции, – заявила вдова. – Оба!
– Но они же из Швейцарии.
– Их дом здесь.
– Они швейцарцы. Их дом в Швейцарии.
– Они не сделали ничего плохого.
– Поглядим. Два швейцарца. Так и запишем.
Когда они ушли, вдову всю трясло.
– Клянусь, вам ничего не угрожает, – заявила она Куртиусу. – Даже ей.
– Благодарю! – Такого великодушия я от вдовы не ожидала.
– Довольно! Не хочу этого слышать!
– Но я вам благодарна. Это первые добрые слова, которые вы мне сказали.
– Первые? Хватит об этом. Ты была полезна.
Я ушам поверить не могла.
– Я? Полезна?
– И вот что, Крошка, – добавила вдова. – Еще одно. Полагаю, ты захочешь это узнать. Твоя принцесса жива-здорова. Они все живы, их держат в крепости Тампль. Они сидят под замком, но все живы. Это известие пришло несколько часов назад. Я знаю, тебе это будет интересно.
– О, благодарю вас!
– А теперь прочь с моих глаз!
– Да, я уйду.
– Так уходи.
А моему хозяину она сказала:
– Я уж и не знаю, какие теперь законы. Они так быстро меняются. Я ничего не понимаю. Она вот понимает. Она понимает больше моего. Только она может разобраться, что сегодня происходит. Только такая проныра, как она!
И что на нее тогда нашло, отчего она разоткровенничалась? Неужели мы в опасности, коль скоро она так пала духом? Наверное, она боится, что нас выселят, подумала я. Она этого очень сильно боялась.
Наше благоденствие на бульваре дю Тампль, похоже, подходило к концу. Флоранс Библо, наша кухарка, взяла расчет тем же утром. Она заявила, что в жизни не работала на швейцарцев. На следующий день пришли еще какие-то люди и начали задавать массу вопросов, потом захотели осмотреть здание, что-то записывали в блокноты, называли моего наставника не иначе как «швейцарец Куртиус из Берна» да обвиняли его в том, что никакой он не патриот и не гражданин. Только лишь потому, что Жак с жаром подтвердил благонадежность Куртиуса, того тотчас же не арестовали и не увели.
Агенты наведывались в Обезьянник ежедневно, рыскали по комнатам в поисках уличающих предметов.
– Мы не совершили никаких преступлений! – орала вдова.
– Вы укрываете швейцарцев!
Большой Обезьянник снова открылся для посетителей. Луизетта стала излюбленным способом казни по всей стране; эту машину начали производить на специальной фабрике, открывшейся на рю Муфтар. Но теперь ее название изменилось: поскольку луизетта очень многим напоминала о низложенном короле[14], ее переименовали в гильотину в честь врача, который долгое время пытался найти более гуманное средство умерщвления преступников.
Дабы отвлечь от себя всякие подозрения, вдова и наставник разместили самых презренных персонажей вместе в одной части выставочного зала. Королевская семья была отправлена в старую клетку, где некогда содержался бабуин Лазарь.
Мой наставник, находившийся теперь под надзором новых властей Парижа, не оставлял надежд соединиться с вдовой и все ждал, когда она призовет его к себе в старый Обезьянник.
– Она придет ко мне, Мари, теперь уже скоро. Она ко мне придет. Я ей нужен. Шарлотта! Когда захочешь, в любой день, только постучи! Вот он я. Стены между нами рушатся.
– Я рада за вас, сударь. Она и правда сильно изменилась.
Выйдя как-то ночью из мастерской, чтобы навестить восковых людей, тихо дремлющих в зале, я чуть не споткнулась о вдову, которая стояла, коленопреклоненная, перед манекеном своего покойного супруга и зашивала ему расползшиеся бока. Завидев меня, она разволновалась, обругала за то, что я подглядываю, и, поднимаясь с колен, слегка толкнула манекен. Мне показалось, что внутри у него раздался металлический звон.
Однажды утром я увидала на бульваре Андре Валентена, парня с широко расставленными глазами, который беседовал с Мартеном Мийо через нашу ограду. Когда я подошла к ним, Валентен удрал.
– Что он хотел? – поинтересовалась я.
– Денег, разумеется, – отвечал Мартен. – Как всегда.
– Он что, умирает с голоду?
– Нет, но живет впроголодь.
– Лучше с ним не связываться. Он не вызывает доверия.
– Но, во всяком случае, он француз.
А двадцать пятого августа мы потеряли пятерых работников. Все они отправились на войну, и мой храбрый Жорж вместе с ними, как и тридцать тысяч призывников, набранных в армию по приказу Временного исполнительного комитета. Мы помахали им вслед, и под барабанный бой они, как и другие молодые мужчины, покинули Париж. И уже не вернулись.
Глава пятьдесят седьмая
«Вылепи меня!»
– Их убивают в тюрьмах, – Мерсье наведался к нам, чтобы поделиться последней порцией парижских новостей. – Вот прямо этим вечером. Покуда я с вами беседую, узников выводят из камер и забивают, как скот, без суда, без жалости. Вот эти вымазанные в крови башмаки сами развернули меня и заставили прибежать к вам. Очень скоро, Крошка, не сомневайся, вас завалят новыми головами.
С какой же горечью он произнес эти слова. Мы сидели в большом зале в полном составе – даже Эдмон был с нами.
– А принцесса Елизавета? – тихо спросила я.
– Нет, не королевская семья, нет-нет. В основном казнят священников.
– Правда? Благодарю вас, что предупредили. Мне стоит приготовиться.
Эдмон взглянул на меня. Я не могла знать, о чем он думает.
– Присядь, Себастьян, – предложил мой хозяин. – Выпей вина. Мы рады, что ты заглянул. По правде сказать, в последнее время у нас уменьшилось число посетителей.
– Позвольте я расскажу вам об одном субъекте, – продолжал Мерсье. – Его руки обагрены кровью многих. Думаю, даже он сам точно не знает количество им казненных. Он разрубает людей, вонзая в их тела топор. Священников, аристократов. У него уже руки болят от натуги.
– Мерсье, изъясняйтесь яснее, – встряла вдова. – О ком это вы толкуете?
– Доктор Куртиус и вдова Пико, позвольте полюбопытствовать: где сейчас Жак Бовизаж?
– Он патрулирует наш район, – ответила вдова.
– Нет, – покачал головой Мерсье. – Боюсь, вы ошибаетесь. Бовизаж убивает священников, отказывающихся публично признать гражданскую конституцию. Он вспарывает им животы, и жизнь выходит из них.
– Вы, должно быть, ошибаетесь, – возразила вдова.
– Он кровожаден, этот ваш Жак. Я видел собственными глазами, как он орудует.
– Нет-нет, уверена, что это не он.
– Он пьет слишком много вина, – сказал Мерсье, отставляя свой стакан. – Да с такой жадностью. Тяжелый труд губит людей.
– Я не верю, – с сомнением пробормотал мой хозяин.
– Это место, – заявил Мерсье, оглядывая восковые физиономии, – прямо школа убийц!
Куртиус побледнел.
– Мы лишь показываем то, что происходит за нашими воротами.
– Но вы же не обязаны! Кто вас заставляет это показывать, а?
– Мы обязаны! Мы должны показывать. Таково требование народа!
– Эти головы только провоцируют приносить вам еще больше голов. Накройте их чем-нибудь! Унесите их! Не надо их выставлять напоказ! Вам следует сменить эту экспозицию.
– Но они лишь свидетельствуют о том, что творится сейчас в городе.
– Вы этим любуетесь!
– Мы просто наблюдаем.
– Вы множите ужасы! Вы поднимаете на щит самое скверное и демонстрируете это.
– Нет ничего в мире честнее воска! Все это знают. Воск неспособен лгать.
Это правда. Воск никогда не лжет – не то что эти портреты маслом в золоченых рамах, которые я повидала в Версальском дворце. Воск всегда был честнейшим материалом.
– Я умоляю вас: прикройте их!
– Но это и будет ложь.
Мерсье издал горестный стон.
– Этот город лопнет, точно гнойный нарыв.
С улицы донесся шум голосов. Зазвякал дверной колокольчик. Снова ватага людей. Других, но все шайки выглядят одинаково. Мне принесли новую голову, выложили на стол, поставив на обрубок шеи. Светлые волосы. Белая кожа. Светло-серые глаза…
– Боже! – в ужасе задохнулась я. – Это уже нечто совсем иное. Я знаю эту голову. Я разговаривала с ней, когда она была жива.
– Тише, Крошка. Мари. Девочка… – еле слышно прошептала вдова. – Лепи ее. Ты ее не знаешь. Тебя убьют, если ты ее узнаешь.
– Это… – пробормотал мой хозяин, помогая мне размешивать гипсовую массу. – Это не Елизавета?
– Поначалу я увидела только светлые волосы…
– Так это она?
– О, сударь, сначала я так и подумала.
– Она?
– Нет. Это… была… принцесса де Ламбаль.
– Значит, не она. Я рад. Да, это уж точно что-то новенькое.
– У нее кожа белая, как снег.
– Тогда думай, что это мрамор. Это поможет отвлечься.
– Но когда знаешь отрубленную голову, сударь…
– За работу!
– Я же не знала тех, чьи головы лепила раньше. А теперь такое чувство, что мы оказываемся все ближе и ближе к ним.
– Так, Мари, теперь подыми эту голову!
– Тяжелая…
– Молодец!
Эдмон наблюдал, как мы возимся с новой головой, и не отводил взгляда. Он сидел, выпрямившись на стуле и смотрел широко раскрытыми глазами, но не плакал. Когда работа была завершена и голову вынесли из Обезьянника, я заметила Мерсье, примостившегося в уголке. Вот он плакал.
– Надо было оставить вас в Берне, – пробурчал он.
– Но тогда я бы никогда не приобщился к такой красоте, – воскликнул Куртиус, поглядев на вдову.
– О, Крошка, – продолжал Мерсье. – Крошечная жесткость, крошечный нож, крошечное пятнышко крови. Твое личико вполне соответствует духу эпохи. Ты обрела себя: крошечный кошмар.
– Почему вы говорите мне такие вещи? – спросила я. – Почему вы меня оскорбляете? Чем я это заслужила? Я же не рубила эти головы, так?
– Прощайте, – сказал Мерсье. – Вряд ли я снова приду сюда.
Мерсье выпустили через главный вход. Он остановился, обернулся и, прежде чем уйти, пнул здание носком башмака.
– Но вина нашего попил вволю, – заметила вдова.
– По правде сказать, – заметил мой хозяин, – мне никогда не нравилась его голова.
Поздно вечером того же дня, когда мы сидели в зале, вдова подле моего наставника, опять зазвякал колокольчик Анри Пико. За воротами стоял Жак Бовизаж, в одной руке он держал саблю наголо, в другой – мушкет. Он попросил впустить его. Последовавшие далее слова произносились шепотом (внутри) и громогласно (снаружи).
– Он нас всех убьет, – прошептала вдова.
– Нет, он никому не причинит вреда, – возразила я.
– На нем кровь, – сказал Мартен Мийо. – Я отсюда вижу.
– Так что, впустим его? – спросил Куртиус.
– Он не в себе, – настойчиво уверяла вдова. – Он нас всех изрубит в куски, а наутро будет рыдать в три ручья.
– Жак, – усмехнулась я. – Наш кровожадный Жак.
– Вылепи меня! – заорал Жак из-за ворот. – Вылепи меня!
– Это против правил! – зашептала вдова. – Мы не лепим своих. Мы не выставляем себя на всеобщее обозрение. Мы в этом не участвуем.
– Я был занят делом! – ревел Жак.
– Он сильно пьян, – заметила я. – Да, он явно не в себе.
– Ну, пускай проспится у кого-нибудь на крыльце, – предложил Куртиус.
– Какое там проспится! – вздохнула вдова. – Разве от такого можно проспаться?
– Занят делом! Ох, каким делом! – кричал Жак. – Посмотрите на эти руки!
Наступила затяжная тишина.
– Он ушел? – предположил Мартен.
– Думаю, да.
Но тут раздался вопль Жака:
– О, помогите! Помогите Жаку! Кто же поможет Жаку?
– Я не могу этого вынести, – заявил мой хозяин.
– Крошка! Помоги мне, Крошка!
– Пойду к нему, – сказала я.
– Эмиль! Эмиль! – хныкал Жак.
– Он кричит потише. Он успокаивается, – проговорила вдова, – но пустить мы его не можем.
– Что же делать? – завывал он. – Что мне теперь делать?
– Он скоро уйдет, – уверенно сказала вдова. – Он утихомирится.
– Семья! – истошно вопил Жак. – Мать! Отец! Сестра! Брат!
– Жак Бовизаж, – зашептала я. – Тихо!
– Я! Я! Я! Помогите! Помогите мне!
И тут он завыл, и это был долгий и страшный звериный вой. Потом все стихло. Он убежал.
– Завтра, сударь, нам надо его поискать, – предложила я моему наставнику.
– Да, Мари, он успокоится к утру. Не удивлюсь, если он позже вернется и уляжется спать у наших ворот.
Но Жак Бовизаж не вернулся ни той ночью, ни на следующее утро. Почуяв вкус и запах крови, он отверг мягкую кровать, отринул теплый комфортный дом и вернулся, в обнимку со своим горем, обратно на улицу.
В ту ночь город словно подменили, и наш бульвар дю Тампль захлестнула непривычная тишина. Улица, по которой некогда спешили по делам люди и грохотали кареты, теперь была безмолвна. Городские ворота заперли. По всем районам бродили вооруженные пиками люди и стучались в двери. На реке через равные расстояния выставили дозоры в лодках, и дозорные стреляли по всему, что двигалось.
Утром, когда городские ворота вновь распахнулись, мы с Куртиусом отправились на поиски Жака, звали его, свистели и кричали. Мы останавливали прохожих. Мы предлагали вознаграждение за любые сведения о нем. Но в тот день, как и на протяжении многих последующих дней, о нем не было ни слуху ни духу.
– Мой Жак, – горестно повторял Куртиус. – Мое дитя! А что будет, если к нам ночью нагрянут грабители? Кто нас теперь будет охранять?
Глава пятьдесят восьмая
Никаких чувств
В те дни все городские ворота, все ставни и все окна были закрыты по указу Коммуны[15] и основные улицы в центре были оцеплены четырьмя шеренгами солдат. Куртиус, вдова, Эдмон и я сидели в церкви Мадлен, на рю де ла Мадлен, куда нас вызвали ранним утром по распоряжению Национальной ассамблеи. Получив письменное предписание явиться, мы поднялись на рассвете, помылись и с превеликим тщанием оделись. Мартен Мийо внимательно нас оглядел, сдул пылинки, поправил трехцветные кокарды, отступил на шаг, чтобы бросить на нас последний взгляд, и махнул нам на прощанье.
– Все будет хорошо, – заверил он. – Ну и день! Вы это заслужили!
И мы двинулись в путь. Я обернулась, чтобы махнуть ему в ответ, но мой взгляд привлекла одинокая фигура на соседней улице: человек стоял, спрятав подбородок от ветра в поднятый высокий ворот куртки.
Мы провели все долгое утро в церкви Мадлен, и за эти несколько часов ожидания я почти забыла, зачем мы сюда пришли. Наконец я услыхала барабанную дробь, потом наступила тишина, а затем тишину внезапно разорвал грохот, сотрясший церковные окна, словно могучий удар грома, и оглушительная волна радостных возгласов. Мы приосанились, выпрямились, на всякий случай смахнув с одежды соринки. Теперь уж ждать оставалось недолго. Все могло произойти в любой момент. У меня по спине забегали мурашки. У Куртиуса заурчало в животе. Вдова, несмотря на прохладу, обильно потела. Эдмон держал на коленях тряпичного Эдмона. Мы, Эдмон и я, глядели друг на друга. Но мы ждали, просто ждали. И ни слова не произносили.
Около половины одиннадцатого городские ворота опять открыли, возвестив о начале очередного дня в деятельной жизни Парижа. Потом по всему городу стали распахиваться ставни, в окнах появились лица, люди занимались своими обычными делами: отправились за овощами и мясом на запоздало открывшиеся рынки, пили кофе в кафе, играли в шахматы в парках или снова шли спать. Примерно в это время, после половины одиннадцатого, нам доставили посылку. Вначале нас препроводили из церкви на улицу. Основная часть посылки лежала в тачке. На церковном дворе уже была выкопана могила, рядом с которой стояло ведро, наполненное негашеной известью. Нам вручили сверток в корзине и попросили поторопиться.
– На ней почти все волосы вырваны, – констатировал Куртиус.
– Распродали по клочкам, – пояснил один из мужчин, прикативших тачку.
Я взяла голову себе в подол. Тяжелая.
– Вам бы поспешать, – заметил мужчина с тачкой.
– Похоже, ваша женщина плачет, – добавил другой.
– Вряд ли, – возразил мой наставник. – Мари, ты разве плачешь? Что-то на тебя не похоже.
– Нечего ей плакать. Это неправильно!
– Мы ведь безымянные мастера, Мари, – сказал Куртиус. – И мы не испытываем никаких чувств. Мы не можем себе позволить что-либо чувствовать. Этим пусть другие занимаются. И ты должна это знать лучше, чем кто-либо. Сколько голов мы уже сделали? И отчего сейчас такие волнения? Мы же как газеты. Мы только регистрируем события. Это наша привилегия, Мари, – видеть то, что мы увидели, и сейчас настала кульминация этой привилегии. Короли ведь тоже умирают, самыми разными способами. И история регистрирует это в своих анналах. И мы тоже регистрируем. Факты. Факты.
– Благодарю вас, сударь. Мне уже полегчало.
– Так, это еще что за ерунда? – недовольно произнес мужчина с тачкой. – Старая дама тоже плачет.
Вдова Пико, эта неприступная крепость, заметила на своем платье пятнышко крови короля. Она ткнула в него кончиком пальца. Ее глаза, вне всякого сомнения, были полны слез.
– Король, – прошептала она. – О, наш король. Чем мы провинились, что дошли до такого?
Вид этой головы даже вдову привел в полное замешательство. Эдмон, который уже изверг свой завтрак, сидел, трепеща, рядом с матерью, запихав холщового Эдмона себе в рот.
Мы с Куртиусом принялись за дело. Мы передавали друг другу голову, чтобы таким образом хоть немного очистить от мусора срез крупной шеи, на котором болтались ошметки плоти со сгустками крови и кусочками костей. Я нанесла на лицо короля слой помады, стараясь не открыть ему случайно веки. Лицо ничего не выражало. Небольшие морщинки вокруг бровей. Губам надо было придать естественное положение и закрепить. Зубы были сильно сточены от обилия сладостей и выпечки – нет, не надо думать об этом!
– Его любимой книгой, – заметила я, – был «Робинзон Крузо».
– Масло! – распорядился мой наставник.
– Если с ним такое учинили, думаю, они вполне могут такое учинить и с Елизаветой, правда?
– Гипс, – невозмутимо произнес Куртиус.
Когда дело было сделано, мужчины положили две части тела короля в наскоро сколоченный деревянный ящик и засыпали негашеной известью. Я сложила засохшие гипсовые формы в саквояж отца Куртиуса, где им предстояло впредь храниться до очередных распоряжений Национальной ассамблеи. Эти пустые половинки были куда более жизнеподобны, чем все, что Куртиус изготавливал раньше. А потом мы отправились домой, осторожно огибая все препятствия на пути, чтобы не повредить свою тяжелую ношу. Покуда мы шагали, я все думала, что же теперь делать с восковыми изваяниями короля – один за трапезой, которого я вылепила, сверяясь со своими многочисленными карандашными набросками, и другой, в полный рост, которого я вылепила с натуры. Оба, в конце концов, были законченными скульптурными портретами, представлявшими собой единое целое. Но теперь было бы неправильно сохранять их в целости: после казни короля, самой собой, их следовало разъять.
Вдова взяла у меня тяжелый саквояж.
– Дай я понесу, – вздохнула она. – Ты и так давно уже несешь.
Ого, я стала членом семьи, вот оно как.
Когда мы пришли домой, я заметила, что дверь с вывеской ВЫХОД и одна створка ворот стоят нараспашку. Мартен Мийо, решила я, открыл их к нашему приходу. Я позвала его, но он не вышел. Внутри все было по-прежнему: нас встретили головы на пиках – все эти одиозные персонажи. Куртиус поставил саквояж на пол, но это показалось неучтивым. Вдова водрузила его на стол. Я вытащила из саквояжа гипсовые формы и оставила их на столе вместе с распоряжением Национальной ассамблеи, чтобы все было на месте, когда придет время их истребовать. Рабочую сумку Куртиуса надлежало всегда держать наготове, поэтому я пошла с ней в мастерскую, положила в нее запас гипсового порошка и помаду и поставила у задней двери, чтобы в следующий раз ее можно было подхватить и сразу отправиться по делам. Я вернулась в большой зал, однако Мартен все еще не спустился, и тогда я пошла за ним. Но в расчетной комнате его высокий табурет пустовал. И тут я увидала, что дверца несгораемого шкафа чуть приоткрыта. Это не в правилах Мартена, подумала я, держать шкаф незапертым: он был обычно очень щепетилен в этих делах. Я собралась захлопнуть дверцу, но перед этим заглянула внутрь и поняла, что шкаф пуст. На полках не было ничего, кроме листка бумаги.
Я схватила его и, когда бегом спускалась по лестнице, кричала во все горло. Я продолжала кричать, сунув бумагу в руки вдовы. И все еще кричала, когда она стала ее читать.
Вдова Пико сидела с Куртиусом на скамейке в большом выставочном зале, а между ними расположился победитель лотереи Сиприен Бушар. Она склонила голову, читая строки:
«Я забрал 17 675 ассигнатов[16].
Я забрал 12 364 луидора.
Я забрал и те 9000 ливров, что вдова Пико прячет в манекене своего мужа.
Конец вашему грязному предприятию. Я с ним покончил.
К тому моменту, как вы вернетесь в дом, ворота будут открыты, а меня поминай как звали.
Собственноручно подписано:
Мартен Мийо».Читая записку, вдова низко склонила голову. Ее голова так и осталась склоненной, хотя я была уверена, что скоро она ее поднимет. Она же всегда знала, что следует предпринять. Голова вдовы оставалась склоненной, но в любой момент она могла ее поднять. Это был тяжелый удар, безусловно, но вдова все исправит. Она всегда знала, что предпринять. И мы все рассчитывали на нее. Вдова склонила голову. Но в любой момент могла ее поднять, в любой момент.
Голова вдовы оставалась склоненной.
И больше она ее не подняла.
Книга шестая 1793–1794 Тихий дом
Я в тридцать два и в тридцать три года.
Глава пятьдесят девятая
Тихий дом на Тихой улице
Где же посетители, которые после долгого трудового дня приходили к нам шумными толпами? Их больше не было. Кто мог потратить немного денег на забаву, когда цены на хлеб, свечи и одежду подскочили втрое? Все увеселительные заведения съехали с бульвара – их хозяева собрали свой скарб и отправились искать счастья где-то в других местах. На двери заведения доктора Грэма появилось объявление: СДАЕТСЯ. Все уехали, все. Какой удар! Какая потеря! Никаких больше фейерверков, ни даже искорки. Бульвар дю Тампль перестал существовать и получил новое прозвище: Тихая улица.
Большой Обезьянник напоминал заброшенное здание: ворота, распахнутые Мартеном Мийо, с того дня так и не закрылись и теперь стояли, перекосившись. Интересно, Мартен обокрал нас самолично или ему кто-то помог? Это казалось так на него не похоже. Наверняка у него был сообщник. Сквозь щели между каменных плит во дворе пробилась сорная трава, соседские дети играли перед зданием, и никто их не прогонял. Ржавый колокольчик на погнутых воротах онемел. После того как вдова не подняла голову, в Кабинете просто все остановилось. Ведь предприятие лишилось главы. Но при всем том Обезьянник не опустел. Со стороны нельзя было догадаться, что внутри кто-то есть. Однако четыре сердца продолжали биться. Одно, наверное, слабее, чем прежде, но остальные, словно компенсируя слабость первого, напротив, бились сильнее.
– Я ведь доктор, – сказал Куртиус, – а ты, Эдмон, ее сын. Ну а ты, Мари, ну… ты же Крошка. Теперь только факты, голые факты. Ничего, кроме правды, Шарлотта. Дорогая Шарлотта, это апоплексия.
Мы с Эдмоном собрали соломинки в мастерской, те самые, которые вставляли людям в ноздри, чтобы те могли дышать, покуда изготовлялись слепки их голов. Теперь соломинки отправились в искривленный рот вдовы, чтобы мы могли ее кормить.
– Это апоплексия, готов поклясться, – сказал Куртиус. – Пережаты шейные сосуды, возможно, кровоизлияние в мозг. Гемиплегия, односторонний паралич. Или аневризма? Ты что-нибудь чувствуешь, Шарлотта? Ты понимаешь, что происходит? Можешь подать знак? Если бы я мог заглянуть внутрь, – тут он слегка постучал кончиками пальцев по ее чепцу, – я бы сразу получил полную ясность. Если бы только взглянуть туда. Есть ли тромбы? Опухоль? Разрыв сосуда? Я не должен заглядывать внутрь, хотя ты хранишь в тайне от нас свой секрет. У тебя не было травмы головы? Помоги мне. Я не знаю, что делать. Шарлотта, не застывай. Прошу, умоляю тебя, только не застывай.
Она только и могла что глядеть в потолок. Она пила, и это было хорошо, хотя Куртиусу приходилось ее заставлять, зажав ей пальцами нос. Она дышала, что, по его словам, было исключительно важно.
– Я всегда буду рядом, – заверял он вдову, поглаживая ее по руке.
Из рта по ее подбородку покатилась струйка слюны, и он ее вытер.
– Тебя надо поменять? – принюхавшись, спросил он. – Похоже, надо. Я тебя переодену. Так, Мари, Эдмон, прошу вас, выйдите, это мое дело. Я должен сдвинуть твою мать с места, Эдмон, я должен сдвинуть эту великую даму, Мари, которая так много для тебя значила. Возвращайтесь немного погодя. Я справлюсь сам. Я укрепляю мышцы для тебя, Шарлотта. Я становлюсь очень сильным. Нет, Шарлотта, мне не жаль тех голов. Нет, они мне безразличны. Все, что мне нужно, находится здесь. И я теперь стал куда богаче.
Новая жизнь доктора Куртиуса была исполнена любви. Он любил ухаживать за ней, он любил ее пот и слюну, он любил все, что исходило из ее тела. Даже ее стоны услаждали его слух, ибо это были ее стоны. Набравшись отваги, он шептал:
– О, я люблю тебя! Я люблю тебя! Разве я тебе этого никогда не говорил?
И коль скоро никто его не пресекал, он перестал шептать, а заявлял об этом громогласно, сначала в ее правое ухо, а потом и в левое, надеясь, что она услышит. Он повторял эти слова без устали. Иногда он садился возле ее парализованной части, печально всматриваясь в ее обвисшее лицо, в ее недвижную руку и ногу, в скривившийся уголок рта, в немигающий глаз с набрякшим веком.
– Вот что я тебе скажу, – говорил он. – Ты крупная, и вся в родинках, и с пышными волосами, да-да, ты такая. Это Шарлотта, деловая дама с сигарой, успешная дама, и мы все тобою гордимся. Ты удивительная в самых разных проявлениях! Есть Шарлотта-мать, вырастившая чудного сына. Есть Шарлотта – глава семьи, никого не обделяющая своим вниманием. И есть также Шарлотта – вдова, мы не должны забывать и о ней, хотя эта Шарлотта куда менее важна, чем прочие твои ипостаси. И она, пожалуй, может уйти, потому что это Шарлотта прошлого. А ведь есть Шарлотта настоящего, разве нет? В конце концов, вот она лежит в своей постели. Одна ее часть тянется назад, а другая, мне кажется, непоколебима, да? И эта часть слегка устремлена вперед? Да! Вот она, Шарлотта будущего! Возможно, лучшая из всех возможных Шарлотт.
Двери с надписями ВХОД и ВЫХОД были закрыты. Гипсовая форма головы казненного монарха дожидалась своего часа, чтобы быть истребованной Национальной ассамблеей.
Но такого указания так и не последовало. Похоже, никому это уже не было нужно. И гипсовая форма так и лежала там, где я ее положила: две половинки, связанные бечевкой. В пустоте внутри гипсовой скорлупы была заключена огромная история страны. И мы были ее хранителями.
В те дни мы с Эдмоном внезапно сблизились. Больше нам некому было воспрепятствовать. И вновь сблизившись после столь долгой разлуки, поначалу мы не могли найти нужных слов друг для друга. Мы просто находились рядом, не отходя ни на шаг, не понимая толком, что делать в условиях внезапно обрушившейся на нас свободы. Иногда мы выходили из Большого Обезьянника и отправлялись на Тихую улицу в поисках скудного пропитания: часами простаивали в очередях за хлебом, ловя на себе взгляды бывших соседей, не без удовольствия отмечавших про себя наш жалкий вид. Иногда, когда мы уже подходили к голове очереди, нас почему-то отправляли обратно в хвост, иногда, когда мы снова оказывались впереди, провизия заканчивалась. Однажды молодой парень с выпученными рыбьими глазами подозвал нас к себе. На нем было новенькое платье и дорогая сабля на поясе.
– Ну что, померла наконец? – спросил он.
– Нет, Андре Валентен, – ответила я, ибо это был он. – Сегодня ей, пожалуй, даже получше.
– Тем хуже для нее. Где твои бумаги? Хочу еще раз на них взглянуть.
– Мы уже показывали, – ответила я. В те дни, выходя из дому, мы всегда имели при себе документы.
– Я хочу на них поглядеть. Я буду их проверять, когда пожелаю! Швейцарка! Знаешь, что мы делаем со швейцарцами? Мы арестовываем швейцарцев. И рубим им головы. Хотелось бы знать, много ли швейцарцев осталось еще в Париже. Наверное, очень мало, и их число все уменьшается.
– Как ты получил эту саблю, гражданин?
– Я ее заработал! Как ваше предприятие?
– В последнее время неважно.
– Да-да, я в курсе. Очень жаль, что вы вышвырнули беднягу Валентена на улицу. Подите прочь отсюда, топайте в конец очереди!
С тех пор как Андре Валентен, с кровоточащим носом, оказался за воротами на бульваре дю Тампль, он времени даром не терял. Он постоянно грозил кулаком Большому Обезьяннику, и другие, видя это, следовали его примеру. Это потрясание кулаками быстро стало популярным. Валентен обращался к своим братьям и сестрам по кулачным угрозам и рассказывал им, какое это жуткое место, а те просили: «Расскажи еще! Да, еще, долго ты у них пробыл?» И его усаживал за стол, и Андре Валентен за еду и вино повествовал леденящие кровь истории, вот так он и выжил. Я уверена, что только мечтами о разрушении Обезьянника он и держался. После исчезновения Жака Бовизажа он устроился в отряд патрулирования района, проявляя интерес к чужим вещам, потому как его завидущие глаза всегда видели все в неожиданном ракурсе и находили то, что другой бы не заметил. Например, у одной женщины он разодрал на груди платье, обнаружил под ним медальон на цепочке, раскрыл его и увидел внутри портретик короля – и ее казнили. В сточной трубе он нашел швейцарского гвардейца и тотчас утопил его в нечистотах. Еще он нашел ребенка с куклой королевы, и благодаря его усилиям и ребенка, и его мать заточили в тюрьму. А совсем недавно он неведомым образом разжился деньгами, что позволило ему приобретать себе разного рода привилегии; у нас имелись свои подозрения о происхождении этих денег, но никаких доказательств, да и кто бы поддержал иск иноземца, поданный против патриотически настроенного гражданина. Андре Валентен получил официальную должность и горделиво вышагивал по улицам, нацепив на грудь огромную трехцветную ленту, и мы были бессильны ему противостоять. Он принадлежал к возникшему в те дни новому племени мужчин, громогласно заявившему о себе, и не то что бы он сам жаждал свободы, но удачно извлекал выгоду, втеревшись в доверие к тем, кто ее провозглашал. Мы с Эдмоном возвращались с рынков почти ни с чем, а иногда и просто с пустыми руками. Как-то мы вернулись домой и услыхали ужасный грохот наверху. Взлетев по лестнице, мы обнаружили в спальне моего наставника, который разбрасывал вещи.
– Сударь, сударь, что вы делаете?
– Помогите мне! Мне нужна ваша помощь.
– О! – беспомощно отозвался Эдмон.
– Я хочу перенести свою кровать. Мы будем жить в одной комнате.
– О! – повторил Эдмон, уже в отчаянье. – О боже!
– Если не хотите помогать, тогда уходите!
Итак, его матрас лег подле кровати вдовы – с той стороны, которая не была парализована.
– Вот мое счастье, оно в этой кровати. Счастье мое! Моя жизнь! Надо ее подпереть. Левая сторона слаба, но правая – здорова! А теперь у меня будет и то и другое, Мари, и левая ее часть, и правая!
Вдова лежала неподвижной горой, устремив глаза в потолок, покуда в комнатах по соседству с ее спальней постепенно воцарялись беспорядок и запустение.
Глава шестидесятая
Небесное ложе доктора Джеймса Грэма
Есть здания, которые, какая бы судьба их ни постигла, будь они заброшены, или перекрашены, или оставлены как есть, или сданы новым съемщикам, кто перевернул в них все вверх дном, все равно сохраняют свой характер. Таким был дом, откуда выехало заведение доктора Джеймса Грэма. Доктор Грэм покинул бульвар дю Тампль и бежал в родную Шотландию, но какая-то частица, какой-то аромат, какой-то важный след от него остался. Возможно, это было томление, возможно, похоть, как бы там ни было, его дух не выветрился даже после отъезда. Вывеска НЕБЕСНОЕ ЛОЖЕ ДОКТОРА ГРЭМА – СДАЕТСЯ красовалась напротив нас, на противоположной стороне бульвара, и в те скучные утра и дни я частенько просиживала у окна и всматривалась в брошенное здание. На фасаде болтались ошметки двух силуэтов – мужчины и женщины – оба без одежды. Я не отрываясь смотрела на эти призрачные фигуры.
Подошел Эдмон и присел рядом. На него падал свет из окна.
– Эдмон, – проговорила я. – Эдмон, я тебя так отчетливо вижу.
– Мари, Мари, – отвечал он. – Как же я рад, что ты тут.
Он взял меня за руку. Мы сидели у окна рядом и внимательно разглядывали заведение доктора Грэма. И я подумала, каково там внутри.
Туманным вечером мы пересекли пустынный бульвар и приблизились к дому доктора Грэма. Мы быстро миновали грязную мостовую между нашими домами, ведомые двумя силуэтами на стене. Встав на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь, поначалу ничего не увидели. Только темноту. Обойдя вокруг здания, мы наткнулись на дверь, которую легко вскрыли палкой, и вошли в дом. Мы даже отважились зажечь свечу. Проникнув внутрь через черный ход, мы оказались в той части здания, которая, как стало сразу понятно, не предназначалась для посторонних. Мы двинулись вдоль гримерных заведения доктора Грэма. На полу валялись осколки разбитых зеркал, заношенные нижние юбки, баночки с румянами. Нашлась записка, нацарапанная на клочке пожелтевшей бумаги: «Встретимся в кафе Рампоно? В обычное время?» И подпись: «Изголодавшийся Виктор».
Мы долго шли по тусклому коридору, погружаясь все глубже в нутро здания. Почему здесь такой спертый воздух? И что за запах? Пахло то ли мускусом, то ли неведомыми мне восточными специями. Так мы добрались до фойе и остановились, чтобы прочитать надпись краской на стене:
«Добро пожаловать в храм доктора Грэма, созданного ради распространения разумного начала и культивирования способности видеть красоту как в ее духовном, так и телесном проявлении, способности, превосходящей ту, коей обладает нынешняя раса тщедушных, слабовольных и бесчувственных смертных, что ползают и копошатся во всех уголках земного шара, готовые благодушно вгрызться друг другу в глотки из-за сущих пустяков. Добро пожаловать к нам, вам здесь искренне рады. Вы не будете разочарованы, но отныне станете ДРУГИМИ. Входите, поддайтесь великим искушениям. Просто войдите. Войдите!»
– Эдмон, – предложила я, – давай совершим это путешествие самостоятельно, шаг за шагом, как здесь написано? Давай будем вести себя так, словно это заведение сегодня вечером снова распахнуло двери для зрителей?
– Да, Мари, – ответил он.
– Хорошо, – и я прочитала вслух новые слова: «Смелее, приобщитесь к новому влиянию необузданной музыки и пьянящих благоуханий!»
Мы вошли в помещение, все стены которого были расписаны обнаженными фигурами, стоящими почти вплотную друг к другу. Освещаемые трепещущим пламенем свечи Эдмона, они, казалось, извивались в танце.
«МУЗЫКА СМЯГЧАЕТ СЕРДЦА СЧАСТЛИВОЙ ПАРЫ, ПРЕВРАЩАЯ ЕЕ В ВОПЛОЩЕНИЕ ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ», – гласил начертанный вверху лозунг.
– Нам надо представить, Эдмон, что здесь звучит музыка!
– Да, Мари! – прошептал он. – Я, кажется, ее слышу.
Мы стали подниматься по лестнице, скользя ладонями по перилам, обитым дутым шелком. Лестница вывела нас к большой двери с надписью:
«Внутри вы найдете НЕБЕСНОЕ ЛОЖЕ ДОКТОРА ГРЭМА. Ни сам я, ни мои слуги не должны ни видеть, ни знать, кто именно предается отдохновению в этом помещении, которое я называю СВЯТАЯ СВЯТЫХ! НЕБЕСНОЕ ЛОЖЕ ДОКТОРА ГРЭМА. Все обустройство этих апартаментов, кои я не в силах описать словами, обошлось в весьма приличную сумму и явилось результатом долгих и углубленных исследований. А теперь откройте дверь!»
Что Эдмон и сделал. Но мы оказались не перед Небесным ложем доктора Грэма, а в передней. Там нам предстояло отворить еще одну дверь, над которой размещалась очередная надпись:
ХРАМ ГИМЕНЕЯ
Ниже шли дальнейшие указания: «А сейчас позвольте моим слугам забрать ваши вещи, которые потом, когда все завершится, вам вернут сладостно благоухающими. А ТЕПЕРЬ ТИШИНА! Не говорите ни слова!»
Свеча в руке Эдмона задрожала сильнее прежнего, но когда я протянула к нему руку, чтобы успокоить, то заметила, что и моя тоже дрожит. Мы продолжали читать:
«Вполне разумно и допустимо для впервые посещающих нас, ежели у них возникнет нужда, что всегда приветствуется, помочь своему визави освободиться здесь от заимствованных у общества вещей. Никакой обуви внутри. Никаких камзолов. Никаких капоров. Ни париков, ни платьев, ни кюлотов, ни сорочек, ни корсетов, ни нижнего белья. Ничего. Совсем ничего!»
Эти слова имели столь приказную интонацию, что хоть мы и трепетали от страха, но не смогли их ослушаться и принялись, словно в состоянии гипнотического сна, снимать друг с друга одежду: дрожащими пальцами мы расстегивали пуговицы и развязывали ленты, и наши одеяния падали на пол, при этом мы оба судорожно ловили губами воздух. Части тела Эдмона, ранее скрытые под одеждой, теперь предстали моему взору, и он прошептал:
– Мари, у тебя такие маленькие соски и стоят торчком! Я об этом никогда не думал.
Я промолчала.
А Эдмон продолжал:
– Они такие милые!
И тогда я нежно проговорила:
– Тссс! – потому как заметила еще одно уведомление:
«НИ СЛОВА ЗДЕСЬ! НИ ЕДИНОГО СЛОВА. ТОЛЬКО МУЗЫКА. ВСЛУШАЙТЕСЬ В МУЗЫКУ».
Но мы слышали не музыку, а лишь гулкое биение наших сердец. Эдмон, шагнув вперед, отворил дверь, за которой оказалась плотная шелковая портьера, и на ней было начертано очередное строгое указание:
«PROCUL! O PROCUL ESTE PROFANI![17]»
Нащупав в середине портьеры проем, мы проскользнули в него, и Эдмон шепнул:
– Небесное ложе доктора Джеймса Грэма!
И это, вне всякого сомнения, было оно, потому что не походило ни на какой иной горизонтальный предмет из множества, изобретенных человеком. Размером ложе было добрых двадцать футов на пятнадцать, и над его просторной поверхностью висел огромный купол с круглым зеркалом внутри, которое идеально отражало смятые шелковые простыни на ложе. У ложа имелось колоссальное изголовье с новым предписанием от доктора Грэма.
ПЛОДИТЕСЬ, РАЗМНОЖАЙТЕСЬ
И НАПОЛНЯЙТЕ ЗЕМЛЮ.
Мы с Эдмоном казались здесь такими крошечными. У ложа не было даже ступенек, чтобы взойти по ним. Если бы нам предложили простую кровать, спокойную и умиротворяющую, если бы мы оказались бы в непритязательном и милом помещении, мы могли бы, наверное, чувствовать себя куда более непринужденно и не стеснялись бы друг друга, но тут, при виде столь роскошного сооружения, предназначенного для титанов, мы ощущали себя очень мелкими – и нам было неуютно.
Мне чудилось, что эта величественная комната изучающе смотрит на меня, словно я была восковой фигурой, разглядываемой с разных ракурсов. Миниатюрная женщина. Тридцати двух лет. Я вскарабкалась на кровать и набросила на себя пыльную простыню. Через мгновение за мной последовал Эдмон. Он прижал свои губы к моим – какие же они были сухие! – и принялся целовать меня в щеки и в шею. Он издал протяжный вздох, словно пробуждаясь ото сна, а затем нежно положил меня на спину и продолжал целовать всю – двигаясь от шеи вниз, и его губы уже не были такими сухими. Я почувствовала нежный поцелуй на плече, а он продолжал двигаться ниже и ниже, и вот он уже дошел до моих грудей, и я ощутила прикосновение его пальцев, а потом и его губ.
– Ты выгнула спину, – шепнул он, – ты вздохнула.
И сразу после этого Эдмон Анри Пико вторгся в меня и наполнил меня, и сжимал меня в объятьях, и чуть покачивал. Я закрыла глаза, но и во тьме ощущала Эдмона.
– Я Эдмон Анри Пико, – говорил он, – а ты Мари Гросхольц по прозвищу Крошка, так это и должно быть, и так все должно было случиться давным-давно.
Итак. Жила-была неприступная девушка по имени Мари Гросхольц, и вот в один прекрасный день она треснула, точно ореховая скорлупа, из которой появилась другая Мари Гросхольц, уязвимая женщина без кожуры, прятавшаяся внутри этой скорлупы. И отныне она уже никогда не будет скрыта под этой оболочкой.
Началась жизнь. Чудесная жизнь! Я была влюблена.
Я любила Эдмона.
После того случая мы много раз оказывались во власти взаимной страсти, и всякий раз бежали через бульвар, чтобы опять оказаться вдвоем на измятой кровати доктора Грэма. Иногда мы так торопились, что я даже не снимала платья, а Эдмон спотыкался о болтающиеся на щиколотках кюлоты и путался в спущенных вниз чулках. И какая разница, что мы с ним были единственными по-настоящему живыми существами в этом мертвом здании, главное, мы заставляли его снова оживать. Для меня самым главным в жизни телом было тело Эдмона Анри Пико, ведь оно принадлежало мне. Я стала большим знатоком Эдмона Анри Пико и невероятно гордилась своим знанием. Мы поистине подходили друг другу. Как локтевая кость и лучевая кость, как малая берцовая и большая берцовая. А в финале Эдмон всегда внимательно смотрел на меня, положив голову мне на грудь.
Жизнь, думала я, продолжается и не устает удивлять.
Эта небольшая шкатулка, эта глава, заканчивается тут, я запечатала и отделила ее от прочих, предыдущих и последующих, чтобы другие люди из других глав не могли вторгнуться сюда и потревожить нас, вот почему мне нужно накрепко замуровать этот склеп, чтобы ничего из его содержимого не выплеснулось наружу, оставаясь взаперти нетронутым, божественным и триумфальным, ну и чудесным тоже. Пусть все остается недоступным для посторонних. Воск ведь тоже оберегает тайны личной жизни. Воском запечатывают письма. Воск хранит все слова мира там, где им и следует находиться, покуда они не попадут в достойные руки, коим дозволено выпустить их на волю.
Глава шестьдесят первая
Шестая группа голов
В очереди за хлебом я сообщила недоумевающему незнакомцу:
– Эдмон Пико снял с меня кожуру.
Идя домой, я остановила старика и заявила ему радостно:
– Я расстегнулась!
И молодой мамаше:
– Я любима! Меня любят!
Это были исключительно наши, Эдмона и мои, дни, которые изредка разбавлял своим присутствием наставник. Когда мы не были целиком поглощены друг другом, когда к нам присоединялся Куртиус, мы наконец могли оглядеться по сторонам и заметить самые обыденные вещи: окна, ставни, косяки, двери и дверные ручки – и мы были им благодарны! Во всех зданиях поддерживался порядок, так что мы могли там жить. Мы желали друг другу доброго утра и доброй ночи. В те дни мы ели не в столовой, так как однажды заметили крысу, по-свойски забирающуюся в буфет, а на старой кухне. Для вдовы на столе всегда ставился отдельный прибор. Чужие дети играли на потрескавшихся плитах во дворе, и их вопли нарушали хрупкий покой нашего дома.
Его восковые обитатели покрылись слоем пыли. Отрубленная голова короля так и осталась полой гипсовой формой. Когда мы навещали наши фигуры и уносили кое-какие из них, которые уже было небезопасно выставлять напоказ, в пыли на полу отпечатывались наши следы. Многие изваяния по нынешним временам стали опасны. Не стоило, скажем, демонстрировать лицо, похожее на Мирабо; нельзя было выставлять Лафайета, ибо не должно было оставаться никакого вещественного доказательства того, что этот человек когда-либо обладал лицом. Королевское семейство – особенно королевское семейство! – не следовало держать у себя в доме ни в каком виде: ни за обеденным столом, ни даже в клетке.
Как и короля, королеву тоже обезглавили; в тот день мы никуда не выходили, хотя до наших ушей с улицы доносились восторженные возгласы. Но Елизавета еще оставалась жива, ее держали в заточении в Тампле. И я знала, что посетить ее мне нельзя, поскольку подобный поступок поставил бы под угрозу наши жизни. Я удовлетворялась тем, что раз в неделю проходила мимо крепости. Надо ждать, решила я. Они должны быть довольны, что им удалось разделаться с королевой. Теперь они насытились.
Следы наших ног в пыли большого зала напоминали историю французского народа, ведь мы уволакивали запретных персонажей в запасник, там снимали с них все: сначала одежду, а потом и голову. Туловища оставались нетронутыми: опасность представляли лишь головы. Мы с Эдмоном поднимали запретные головы высоко над собой и с силой швыряли на пол, круша одну за другой, пока они не слипались в огромный восковой ком. Эдмон передал мне головы королевской семьи. Привилегия уничтожить их досталась мне по праву, ведь я их вылепила. И они полетели вниз. Нос королевы слипся с ухом ее супруга, или с подбородком ее деверя, или с рябой щекой Мирабо, или с пустыми глазницами Байи (мы сохраняли стеклянные глаза, ведь потом они могли пригодиться для новых голов). Затем мы принялись топтать головы вчерашних кумиров, круша их на мелкие кусочки, после чего собрали осколки совком и бросили в медный чан. Потом разожгли огонь и начали плавить восковые останки.
Когда воск превратился в жидкость, мы потушили огонь, Куртиус подошел к чану и с великим тщанием совершил свой ритуал. Поднеся ладони к остывающей поверхности, но еще ощущая уходящее тепло воска, он пробормотал:
– У человека, рожденного из воска, век недолог.
Через полчаса мы перевернули чан и с помощью мастихина выгребли оттуда содержимое. Огромная полусфера расплавленной истории с глухим стуком упала на верстак, и в этой однородной массе уже ничего было не разобрать. Головы исчезли, черты лиц позабылись.
Притихнув, я села рядом с наставником. Вдова спала наверху.
– Сколько работ погибло, – горестно произнесла я.
– Какие-то из них были прекрасны, какие-то так себе.
– Все уничтожено. Утрачено навсегда.
– И все же… – начал он.
– И все же, сударь, что?
– У нас остались гипсовые формы. Так что ничего не потеряно. Только стало незримым.
Так мы и жили. Мы с Эдмоном сидели, держась за руки, в хозяйственном отсеке Большого Обезьянника. Доктор Куртиус суетился вокруг вдовы Пико, чьи слабые стоны заставляли его вскрикивать в восхищении:
– Вы только послушайте! Какой несгибаемый дух!
Но жизнь наша не могла продолжаться так безмятежно. Однажды ближе к полуночи, когда все спали, раздался трезвон на весь дом. Поначалу мы даже не поняли, что это было: настолько мы отвыкли от этого звука. Кто-то дергал колокольчик Анри Пико.
Их было десятеро. Войдя в заржавленные ворота, они принялись дубасить в дверь ВХОД и в дверь ВЫХОД.
– Они не уйдут, – проговорила я. – Пойду скажу им, что мы закрыты.
– Я не могу спуститься, – заявил Куртиус. – Я не могу ее оставить.
– Может быть, наконец пришли за головой короля.
Я спустилась. Эдмон со мной.
– Кроме вас никого нет? – спросили они.
– Нет, – ответила я поспешно. – Только мы.
– А где хозяин?
– Его нет, – ответила я.
– У вас есть оборудование?
– Вы имеете в виду для отливки из гипса? – удивилась я. – Да?
На это они сказали, что нам нужно поторопиться и что мы должны захватить оборудование. Нас повели за реку. Быстрее, быстрее, поторапливали они. Мы подошли к небольшому дому, перед которым собралась приличная толпа. Люди плакали.
Наш эскорт протиснулся вместе с нами сквозь толпу. Мы поднялись в квартиру во втором этаже, и там нас повели по коридору, заполненному мужчинами. Мужчины крепко держали за руки и плечи единственную там молодую женщину в полосатом платье, слегка разодранном.
– Что она совершила? – спросила я.
– Убийство, – последовал короткий ответ.
Нас завели в людную спальню. Присутствующие расступились, и мы увидели лежащего на кровати человека, голого, если не считать поношенного домашнего халата, в белом тюрбане, обернутом вокруг его головы. Его округлое, точно полная луна, лицо было все в оспинках, крупные веки полуприкрыты, большой рот приоткрыт, и между губ торчал кончик языка, а кожа была обезображена болезнью: вся в язвах, струпьях и лопнувших прыщах. В его груди зияла большая рана, похожая на глубокий темный зев, и можно было заглянуть прямо внутрь. Человек уже начал застывать: все жидкости в его теле загустели и начали темнеть.
– Как ты себя чувствуешь, Эдмон? – спросила я.
– Хорошо, спасибо, Мари, – ответил он. – Ты обо мне не беспокойся. Я сильный. Я создан из крепкого материала. Ты говори мне, что делать, и я все сделаю, как тебе надо. Вот. Я сам себе удивляюсь. Вот, я снова посмотрел на него. Это мертвый, убитый мужчина.
Снаружи раздался оглушительный рев: ту молодую женщину из коридора поволокли вниз.
Возле тела на кровати стоял высокий курчавый мужчина с блокнотом, в котором рисовал эскиз с натуры. Он опустил карандаш и обернулся к нам. Поначалу мне он показался весьма красивым, но когда повернулся, я заметила его левую щеку: она была раздута и свернута вбок, чем немного напоминала парализованную щеку вдовы, отчего левый край его рта был растянут и больше походил на ножевой разрез. И говорил он, заикаясь и коверкая слова.
– Выыхтоо? – произнес он.
– Мы от Куртиуса, – ответила я. – Но мы знаем свое дело. Я делала головы до этого, и мертвых, и живых. Эдмон Пико занимается туловищами.
– Куртиашш?
– Он не смог прийти.
– Нуж шдеелать ффше тело изз вошшка.
– Хорошо, сударь, мы сможем.
– И быышштро!
– Да, сударь, незамедлительно.
– Оно кочченеет, тееело. Гниеттт.
– Да, я вижу: процесс разложения уже начался.
– И мне нужжн напшшать его.
– Написать его, сударь?
– Напшшать битттого герроя Кунвентта.
– Вы живописец, сударь?
– Я Даффиид!
Это и впрямь был Жак-Луи Давид. Художник.
– Да, сударь? – в ту пору я о нем не слыхала. – А кто, позвольте спросить, несчастная жертва?
– МАРРАА!
Убитым оказался доктор Жан-Поль Марат. Тот самый неистовый доктор Марат, который каждый день призывал отправить на гильотину как можно больше народу, чтобы спасти нацию. Оголтелый Марат, который называл себя Яростью народа. Болезный доктор Марат – чей недуг, без сомнения, испортил его нрав, – который, сидя в комнатной ванне, должной унять зуд воспаленной кожи, получил несколько ударов хлебным ножом в левое легкое, аорту и левый желудочек сердца.
Нам надо было спешить, но все делать тщательно, дабы сохранить в целости ужасающее тело.
Мы оказались первыми у смертного одра Марата. Первыми из многих, пришедших после нас. Мы, Эдмон и я, стоя плечом к плечу, сделали гипсовые слепки. Одну лишь голову и фрагмент груди. Остальную часть тела лучше было не трогать. Черты лица Марата уже заострились, а глаза помутнели, как плоть устрицы. Когда мы сделали слепки, другие люди произвели вскрытие тела, ненужные органы равнодушно выбросили, но с другими частями обращались куда бережнее, завернув их во влажную ткань. Это была их работа: все эти люди, вооружившись уксусом, мышьяком и ртутной солью, иглами и нитками, готовили тело к государственным похоронам. Они изъяли его сердце, его настоящее сердце, и положили в порфировую урну. Мы забрали его голову и ее гипсовый слепок и унесли домой, получив приказ немедленно изготовить посмертную маску Марата и принести ее Давиду.
– Мы займемся этим вместе, Эдмон, – сказала я по дороге домой. – Все только вместе. Мне понадобится твоя помощь.
– Разумеется, – ответил он. – Я смогу.
Первым делом мы тщательно подмели пол в большой мастерской. Потом отдраили верстак и начистили инструменты. Выложили на верстак все, что потребуется для работы: мерные ложки, гипсовый порошок, мягкое мыло. И лишь когда все необходимые аксессуары были готовы к работе, мы положили на стол гипсовую форму.
И тут вошел Куртиус.
– Что это?
– Голова, – ответила я.
– Заказ? – спросил он, потрясенный. – Это на заказ?
– Да, сударь, это небольшой заказ.
– Нет, довольно с нас. Мастерская закрыта.
– Мы должны, сударь. Нам приказали.
– И кто это?
– Его убили недавно.
– Довольно смертей. Теперь только жизнь! Я хочу, чтобы у нас были только живые. Мы не можем прикасаться к смерти. Она может распространиться, как инфекция!
С трясущимися руками он передал мне ключ от буфета с запасом воска.
– Вот возьми. Я этим больше не занимаюсь. Мне нужно вернуться. Не будите Шарлотту. Она спит. И я должен вернуться к ней.
Нашу первую отливку посмертной гипсовой маски установили в окне квартиры Марата, откуда она взирала на сотни скорбящих людей.
– Дааа! Даааа! – сказал Давид, когда я принесла ему голову. – Велиики падриоот!
Великий патриот – это он меня так назвал.
Через два дня мы смогли заменить посмертную маску на бюст убитого деятеля. Давид попросил нас изготовить из воска ростовую скульптуру Марата для публичного показа. Реальное тело быстро разлагалось на летней жаре, а грандиозные похороны еще не были подготовлены.
– Все теело полношттю, торопиитеш, прошшу торопиитеш!
Мы спешно вернулись домой и тут же принялись за работу. Восковой Марат получился у нас состоящим из двенадцати фрагментов. В тех случаях, когда мы не могли получить слепок реальной части его тела – груди, плеч, шеи и головы, – нам пришлось реконструировать их из глины, полагаясь на мои заметки и на мерки, снятые Эдмоном на месте. Нам нужно было приладить посмертную маску к глиняному телу, затем изготовить новые формы всего тела, и уже с помощью этих форм отлить восковую фигуру целиком. Мы добавили красители в азиатский воск, аккуратно сделав смесь на водяной бане, разогрев ее до нужной температуры и потом медленно залив ее в гипсовые формы. После чего мы вынули восковые отливки и, соединив их, нанесли краской крошечные болячки, а из восковых хлопьев изготовили имитацию лопнувших прыщей.
– Вы очень шумите! – посетовал Куртиус.
Но мы, целиком поглощенные работой, едва произнесли два слова за все время.
На третий день после смерти Марата, пятнадцатого июля, когда я пришла к Давиду отчитаться об успехах, тело покойника уже позеленело. На пятый день изнуряющий зной спал, сменившись проливным дождем, и убившую его женщину казнили. На шестой день тело доктора Жана-Поля Марата наконец увезли из квартиры и, положив на траурное ложе, выставили в церкви Кордельеров. Тело было размещено так, чтобы видна была смертельная рана. Людей подпускали близко к ложу, и они могли взглянуть на тело, которое постоянно обрызгивали духами. Зрители пребывали в благоговейном молчании. На седьмой день наш восковой Марат был готов, и его привезли в Конвент. Наш Марат был изображен в предсмертный миг: сидящий в комнатной ванне, с ножом в сердце, – он казался олицетворением застывшей муки. Можно было вытянуть руку и дотронуться до него. Этот Марат не смердел, не разлагался, он был свеж и даже слегка сиял. Он должен был оставаться там до того момента, как Давид завершит свое огромное полотно, изображавшее мертвого в ванне, мученика, святого, бога.
– Блаадрюю вашш, гражжданэ! – прошепелявил он, орошая слезами свою искалеченную щеку.
Люди мечтали взять что-нибудь на память об убитом. Но что бы это могло быть? Они видели в окне его посмертную маску. Где бы достать такую?
И сами того не желая, мы стали основным изготовителем изваяний Марата.
Глава шестьдесят вторая
Новое предприятие
В те недели, в те месяцы, мы невольно стали весьма процветающим цехом кустарного производства. Мы изготавливали гипсовые головы неистового Марата: утром мы делали Марата, и в течение дня одного только Марата, и до позднего вечера ничего, кроме Марата. На дверях ВХОД и ВЫХОД мы повесили объявление:
ЗА МАРАТОМ
ПРОСИМ ПРОЙТИ
К СЛУЖЕБНОМУ ВХОДУ СЗАДИ
– Вот, Эдмон, – пояснила я, – чтобы нам было проще заниматься своим предприятием.
– То есть нам с тобой?
– Только нам. Куртиус целиком посвятил себя уходу за вдовой. Теперь все легло на наши плечи.
– Мы делаем успехи, Мари, ты да я!
Мы перенесли стол с входными билетами в служебный вход и сидели там по очереди с Эдмоном, беря с посетителей деньги: по семьдесят ассигнатов за голову Марата. В те дни я впервые поняла, каково это проводить целыми днями рядом с мужчиной, чувствуя его близость, сидя с ним бок о бок на скамье, касаясь его рук под столом. Мы превратились в мастерскую, где время остановилось, замерло на несколько месяцев после 13 июля 1793 года – дня убийства Марата.
– Только одну голову? – изумился Куртиус. – Вы делаете только одну голову?
– Да, сударь, только одну.
– Но разве так можно? Одна голова. А что, если эта голова окажется под запретом?
– Я сама этого не понимаю, сударь. Это так странно. Но мы в Обезьяннике всегда выставляли только самые популярные в народе фигуры, и сегодня все приходят за Маратом.
Холщовый Эдмон теперь раздался вширь, заиграв яркими цветами, так как его обшили бирюзовыми, пурпурными и алыми нитками, заплатками цвета лаванды, индиго и сиены, позаимствованными в заброшенной мастерской вдовы Пико. Холщовый Эдмон стал столь же ярким, глянцевитым и красивым, сколь сдержанным, нелюдимым и неприметным раньше был живой Эдмон.
– Я снял мерки с твоей Марты, – сообщил он.
– Не может быть, Эдмон!
– Я точно помню.
– Что еще?
– Ночью я заходил к тебе. Я часто об этом думал.
– Да, о да!
Мне было непривычно, что Эдмон так много говорит. Наверное, он стал словоохотливым под влиянием людей, приходящих за головой Марата. А может быть, на него так повлиял доктор Куртиус, который не отходил от кровати вдовы, одаривая ее своим обожанием и вниманием и рассказывая ей тысячи историй о человеческом теле. Как бы там ни было, что-то зашевелилось внутри оцепеневшей вдовы Пико.
По словам доктора Куртиуса, она теперь издавала куда больше звуков, чем прежде, и устремляла взгляд на стены, а не только в потолок. Бедный доктор Куртиус, говорили мы друг другу, бедный, она точно такая же, что и раньше, на что он надеется, наивный! Но как-то утром, когда Эдмон зашел проведать мать, ее взгляд переместился с потолка на стену, а затем – он готов был поклясться! – ее глаза сфокусировались на нем и после уже никуда больше не глядели. Он отошел в один конец комнаты – они следили за ним. Он отошел в другой конец, а ее глаза продолжали смотреть на него. Эдмон вскрикнул. Мы сбежались на его крик.
– Смотрите! Смотрите!
Но к тому моменту, как мы вбежали в комнату, она вновь уснула. Когда на следующий день я вошла в спальню вдовы, Куртиус с ней беседовал, и издаваемые ею звуки показались мне более осмысленными.
– Рррббб, – произнесла она.
Что-что?
– Ррррбббб, – повторила она.
– О да! – радостно отозвался мой наставник. – Да, раньше да, но больше нет.
– Работаем, вдова Пико? – переспросила я. – Вы хотите сказать: работаем ли мы?
– Ррррбббб, – урчала она.
Я принесла ей что-то из ношеной одежды, потрепанную униформу наших работников, и она с усилием попыталась взять их в руку. Когда я прижала старую материю к ее щеке, она заплакала. Вдова старалась вернуться – возможно, не вполне это осознавая, но как бы инстинктивно. Мы подняли ее с кровати, усадили на тележку и провезли по комнатам второго этажа. Мы давали ей разные вещи для забавы, и она часто их расшвыривала по полу, словно ей доставляло удовольствие видеть, как мы их собираем и приносим обратно. Однажды утром доктор Куртиус наклонился над ней и одним коротким взмахом скальпеля разрезал ленту ее чепца. Чепец упал с головы, но стог волос остался неподвижным. Комнату сразу же наполнил неприятный запах. Это была вонь давно не мытого тела. Огромный колтун волос – каштановых, пегих и седых, не слишком привлекательных оттенков, был зримым признаком неухоженности. Волосы вдовы свалялись, задеревенели, чуть ли не окостенели. Куртиус, напевая себе под нос, засуетился над ними с гребнем из слоновой кости, не зная, куда его запустить. Он занес гребень над одним местом, потом над другим, вонзил зубья и слегка потянул – и голова вдовы откинулась назад. Эдмон наблюдал за этим со страдальческим выражением лица. Потом Куртиус вооружился длинными щипцами с раздвоенными концами, предназначенными для хирургических операций на матке, и этими щипцами он умудрился выудить несколько спутанных прядей из стога слипшихся косичек. После этого несколько прядей сами собой упали вниз. Как же трепетал Куртиус, обхаживая заботливыми руками отвратительный, засаленный, шишковатый, застарелый холм дурно пахнущих безжизненных волос с торчащими крысиными хвостиками прядей. Теперь, без чепца, вся некогда роскошная громада волос, предмет ее любви, оказалась на воле, и как же прихотливо разрослась эта ее любовь, какой же слабой, нестойкой, странной особой оказалась эта любовь. Куртиус тщетно пытался пригладить растрепанные космы.
Она его куснула.
Он замер перед ней в испуганном замешательстве. А потом захлопал в ладоши.
– Ты делаешь успехи, Шарлотта! Ты меня поражаешь! Кусай еще! Кусай меня!
Она и впрямь пришла в себя. Но не стала прежней. Ее раздражало, когда Куртиус пытался притронуться к ее волосам, но иногда она позволяла ему приводить их в порядок. И он аккуратно, любовно подрезал ей пряди. Эдмон показал ей старые бухгалтерские книги, и она, действуя рабочей рукой, вырвала из них несколько листов. Мы перенесли ее в большой зал, но там царил полный разор: в зале стояло множество пустых стульев, где некогда восседали восковые люди, и пустых пьедесталов. Мы пронесли ее мимо оставшихся восковых фигур, которые ее не заинтересовали. Я показала ей наши новые работы – полки, заставленные десятками гипсовых Маратов, но она явно ничего не понимала. Я показала ей заработанные нами деньги, но это были новые деньги, бумажные ассигнаты, и всякий раз, когда мы совали их ей в ладонь, она их роняла на пол. Потом Эдмон подхватил ее под мышки, а мы с Куртиусом взяли ее за ноги и отнесли по лестнице наверх. Она предпочитала, сочла я, вернуться к себе в спальню.
Эдмон принес манекен Анри Пико, уже сильно обтрепанный, со вспоротой грудью после того, как Мартен Мийо и его сообщники выпотрошили его, и теперь он стоял с запавшей грудиной.
– Я хочу, маман, чтобы вы вспомнили папа и меня. Я – Эдмон, ваш сын. Очень может быть, что нынче я выгляжу совсем иначе, чем раньше, очень может быть, и вам нужно напрячь память, чтобы узнать меня. Но я хочу, чтобы вы знали меня таким, каков я есть. Ваш сын повзрослел и наконец-то стал сильным.
Куртиус грыз костяшки пальцев, скрючившись и глядя в сторону.
Эдмон поставил своего выпотрошенного отца перед матерью, и она стала на него смотреть, и смотрела, смотрела, не отрываясь, но ничего не видела.
– Папа, – вспомнил Эдмон, – говорил очень тихим голосом, почти шепотом.
Куртиус отпрянул, ужаснувшись тому, что вдова вспоминает своего покойного мужа.
Вдова устремила взор в потолок.
– Папа, – вспоминал Эдмон, – иногда кивал во время разговора.
Куртиус несколько раз кивнул, сердясь на самого себя. Он так часто имитировал людей, которых отливал из воска, – пытаясь понять их характер, – что это давно вошло у него в привычку. И теперь, когда Эдмон вспомнил своего отца, мой наставник непроизвольно стал его копировать.
Вдова глядела в потолок.
– Папа, – вспомнил Эдмон торжествующе, – обычно распевал гимны во время работы.
– Нет, не распевал! – прошептал Куртиус, но тут же принялся мурлыкать себе под нос.
Вдова глядела в потолок.
– Папа, – закричал Эдмон, мой сильный Эдмон, – косолапил при ходьбе!
– О боже! – простонал Куртиус и стал прохаживаться перед кроватью вдовы, сдвинув носки.
Вдова по-прежнему глядела в потолок, но теперь нахмурилась.
– У папа, – завопил Эдмон, – уши торчали!
– Помогите! Помогите! – завизжал Куртиус, прикрывая свои уши ладонями.
Но вдова уже заснула.
Вернемся в нашу мастерскую. Всякий раз, разнимая половинки гипсовой формы, я гадала, не обнаружится ли там чья-то другая голова, не таится ли внутри иной персонаж, но нет, всякий раз это был все тот же Марат. Иногда, раскрывая форму, я непроизвольно ощущала прилив тошноты.
– Это ведь просто голова, – говорила я себе. – Всего лишь голова. Надо не смотреть на нее – и меня перестанет тошнить.
Мы уже настолько свыклись с нашей домашней жизнью, что нас не могла удивить нижеследующая беседа, в которой мы вдруг затронули тему, наверняка звучавшую во многих парижских домах, где обычные люди обсуждали свою личную жизнь.
– Нет, – возразил Эдмон с весьма серьезным видом. – Уверен, я понимаю, в чем дело. Голова тут ни при чем, Мари.
– Не голова?
– Нет, нет. Ты беременна.
Глава шестьдесят третья
Эдмон не дает мне скучать
Двадцать третьего августа была выпущена декларация о «Массовой мобилизации». Все мужское население страны призывалось на военную службу. Мужчин забирали, выстраивали в колонны и уводили. Молодых парней, спешащих по своим делам, хватали прямо на улице.
Эдмон теперь отсиживался в Обезьяннике за закрытыми ставнями. Но потом и этого показалось недостаточным. Ему надо было вновь поселиться на чердаке.
– Нет, Мари, я больше туда не вернусь.
– Но ты должен ради своей же безопасности.
– Мне там плохо.
– Но там самое безопасное место.
– Да что ты! Как ты можешь так говорить? Ты там находилась? Это место оказывает ужасное влияние на человека. Оно подавляет.
– Нет, – возразила я. – Уже не будет. Теперь это не так. Ты же стал другим.
Я поднималась проведать его, когда выпадала свободная минутка, потому что он сидел там безвылазно, прятался. Если бы кто-то заметил его в доме или услышал его голос, его бы сразу увели, и мы бы его больше не увидели. Эдмон оставался на чердаке, а внизу о нем никто не вспоминал. Тем временем посетители, покупавшие у нас Маратов, рассказывали последние новости.
– Мерсье арестован – вы не слышали?
– Бедный месье Мерсье, нет, не слышала.
– Значит, вы не знаете, кто его арестовал?
– Нет.
– Жак Бовизаж!
– А вы сами видели Жака? Вы не знаете, где он?
– Мне так сказали. Мне просто сказали, что это был он.
Эдмон заперся на чердаке в компании деревянной куклы, изображающей меня, и его холщовых людей. Он собрал все магазинные манекены в одном помещении и распределил их по разным группам. Иногда он занимал место среди них, словно созывал их всех на собрание гильдии манекенов.
Мы хранили на чердаке запасы сушеной провизии – на тот случай, если нас отсюда уведут, и он, оставшись один, мог бы питаться.
После того как Эдмон уединился на чердаке, Куртиус предпринял усилия по скорейшему изничтожению Анри Пико. Когда никто не видел, он как бы невзначай распускал швы на его боках, вырывал куски ткани и использовал эти лоскутки для затыкания дыр в стене. И однажды я обратила внимание, что холщовое изваяние покойного портного скукожилось, превратившись в жалкую тряпицу, которую Куртиус носил в кармане и время от времени отирал ею испарину со лба вдовы.
– Кто это? Ну, кто это такой? – вопрошал он, держа у нее перед глазами тряпку, но она молчала, и он удовлетворенно кивал. А как-то раз Куртиус сказал: – Я разбираюсь в анатомии. Я знаком с человеческим телом. Мне приносили внутренние органы матерей, истощенных частыми родами. Я видел могучие женские тела. Одно мне особенно запомнилось, эта рожала не так часто, как прочие. Я вскрыл его, – он понизил голос до шепота. – А внутри лежал человечек. Что, Крошка, что, Мари, у тебя внутри?
– Младенец, – ответила я.
– Настоящий?
– Да. Надеюсь, что так.
– И как он туда попал?
– Обычным манером.
Он смутился. Я указала пальцем в потолок.
– О!
– Да, сударь.
– Это очень опасно, – покачал он головой. – И рискованно.
– У людей бывают дети.
– Ты уже немолода. Ты слишком стара. Ты умрешь!
– Возможно, да, сударь, – ответила я. – А возможно, и нет.
– Нет, о нет! Ты умрешь!
Теперь моему наставнику нужно было заботиться о двух женщинах. Он несколько раз на дню слушал мою грудь и живот, требовал, чтобы я больше лежала. Он обмывал мне лицо и качал головой. Он даже пришел помочь мне отливать гипсовых Маратов. К тому моменту нашего собственного воскового Марата нам уже вернули; вместо него в Конвенте повесили картину Давида. Вот тогда спрос на гипсовых Маратов начал падать: хотя наш восковой экземпляр был точной копией лица покойного Марата, по сравнению с портретом Давида он казался уродливым. Живописец изобразил Марата красавцем-святым, точно сошедшим со страниц Библии, но ведь на самом деле тот был совсем не таков. Картина была лживой.
Эдмон стачал для себя из мешковины простенький костюм, сильно смахивающий на наряд магазинного манекена.
– Если кто-нибудь поднимется на чердак, – говорил он, – меня не отличат от других манекенов.
– Так не будет продолжаться вечно, – успокаивала я его. – Помни, кто ты такой. И не забывай. Смотри в окно, на заведение доктора Грэма. Сегодня ночью я приду к тебе.
– У нас будет младенец.
– Надеюсь, Эдмон. Если нам повезет.
– Он внутри тебя, он там растет.
– Да, это не значит, что он внезапно перестанет расти.
Он заплакал.
– Но мы постараемся, чтобы этого не случилось.
– Да, мы очень постараемся.
В те мутные тревожные дни, когда мы не жили, а выживали, когда мы медленно, ощупью двигались во мраке нашего дома, стараясь не шуметь, к нам проникла эта новость. О человеке из моей прошлой жизни. Я о ней давно не думала. Я позабыла думать о ней. Если бы я чаще вспоминала о ней, возможно, она бы и сейчас была бы жива, она и сейчас бы дышала.
Я собралась выйти за хлебом. Но черный ход был заперт. У двери стоял доктор Куртиус, словно преграждая мне путь.
– Лучше тебе сегодня не выходить, – пробормотал он. – Сегодня нам хлеб не нужен.
– Нужен, – возразила я. – Нам нужен хлеб.
– Лучше, – настаивал он, – сегодня никуда не выходить.
И поначалу я ничего такого не заподозрила.
Доктор Куртиус настоял, чтобы я некоторое время посидела у окна. И тут Эдмон показал мне маску из папье-маше, которую он смастерил для себя: маска полностью закрывала его лицо, там были проделаны только дырочки для ноздрей. На маске даже кое-как были нарисованы глаза, прикрывавшие его собственные.
– Не надо ее надевать, Эдмон, это уж слишком.
– Нет, нет, она меня успокаивает. В ней куда безопаснее.
Он напяливал ее всякий раз, когда кто-то поднимался по скрипучей лестнице на чердак. Куртиус просил меня снова и снова рассказывать ему о нашей жизни в Берне.
– Давай поговорим о наших первых головах, – предложил он. – Ну-ка, завернись в одеяло.
И так, завернувшись в одеяла, мы оба сидели у камина и предавались воспоминаниям о наших старых изделиях из воска, не получивших никакого продолжения.
В конце концов я поняла.
Мои мысли текли в таком направлении: ставни сегодня закрыты, точно так же они были закрыты в день казни короля и королевы, значит, вероятно, сегодня убили кого-то столь же важного. Но кого? И когда я отворила один ставень и оглядела дома напротив, то увидала, что только в нашем доме все двери заперты и ставни закрыты, и меня охватил страх. А вдруг это она, подумала я. Может быть, это она. Пожалуй, она. А иначе отчего все на меня так смотрят? И почему меня все норовят погладить, приголубить и выказать заботу?
– Ммммм, – промычала вдова.
– Елизавета? – спросила я.
– Мари, дай я помассирую тебе живот, – предложил Эдмон.
– Елизавета? – повторила я.
– Мари, сядь у камина со мной, – пригласил меня наставник.
– Елизавета? – не унималась я.
– Расскажи мне про наши бернские головы.
– Елизавета? Это Елизавета? Елизавета?
Наконец он кивнул.
– Елизавета, – и добавил: – Сядь у огня.
И вы не поверите, я села.
Это произошло двадцать седьмого мая 1794 года, или восьмого прериаля второго года, если следовать их новому календарю. Возможно, с ней, бедняжкой, был ее гипсовый Иисус. Жаль, что меня не оказалось рядом. Среди тех, кто, скучившись, сидел на открытой повозке, везущей их к плахе. Без сомнения, она молилась всю дорогу. Она, как мне сказали, отправилась в это путешествие простоволосая, потому как ветром у нее с головы сдуло платок. Она была двадцать четвертая по счету. Перед ней в той группе было двадцать три человека. Моя Елизавета. Моя Елизавета отправлена на смерть без ее сердца, без ее хандры. Моя Елизавета. Она так и не послала за мной.
Почему ты меня не позвала?
На следующее утро я отправилась за хлебом.
Глава шестьдесят четвертая
Всех забрали
Десятого июня 1794 года был принят закон двадцать второго прериаля[18]. Там, в частности, говорилось, что «Трибунал должен быть не менее энергичным, чем преступность, и выносить приговор по каждому делу надлежит в течение двадцати четырех часов». И вот люди, самые обычные люди, препровождались гурьбой из тюремных камер в зал суда, иногда рано утром, и им выносили приговор в два часа пополудни, а уже в три часа они сидели на повозке, в которой их везли к месту казни на гильотине. Общественный прокурор, предъявляя обвинение, провозглашал: «Вы виновны из-за складки на вашем платье. Вы виновны из-за вашего имени. А вы – из-за ваших усов. Вы – из-за ваших волос. Вы будете убиты, потому что вы родились, имея больше денег, чем у других. А вы – потому, что меньше, чем у других. Вы – потому, что однажды вы шепотом высказали свое мнение. А вы – потому, что однажды вышли из дома без триколора на груди. Вы – потому, что ваш сосед однажды нелестно высказался о вас. Вы – потому, что как-то раз вы не кричали достаточно громко. Вы будете казнены, потому что нам не нравится ваша внешность. Вы будете убиты, чтобы повысить уровень массовости казней. Вы будете убиты, потому что мы так решили. Мы знаем, о чем вы думаете, вы угрожаете нашей свободе, вы опасный элемент».
Мы с Куртиусом стояли в мастерской, где на рядах полок громоздились вывернутые наизнанку гипсовые головы.
– Нам нужно их все сломать, – сказала я, – нам придется, сударь. Если эти формы найдут, это будет повод нас казнить. Андре Валентен каждый день бродит по бульвару. Он не оставит нас в покое. Нам нужно их сломать, сударь. Иначе нас убьют.
Он помрачнел.
– Это же моя жизнь, которую я построил с вдовой. И теперь все вышвырнуть?
– У нас нет выхода, сударь.
– Надо ждать. Только ждать. Возможно, у нас есть шанс. А что, если нам, Мари, залить гипсом все головы в мастерской, на всех полках от пола до потолка? Надо все помещение залить гипсом. Одним только гипсом. А потом – если это потом наступит – мы придем с молотками и резцом аккуратно отколем гипс. Сначала мы у задней стены мастерской поставим формы, обернем их просмоленной холстиной и все зальем гипсом. А когда это помещение откроют, люди войдут и начнут раскалывать гипс, доберутся до холстины и увидят наши формы, сохранившиеся в целости и сохранности.
И мы принялись за работу. Мы составили формы на полках и покрыли их холстиной. А потом ведро за ведром стали заливать все жидким гипсом, а дверной проем постепенно забили деревянными планками снизу доверху, чтобы гипс не выливался наружу, пока вся комната не оказалась закованной в гипс. В мастерской больше не осталось пустого места, за исключением нескольких провалов размером с человеческую голову, ждущих своего часа. Я даже поставила туда голову короля. За ней так никто и не пришел, и те, кто приказал нам ее отлить, уже сами были мертвы. Когда гипс застыл, мы отодрали дверные косяки, и заменили бывшую дверь деревянной панелью. Несуществующей дверью в несуществующую комнату.
Мы сидели в Большом Обезьяннике, тихо вслушиваясь в грохот башмаков марширующих по улице людей. Иногда у наших сломанных ворот появлялся, криво ухмыляясь, Андре Валентен. Однажды он вошел, по-хозяйски прошелся по помещениям дома, сметая все на своем пути, и даже постучал костяшками пальцев по голове вдовы. Он спросил, где Эдмон. На что мы ему сказали, что Эдмон давно ушел от нас, вернулся к жене. Но он не поверил и стал рыскать по всему Большому Обезьяннику, даже на чердак взобрался, и там особенно тщательно все осмотрел, но даже если он и глядел прямо на Эдмона, смешавшегося с толпой холщовых людей, он не приметил его своими глядящими в растопырку глазами. Тогда он спустился вниз, снова обошел все помещения и только после этого удалился. Возможно, успокаивали мы себя, Андре Валентену просто нравится издеваться над нами, возможно, это такая его забава, которая так и останется всего лишь забавой. Но потом Валентен заявился опять и принялся переворачивать стулья, вздымая облака пыли. На сей раз вместе с ним пожаловала Флоранс Библо, наша бывшая кухарка, с большой трехцветной лентой на пышной груди.
– Так, гражданка Библо, это те самые люди? – обратился к ней Валентен.
– Гыгыгы…
– И они лояльны свергнутому королю?
– Гыгыгы.
– И они швейцарцы?
– Гыгы, – ответила она. – Рёшти. Фляйшкезе.
– Что-нибудь еще?
– Гыгыгы. Им жалко короля. Я слыхала, как она его жалела. Гыгы. Я слыхала все эти годы. Она хотела сделать портрет королевы. Любила их. Они все их любили. А эта даже жила в Версале, – и Флоранс сплюнула.
– Благодарю тебя, гражданка, – процедил Валентен.
– Гыгыгы.
Он засвистел в свой медный свисток.
– Вы арестованы по закону двадцать второго прериаля, – объявил он, не глядя на нас: он же не мог смотреть прямо обоими глазами сразу. – Вы пойдете с этими людьми. А вы закройте дом.
И нас увели.
Всех, кроме Эдмона. Он остался на чердаке, в костюме из мешковины и в маске. Мы договорились заранее, что, если за нами придут, он затаится среди своих холщовых братьев и сестер.
Мне даже не представилось возможности попрощаться с ним. И я не осмелилась обернуться.
Книга седьмая 1794–1802 Камера ожидания и картонное имущество
Я в возрасте от тридцати трех лет до сорока одного года.
Глава шестьдесят пятая
Жизнь и смерть в четырех стенах
Сначала нас повезли в тюрьму Ляфорс, где вынесли официальное обвинение. Там меня и вдову разлучили с доктором Куртиусом, после чего нас отправили по разным тюрьмам – дожидаться вызова в суд. Но мы не понимали, что настал миг расставания, пока доктора Куртиуса не увели. Потом меня ожидало еще одно путешествие, в продолжение коего я смотрела сквозь зарешеченные окна кареты на улицы и дома и словно видела их впервые в жизни, обнаруживая в них неведомую прежде красоту, а потом карета въехала в ворота кармелитского монастыря, и меня поглотила мгла. Именно здесь, как мне поведали, в одну сентябрьскую ночь Жак Бовизаж убил нескольких священников. Той ночью мы еще были на свободе, и рядом со мной находился Эдмон, а теперь я оказалась вместе с его недужной матерью в помещении с двадцатью другими узницами, которые, точно скот в хлеву, дожидались своей участи и тихо плакали, лежа на ворохе прелой соломы.
Карм – так называлась та тюрьма. Название вполне безобидное. Можно было подумать, что наша тесная камера располагается на дне океана. В ней время обрело необычную плотность, ибо камера вмещала двадцать женщин, доживавших свои последние дни и часы. Обитательницы этой камеры ожидания относились предельно серьезно к каждой мелочи. Одна из нас могла сказать другой: «Я так рада, что на твоем платье есть желтый цвет. А иначе мы бы тут не увидели желтого – было бы жалко!»
Здесь, в тесном помещении с толстыми стенами и дверями, находились одни только женщины. Самой юной из них была девчушка лет двенадцати, самой старой – графиня лет семидесяти с лишком. Думаю, кое-кто из женщин, из-за этой самой двенадцатилетней девочки, ненавидел семидесятилетнюю старуху. Какой же смрад от них исходил, от женщин, сидящих в четырех стенах.
Женщины приводили и женщин уводили. И всегда было известно, куда их увозят: в Консьержери, в преддверие смерти, а оттуда на пляс дю Трон и затем уже в самый последний путь – на скользкий помост, где они просовывали голову в национальное окошко[19]. Я почти все время держала вдову за руку. Она, утратив последние крохи разума, не понимала, где находится.
Наши тела могут иногда оказывать благодеяния. Беременных не гильотинировали. Девочек – да, выживших из ума старух – еще как, но беременным ничего не угрожало – до поры до времени. После родов меня, скорее всего, увезли бы на плаху. Но покуда младенец оставался в моем чреве, я могла не опасаться. И мы, как могли, сохраняли друг другу жизнь. Мне, по моим расчетам, еще оставалось жить три месяца. Камера была размером, по моим прикидкам, двадцать на тридцать футов. Пол был каменный, и в качестве постелей нам всем выдали по сплющенному снопу соломы. Иногда этих соломенных лежанок на всех не хватало и приходилось отвоевывать их у сокамерниц, но, как правило, узницы спали на них по очереди. Нам дозволялось раз в неделю производить в камере уборку. Там было единственное крошечное оконце, выходившее на угрюмую серую стену. Неба мы не видели. Одна из стен была покрыта мхом. Мне нравилось смотреть на него. Ведь мох имеет цвет.
Ведро, в которое мы справляли нужду, выносили нерегулярно. Некоторые женщины не видели ничего зазорного в том, чтобы при всех пользоваться этим ведром, и, сидя на нем, они как ни в чем не бывало продолжали громко болтать; для других же это было ежедневное унижение, жестокая мука. Какая-то мать просила дочь прикрывать ее платьем, пока она сидела на ведре, но это жалкое прикрытие не было стеной, оно не приглушало никаких звуков, а лишь привлекало к ним внимание. Некоторые узницы не могли понять смущения других. Тут все были лишены уединения. Или, вероятно, единственный уединенный уголок здесь находился в голове старухи Пико.
Я еще никогда не оказывалась среди такого множества людей. Женщины помоложе садились в кружок и вели беседы о мужчинах. Случались, разумеется, драки – и из-за серьезных вещей, и по пустякам. Все хрупкие взаимоотношения, возникавшие среди обитательниц этого помещения, были их последними попытками пожить еще чуть-чуть. Иногда мы проявляли друг к другу жестокость, иногда доброту. Всем хотелось получить толику человеческого тепла. Помню одну женщину, бывшую торговку лотерейными билетами, которая целыми днями бродила по камере и обращалась ко всем с такими словами: «Можно мне подержать вас за руку, прошу вас!», или «Потом мне захочется подержать вас за руку!», или «Можно мне подержаться еще немного!»
Иногда нам позволяли совершать прогулки во дворе вокруг Карма. В монастырских кельях сидели и мужчины. Над монастырем стоял влажный смрад человеческих выделений, витал едкий аммиачный запах. Узники еле двигались в тяжелых волнах спертого воздуха. В такие моменты, находясь вне нашей камеры, толкаясь в толпе других узников, видя, что мужчины находились в таком же безнадежном положении, что и женщины, мы шепотом обсуждали последние новости: кого увезли в последнюю неделю, сколько таких было вчера, сколько сегодня. В Карме я наслышалась про подвиги Жака Бовизажа: он мелькал во многих местах и творил ужасные зверства, его руки были по локоть в крови, он убивал целые семьи, сжигал целые деревни. Но во всех таких повествованиях не было ни единого доказательства, что это был именно Жак, не приводилось ни единой его приметы: никто не упоминал о его хромоте, никто не говорил, что он горюет по убитому мальцу. И я не верила этим россказням.
Нашу жизнь в Карме упорядочивали печатавшиеся почти ежедневно списки людей, которым предстояло отправляться на гильотину. Частенько после публикации нового списка проходило всего двадцать четыре часа до того, как их всех выкликали. О, эта двадцатичетырехчасовая мука ожидания! А потом мы слышали различные звуки: людей выталкивали из подвальных камер, вели вверх по лестнице, они вопили, молили о милосердии, сопротивлялись. Но их выпихивали наружу. По ночам мы потели, многие плакали. О, если бы глотнуть свежего воздуха, хоть немного свежего воздуха.
Времени у нас было хоть отбавляй.
И время наше было на исходе.
Одна за другой женщины исчезали. Нет, не так – иногда их уводили сразу по трое или того больше. И время текло себе и текло. Мы все еще были живы – вдова и я. Иногда какая-нибудь женщина не могла сдержаться, начинала кричать или рыдать, но это никого не трогало, а лишь раздражало остальных. Мы пытались выказывать остатки привычного нам достоинства, стараясь вести себя прилично, быть учтивыми, вежливыми и благопристойными. Иногда мы даже смеялись. А для кого-то нахождение там было даже облегчением: наша жизнь в Париже давно превратилась в тяжкое испытание, ведь все мы ожидали стука в дверь, и вот когда это случилось, оно принесло утешение и некий покой: нас забрали, и теперь мы могли снова стать самими собой. Мысленно мы всегда находились вблизи от двери. Кто-то старался на нее не глядеть, но никто не мог заставить себя не думать о двери.
Была среди нас одна очень красивая женщина, в высшей степени трезвомыслящая и добрая, обладавшая таким чувством собственного достоинства, что она всех нас вдохновила на проявление мужества.
Вечером накануне того дня, когда ее имя появилось в списке, я услыхала ее шепот: «Знаю: я – следующая». Прежде чем покинуть камеру, она всех нас поцеловала на прощанье и раздала свои пожитки. Хотелось бы мне уйти вот так же, как она.
Наши дни отмерялись пайками малосъедобной пищи, хлеба, гороха и бобов, от которой вываливались старые зубы, а челюсти болели после долгого разжевывания твердых кусков. Мой младенец изнывал от голода. Мы прямо как несчастные страдальцы Елизаветы, подумалось как-то мне. Словно страдание было чем-то вроде обязательной униформы, которую нам всем раздали. Увидев меня сейчас – если бы Елизавета была жива, – она бы приняла меня за одну из своих подопечных. Мы все обретались в тесной камере и дорожили буквально всем. Тут мало что можно было любить. Тут не смолкал шум парижан, загнанных в ловушку, живших в этом шуме день и ночь.
Времени у нас было хоть отбавляй.
И время наше было на исходе.
А состав действующих лиц этой трагедии продолжал меняться.
Поначалу все мое время было посвящено вдове. Мы играли, и я рассказывала ей об Эдмоне и докторе Куртиусе. Так я ее успокаивала. Мыла. Подтирала. Прижимала к себе, укладывая ее старческую голову себе на плечо. Пыталась расчесать пальцами спутанную копну ее волос, стараясь придать ей презентабельный вид, о чем я говорила ей на ухо. Недуг сделал ее такой податливой и расслабленной, что я больше не могла ее ненавидеть. Наоборот, я старалась ее полюбить. Она не могла уразуметь, что такое быть бабушкой, но она таращилась на мой живот, и ее лицо выражало печаль: она явно силилась что-то вспомнить, но никак не могла. Как странно, что в конце жизни мы оказались вдвоем.
– У вас есть сын. Помните? Эдмон, так его зовут. Он жив и здоров. Ему удалось скрыться, он в безопасности. Его никто не найдет.
– Ммм…
Эдмон мелькнул облачком в ее сознании и быстро исчез. А мне так хотелось, чтобы она его вспомнила. Однажды мне почудилось, что она узнала меня: ее лицо исказила гримаса гнева, но потом слезы хлынули у нее из глаз, и я вновь выпала из ее памяти. Со спины она выглядела не как реальная женщина, а как бедненькая девочка-старушка, обряженная в несколько платьиц. Она даже не поняла, когда в списке появилось ее имя. А я ничего ей не сказала – ведь все равно она ничего не соображала. Весь день я от нее не отходила. Я пела ей песенки, ни на мгновение не выпуская ее из поля зрения. Она поспала пару часов, уронив голову мне на колени. Я гладила ее по нечесаным волосам. Скоро их коротко остригут вокруг шеи – прежде чем она отправится в последний путь. Перед казнью волосы всегда коротко остригали, обнажая шею. Надеюсь, ножницы сломались, вгрызшись в ее застывшую гриву. Когда выкликнули ее имя, она не поняла, что это ее зовут. И мне пришлось ответить за нее. Сначала она обрадовалась, но все никак не могла взять в толк, почему я не иду вместе с ней. Она заплакала, когда я ей сообщила, что мне нельзя. Это так ужасно – видеть плачущую старуху. Надеюсь, она меня простила, когда ее повели вверх по ступенькам. И надеюсь, она ничего не поняла из того жестокосердного ритуала, который назывался судебным разбирательством ее дела. Надеюсь, ее соседи по телеге для осужденных обошлись с ней сердобольно. Надеюсь, она была первой из тех, кого отвели на эшафот. Надеюсь, она не понимала, что сейчас ей отрубят голову. Возможно, она думала, что все эти люди превращаются в портновские манекены, а возможно, и сама не возражала превратиться в такой манекен. Полагаю, вид залитого кровью эшафота должен был ее сильно расстроить. Но надеюсь, что нет. Надеюсь, что в небе стояло солнце. И было тепло. Безумная старуха. О, помоги мне Господь, помоги, помоги всем нам…
Времени у нас было хоть отбавляй.
И время наше было на исходе.
А состав действующих лиц продолжал меняться.
После того как вдову увели, я забилась в солому, крепко прижимая к себе Марту, вообразив, что сама набита опилками. Несколько дней я пролежала, не обменявшись ни с кем и словом. Я ела ради младенца, а не ради себя. Я могла бы снова увидеть Эдмона, только если бы сумела сохранить его ребенка. Я не уберегла его мать. Внутри меня теплилась новая жизнь, и поэтому я продолжала жить сама.
Я снова начала разговаривать с обитательницами камеры.
Мы рассказывали друг другу о себе. Снова и снова. Всегда можно было определить, правдивы или лживы эти рассказы, потому что придуманные истории менялись раз от раза в каждом новом пересказе. А правдивые остались неизменными. Что наша жизнь? Это то, что нам остается: наши рассказы. Они были нашей одеждой. После того как одну женщину, жену казненного депутата, вызвали и увели, на другой вечер я услыхала, что другая женщина пересказывала ее историю как свою. Укравшая чужую историю жизни оказалась актрисой «Комеди франсэз», арестованной после того, как она процитировала строки из какой-то пьесы про короля – не обезглавленного слесаря из Версаля, а какого-то другого короля из далекого прошлого, но это не имело никакого значения. Король есть король. Она услышала историю жены казненного депутата и теперь повторила ее слово в слово двум ничего не подозревающим новым узницам. Мы были разгневаны. Мы обозвали ее воровкой. Но она лишь печально покачала головой. Она, по ее словам, поступила так, вовсе не имея дурных намерений. Ей просто хотелось собрать все подобные истории – все, что осталось от этих женщин, – и удержать их в своей несравненной памяти. Только теперь ей стало ясно, почему она стала актрисой: чтобы иметь возможность рассказывать о жизни других, не вымышленных, которых она себе воображала, а вполне реальных, обитавших с ней вместе в камере, которые после смерти не должны быть забыты. Разумеется, она рассчитывала на то, что ей суждено выжить и сберечь эти личные исповеди. Но наутро ее вызвали, и она покинула камеру, а вместе с ней исчезла и ее коллекция чужих жизнеописаний.
Пробыв там месяц, я тоже принялась пересказывать истории из жизни других женщин, прошедших через нашу камеру, – но не как свои, а просто посвящая в них новоприбывших. Вон там, в том углу, сидела Элоди, и вот что она рассказала о себе; а вон там была мадам Гренлен из Марселя; вон там, возле вдовы, целыми днями просиживала мадемуазель Коссэ – видите на стене пометы, которые она сделала ногтями? Вся стена была испещрена надписями, краткими язвительными посланиями, единственным зримым напоминанием об утраченных жизнях. Иногда женщины кричали на меня, требуя, чтобы я замолчала, но многие настолько страшились остаться позабытыми, что подходили ко мне и сами рассказывали про себя, а потом придирчиво просили повторить все, что я от них услышала, дабы удостовериться, накрепко ли я усвоила все подробности. И мне приходилось запоминать, у кого где были веснушки и родинки, и какие в доме стояли стулья, и какие цветы росли в саду, имена стариков и юношей, и мальчиков в париках и чулках, и девочек, любивших лакомиться клубникой, и набожных женщин, и юных шалопаев, и поездки к родственникам, и карточные игры, и яйца всмятку, и кто сколько зарабатывал, и в каких хибарах они ютились, и какой узор был на первых обоях в доме, и кто был первенцем, и у кого погибли дети, и покойных родителей, словом, все-все детали, а таких историй были десятки – о любимых собаках, любимых лошадях, любимых песнях, и о том, кто при каких обстоятельствах видел короля, и о фамильных драгоценностях, и о прежней роскошной жизни, и о щедром наследстве, и о стихах и сказках про Золушку, про волшебное зелье и про девушку Персинетт, заточенную в башне, и о сыне в зале гильдии. Ты все запомнишь, Мари? Ты же не забудешь? Все хорошенько запомнила? Как звали моего первого кузена? А где я познакомилась с Пьером? Что изображено на моем гербе? И тот шрам около его глаза… Сколько же мне приходилось запоминать! Помедленнее, помедленнее, а иначе я не запомню!
Историй было слишком много, и все их запомнить я не могла. И какие-то отрывки из одного повествования терялись и всплывали в совершенно другой истории. Любимые нарциссы мадам Д. оказывались в руках у мадемуазель П., чья страстная любовь к солдату Огюстену странным образом являлась в жизнеописании престарелой матроны из предместья Фобур-Сен-Мишель, чья сестра, ее компаньонка, внезапно превращалась в персонаж рассказа о торговке холодными напитками на Пляс де ля Революсьон во время казней.
И я начала опасаться этих повествований. Они посещали меня по ночам, проникая в мои сновидения. Они оказывали дурное влияние на младенца в моем чреве. В этом я не сомневалась. И я перестала выслушивать чужие рассказы. Больше мне не хотелось узнавать истории о жизни других. Ведь была только я и мой младенец, Эдмон. Я старалась сохранить себя такой, какой я была.
Теперь я растеряла все эти истории. Они возвращаются ко мне небольшими обрывками. Временами мой сон тревожит хор голосов мертвых женщин, облаченных в разные костюмы, они выкрикивают свои имена и имена тех, кого они любили, и делятся мелочами своей биографии. Одна женщина призналась мне, что никогда терпеть не могла людей, не любящих брюссельскую капусту. «Слабые люди, бесхарактерные», сетовала она. Другая сообщила, что однажды на сельской ярмарке плясала с медведем. И медведь оказался вполне себе сносным плясуном. Третья поведала мне о вымышленном народе на вымышленном острове, который она придумала и даже нарисовала его карту и сочинила местные законы. Мне рассказали кучу повестей, которых хватило бы на целую книгу.
В этом альманахе утрат была одна повесть, которую рассказывали так много раз, что забвение ей не грозило. Спустя два месяца после моего прибытия в Карм к нам поступила креолка с Мартиники, выросшая на рабовладельческой плантации. Ее муж тоже находился в Карме, и его имя уже попало в список осужденных на казнь. При рождении ей дали имя Мари-Жозефа Роз Таше де ля Пажери, но у нас ее звали просто Роз.
Это была крепкая женщина. Немного угрюмая, миловидная, но не обладавшая ослепительной красотой: покатые плечи, темные волосы, густые брови, большие глаза, крупный рот, да и нос, при ближайшем рассмотрении, тоже немаленький. Она постоянно плакала. Потом Роз уверяла, что вообще-то она смелая; она подходила то к одной женщине, то к другой, утешая их по очереди, но на самом деле все было совсем не так. Она была смертельно напугана. И разве можно ее осуждать? Она садилась со мной рядом и плакала у меня на плече.
– Я вам расскажу, мадемуазель, – начинала она, – я не стану называть вас гражданкой, с этим покончено раз и навсегда. Я расскажу вам, по кому я сильно скучаю. Это не мой муж, хотя мне его жалко, но он не был всегда честен со мной, не был мне верен. Мне жаль, что он умер, но ведь его уже не вернуть. И это не мои сын и дочь, я их обоих люблю материнской любовью, но о них заботятся за городскими стенами. Я обучила их ремеслу, для их же блага, Ортензи – швея, а Эжен – столяр. Они в безопасности, но как знать, что с ними станет потом? Кем они вырастут? Нет, я вам скажу, по кому я больше всего скучаю. По моему мопсу. Лучше Фортуны никого нет на свете. Я так люблю смотреть, как она чешет за ухом, как отряхивается, как спит, лает, сопит и чихает. Больше всего я скучаю по Фортуне, моему любимому мопсу!
И за неимением любимой собаки рядом она довольно быстро стала звать меня Мопсик. Это же собака с крошечным плоским носом. Эта штука немало забавляла креолку. Она могла позвать меня среди ночи. Роз была безутешной, пока я не оказывалась рядом, и она могла ласково теребить меня и гладить по голове. Иногда она меня подкармливала. А я не возражала. Еда была мне нужна. Я даже согласилась самолично увидеться с Фортуной. Роз очаровала одного из стражников, и он устроил так, что раз в неделю к нам приводили мопса. Появление мопса в камере вернуло нас к жизни, пускай и самую малость. Фортуна оказалась игривой собачкой, преданной своей хозяйке, и все мы были рады ее видеть. Мы вновь приобщились к невинности. Крошечное безвредное создание с печальной черной мордочкой и тревожными глазками, точно ей был ведом наш скорбный удел. Она всем дарила доброту. Всем в ее присутствии было хорошо. От ее тихого потявкивания. От ее искренности. От ее непритворности. Мы очень опечалились, когда ее увели от нас, и мы жили надеждой, что через неделю снова ее увидим. Дай нам Бог дожить до этого дня, говорили мы. Роз голубила меня, гладила мой живот. Она не помогала мне облегчаться, но занимала меня беседой, когда я или кто-то из женщин собиралась этим заняться. Наверное, я немножко в нее влюбилась. Она, в свою очередь, увлеклась одним военным, заключенным в Карм, красавчиком с впечатляющим шрамом от удара саблей. Она много времени уделяла заботе о своей внешности, стараясь сохранить красоту для мужчины со шрамом, которого звали Лазар Ош. Он не сомневался, что не умрет на гильотине, и эта его уверенность давала ей утешение. Как же она прихорашивалась – и все ради него! Я была старше нее на два года, но не сказать, что это бросалось в глаза. И я ее пережила. Роз умерла вскоре после отречения Наполеона в 1814 году, не выдержав житейских тягот и не дожив даже до пятидесяти одного года. А она мне казалась куда более крепкой духом и телом. Она скрасила мои последние дни в тюрьме.
Двадцать восьмого июля 1794 года, или десятого термидора третьего года, дверь камеры распахнулась, и стражник выкликнул:
– Анна-Мария Гросхольц!
– Я беременна! Поглядите на мой живот.
Если положить на него ладонь, почти сразу можно было ощутить легкий толчок изнутри. Но стражник несколько раз повторил мое имя и заявил, что мне надо идти с ним. Ну вот, решила я, теперь даже беременные не в безопасности. Но в конце концов, не такая уж это была неожиданность. Что даже неудивительно. С какой стати, говоря начистоту, меня должны были пощадить? Чем я отличалась от других? Ну что ж, малыш, нам пора в путь, я тебя не брошу. Я не могу тебя бросить.
Меня вывели из нашего подвала наверх, где воздух, по сравнению с душной камерой, был таким свежим, что мои легкие испугались. И я сразу почувствовала, какие у меня грязные руки, какие грязные волосы, какое на мне грязное платье. А мне-то казалось, что я достаточно чистоплотная. Но в тот момент это уже не имело никакого значения. Придерживая живот, я мысленно просила у него прощения. Итак, мы поднялись по ступенькам, меня вывели через монастырские ворота на парижскую улицу, и там ко мне обратился национальный гвардеец:
– Пожалуйста, пройди со мной, гражданка.
– Я беременна.
– Да, – ответил он. – Не беспокойся.
– Но я беспокоюсь!
– Тебя повезут не в суд.
– Не в суд?
– Нет гражданка, вовсе не в суд. В другое место.
Глава шестьдесят шестая
Раздробленная челюсть
Я слышала радостные крики на рю Сент-Онорэ, люди ликовали. Ну и шум!
– Все кончилось! – крикнул кто-то из толпы. – Тирана больше нет!
– Тиран умер, и забирают всех его сподвижников!
Меня завели в какой-то дом рядом с Пляс де ля Революсьон. Там, в зале, около столов, на которых что-то лежало, толпились люди. Я заметила, что это были окровавленные куски, точно вынесенные из мясницкой лавки. Но только эти куски никто не собирался взвешивать и поедать.
– Головы, – сказала я. – Я делаю головы. Меня вызывают, только когда человеческая жизнь окончена. Это головы.
– Да, – ответили мне.
– Чья это голова? – спросила я.
Меня повели по залу, словно по выставке.
– Вот это Кутон[20], калека. Ему голову отсекли под таким углом, потому что пришлось его класть боком. Его сильно помяли другие осужденные, ехавшие с ним в повозке к эшафоту, просто растоптали.
– А это кто? – продолжала я.
– Это месиво когда-то звалось Огюстен Робеспьер, брат того. Когда он понял, что для него все кончено, выбросился из окна с верхнего этажа во двор. Верно, бедолаге было больно. Переломал себе кости, но не убился насмерть – нет, мы потом докончили дело. Вон видишь, тонкий порез на шее. А рядышком с ним лежит целехонький Сен-Жюст. Такой чистенький, по сравнению с прочими.
– А это? Кто это? – продолжала я.
– Сам Неподкупный!
На столе лежало не что иное, как куполообразная голова Максимилиана Робеспьера. Вот когда я и увидела Робеспьера, впервые в жизни. Раздробленная нижняя часть головы представляла собой сплошную рану, полученную вовсе не при отсечении от шеи. Моя история началась в другой стране, с челюсти, принадлежавшей отцу и утраченной им из-за неудачного выстрела из пушки. И вот, ближе к концу моей истории, возникла еще одна изувеченная челюсть. Но эта нижняя челюсть не пропала, она все еще держалась на лице, но свисала с верхней, пробитой пулей. Робеспьер пытался застрелиться, но промахнулся – самоубийство не удалось.
Но меня выпустили из тюрьмы не для того, чтобы я имела возможность осмотреть экспозицию недавних жертв гильотины. Мне предстояло работать. Уже заготовили большой запас гипса. Был и воск – обычный свечной, наихудшего качества, но другого у них не нашлось: его вытопили из сотен свечных огарков. Мне предстояло вылепить головы для их выставления в здании Конвента. И я справилась. На это у меня ушло два дня.
– Очень многие, – сказала я им, – захотят увидеть эти головы. Много людей придет – убедиться, что он мертв. Вы так не считаете? А я считаю. Я просто уверена. Люди будут десятилетиями приходить и смотреть на них.
Завершив работу, я спросила, что будет со мной теперь.
И мне сказали, что я вольна уйти.
– Уйти куда? – уточнила я.
– Домой, – сказали мне. – Почему бы тебе не пойти домой?
– Домой, – прошептала я. – Об этом я как-то не подумала.
И я пошла кружным путем, по петляющим улочкам. Я не хотела торопиться. Ведь я понятия не имела, что меня там ждет.
Глава шестьдесят седьмая
Короткий черный список
Хотела бы я быть полой. Но я полна. А хотела бы быть полой. Надо меня опорожнить. Надо составить список. Разложить все по порядку. Тела приходят, и тела уходят. Нельзя к ним слишком привязываться. Покуда я сидела в тюрьме, люди все время уходили. Надо составить список.
Пико, Шарлотта, шестьдесят лет, выжившая из ума старая женщина.
Я его не закончила, этот мой список. Я малютка. Я улитка. Нет, я сделана из кожи. Я черна и сломлена. Я очень маленькая и очень сильная. Я составляла список. И я его не закончила. В Библии есть один персонаж по имени Иов. Он потерял семью, и когда это не сломило его, он весь покрылся язвами, но, невзирая на все удары судьбы, упрямо продолжал двигаться вперед. Возможно, он даже не знал, почему. Я составляла свой список. И мне уже было не так больно. Мой список. Надо его составлять.
Я вернулась обратно в дом, от которого осталась половина. Другая половина обрушилась. Его подпорки-костыли то ли подломились, то ли разъехались в разные стороны, но кирпичи и бревенчатые балки рухнули как карточный домик. Большой Обезьянник, храм великих амбиций, превратился в руины. Рухнули две кирпичные стены здания, обнажив старый прогнивший деревянный каркас. Каменные плиты выдернули из мощеной площадки перед домом и уволокли; от кованой ограды ничего не осталось, исчез и дверной колокольчик, некогда принадлежавший Анри Пико. Когда-то над этим домом витала надежда; здесь трудилось много народу, еще больше приходило сюда. Некогда посетителям предлагалось самое увлекательное зрелище на бульваре дю Тампль, самое увлекательное во всем Париже.
Я стояла, молча взирая на развалины.
– Эдмон, – прошептала я. – Я вернулась домой.
Ответа не последовало.
– Эдмон!
Тишина.
Что же тут произошло в мое отсутствие? Я узнала об том чуть позже, из рапорта префектуры департамента Сены. Восстановила по крупицам всю картину. Испила чашу до дна.
Обитатели близлежащих кварталов, командиры отрядов, национальные гвардейцы, бывшие работники – Андре Валентен, полагаю, был в первых рядах, хотя доказать это невозможно, – все сбежались к Большому Обезьяннику. Они так долго его ненавидели! Они окружили здание и принялись его разрушать. Это оказалось нетрудно. Подпорки поддались с легкостью; здание стонало и завывало, точно внутри вновь поселились обезьяны. Командиры отрядов крушили все вокруг, каждый шкаф, каждый комод, каждый ящик, каждую комнату, на первом этаже и на втором этаже, не оставляя в целости ни один предмет ни внутри, ни снаружи. Они ворвались в кукольный дом и принялись его ломать, ибо им хотелось причинить боль нашим восковым людям. Кое-кого из них выволокли из дома и поволокли по улицам, пустившись в пьяном угаре танцевать с восковыми партнерами, которых потом бросали, исковерканных, на тротуар. Они все перевернули вверх дном. Но залитая гипсом комната осталась нетронутой. Они же не знали о ее существовании. А что выше, на чердаке?
Внизу под лестницей я нашла куклу, которую Эдмон сделал по моему подобию: она валялась, беспомощная, с неестественно загнутыми назад ногами, с задранной юбкой, с трещиной сбоку на голове, заслонив одной ладонью лицо, точно защищалась от кого-то, точно не могла смотреть на учиненный бедлам.
И я пошла вверх по лестнице. Вот и чердак – вернее, то, что от него осталось. Крыша большей частью провалилась. Пока мародеры, пьяные и осатаневшие, рыскали по всем помещениям, жадно потроша все, что попадалось на их пути, на чердаке прятались многочисленные братья и сестры Пико. Бессловесный добрый народец. И вдруг к ним ворвались ослепленные ненавистью злобные люди и начали валить их с ног, таскать по полу, хохоча – какая забава! Их подвешивали к потолочным балкам. А потом стали вышвыривать холщовое семейство Пико из окон. Манекены падали один за другим на землю и рассыпались, а стены второго этажа стонали и деревянные перекрытия разламывались, не выдерживая натиска. И тут очередь дошла до теплого манекена.
– Шшш, – сказал он командиру отряда гражданской милиции. – Я витринный манекен.
Командир в изумлении вытаращился на заговорившую куклу.
– Шшш, – продолжал диковинный манекен. – Я стою тут тихо-тихо.
Командир сгреб в пятерню холщовый рукав. Чердак отозвался:
– Я сделан из дерева и холста, и швов. Моя голова – разрисованное папье-маше. Мое туловище сшили из холстины. Внутри у меня опилки.
Деревянные балки начали обрушиваться.
– Выходит, ты не почувствуешь боли, да?
Вот так это было? Что его выдало, гадала я, может быть, покрасневшие уши? Он же смог бы затеряться в толпе тысяч таких же манекенов. Он же не произнес ни звука, я уверена. Но, возможно, произнес. Возможно, он крикнул, когда они еще были внизу: «Меня зовут Эдмон Анри Пико! Эдмон Анри Пико! Я не забыл!» Или, может быть, в финале, сконцентрировав всю свою волю, он полностью преобразился в витринный манекен. Сломанные братья и сломанные сестры. И среди всей этой груды лоскутов и клочьев, изувеченных рук и ног, разодранных голов и туловищ выделялся один манекен, оказавшийся тяжелее прочих. А возможно, он не проронил ни звука, и они даже не подозревали, что выкидывают из окна живого человека, – пока он не стукнулся о камни, по которым тотчас разлилась красная лужа. Так мою жизнь выплеснули из этого дома. И починить ее было нельзя. Я заполняю пробелы. Вот как все произошло? Или просто чердак, одряхлевший от тяжких испытаний, стал вдруг обрушиваться, и Эдмон в отчаянье сам выбросился из окна?
В префектуре департамента Сены мне дали прочитать рапорт. «Мужчина выпал из окна верхнего этажа, рост – пять футов, пять и одна восьмая дюйма. Имя неизвестно». Эдмон всю жизнь практиковал навыки исчезновения. Вот итог его усилий, и на этом моя личная жизнь завершилась.
Пико, Эдмон Анри, тридцать девять лет, мастер манекенов.
От большого дома мало что уцелело. Все постройки, возведенные на земле бывшего шахматного кафе, были разрушены. И мой список. Я же его не закончила. Буду продолжать.
Я отправилась в больницу Сальпетриер. Там, на одной из множества кроватей, родилась моя дочурка. Но она не кричала. И тут меня что-то захлестнуло изнутри, и вдруг я поняла, что влюбилась. Я произвела на свет существо – какое чудо! С крохотными ручками, крохотными ножками и крохотным животиком. Тонкие красные губки. У нее был гросхольцовский подбородок – ну, вот опять! – но отнюдь не вальтнеровский клюв. Вместо этого у нее был неприметный нос Эдмона. Моя милая дочурка. У нее не было ни единого шанса. Маленькое существо, которое я создала. Рожденное, но безжизненное. Мертворожденное. Она не шевелилась, и ее куда-то унесли.
Мария-Шарлотта Гросхольц, младенец.
Мир рухнул, сказала я себе, разбился. Теперь в моем мире отсутствовали некоторые важные вещи, и их никогда ничем не заменить. Они больше не будут существовать. Только тогда я наконец в полной мере поняла то, что всегда понимала вдова, а именно: что мир преисполнен пробелов, и сейчас я получила свои. А может быть, я просто не способна создать нечто живое? Уверена: это только моя вина, что я умею создавать только безжизненное, пусть и в натуральную величину. Но чего еще можно было ожидать от отца, который был скорее манекеном, нежели человеком? И чего еще ожидать от матери, которая провела с искусственными людьми больше времени, нежели с живыми?
И я вернулась домой.
Глава шестьдесят восьмая
Никого не осталось
Я забилась в дальней комнате, как в норе. Съежившись, скрючившись. В дверь постучали. Я решила, что это соседские мальчишки пришли снова меня доводить, и не открыла, но стук продолжался. Стучали не громко, как обычно стучала детвора, а тихо и опасливо, словно извиняясь. Этот звук не был похож на мерный стук молотка, который, стоя у горна, производил Людовик-слесарь, это, как я вдруг поняла, был стук сочувствия. Любящий стук. И я пошла открывать. Приотворила дверь чуть-чуть.
На пороге стоял мой наставник Куртиус.
Доктор Куртиус и его ученица снова были вместе. Так мы и стояли, разделенные деревянным настилом, который я положила на крыльце вместо разрушенных ступенек. Глядя друг на друга, просто молча глядя: он – среди вывороченных плит старого двора, я – на пороге порушенного дома. Так мы стояли, возможно, несколько секунд, а возможно, и дольше, возможно, несколько минут, минут десять. Представляю, какое это было зрелище!
Куртиус попал в больницу-приют «Отель-Дьё», куда меня когда-то привел Мерсье во время одной из наших ознакомительных прогулок по Парижу, – вот почему он так долго отсутствовал. Он разболелся не на штуку, и его освободили из опасений, что он перезаразит остальных узников, и те помрут прежде, чем их успеют отправить на гильотину. Его поместили в Отель-Дьё, где он тихо чах в компании других голодающих, но вопреки ожиданиям не умер. Дни тянулись томительной чередой, а он все не умирал. Наконец, очень медленно, покуда его соседи отдавали Богу душу, он стал выздоравливать. И когда он уже смог немного ходить, его отправили домой – свободным гражданином. Дорогой мне человек, отощавший, конечно, еще нездоровый, но живой; сморщенный, как иссохший корешок растения, но способный двигаться и говорить.
– Здравствуйте, сударь, – произнесла я.
– Это что же… неужели это моя Крошка? Как же я надеялся тебя увидеть.
– Да, – улыбнулась я. – Она самая. А кто же еще.
– Ну вот мы опять вместе: ты и я.
– Хотите войти, сударь?
– Да, да, пожалуй, хочу.
Он вошел. Я затворила дверь. Она закрылась неплотно.
– Тут так темно, Мари, – заметил он.
– Я принесу свечу.
– А, свет! Свет во тьме.
Что-то его беспокоило; я заметила на его лице выражение испуга, но в первый момент он ничего не стал спрашивать. Мы сели друг против друга и пустились беседовать о чем-то несущественном, лишь бы нарушить молчание. Спустя полчаса он наконец набрался мужества и задал, едва слышно, тревоживший его вопрос:
– Крошка, Мари, а где все? Они куда-то вышли? А когда вернутся?
Я пожала плечами.
Мы помолчали, довольно долго.
– А где Эдмон? Наверняка… на своем чердаке?
– Нет. Хотела бы я, чтобы он был там. Это было бы здорово.
– О боже, – вздохнул он. – Блестящий мастер манекенов.
– Да, сударь.
– Бедняжечка моя.
– Да, сударь.
– А ты, Мари… Как ты? Ведь ты собиралась… дать новую жизнь.
Я покачала головой.
– Ни одной живой души не осталось… – промолвил он, и его выразительные пальцы зашевелились, точно обладали своей жизнью. – Никого, кто мог бы дать утешение. – Вновь повисла тишина. Потом он торопливо добавил: – Значит, ее тоже нет? Ну, по крайней мере, она-то осталась? Скажи мне: что вдова? Скажи!
– Да. И вдова в том числе.
Он закрыл глаза.
– Шарлотта ведь уже ничего не соображала. Она же обезумела.
– Мне очень жаль.
– Я надеялся, что она могла бы… Мне не хотелось гадать. Но я думал, что она могла бы… Какой ужас, какой все это ужас!
Он сидел на стуле, сильно сгорбившись. Его лицо слегка задрожало: по нему пробежала волна нервической реакции на услышанное, глаз задергался, губы скривились. А затем последовало то, что я могу описать лишь как шум рушащегося здания, проваливающегося пола второго этажа, нарастающий грохот сыплющегося щебня, ломающихся и беспорядочно скользящих вниз тяжелых балок, да только все эти звуки исторглись из груди моего наставника. Но он все так же сидел на стуле, и хотя его лоб покрыла испарина, и черная слизь тонкой струйкой сочилась из его уха, а один глаз, похоже, перестал видеть, все равно эта человеческая руина продолжала дышать. Вероятно, в комнате было холодно, и когда его рот приоткрывался, из него – так мне показалось – вырывалось мутное облачко пыльного воздуха.
Так мы воссоединились в нашем убогом Обезьяннике.
– Но, в конце концов, Крошка, это же пошло нам на пользу? Я имею в виду человеческие органы. Не наши модели, не наши восковые фигуры, а человеческие органы. Или мы слишком долго жили среди них? Может быть, теперь они взывают к нам?
Но это еще был не конец. Еще не конец. Мы продолжали жить, Куртиус и я, еще немного. Мы тогда очень сблизились. Мы не желали ничего делать в одиночку – из боязни, что, оставшись в одиночестве, мы в этом доме столкнемся с призраком кого-то из потерянных нами людей, некогда живших рядом с нами. Мы продолжали жить, мы спотыкались, но продолжали упрямо идти вперед. Мы приводили в порядок дом, мы прибирались, находя в кучах мусора пуговицы. Вместо порушенных стен мы натянули холщовые простыни. Через какое-то время мы настолько осмелели, что распахнули ставни на некоторых окнах. Мы начали скалывать гипс с входа в потайную комнату, который оказался настолько прочным, что почти избежал повреждений; мы вгрызались вглубь комнаты, пока не добрались до просмоленной холстины, а за ней обнаружили целехонькие формы для отливки голов. Но даже и тогда спасенная от гибели голова короля осталась неотлитой.
Куртиус и я начинали вдвоем работу, и мы же вдвоем ее и продолжали. Спустя два месяца после возвращения наставника мы вновь открыли мастерскую, выставив несколько наспех изготовленных восковых изваяний. Нам дали разрешение использовать формы для отливки голов Робеспьера и его сторонников. Доктор Куртиус испытывал тягу к изготовлению людей, так было всегда, это его взбадривало.
– Ты давно не работала вместе со мной, – говорил он мне. – А мы прекрасные компаньоны. Ты выполняешь работу вдовы, причем почти так же умело, как и она. И довольно называть меня «сударь», хватит! Я этого стыжусь. И возможно, если, конечно, тебе это не кажется странным, Крошка, если тебя это не коробит, Мари, если это тебе не претит, поскольку, что ни говори, у тебя нет матери, а от нее осталась лишь детская кукла, и нет отца, от которого осталась только металлическая челюсть, может быть, тебе стоит считать меня своим дядюшкой? Ну и так обращаться ко мне.
– Дядюшка?
– Да.
– Нет, сударь, вряд ли я смогу.
– Ну, может быть, со временем.
– Сударь, теперь-то вы будете мне платить?
– Что ж, я не прочь.
Приобретенные у нас гипсовые бюсты Марата были разбиты: люди теперь стеснялись держать их у себя дома. Тело самого Марата было извлечено из могилы в Пантеоне и брошено в навозную кучу. Но мы по-прежнему выставляли воскового Марата, заколотого в ванне. Это мы с Эдмоном его изваяли. Мы сделали для выставки большую вывеску:
ВАШИ МОНСТРЫ ЗДЕСЬ
Посетителей у нас было немного. Мы не могли осуждать парижан. Все устали от монстров. Мы придумали для своего заведения новое название:
ДОМ ПРАВОСУДИЯ
И все равно каждый день нас удостаивали своим посещением очень мало людей.
– С какой стати мы должны платить, – негодовали они, – чтобы увидеть голову Робеспьера, ведь этот Робеспьер отправлял на плаху наших матерей, отцов, сыновей и дочерей?
Мы терялись в поисках ответа, и мой наставник многих пускал бесплатно – жест, который вдова ни за что бы не одобрила.
Мы лишились своего верного сторожевого пса, поэтому на улице не могли оградить себя от насмешек; ребятишки швыряли в нас камнями, Куртиусу ставили подножки, но мы как ни в чем не бывало шагали себе дальше. Такое было впечатление, что нас с ним считали в чем-то виновными.
Но наставник не терял веры в нужность своего ремесла.
– Только зеркала, Мари, – говорил он. – Только зеркала – вот что мы изготавливаем. Вот чем мы всегда занимались в своей мастерской. Им не нравится собственное отражение. Они стыдятся того, что видят в зеркалах.
Наше предприятие продолжало ни шатко ни валко существовать вплоть до последних часов двадцать пятого сентября. А в первые часы двадцать шестого я услыхала среди ночи, как Куртиус хлопает в ладоши; в остальном же его уход, видимо, был столь же тихим, как кончина моего папеньки. Утром он не спустился к завтраку. Я посидела немного на нижней ступеньке лестницы – точно так же я сидела, когда умерла маменька. Наконец я вошла к нему.
– Пора вставать, сударь, вставайте. Вы знаете, который теперь час?
Он не шелохнулся.
– По крайней мере, откройте глаза. Вы же можете открыть глаза? Я не прошу большего. Позвольте мне только заглянуть в ваши глаза. Они голубые, я знаю.
Вот упрямец.
– Скажите хоть слово. Произнесите хоть звук, сударь. Это все, о чем я прошу, а после я на цыпочках выйду и оставлю вас в покое. Вы что-то сказали? Повторите. Мне кажется, вы шевельнулись. Разве нет? Не оставляйте меня одну, сударь! Вы не должны покидать меня. Это было бы очень нехорошо с вашей стороны. Можно я вас потрясу немного? О, сударь мой! Ну разве можно лежать так неподвижно? И что мне теперь делать?
Но я уже все поняла. Я обмыла ему лицо, причесала остатки волос, наложила на кожу жидкое мыло, смешала гипсовый раствор, соломинки ему были не нужны. Как странно: голова все еще присоединена к туловищу, а само туловище не изувечено – я уж и забыла, как оно бывает. И я сделала посмертную маску Филиппа Вильгельма Матиаса Куртиуса, родившегося в Берне в 1749 году, скончавшегося в Париже в 1794 году, величайшего устроителя публичного зрелища в Париже, хроникера истории, создателя людей, любившего вдову, знавшего человеческое тело лучше, чем кто-либо иной, и никогда и никому не дававшего доступа к своему собственному. Великий Куртиус.
– Что ж, вот теперь я буду называть вас дядюшкой, – проговорила я. – Дядюшка.
Похороны, как того требовал революционный закон, состоялись в полночь, безо всяких религиозных обрядов. Народу пришло мало. Только несколько пьяненьких плакальщиков. Одного привезли в тачке – им оказался Луи-Себастьян Мерсье. После смерти Робеспьера Мерсье, подобно многим прочим, выпустили из тюрьмы. Свет Парижа воссиял на него, но бедняга его не видел. Его зрение не притупилось, но он мог смотреть только в прошлое Парижа и не понимал Парижа нынешнего. Этот новый город, сетовал он, мне совсем незнаком. На протяжении всего своего длительного заключения Мерсье ни разу не снял свои любимые башмаки. Поначалу он каждый день прохаживался в них по камере, а потом стал все время сидеть в углу, так что и он сам, и его башмаки быстро отвыкли от регулярных занятий ходьбой. Камера была сырая, с потолка и по стенам сочилась вода, его соломенный тюфяк неделями не вычищался. И за время вынужденной праздности, когда его прошлые прогулки перемешались в памяти и мысли вконец перепутались, башмаки начали медленно гнить. Их кожаные стенки вросли в кожу ног, а отекшие лодыжки вывалились наружу и нависли над краями башмаков, и со временем башмаки и ступни накрепко срослись. И коснувшись парижской земли, он испытал нестерпимую боль. Его пришлось выносить из камеры на руках. Врачи, по его словам, посоветовали отделить башмаки от ступней хирургическим путем, но он не позволил. Мерсье прибыл в тачке проводить в последний путь Куртиуса. Он предложил мне переехать к нему в дом, стать его башмаками, рассказывать ему обо всем, что я бы видела, прогуливаясь по новому Парижу. Я поблагодарила его, но приглашение отклонила.
Адвокат моего наставника Жиб, похожий на юркую мышку, сообщил мне о завещании и о подробностях с наследством.
– Все завещано одному человеку, – объявил он. – Вам.
Мне? Крошке? Анне-Марии Гросхольц? Вы уверены? Все-все мне? Ну нет, это неправильно. Дайте-ка я взгляну на бумагу еще раз. Этого не может быть. Скажите честно: вы не лжете мне? Меня так легко обмануть. Обман не станет для вас великой победой. Прочитайте мне вслух, прошу вас.
– «… Анне-Марии Гросхольц, равной мне в мастерстве».
Я невольно прижала ладонь к губам.
– Это про меня! Это же я Анна-Мария! Мне заплатили! Наконец мне заплатили!
Теперь у меня был собственный дом. Мне его оставил дядюшка.
– Однако, – продолжал Жиб, – имеются долги.
Мой наставник остался должен хирургу, двум портным, слесарю, торговцам воском, кроме того, он не выплатил налоги за прошлый год, всего же его долги составили 55 тысяч ливров. Это была невероятная сумма. В этих долгах можно было утонуть.
Глава шестьдесят девятая
Портрет А. М. Гросхольц
(кисти Луи Давида, год III)
Я почти подошла к концу, остались кое-какие мелочи. Я пыталась найти тех, кого знала: но все исчезли. Однажды, и я это не придумываю, на разрушенном крыльце Обезьянника я обнаружила пирог. И сразу поняла, что его там оставила Флоранс Библо. Это она так извинялась? Я швырнула пирог в сточную канаву. Больше я не видела ни ее, ни ее пирогов. Теперь я была владелицей предприятия, важной персоной. Жак-Луи Давид во время своего заточения в Люксембургском дворце даже написал мой портрет.
Я оказалась в числе тех немногих, кто его там навещал, да и ему было не особенно что еще рисовать. А я не возражала. Маленькая женщина в черном. На коленях я держала Марту, хотя по-хорошему там должна была бы сидеть маленькая Мария-Шарлотта, но и Марта сгодилась. Я настояла на том, чтобы он изобразил меня прикрывшей рукой лицо: я еще не была вполне готова выставить себя на всеобщее обозрение.
Он протестовал, говоря, что не может меня как следует рассмотреть и что не надо прикрывать лицо рукой.
– Прршшу вашш!
Но я не уступила. Мое лицо на картине осталось таким же неясным, как у куклы у меня на коленях. Это могло быть любое лицо – вариантов хоть отбавляй.
Итак, как рассчитаться с долгами? Пятьдесят тысяч ливров.
Я заняла денег. У оптового торговца гипсом – ведь что ни говори, его предприятие жило за счет моего предприятия. Но этого было недостаточно. Мне требовалось проявить хитроумие. Мне было тридцать четыре, и у меня было дело. Стало ясно, что, если не действовать быстро, я могу потерять все. На Обезьянник, этот покосившийся домишко, было больно смотреть. Я распродала земельные участки справа и слева от старого здания, распорядилась убрать обломки и мусор. Со временем я надеялась выставить там кое-какие из старых изваяний, ведь со временем они, возможно, вновь станут популярными.
Я осталась совсем одна, с одним лишь манекеном, сшитым по меркам Эдмона. Так оно теперь и будет, думала я. Буду сидеть, напялив на голову новенький холщовый чепец. Но, с другой стороны, я же не вдова Пико. Мне предстояло много чего сделать, причем надеяться было не на кого. Нельзя было сидеть сиднем. От отчаяния люди принимают плохие решения. Так вот.
Ради собственного спасения мне пришлось заключить вполне заурядный союз: я вышла замуж. Слухи распространялись быстро. Люди считали, что Куртиус нажил многомиллионное состояние. Это была неправда, но, по крайней мере, он владел Обезьянником, а теперь его хозяйкой оказалась я. Меня стали осаждать мужчины. Оно и понятно: люди голодали, возможностей разбогатеть было мало. Один все демонстрировал мне столбики чисел в записной книжке и чернильные наброски своих архитектурных проектов. Почему бы и нет…
Пятого октября 1795 года на улицах снова возникли беспорядки со стрельбой. Двадцать шестого Жак-Луи Давид получил амнистию. А двадцать восьмого в префектуре департамента Сены города Парижа, в грязной комнатушке без какого-либо торжественного убранства, где на длинных скамьях, стоящих в несколько рядов, невесты в простецких платьях и женихи в простецких костюмах дожидались, когда их позовут на регистрацию, Анна-Мария Гросхольц и Франсуа Тюссо вступили в законный брак.
– Это будет чисто деловая сделка, – предупредила я гражданина Тюссо, и гражданин Тюссо, засунув свою записную книжку в нагрудный карман сюртука, согласился.
Гражданин Тюссо, мой супруг. Это не слишком счастливая история. Может быть, во всем виноваты его родители. Ребенком они повели его в театр, и он влюбился в сценический мир. Театр научил маленького Франсуа мечтать, и он, по мере взросления, не смог расстаться с детской мечтой. Как это случается с впечатлительными натурами, кого восхищают сценические пейзажи и сценические характеры, его душа медленно разрушалась под бременем театральных красивостей и яркого света. Он понятия не имел, что творится за кулисами. Он никогда не удосуживался заглянуть за дверь с табличкой «ПОСТОРОННИМ НЕ ВХОДИТЬ». Он обожал мастерить картонные театрики и играть в них. Пожалуй, он был милый, но совершенно никчемный.
Я даже не могу вспомнить, жесткие или мягкие у него были усы. Я не помню звука его шагов в коридоре. Не помню, стучался ли он ко мне в дверь – в дверь комнаты, где некогда спал мой наставник. Зато я помню циферки в его банковском счете и свой ужас при виде них. Он попросту врал мне, а я была настолько глупа, что поверила ему. Весьма неудачный оказался брак.
Но я как-то сумела выдержать и это. Я вставала каждое утро, это было необходимо. Гражданин Тюссо и я не спали в одной спальне, но он жил вместе со мной в Обезьяннике, и время от времени наведывался ко мне, а я, прости Господи, его не отвергала.
Он надеялся, что я буду прилично зарабатывать. Он надеялся, что у меня никогда не будет недостатка в деньгах. Я давала ему на карманные расходы – так родители содержат малых детей. Он тратил их на витиевато оформленные визитные карточки.
– Теперь, – уверял он меня, – дело пойдет на лад. Вот увидишь.
Франсуа Жозеф Тюссо
Архитектор театров
Большое ателье, бульвар дю Тампль, 20
Эти карточки, как и его театры, тоже были картонные. Он выходил по утрам из дома, переполненный грандиозными идеями, а к вечеру возвращался подавленный и пьяный. Но к тому времени внутри меня уже росла новая жизнь. Я не думала, что сумею выносить младенца, поначалу я об этом даже не думала, не смела. Я держала Франсуа на скудном пайке, и он влез в новые долги. Я пыталась обучить его изготавливать восковых людей, но восковые люди его не интересовали. Он не хотел работать для пополнения коллекции Кабинета, а лишь тратил заработанное мной. Он всегда находил спрятанные деньги, где бы я их ни хранила – если и был у него какой талант, то вот такой, – и тратил все до гроша, а потом рыдал и шумно каялся. Обезьянник нуждался в новых работниках, но работники – это дополнительные траты. Может быть, думала я, стоит вырастить собственную армию работников. Разумеется, рожать в возрасте тридцати четырех лет было весьма опасно, но ведь не менее опасно было сироте в семь лет остаться у доктора Куртиуса, как и для доктора Куртиуса было очень опасно отправиться в Париж.
А потом вспыхнула новая любовь. Это была немыслимая великая удача. Новый свет в окошке.
Ребенок и, чуть позже, второй!
Малыш Эф
Малыш Же
Малыш Франсуа родился в 1798 году, а малыш Жозеф появился на свет в 1800 году. У обоих были легко узнаваемые носы Вальтнеров и подбородки Гросхольцов. Ну вот, теперь я не одна! Я научила их, как Эдмон и Куртиус учили меня, всему, что знала о жизни и чему меня научила вдова. Гражданин Тюссо проливал сентиментальные слезы и сюсюкался с ними, он тоже влюбился в них. Они шебутились, эти мальчишки, они шумели, и я нянчила их на виду у восковых людей.
Оказавшись в новой, столь чудесной компании, мы даже на какой-то период ощутили себя счастливыми супругами. Но предприятие терпело убытки.
Надо было как-то содержать Обезьянник и обеспечивать детей. В четыре года малыш Франсуа уже работал у меня в мастерской, покрывая восковые лысины волосами, замешивая гипсовый раствор и разжигая огонь под чаном, как я когда-то делала для Куртиуса.
– Ребенку всего лишь четыре года! – возмутился гражданин Тюссо.
– Ему надо работать, – сказала я. – Ты не против, малыш Эф?
– Нет, мамочка, прошу тебя, давай работать.
Хороший мальчик.
– Куда мы пойдем, мамочка?
– Во дворец Тюильри.
– Там была принцесса Елизавета?
– Да, правильно. Очень недолго. Молодец, малыш Эф.
– Но сейчас только пять утра, – недовольно произнес гражданин Тюссо. – Ребенку надо спать. Иди-ка, карапуз, в постель.
– Нет, гражданин Тюссо, – возразил карапуз отцу. – Я пойду с мамочкой.
Если бы малыш вернулся в постель, он бы не встретился с Наполеоном.
Глава семидесятая
Моя последняя французская скульптура
У меня был грандиозный план – не менее опасный, нежели план, имевшийся у вдовы, когда та настояла на нашем переезде в Обезьянник. Я еще ни с кем им не делилась и вынашивала его втайне. Переезд в Обезьянник был смелой авантюрой, как и собрание всех этих восковых изваяний людей знаменитых и бесславных. Либо прояви смелость, либо прозябай в нищете. И я начала собирать новую коллекцию. Мне хотелось сделать выставку наиболее достойных представителей французского народа. И я принялась озираться вокруг. В моем списке стояло лишь одно имя – оно могло бы стоять в любом списке. Я прибегла к протекции, чтобы добиться аудиенции у Наполеона. Первый консул – таков был в ту пору его титул – женился на моей знакомой, Плаксе-Роз из Карма. Я написала Роз записку, подписав ее нежным именем «Мопсик». Будет непросто, написала она мне в ответ, у него нет времени на подобные пустяки. Но он очень сильно любил Роз, хотя и предпочитал называть ее Жозефиной.
Роз поцеловала меня и ласково ущипнула малыша Франсуа за нос. Фортуна носилась вокруг нас. И тут появился консул Бонапарт.
– Подойди, – приказал он, и я повиновалась.
– Не ты, – мотнул он головой, – а другой. Будущее Франции.
Я подтолкнула к нему малыша Франсуа. Тот нехотя шагнул вперед, наморщив свой клювик. Наполеон Бонапарт подошел к нему вплотную, положил руку моему сыну на плечо и внимательно поглядел на него. Малыш Франсуа стоял, не шелохнувшись, и вдруг взвизгнул, но не от страха, а от восторга.
Малыш Франсуа находил самые необычные вещи смешными.
Франсуа, мой первый сын, но не первенец, потом частенько рассказывал эту историю. Она стала частью его личной мифологии. Он хвастливо делился этим рассказом с одноклассниками, хотя те не верили ни единому его слову.
– Вы его мать? – спросил у меня Наполеон.
– Да, сир, – ответила я. – Разве это не очевидно?
– Он смелый. Нам нужны смельчаки. Приступайте к работе!
Я разложила все, что требовалось для создания слепка. И подробно объяснила, что сейчас произойдет и что от него требуется. Его лицо будет полностью покрыто слоем гипса. Малыш Франсуа показал ему две соломинки. Наполеон кивнул.
И мы принялись за дело.
Когда все было закончено, он сказал:
– Это я, в гипсе?
– Да, Первый консул, точное сходство.
– Будьте осторожны. Это прекрасная голова!
– Я никогда не выношу суждений относительно голов, Первый консул, – вежливо произнесла я. – Так меня учили. Некоторым головам уготована вечность, что нетипично. Мы, к примеру, не расплавили голову Франклина или Вольтера. Но сегодня никто уже не помнит даже убийцу Дерю. Так что заранее ничего сказать нельзя, никакой гарантии нет. Но мы продолжаем нашу работу, Первый консул, мы не останавливаемся, ведь всегда находится кто-то, чью голову следует вылепить. И всегда есть головы, которые приходится расплавлять.
– Ишь как ты заговорила, Мопсик, – заметила Роз.
– Это мое ремесло. А я свое ремесло знаю. И люблю о нем порассуждать.
– Почему Мопсик? – переспросил Наполеон.
– Я так звала ее в тюрьме, между приходами Фортуны.
– Был целый сонм персонажей, мадам лицеделка, чью значимость чересчур преувеличили, – задумчиво произнес Наполеон. – Революция породила множество странных личностей. Взять хотя бы Ру, бешеного монаха[21], Марата, врача, который желал всех умертвить, Жака Бовизажа, палача.
– А вы видели его, Первый консул? Жака Бовизажа? – спросила я.
– Жак Бовизаж стал героем фольклора. Не случайно же говорят: «А вы слышали, как Жак Бовизаж его убил?», «Как он ее отправил на тот свет?» Никакой человек не смог бы в одиночку все это совершить. Иначе он стал бы самым страшным чудовищем на свете. Все зверства, совершенные в ходе Революции, были приписаны одному этому персонажу.
– Величайшему из всех убийц, – подхватила я.
– Я слышала, что в Нанте он топил людей, – заметила Роз.
– А я слышал, что он вместе с Фукье-Тенвилем[22] приговаривал людей к казни, – добавил Наполеон.
– И еще я слышала, – продолжала Роз, – что после сентябрьской резни[23], раскаявшись в содеянном, он пришел, крича и рыдая, на Гревскую площадь, собрал вокруг себя толпу, и когда людей набралось несколько сотен, у всех на глазах покончил с собой, выстрелив себе в висок из пистолета. И как потом говорили, бездомные собаки много ночей спали на том самом месте.
– Это правда? Вот что с ним произошло? – изумилась я. – Бедный Жак.
– Тут нет ни слова правды, – возразил Наполеон. – Это все выдумка. Какое забавное имя: Жак Бовизаж. Такого человека никогда не было.
– О нет, сир, был. Я знала его. Он сначала жил у нас, сир, в Кабинете Куртиуса. Мы прозвали его нашим сторожевым псом. Мы росли вместе.
– Ваш рассказ – это вообще нечто новенькое. И не думайте, что я в него поверю.
– Мы долго его разыскивали. Но он ушел и не вернулся.
– Очередная небылица, придуманная в годы Революции, чтобы пугать детей и взрослых, – насмешливо отрезал Наполеон. – Вне всякого сомнения, так вы старались придать таинственности вашему предприятию. А какие у вас есть доказательства его существования? Вы хотя бы сделали его восковую фигуру?
– Нет, не сделали. Хотя он просил.
– Вот так-то. Вы закончили, гражданка?
– Поскольку у людей не ослабевает интерес к головам знаменитых людей, моей работе нет конца.
– Но сейчас вы получили то, что хотели. Всего вам хорошего!
– Благодарю вас, Первый консул, больше я вас не потревожу. Прощай, Роз, прощай, Фортуна!
Через год Фортуну растерзал английский бульдог повара Наполеона.
Итак, мы покинули покои Первого консула. В коридоре толпились другие люди в ожидании аудиенции. Похоже, то утро консул Бонапарт посвятил встречам с художниками. Там я встретила Давида, и старика Гудона в каких-то обносках, и молодого красавца, которого раньше никогда не видала. Интересно, подумала я тогда, кто из них будет принят первым. Позже Гудон создал бюст Наполеона в натуральную величину, но в этом творении не было ничего примечательного. Позже Давид написал «Коронование императора Наполеона I» на полотне размером 6,21 м на 9,79 м: они были прямо-таки рождены друг для друга – Давид и Наполеон. А молодой красавец, встретившийся мне в коридоре, изваял его великолепную мраморную статую в образе бога войны Марса, высотой более четырех метров. Имя мастера было Антонио Канова.
Именно эти двое, Давид и Канова, превратили в колосса мужчину ростом в пять футов семь дюймов[24]. И к тому моменту уже все художники Парижа наперебой изображали одну-единственную голову, так что весь город стал огромной фабрикой обожания. И кто же придет в дом восковых фигур, заполненный Наполеонами, когда эту самую голову можно было лицезреть в столице империи повсеместно, с любого ракурса, на каждой улице, в каждом помещении частного дома или общественного заведения? В пору апогея его славы говорили, что во Франции живут семь миллионов человек, и еще пять миллионов – скульптуры Наполеона. И какая выставка восковых людей могла бы процветать в таких условиях?
Глава семьдесят первая
Чтобы уже не вернуться
Имея в руках слепок головы Наполеона, я могла наконец раскрыть свой план. Не новый Обезьянник, нет. Нечто куда более крупное. В другой стране. В другом городе. Для переезда я выбрала Лондон. Париж был ненадежным. А Лондон – многообещающим. В Париже люди едва сводили концы с концами. В Лондоне они жировали. За Лондоном было будущее, а Париж был славен лишь прошлым. В Лондоне, как я выяснила, бывшие владельцы увеселительных заведений на бульваре дю Тампль устраивали показы изображений казней на гильотине с помощью волшебного фонаря, зарабатывая на этом приличные деньги.
У меня же было кое-что получше картинок. У меня были головы. Осязаемые, почти как живые. А теперь еще и Наполеон.
Я написала массу писем. Я отправила деньги. Я сняла помещение в театре «Лицеум». Я снова буду жить. Малыш Франсуа и малыш Жозеф вырастут и будут всюду совать свои носищи. Они непременно унюхают что-то хорошее в жизни. Они не пропадут.
– Лондон, – объявила я. – Лон-дон. Скажи: Лон-дон, малыш Эф.
– Лон-дон, – повторил он.
Я пообещала гражданину Тюссо, что вернусь, хотя сама не верила этим словам. Почему же он должен был им поверить? Это был человек, знавший только отрицательные числа, человек-вычитание, дырявый карман. Я решила оставить ему Обезьянник, чтобы у него был шанс чего-то добиться. Теперь он мог рассчитывать только на себя. Я распрощалась с этим домом. Прощайте все: вдова, доктор Куртиус и Эдмон. И Жак Бовизаж, который не вернулся назад, но чья история так и не завершилась, и легенды о ком никогда не будут позабыты. Даже и сейчас, как меня уверяли, на бульваре дю Тампль все еще ходят о нем байки. Родители стращают детей: засыпайте скорее, а не то за вами придет Жак Бовизаж. С этими легендами я тоже распрощалась.
– Я забираю детей в Англию, – сообщила я мужу. – Хочу там заработать для нас денег.
Гражданин Франсуа Тюссо, не совсем лишенный человеческих чувств, очень любил своих детей и боролся за них. Его сердце разрывалось от боли, и он тратил карманные деньги на адвокатов. Судьей, разбиравшим наше дело – вот каковы прихоти фортуны, – был Андре Валентен. Все с теми же глазами, один из которых глядел на восток, а другой на запад, преуспевший в жизни, упрямо карабкающийся вверх по карьерной лестнице.
– А, швейцарка. Все еще тут?
– Скоро уезжаю.
– И куда?
– В Лондон. Там иностранцам всегда рады.
Глядя одновременно на меня и на Тюссо, он постановил, что один ребенок вправе ехать с матерью, но другой должен остаться с отцом. Я ничего не могла поделать. Но у меня в груди билось сердце, задыхающееся, захлебывающееся от горя. Я была принуждена оставить Жозефа со своим мужем, принуждена к этому человеком, убившим моего Эдмона. Но как я могла воспротивиться решению судьи? Андре Валентен остался таким же, каким был и всегда, – вором.
– Ты присутствовал там? – спросила я. – Когда Эдмон выпал из окна? Думаю, что присутствовал. Ты был там?
– Не понимаю, о чем ты толкуешь.
– Что там случилось, прошу, расскажи.
– Мне что, конфисковать твои документы?
– Это ты? Или сам Эдмон?
– Так, гражданка, у меня есть дела помимо твоего. Подведем итог: один ребенок остается здесь. Другой ребенок едет туда.
Судно называлось «Кингфишер». Позднее оно затонуло, наскочив на рифы близ острова Сицилия, но до этого оно увезло нас в Англию, так что в темной пучине Английского канала нет восковых персонажей с косматыми бородами. На палубе я крепко держала малыша Эф, мое сокровище, мое будущее. В трюме находились люди из моего прошлого, спутники моей жизни, свидетели моей истории, восковые воплощения моей любви и ненависти, ерзающие в своих ящиках. Кукла, сделанная Эдмоном по моему подобию из дерева, волос и стеклышек. Витринный манекен, сшитый по его подобию. Я их не бросила в Париже.
Я привезла на Британские острова историю Франции, бережно уложив ее по ящикам и обернув ватой и тряпьем. Во время плавания у Вольтера отбился нос, Франклин потерял ухо, а Жан-Полю Марату вдавило грудь. Но все это можно было исправить. У меня же остались формы.
Я помахала рукой Парижу и всему, что с ним было связано. Я уплываю на остров. Нас будет разделять море. Не преследуй меня, даже никогда не пытайся.
И вот я стою на палубе корабля, рассекающего воды Английского канала, в сопровождении своих любимых, чтобы поведать англичанам наши истории. Вы же слыхали о Синей Бороде, Спящей красавице и Коте в сапогах? А вот новая сказка – о маленькой женщине, что тащила историю на своем горбу. Хотите крови? Это у меня есть. Дворцы? Ну, конечно. Лачуги? Еще бы! А монстры? Да, да, и монстры у меня есть. Приходите и смотрите! Только приходите – и вы увидите все своими глазами, я покажу вам, как все было, я расскажу вам, как умею, на что способен человек.
Но есть ли у вас там любовь?
Да! О, да.
Мы плыли прочь, малыш Эф и я. Франция оставалась далеко позади, превращаясь в полоску суши, пока и она совсем не исчезла. Никогда больше Андре Валентен не разобьет мне сердце. Я отвернулась от французского берега и указала малышу Эф вперед: смотри туда! Там, за проливом, находится Великобритания. А зачем мы ей? И зачем она нам? Там говорят по-английски – мы знаем английский? Жеорг Третий. Дуувр. Театр «Лицеум» Лон-дон.
– А мы вернемся домой, мамочка? Мы когда-нибудь вернемся домой?
– У нас будет новый дом, Эф, совершенно новый. И нам не захочется его покидать.
Послесловие 1802–1850 Дома
Мне восемьдесят девять лет.
Глава семьдесят вторая
Седьмая группа голов
И вот я тут. Наверху. В окружении моих вещей. Вон на стене висит мой портрет кисти Жака-Луи Давида. А там в ящике под стеклом посмертная маска дядюшки Куртиуса. Цела и изготовленная Эдмоном деревянная кукла, мое подобие, а рядом с ней манекен, изображающий мужчину, которого я некогда знала. Там же восковое сердце, а около него восковая селезенка-хандра, и там же моя восковая голова, вылепленная Куртиусом, когда мне было семь, и папенькина нижняя челюсть, не потерянная за все эти долгие годы, ну и наконец, вернее, самое главное – безликая кукла Марта, маменькин подарок. Все это со мной, и я с ними. А где мы все? Мы в Лондоне. Мы в богадельне? Нет. Разве у обитателей богадельни имеются дорогие им вещи? Мы в собственном доме, мы его владельцы, и мы весьма преуспели в жизни. Мы вскарабкались на верхотуру высшего общества Лондона, который представляет собой самую исполинскую кучу дерьма, какую довелось наложить человеку, уродливый нарост циклопических размеров. Должна, однако, признаться, что я сохранилась не целиком. Теперь я состою из трех частей. Мои зубы давно выпали, и их заменили новыми: я их вставляю, верхние и нижние, и щелкаю челюстью, как папенька. Когда я их вынимаю, мое лицо сморщивается, и нос свисает к подбородку, так что они едва не соприкасаются. Я ношу очки с толстенными стеклами, в круглой проволочной оправе. Без их помощи я никого и ничего не вижу ни вблизи, ни вдали.
Мой дом стоит на Бейкер-стрит[25], и это подходящее название, потому что в каком-то смысле мы здесь выпекаем людей. Наш дом очень большой, просто какой-то огромный слон, гигантский монстр. В этом здании хранится история. Мы демонстрируем наших людей, наших кукол, в первом и втором этажах и в подвале. У нас тут есть зал с королевскими особами и прочими важными персонами, где собраны все знаменитости последних лет. В третьем этаже располагается наш производственный цех, где ежедневно мы плавим воск и отливаем людей, а люди приходят, и люди уходят. А я наблюдаю за этим многолюдным цирком жизни. Всех их хлебом не корми – дай только прославиться. Наконец я в полной безопасности. Я вспоминаю, как вдова Пико считала себя в безопасности, прячась за крепкими воротами. Но ни один дом не обеспечит тебе безопасность, все дома норовят рухнуть. А внизу, в подвале, вдали от солнечного света, во тьме, мы держим совсем других людей, бесславных, тех, кто совершал дурные поступки. Всегда находятся такие. Сегодняшние негодяи в одной компании со вчерашними. Там наша Комната ужасов. Только вчера, когда я спустилась в подвал, какой-то юнец, из простонародья, стоял перед Жан-Полем Маратом в кровавой ванне и пялился на жалкое тело, вылепленное Эдмоном, и рану, которая до сих пор кажется совсем свежей, и этот самый юнец преспокойно жевал пирог со свининой.
Я постоянно совершаю такие обходы, инспектирую их всех, брожу вокруг старых фигур. Иногда осматриваю новые, но вообще-то меня тянет к прошлому. Я всех пережила. Я смахиваю пыль с Наполеона, расправляю парчовый камзол Людовика XVI. В карман ему я сунула карту острова Робинзона Крузо. В его лице я угадываю черты его младшей сестры.
Люди приходят сюда, чтобы потрогать меня. Одни именуют меня Дама-История, другие – Матушка-Эпоха. А многие называют Мадам Двойка Мечей[26]. Я прямо как общественное здание. Когда-то я рассказывала посетителям историю своей жизни. И они все гадали, правда ли это. Воск, уверяла я их, не умеет лгать.
Я больше не в силах сидеть за столом в вестибюле и взимать плату за входные билеты. Я такая хрупкая, что могу сломаться. Вместо меня деньги берут другие люди. Франсуа и Жозеф, приняв эстафету ремесла, сделали меня из воска. Иногда после обеда я прихожу в зал и ненадолго составляю компанию своему дубликату. Публике нравится смотреть на нас двоих рядышком. Это даже вдохновило мистера Крукшенка нарисовать карикатуру, озаглавленную «МАДАМ ТЮССО ВЫШЛА ИЗ СЕБЯ». По правде сказать, ему не удалось добиться точного сходства. Но зато я узнаю себя в восковой скульптуре, в этом сморщенном огрызке человеческого существования, в этом морщинистом дряхлом создании, смахивающем то ли на паука, то ли на жука или бескрылого мотылька, в этой сгорбленной фигуре, слепленной из праха и земли, одетой во все черное – от капора до ботинок. Вдова Пико, раз в квартал приходит человек и выдергивает волоски из моего подбородка. Перепуганные дети визжат при виде меня. Потом я им снюсь по ночам, они просыпаются и снова визжат. И детям – не взрослым – сегодня рассказывают всякие сказки, потому как сегодня эти сказки годны лишь для малышей. Дети распевают «Мерцай, мерцай, звездочка, в ночи» на мотив, впервые записанный в год моего рождения[27]. Я такая же древняя, как эта дурацкая мелодия.
Один за другим, кто-то второпях, а кто-то неспешно, все умерли. Луи-Себастьян Мерсье во сне, так и не сняв башмаков. Жак-Луи Давид в опале, в изгнании. Жозефина, Плакса-Роз, лишенная трона императрицы. Даже Наполеон – на своей скале посреди Тихого океана. Франсуа Тюссо-старший, муж, так и не расплатившись с долгами. И наконец, Андре Валентен, поднявшийся высоко по служебной лестнице и обвиненный в растрате государственных средств империи, был разрублен на два куска, которые разлетелись в разные стороны.
Обезьянник, давно опустевший, издал последний вопль бабуина, выплюнул облако пыли и рухнул, обратившись в груду щебня, который потом вывезли прочь.
Там теперь все застроено новыми домами.
Никто из живущих меня не понимает. Только мои куклы.
Меня иногда навещает мистер Диккенс, автор романов. Тот еще прохиндей. Я ему все рассказываю. Он записывает. У меня внизу, возле Марата, стоят Берк и Хэр, шотландские похитители тел, одного я вылепила с натуры, другого – после смерти. Герцог Веллингтон частенько наведывался в гости к моему восковому Наполеону. А теперь у меня восковой Веллингтон стоит.
Есть такое состояние между жизнью и смертью, называемое восковой фигурой. Я живу в верхнем этаже дома, занимая несколько комнат, со всем своим семейством. За дверью, на которой висит табличка ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН – НЕ ВХОДИТЬ – ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРСОНАЛА. Это моя спальня. Тут хранятся мои личные вещи, не предназначенные для посторонних глаз, не выставляемые напоказ публике. Моя личная коллекция, моя личная история.
И сюда он приходит каждый день, мой седьмой и последний врач, доктор Маркус Хили. Лысеющий мужчина, располневший, хотя он и пытается это скрыть, все обо мне заботится, хлопочет. Он передвигает меня, как будто я сама не могу двигаться, суетится, носится со мной, как ребенок с любимой игрушкой.
Сегодня мир стал механическим. Этот новый мир сделан из железа. Жизнь отяжелела, все приходится толкать – паром и поршнями. Вместо свечей люди освещают себя газом, который дает свет, лишенный загадочности. И еще признак почтенного возраста: люди больше не выглядят так, как прежде. Мужчины отращивают бакенбарды, так что в конце концов становятся больше похожими на спаниелей, чем на мужчин, а густую растительность на лице умащивают воском, придавая ей аккуратную форму. И еще кое-что новенькое. Франсуа боится, что оно может погубить наше предприятие. Эта новомодная штука называется дагерротип. Она запечатлевает разные жизненные ситуации, создает изображения людей на полированной серебряной пластинке. И эти картинки получаются гораздо быстрее, чем восковые изваяния. К тому же там гарантированно можно избежать ошибок. Вот, хотят сделать мое изображение с помощью этой машины. Еще чего! Только через мой труп!
Я лежу в постели, мне трудно дышать. Я отчетливо вижу свой конец – все случится в этой комнате. Мне восемьдесят девять лет. До девяноста я уже не доживу. Я – Анна-Мария Тюссо, урожденная Гросхольц. Крошка.
Теперь она уж никуда не денется.
Благодарности
Чтобы написать эту книгу, мне понадобилось пятнадцать лет – срок довольно долгий. При том, что сюжет основан на реальных событиях и биографиях реальных людей, иногда эти люди (к примеру, Мари Гросхольц и Филипп Куртиус) оставили нам весьма туманные, порой недостоверные, истории, поэтому я чувствовал себя вправе заполнить кое-какие лакуны. Я посвятил много времени изучению материала, и здесь величайшее удовольствие и пользу принесли мне сочинения Луи-Себастьяна Мерсье. Будучи кем-то вроде Генри Мейхью, летописца Лондона, и Джозефа Митчелла, бытописателя Нью-Йорка, Мерсье оказался лучшим гидом по Парижу восемнадцатого века, и я сделал его персонажем этой книги, постаравшись воспроизвести его интонации. Эта книга не могла быть написана, если бы не помощь и участие следующих людей и учреждений: музея «Мадам Тюссо» в Лондоне, который много лет назад дал мне работу, с чего все и началось; Кристофера Меррилла и Международной писательской программы; Патрика Девилла и парижского «Дома иностранных писателей и переводчиков»; Сорена Линда и библиотеки «Дома Брехта»; Клаудии Вулгар и Фестиваля искусств Килкенни; Брэдфорда Морроу и «Конджанкшнз»; Пола Лисицки и журнала «Стори куотерли»; Юна Ли и «Паблик спейс»; Арно Наувелса, давшего мне советы по изготовлению четырехфутовой деревянной женщины (в подробностях) и Элизабет Маккрэкен, которая помогла сделать для нее волосы; Даны Бертон, проявившей терпение и точность, Чарлза Ламберта, проявившего щедрость; Элизабетт Сгарби, которая в нужный момент была всегда рядом; Майкла Тэкенса, который помог разобраться во многом, и всех сотрудников замечательного и вдохновляющего издательства «Гэллик букс», особенно Джейн Эйткен, Мэдди Аллен и Эмили Бойс, которые первыми приняли у меня мое детище, и всех сотрудников великолепного издательства «Риверхед букс», кто всегда верил в эту книгу, в том числе во всех смыслах исключительных, Джинн Мартин, Дженнифер Хуанг и Глори Плата, и в особенности потрясающего гения Калверта Моргана, чей ум и мудрость, тонкое чувство стиля и поразительно зоркий глаз помогли наконец привести эту книгу в порт назначения и кого я не устану благодарить; и всех в агентстве «Блейк Фридман», в том числе великой Кэроли Блейк, ныне покойной, а также Тома Уиткома, Джеймса Пьюзи, Эмануэлы Энекоум и особенно моего любимого агента Изобел Диксон, которая перечитала эту книгу во всех возможных формах и форматах и отдала ей времени и душевных сил больше, чем кто-то другой; и наконец, более всего, Элизабет и Гаса с Матильдой, маленьких и могучих.
Перевод Олега Алякринского
Примечания
1
Латинские названия частей и органов человеческого тела: кости, черепная коробка, позвоночник, грудинно-ключичный сустав, височная мышца, глазное яблоко, блуждающий нерв, половые органы, язык.
Вернуться
2
Горлюха ястребинковая – цветковое растение семейства астровых.
Вернуться
3
Пробойник для петлиц, прямое шило, изогнутое шило, распарыватель швов, размер воротника и размер сюртука (франц.).
Вернуться
4
Приведенный отрывок – из молитвы, сочиненной Елизаветой Французской. Последняя строка – «О, воистину обожаемый и единственно возлюбленный Господь, смилуйся над нами. Аминь (лат.).
Вернуться
5
Букв.: надзиратели за «ночным троном» (франц.), в присутствии которых королевские особы испражнялись.
Вернуться
6
Ладонная фасция, большая плечевая артерия, сальниковый бугор (лат.).
Вернуться
7
Двенадцатиперстная кишка (лат.).
Вернуться
8
В описываемую эпоху причиной уныния, или хандры, считалась болезнь селезенки, поэтому в английском языке «селезенка» и «хандра» обозначалась одним словом: spleen.
Вернуться
9
Имеется в виду крепость-тюрьма Тампль, куда после взятия Бастилии были заключены члены королевской семьи. Ныне не существует.
Вернуться
10
Жак де Флессель, мэр Парижа, убитый 14 июля 1789 года на Гревской площади.
Вернуться
11
Победители Бастилии (франц.) – официальный титул участников штурма Бастилии 14 июля 1789 года.
Вернуться
12
Ле-Аль, или «Чрево Парижа», – знаменитый рыночный квартал в центре города.
Вернуться
13
Состоялся 14 июля 1790 года, впоследствии стал отмечаться как День взятия Бастилии.
Вернуться
14
Имя «Людовик» по-французски звучит как Луи (Louis).
Вернуться
15
Коммуна Парижа – орган муниципальной власти в Париже в 1789–794 гг.
Вернуться
16
Бумажные деньги, выпущенные в годы Французской революции.
Вернуться
17
Прочь! О, прочь, непосвященные! (лат.)
Вернуться
18
Закон от 22 прериаля II года Республики, или Прериальский закон, предусматривал реорганизацию, упрощал процедуру судопроизводства и вводил в судебную практику новую юридическую категорию «враг народа».
Вернуться
19
Одно из народных прозвищ гильотины.
Вернуться
20
Жорж Кутон (1755–1794) – парижский адвокат, политик, деятель Французской революции. Страдал параличом обеих ног.
Вернуться
21
Жак Ру (1752–1794) – священник, лидер крайне левой фракции в Коммуне Парижа, требовавший казни всех коммерсантов и раздела земель между беднейшими крестьянами.
Вернуться
22
Фукье-Тенвиль, Антуан Кантен (1746–1795) – общественный обвинитель революционного трибунала, отличавшийся особой жестокостью.
Вернуться
23
Массовые бессудные казни сторонников монархии и «подозрительных лиц» в Париже 2–5 сентября 1792 года.
Вернуться
24
Рост Наполеона составлял 162 см.
Вернуться
25
Дословно «Бейкер-стрит» значит «улица Пекарей».
Вернуться
26
Намек на карту «Двойка мечей» в колоде Таро, изображающую женщину с завязанными глазами и двумя мечами в руках, что, в частности, символизирует вынужденное подчинение внешним обстоятельствам.
Вернуться
27
Эта английская колыбельная была сочинена в начале XIX века на мелодию французской песенки «Ah, vous dirai-je, maman», опубликованной в 1761 году.
Вернуться
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg






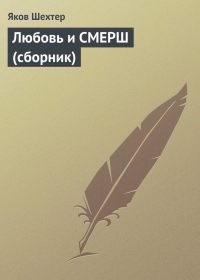


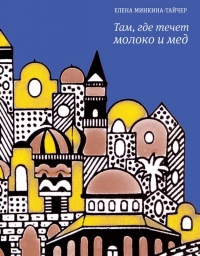
Комментарии к книге «Кроха», Эдвард Кэри
Всего 0 комментариев