Бурхан Сёнмез Стамбул Стамбул
Burhan Sonmez
ISTANBUL ISTANBUL
Copyright © 2015 by Burhan Sonmez – Kalem Agency
All rights reserved
Published in agreement with Kalem Agency, through Andrew Nurnberg Literary Agency.
Серия «Большой роман»
© М. C. Шаров, перевод, 2018
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2018
Издательство Иностранка®
* * *
Посвящается Кыванч
Первый день Рассказывает студент Демиртай Железная дверь
– На самом деле, – начал я, – это длинная история, но я расскажу ее вкратце. В Стамбуле шел снег – такого сильного снегопада в городе никогда еще не видывали. В полночь две монахини пустились в путь из больницы Святого Георгия[1] в Каракёе[2], чтобы принести печальные вести в церковь Святого Антония[3]. Вдоль домов под карнизами валялись замерзшие насмерть птицы. Уже распустившиеся – дело было в апреле – цветы багрянника обледенели и увяли, бродячие собаки жались по углам, пытаясь укрыться от пробирающего до костей холодного ветра. Вот ты, Доктор, когда-нибудь видел, чтобы в апреле шел снег? В общем, это длинная история, но я расскажу ее вкратце. Две монахини – одна пожилая, другая помладше – еле брели сквозь метель. У Галатской башни[4] молодая сказала пожилой, что за ними еще от начала улицы идет какой-то человек, и та ответила: у мужчины, преследующего их в такой поздний час и в такую непогоду, на уме может быть только одно.
Вдалеке заскрипела железная дверь. Я замолчал и посмотрел на Доктора.
В нашей камере было холодно. Пока я рассказывал Доктору историю, парикмахер Камо лежал, съежившись, на голом бетонном полу. Одеял у нас не было, так что приходилось греться, как щенкам, – прижимаясь друг к другу. День был похож на ночь, вечер – на утро; мы не могли понять, какое сейчас время суток. Мы хорошо знали, что такое боль, и каждый раз, когда шли на пытку, заново переживали наполнявший душу ужас. В эти короткие минуты ожидания боли стиралась грань между человеком и животным, умным и безумцем, ангелом и шайтаном. Услышав скрип железной двери, эхо которого волной прокатилось по коридору, парикмахер Камо выпрямился.
– Это за мной идут, – сказал он.
Я поднялся с места, подошел к двери камеры и заглянул в небольшую прорезь на уровне глаз, пытаясь разглядеть людей, приближающихся со стороны железной двери. На мое лицо упал электрический свет, проникающий из коридора. Никого не было видно. Должно быть, они ждали, стоя у двери. Свет слепил глаза, я прищурился. Потом бросил взгляд на противоположную камеру. Интересно, жива ли еще девушка, которую сегодня бросили туда, словно раненую лань?
Когда все звуки в коридоре стихли, я снова сел и положил свои ноги поверх ног Доктора и парикмахера Камо. В попытке согреться мы сгрудились еще теснее, обдавая лица друг друга жарким дыханием. Умение ждать тоже искусство. Нам не хотелось говорить, мы прислушивались к еле различимым шорохам в коридоре.
Доктор сидел в этой камере уже две недели, а я попал сюда через день после него. Когда меня бросили в камеру, всего в крови, он не только протер мои раны, но и укрыл меня своим пиджаком. Каждый день за нами приходили одни и те же люди, завязывали глаза, уводили на допрос и через несколько часов приволакивали назад в полубеспамятстве. А парикмахер Камо ждал своей очереди уже три дня. С тех пор как он здесь оказался, его так и не отвели на допрос и даже ни разу не произнесли его имени.
Поначалу камера – метр в ширину и два в длину – казалась нам крошечной, но мы уже успели к ней привыкнуть. Пол и стены – бетонные, дверь – серая, железная. Внутри – ничего. Мы сидели на полу, а когда затекали ноги, вставали и принимались ходить по кругу. Порой, услышав чей-то далекий вопль, мы поднимали головы и переглядывались, всматривались в лица друг друга, едва обозначенные тусклым светом из коридора. По большей части мы спали или, чтобы хоть чем-то себя занять, разговаривали. Было очень холодно, и с каждым днем у нас оставалось все меньше сил.
Снова раздался ржавый скрежет железной двери. Следователи ушли, не забрав с собой никого из заключенных. Чтобы удостовериться в этом, мы некоторое время молчали, прислушиваясь. Когда железная дверь закрылась, коридор погрузился в безмолвие.
– Не забрали меня, ублюдки, никого не забрали и ушли, – пробормотал, тяжело дыша, парикмахер Камо. Поднял голову, посмотрел в темноту под потолком, а потом снова съежился на полу.
Доктор попросил меня продолжать.
– Итак, две монахини шли сквозь метель, – начал было я, но тут парикмахер Камо схватил меня за руку:
– Эй, парень, может, расскажешь какую-нибудь историю получше? Здесь на бетоне и так холод собачий, чтоб мне пусто было, а ты все про снег да про метель!
Кем считал нас Камо – друзьями или врагами? Отчего так презрительно смотрел в нашу сторону? Может, разозлился, услышав от нас, что все три дня говорил во сне? Если бы ему разок завязали глаза и увели на допрос, если бы располосовали кожу до мяса да распяли на кресте, он научился бы нам доверять. Пока же ему приходилось довольствоваться нашими рассказами и видом наших израненных тел. Доктор осторожно положил руку ему на плечо:
– Поспи, Камо.
– В Стамбуле стояла жара. Такая жара, какой в городе никогда еще не бывало, – снова заговорил я. – На самом деле это длинная история, но я расскажу ее вкратце. В полночь две монахини пустились в путь из больницы Святого Георгия в Каракёе, чтобы принести радостные вести в церковь Святого Антония. На карнизах щебетали птицы. Багрянник готов был распустить цветы среди зимы, бродячие собаки изнывали от зноя. Вот ты, Доктор, когда-нибудь видел, чтобы у нас зимой воздух был раскален, как в пустыне? Две монахини – одна пожилая, другая помладше – еле брели по такой жаре. У Галатской башни молодая сказала пожилой, что за ними еще от начала улицы увязался какой-то человек, и та ответила: у мужчины, преследующего их по безлюдной улице в такой поздний час, на уме может быть только одно. Он хочет покуситься на их честь. Перепуганные монахини ускорили шаг. Вокруг не было ни души: жара заставила всех спуститься поближе к воде, к Золотому Рогу и Галатскому мосту, а сейчас, в полночь, улицы и подавно обезлюдели. Молодая монахиня сказала: «Мужчина все ближе, он нас догонит, еще прежде чем мы успеем подняться на вершину холма». – «Раз так, побежали», – ответила пожилая. А бежать в длинных рясах из плотной материи ой как непросто. Все лавки, попадавшиеся на пути, были закрыты. Обернувшись, молодая монахиня воскликнула: «Он тоже побежал!» Сестры уже начали задыхаться, пот тек по спинам. «Давай, пока он нас не поймал, – пропыхтела пожилая монахиня, – разбежимся в разные стороны. Так, по крайней мере, хотя бы одна из нас спасется». И, не зная, что ждет их впереди, они нырнули в два разных переулка. Молодая монахиня – она побежала направо – решила больше не оглядываться. Ей вспомнилась история из Священного Писания – о несчастных, что обернулись, чтобы последний раз издалека посмотреть на родной город. Дабы не повторить их судьбу, молодая монахиня смотрела только вперед и все бежала, бежала по узким темным улочкам, то и дело сворачивая в разные стороны. Правы были те, кто называл этот день про́клятым! Правы были экстрасенсы, говорившие по телевизору о том, что такая жара посреди зимы не к добру, и не зря все городские сумасшедшие весь день гремели пустыми жестянками! Через некоторое время молодая монахиня сообразила, что не слышит ничего, кроме стука собственных туфель по мостовой, и остановилась на перекрестке. Прислонившись спиной к стене, она осмотрелась и поняла, что улица эта ей незнакома, – она заблудилась. Вокруг – никого, только притулилась рядышком бродячая собака. И молодая монахиня тихо побрела вдоль домов, а собака – за ней. В общем, это длинная история, но я ее рассказываю вкратце. В конце концов молодая монахиня добралась до церкви Святого Антония и узнала, что пожилой там нет. Она поспешила рассказать, что с ней приключилось. Поднялся переполох. Несколько человек уже собирались отправиться на поиски пропавшей сестры, как вдруг дверь открылась и вошла она, собственной персоной, запыхавшаяся и растрепанная. Рухнув на табурет, она немного перевела дух и выпила залпом две кружки воды. Ее молодой подруге не терпелось узнать, что же с ней произошло. И пожилая монахиня поведала, что бежала, бежала, сворачивала туда-сюда, но в конце концов поняла: сейчас ее догонят. «И что же ты тогда сделала?» – спросила молодая. «Остановилась на перекрестке. Мужчина тоже остановился». – «А потом?» – «Я подняла рясу». – «А потом?» – «Мужчина спустил штаны». – «И?..» – «Я снова пустилась бежать». – «Что же было дальше?» – «Да ничего особенного. Женщина с подобранной юбкой, знаешь ли, бегает быстрее, чем мужчина со спущенными штанами».
Парикмахер Камо рассмеялся. Мы впервые услышали его смех. Его тело слегка подрагивало, как будто он спал и видел во сне каких-то странных, но забавных тварей. Я повторил последнюю фразу: «Женщина с подобранной юбкой бегает быстрее, чем мужчина со спущенными штанами». Смех парикмахера Камо превратился в хохот, и я протянул руку, чтобы зажать ему рот. Он, вдруг опомнившись, уставился на меня. Если на наши голоса прибегут охранники, нас или изобьют, или в наказание заставят часами стоять у стены. А нам вовсе не хотелось таким образом коротать время, свободное от пыток.
Парикмахер Камо встал и прислонился к противоположной стене. Он тяжело дышал, лицо его снова обрело прежнее серьезное выражение. Он походил на пьяницу, который ночью свалился в сточную канаву, а наутро, протрезвев, не может понять, куда угодил.
– Сегодня мне снилось, что я горю, – заговорил парикмахер Камо. – Я был на самом дне ада, и все вокруг подбрасывали дрова в огонь, на котором я поджаривался, а я все мерз, чтоб мне пусто было. Другие грешники так кричали от боли, что у меня лопались барабанные перепонки. Огонь пылал все жарче и жарче, но мне было мало. Вас там не было: я вглядывался в лица, но не видел ни Доктора, ни студента. Мне хотелось, чтобы пламя полыхало еще сильнее, и я молил об этом, ревел, словно скотина, когда ее режут. Поджаривающиеся вокруг богачи, ростовщики, скверные поэты и матери, не любившие своих детей, смотрели на меня сквозь огонь. Но мое раненое сердце все никак не обращалось в пепел, а моя память не испарялась. Как ни ярилось пламя, способное расплавить железо, я все еще помнил свое проклятое прошлое. «Раскайся!» – кричали мне. Да разве этого достаточно, разве ваши души обрели избавление, когда вы раскаялись? Вы все, обитатели ада! Вы, ублюдки! Я был самым обычным парикмахером, зарабатывал на хлеб себе и жене, любил читать книги, вот только детей у меня не было. В наши последние общие дни, когда все в жизни пошло не так, жена ни единого дурного слова мне не сказала. Мне легче было бы, если б она меня проклинала, но нет. Однажды ночью, напившись, я высказал ей все, о чем размышлял трезвым. Сказал, что я несчастный, жалкий человек. Я думал, она закричит, будет унижать меня. Попытался поймать ее взгляд, ожидая увидеть в нем презрение, но она отвернулась, и на лице ее читались только печаль и страдание. Самое плохое в женщинах – это то, что они всегда, всегда лучше нас. И мать моя такая же была. Вы сейчас смотрите на меня как на идиота, потому что я все это говорю, а мне плевать.
Парикмахер Камо погладил бороду, повернулся к двери, и на его физиономию упал свет из прорези. Он три дня не мылся, но явно и на воле не очень-то заботился о чистоте: когда его только привели, волосы уже слипались от грязи, а ногти требовали стрижки, и пахло от него кислым хлебом. К запаху Доктора я привык, своего не ощущал, а вот запах Камо постоянно напоминал о его присутствии. Промолчав три дня, теперь парикмахер говорил взахлеб:
– Мы с женой познакомились в тот самый день, когда я открыл свою парикмахерскую. Она привела стричься младшего брата, который на следующий день должен был пойти в первый класс. Я спросил мальчика, как его зовут, и сам представился: я – Камиль, но все называют меня Камо. «Хорошо, Камо», – сказал он. Я загадывал ему загадки, рассказал несколько смешных историй из своих школьных лет. А она тихо сидела в сторонке. Когда я заговорил с ней, она рассказала, что недавно окончила лицей и шьет на дому. Разговаривая, она избегала встречаться со мной глазами и разглядывала то фотографию Девичьей башни[5] на стене, то горшочек с базиликом, то зеркало в синей раме, ножницы и бритвы. Смочив волосы мальчика одеколоном, я протянул флакон ей и брызнул немного одеколона в ее протянутые ладошки, она поднесла их к лицу и, вдохнув аромат, закрыла глаза. В тот момент я представил себе, что она смотрит на меня сквозь прищуренные веки, и мне захотелось, чтобы до конца жизни на меня не смотрели ничьи другие глаза. И когда она вышла из лавки, благоухая лимонным одеколоном, я застыл на пороге, глядя ей вслед. Я даже не спросил, как ее зовут. А звали ее Махизер. В тот день она вошла в мою жизнь в этом своем платьице с цветочным узором, и я был уверен: навсегда.
Тем вечером я снова пошел к старому колодцу на заднем дворе дома, где прошло мое детство. Оставаясь в одиночестве, я любил, бывало, прилечь рядом с ним и смотреть вниз, в темноту. Я забывал обо всем на свете, не замечал даже, что уже село солнце. Колодезная тьма была неподвижной, безмятежной, священной. Запах сырости пьянил, вызывал приятное головокружение. Когда кто-нибудь говорил, что я похож на своего отца, которого мне не довелось увидеть, или когда мать вдруг называла меня не Камо, а Камилем, его именем, я со всех ног бежал к колодцу. Свесив голову пониже, я вдыхал пропитанный темнотой воздух и представлял себе, как ныряю и погружаюсь на самое дно. Мне хотелось забыть обо всем: о матери, об отце, о своей маленькой жизни. Ублюдки! Мать осталась беременной, когда ее жених, мой отец, покончил с собой, и назвала меня его именем. Семья от нее отвернулась. Помню, даже когда я уже подрос настолько, что начал играть с ребятами на улице, она порой прижимала меня к груди, клала свой сосок мне в рот и плакала. И я не чувствовал вкуса молока – только вкус ее слез. Чтобы перетерпеть это, я зажмуривался и начинал загибать пальцы. Однажды вечером, найдя меня у колодца, мать подбежала и схватила меня за руку, и в этот момент камень, на который она наступила, сорвался с места. Ее крик до сих пор звенит у меня в ушах. Тело достали из колодца уже в полночь. А меня потом отправили в сиротский приют, где у каждого ребенка есть своя длинная история. Каких только снов мне там не снилось…
Камо окинул нас взглядом, желая убедиться, что мы внимательно его слушаем.
– Когда мы с Махизер обручились, я дарил ей романы и сборники стихов. Учитель литературы в лицее говорил нам, что у каждого человека есть собственный язык: один, желая открыть свои чувства, дарит цветы, другой – книги. Махизер сидела дома, кроила ткани, шила платья, а иногда писала на маленьких клочках бумаги стихи и просила брата отнести мне. Я клал их в коробочку, которую хранил у себя в парикмахерской, в нижнем ящике, где лежало душистое мыло. Дела мои шли хорошо, постоянных клиентов становилось все больше. Случилось так, что одного из них, журналиста, застрелили на пороге моей парикмахерской, когда он, улыбаясь, выходил из нее после бритья. Он рухнул на землю, а нападавшие – их было двое – подбежали к нему и с криком «Что, страна тебе наша не нравится? Получай, сукин сын!» выстрелили еще раз, в голову. На следующий день к месту, где еще видны были пятна крови убитого, пришло много людей, чтобы его помянуть. Я пошел за ними на похороны. Сам я политикой не интересовался и за всю свою жизнь испытывал теплые чувства лишь к одному человеку, с ней связанному. Это был наш лицейский учитель литературы, Хайаттин-ходжа[6]. Он никогда не говорил на подобные темы, но мы видели среди его бумаг социалистические журналы. В политику я не верил абсолютно: как она может изменить мир, если материалом для нее служат люди? Те, кто утверждает, будто общество можно изменить так, чтобы все жили в достатке и счастье, не знают людей. Они не принимают в расчет человеческий эгоизм, чтоб им пусто было. Корыстолюбие, жадность и стремление обставить других – в самой природе человека. Когда я говорил об этом, мои клиенты возражали и с жаром пытались меня переубедить. «Ты же любишь стихи, как ты можешь так думать?» – вопрошал один из них, ожидая своей очереди, а потом встал, подошел к зеркалу, возле которого я прикрепил листок со стихами из «Цветов зла»[7], и прочитал вслух несколько строчек. Насилие на улицах все не прекращалось, в соседних кварталах тоже убили несколько человек. Однажды в парикмахерскую вбежал юноша, умолявший меня спрятать его пистолет, – за ним гнались полицейские. Но если я кому и помогал, то лишь по стечению обстоятельств, а до политики мне дела не было. Я ни во что не верил, мне просто хотелось накопить денег, купить себе дом, обзавестись детьми и спать по ночам рядом со своей Махизер. Но ей никак не удавалось забеременеть. На второй год нашей супружеской жизни мы пошли к врачу, и выяснилось, что дело во мне.
Однажды вечером, закрывая парикмахерскую, я увидел, как трое парней напали на прохожего. Гляжу – а это мой учитель литературы, Хайаттин-ходжа! Я выхватил нож и бросился на них. Всем от меня досталось, кому руку порезал, кому – лицо. Они такого не ожидали, пустились наутек и исчезли в темноте. Хайаттин-ходжа обнял меня, а потом мы, разговаривая, добрались до Саматьи и там зашли в одно мейхане[8]. Хайаттин-ходжа рассказал, что после нашего лицея при сиротском приюте сменил еще несколько школ, что уроков у него сейчас немного, а бо́льшую часть времени он посвящает политике. Его очень тревожило будущее нашей страны. Он слышал, что я поступил в университет, на отделение французского языка и литературы, а вот о том, что я оттуда ушел со второго курса, потому что вынужден был зарабатывать себе на хлеб, не слыхал. Узнав об этом, расстроился. Когда он спросил, не угас ли во мне интерес к поэзии, я пробормотал несколько заученных еще на его уроках строчек из Бодлера. По взгляду Хайаттина-ходжи было видно, что он мной гордится. Он напомнил мне, что в школе я занял первое место на конкурсе, читая стихи, и мы чокнулись рюмками с ракы[9]. Узнав, что я женат, Хайаттин-ходжа обрадовался, но сам он по-прежнему был холост. Сознался, что несколько лет назад влюбился в одну свою ученицу, но не открыл ей этого, а когда узнал, что она вышла замуж, окончательно смирился со своим одиночеством. Мы пили до самого утра и читали стихи: я – те, что помнил наизусть, он – те, что писал о девушке, в которую был влюблен. Не помню, как я добрался до дома, и только на следующий день, протрезвев, вспомнил, что в стихах Хайаттина-ходжи упоминалось имя Махизер.
Через месяц, когда его хоронили, я не пошел на похороны. Его убили на пороге школы выстрелом в голову. В бумагах покойного нашли посвященное мне стихотворение об отважных рыцарях, скачущих сквозь бурю, об этом я узнал от одного из его коллег. В тот вечер я обнял Махизер и попросил: «Не покидай меня!» – «Да зачем же мне тебя покидать, глупый?» – удивилась она. Уходя из парикмахерской, я захватил с собой коробочку, которая столько лет пролежала в ящике с мылом; теперь я открыл ее, достал стихи, которые Махизер писала для меня, когда мы были помолвлены, и попросил, чтобы она почитала их мне. Листки пахли розой и чуть-чуть лавандой. Когда Махизер начала читать, я расстегнул пуговицы ее ночной рубашки и взял в рот сосок. Мне хотелось молока, но в рот попадали только стекающие по ее груди слезы. Прошло три месяца. Однажды вечером Махизер снова заплакала. Запинаясь, она сквозь слезы спросила меня: кто убил Хайаттина-ходжу? Он не сделал мне ничего плохого, а между тем я несколько дней бормочу во сне, что он получил по заслугам. Я спросил, называл ли другие имена. «Были и другие?» – воскликнула Махизер. Я поклялся памятью матери, что не имею к этому делу никакого отношения и мои разговоры во сне были бессмысленным бредом. Потом схватил пальто и выскочил на улицу, на холод. Эх ты, моя немощная душа! Старая дура! Раньше ты была крылата и пылала огнем. Стоило тебе почуять шпоры надежды, и ты вставала на дыбы. Эх ты, еле дышащая развалина! Никуда не годная кляча! Ничто в этом мире не может пылать вечно. Душа моя, жалкая, израненная и дряхлая! Не почувствовать тебе больше вкуса жизни, не познать неукротимой бури любви… Не помню, как я пришел к колодцу, поднял камни и открыл крышку, – я был не в себе. Свесил голову в колодезный мрак и закричал. Мама! Зачем ты поила меня своими слезами вместо молока, когда давала мне грудь? Мама, зачем, прижимая к себе мое худенькое тельце, ты шептала не мое имя, а имя моего покойного отца? Я ведь понимал, что, называя меня не Камо, а Камилем, ты думала о нем. И в тот последний свой вечер, найдя меня здесь, ты произнесла это имя. Я знал, что камень, на который ты наступила, плохо держится. Упадешь, мама! Ты все говорила, что я обязан жизнью отцу, что я за него живу. Наказание господне! Мертвые мертвы. Свет – очень скверная штука, вот чего ты не понимала. В нем мы видим все только с внешней стороны. Он не дает нам проникнуть в суть вещей…
Последние слова парикмахер Камо еле слышно пробормотал, словно говорил сам с собой. Опустил голову, а затем резко откинул ее назад, ударившись о стену. Доктор сразу понял, в чем дело.
– Эпилептический припадок! – сказал он, повалил Камо на пол и просунул ему между зубов, чтобы не укусил себе язык, ломоть хлеба, припрятанный нами для новичка, которого могли привести в камеру в любой момент.
Я схватил парикмахера за ноги. Тот ничего не соображал, дергался, пускал пузыри изо рта.
Тут дверь камеры распахнулась, и над нами, словно великан, навис охранник:
– Что у вас тут происходит, уроды?
– У нашего товарища припадок падучей, – ответил Доктор. – Чтобы привести его в сознание, нужно дать ему понюхать что-нибудь пахучее, вроде одеколона или лука.
Охранник сделал шаг вперед.
– Если ваш паршивый товарищ сдохнет, дайте знать. Я унесу труп, – сказал он, однако все-таки наклонился и посмотрел в лицо Камо, желая убедиться, что Доктор не врет. От него шел волглый запах крови и плесени, смешанный с перегаром, – ясно было, что до дежурства он пил. Постояв еще немного, он отступил за порог и сплюнул.
Пока охранник закрывал камеру, я успел разглядеть в прорези противоположной двери лицо девушки, которую привезли сегодня. Ее нижняя губа была рассечена, левый глаз заплыл. Цвет ран подсказывал, что, хотя здесь она первый день, пыткам ее подвергают уже давно. Когда дверь закрылась, я лег, руками обхватив ноги Камо, и прижался щекой к бетонному полу, чтобы следить в щель под дверью за ногами охранника. Тот повернулся к девушкиной камере и стоял не шевелясь. Неужели девушка не отпрянула от прорези, не скрылась в темноте? Охранник не сквернословил, не стучал в дверь, пугая заключенную, не входил внутрь, чтобы отшвырнуть ее к стене. Камо тем временем то замирал, то снова начинал дергаться и хрипеть, пытаясь освободить ноги. Руки он раскинул в стороны, уперся ладонями в стены камеры. Потом дернулся последний раз и затих. Охранник ушел, оставил девушку в покое. Когда его шаги затихли в глубине коридора, я встал и посмотрел в прорезь. Девушка по-прежнему стояла перед своей дверью. Я кивнул ей, но она даже не шевельнулась, а вскоре отошла вглубь камеры, исчезла в темноте.
Доктор сидел, вытянув ноги и прислонившись спиной к стене, голова Камо лежала у него на коленях.
– Теперь он некоторое время поспит.
– Он нас слышит? – спросил я.
– Одни больные в таком состоянии слышат, что происходит вокруг, другие – нет.
– Зря он нам все о себе рассказывает. Надо ему намекнуть, что это опасно.
– Да, лучше ему остановиться на том, что уже сказано, – проговорил Доктор, обвел Камо ласковым взглядом, как будто на коленях у него лежал не больной, а его собственный ребенок, вытер ему пот со лба и пригладил растрепавшиеся волосы. – Как там девушка напротив?
– У нее на лице старые следы от побоев. Должно быть, ее уже давно пытают.
Я всмотрелся в спокойное лицо Камо. Дивившийся на него клиент парикмахерской был прав: как такой человек может любить стихи? Сейчас он спал, словно наигравшийся за день на улице усталый ребенок. И снилось ему наверняка, что он лежит на земле у колодца и смотрит вниз, в темноту. Потом осторожно, цепляясь за влажные камни, – хотя нет, камням он не доверяет, – по веревке он спускается вниз и погружается в воду. Весь окружающий его мир стерло, словно тряпкой, и он сам, опустившись в колодец, словно бы стал колодцем, погрузившись в воду, стал водой.
– Сколько я так лежал без сознания? – пробормотал Камо, приоткрыв глаза.
– Полчаса, – ответил Доктор.
– В горле пересохло.
– Вставай потихоньку.
Камо приподнялся, сел, прислонившись спиной к стене, и стал пить из бидона с водой, который поднес к его губам Доктор.
– Как ты себя чувствуешь? – спросил тот.
– Одновременно и усталым, и отдохнувшим, чтоб мне пусто было. Надо было вам сказать о моей болезни. Впервые это со мной случилось вскоре после смерти матери, весной. Продолжалось недолго, через несколько недель я выздоровел. Прошлое, говорят, возвращается. С тех пор как от меня ушла Махизер, падучая вернулась.
– Здесь мы с Демиртаем за тобой присмотрим. Слушай, Камо, я должен сказать тебе кое-что важное. Интересные беседы – это, конечно, дело хорошее, но в тюрьме есть свои правила. Мы не можем заранее знать, кто из нас, не выдержав пыток, выдаст следователям все свои тайны или выложит все, что здесь услышал. Так что давай будем разговаривать, чтобы скоротать время, но секреты свои оставим при себе. Хорошо?
– Правду о себе, значит, совсем не будем друг другу говорить? – спросил Камо. Ничего общего с тем жестким, грубым человеком, каким он выглядел недавно. Сейчас перед нами был покладистый больной.
– О тайнах своих нам не рассказывай, вот и все, – уточнил Доктор. – Мы не знаем, почему ты здесь оказался, и знать не хотим.
– Разве вам не интересно, что я за человек?
– Послушай, Камо, если бы мы были на воле, я бы не захотел ни беседовать с тобой, ни вообще встречаться. Но здесь мы во власти боли, в объятиях смерти. Мы не можем позволить себе судить друг друга. Нам нужно друг друга жалеть и поддерживать. Мы здесь в самом беззащитном положении, в котором только может оказаться человек, не забывай.
– Но вы меня совсем не знаете, – упрямился Камо. – Я вам еще ничего не рассказал.
Мы с Доктором переглянулись, но ничего не сказали.
Через некоторое время парикмахер Камо снова заговорил, с видимым тщанием подбирая слова, словно взвешивая их:
– Моя память, которая сейчас меня подводит, похожа на жадного ростовщика. Копит слова и прячет их. Вот ты, студент, знаешь, что фраза из истории, которую ты недавно рассказал, принадлежит Конфуцию? У меня в парикмахерской над зеркалом, рядом с турецким флагом, висел постер с полуголой девушкой, и внизу там была эта фраза. Девушка на плакате куда-то бежала, подобрав цветастую юбку и обнажив свои длинные ноги, и при этом смотрела сконфуженно на меня и ожидающих клиентов. Так вот между ее ногами и было написано, что женщина с подобранной юбкой бегает быстрее, чем мужчина со спущенными штанами. Порой кто-нибудь из посетителей, ждущих своей очереди, заглядевшись на красавицу, начинал думать, что утверждение это неверно, что, если бы эта девушка повстречалась ему в реальной жизни, они были бы безмерно счастливы вместе, позабыли бы обо всем на свете. Как-то один мой клиент, писатель, глядя на плакат, прошептал вслух: «Ах, Соня!» Мы все это услышали и решили, что он знает имя девушки. Когда подошла его очередь бриться, писатель пустился со мной в длинный разговор и под конец стал рассуждать обо мне самом. Он заявил, что душой я похож на русского. И, прочитав удивление на моем лице, он напомнил мне слова, которые слышал от меня всякий раз, когда приходил в парикмахерскую, так что они крепко засели в его памяти.
По его мнению, доведись мне родиться в России, я был бы кем-нибудь из Карамазовых, или вел бы жизнь Подпольного человека, или впал бы в самое жалкое состояние, как Мармеладов, отец Сони. Все, что писатель рассказывал об этих персонажах Достоевского, можно было бы сказать и обо мне. В этих людях Достоевский отобразил одно и то же состояние души. В «Преступлении и наказании» им наделен Мармеладов, оно господствует в первой части «Записок из подполья» и во всем романе о братьях Карамазовых. Различия между персонажами этих произведений невелики, но все же достаточно значительны, чтобы увлечь их на совершенно разные жизненные пути. Мармеладов, отец Сони, – опустившийся человек, который сознает, насколько он жалок, и открыто хулит самого себя, себе же в наказание. Это страдалец, покорившийся судьбе. Соня очень любит своего несчастного отца. Ах, эта прекрасная Соня, живущая в нищете и торгующая своим телом! Кто бы не пошел на самые страшные преступления ради нее – только бы знать, что в конце концов заслужишь право быть ею любимым! Что касается Подпольного человека, то он, преисполненный гневом, свое убожество выставлял напоказ для того, чтобы вскрыть, как убоги другие. Его душу бередило яростное желание находить себе подобных и становиться для них своего рода зеркалом. Карамазовы – совсем другое дело. Они в раздоре и с самими собой, и с другими людьми, и с самой жизнью. Они не чувствуют себя жалкими, как Мармеладов, и не видят в себе орудие изобличения чужого убожества, как Подпольный человек. Убожество Карамазовых – судьба, от которой не уйти, постоянно гноящаяся рана. Они не желают принимать жизнь такой, какова она есть, воюют с ней и, страдая, стараются запачкать жизнь своей кровью. И вот эта самая жизнь теперь открыла новую страницу и для меня. Чтоб ей пусто было! Не смотрите на меня так сурово, словно на грешника в адском пламени. Три дня я слушал вас, ваши истории и стоны после пыток. А теперь вы послушайте меня.
Одарив нас презрительным взглядом, Камо поднес к губам бидон с водой, сделал несколько глотков и снова заговорил:
– Я не знаю, что со мной будет, удастся ли мне выйти отсюда невредимым, или же меня, как и вас, будут пытать. Боль берет в плен тело, а страх – душу, и человек продает душу, чтобы спасти тело. Я не боюсь. И все же я не буду запираться под пытками и открою следователям свои тайны – те, что не открыл вам. Я расскажу все, что они захотят, в ответ на их вопросы обнажу всю свою душу. Как портной, вывернув наизнанку пиджак, отпарывает подкладку, так и я выверну перед ними все свое нутро. Я поведаю больше, чем им хочется услышать. Сначала они будут ловить каждое мое слово и на всякий случай тщательно записывать: вдруг пригодится? Однако через какое-то время мои речи начнут вызывать у них беспокойство. Они угадают в моих словах правду о них самих – правду, которой они не хотят знать. Больше всего в этой жизни человек боится самого себя. Вот и они испугаются и попробуют принудить меня к молчанию, – те самые люди, что пытками вытягивали из меня признания, теперь сделают все, чтобы я заткнулся: распнут на кресте, будут бить электрическим током, живого места на мне не оставят. Истина обернется для них таким же кошмаром, как и для меня. Я расскажу им все о себе и устрою очную ставку с теми сторонами их души, которых им не хочется видеть. Они отшатнутся в ужасе, словно прокаженный, впервые увидевший себя в зеркале, и, не в силах изменить себя, единственный выход усмотрят в том, чтобы разбить зеркало, иными словами, переломать мне кости и превратить лицо в кровавую кашу. Но даже если мне отрежут язык, это им не поможет: от моих стонов они оглохнут, их разум будет прикован к одной-единственной истине. Даже у себя дома они станут просыпаться среди ночи и в один присест выпивать бутылку крепчайшего пойла, но и это их не спасет. Им некуда будет бежать: истина – внутри человека, в самой главной его артерии, в его аорте. Так что им придется либо признать истину, либо перерезать себе аорту. У каждого из них есть нежная, любящая жена; жены будут обнимать их, пытаясь утешить, примутся совать им в дрожащие руки зажженные сигареты. Они ужасно боятся узнать истину о себе. Теперь я понимаю, почему меня уже третий день не ведут на допрос. Они меня боятся.
Парикмахер Камо говорил так, что его слова словно бы доносились из неведомой, пустой и гулкой глубины. Он долго скрывался, много страдал, был изранен, но оставалось загадкой, скрывался ли он потому, что изранен, или раны свои получил, скрываясь. Темнота, столь им любимая, душила меня. Каждый раз, когда мне завязывали глаза и проводили через железную дверь, я покидал знакомый мир. Пытался запоминать повороты, тщился найти опору в россыпи разрозненных слов, засевших в моей голове, и не постигал, как можно думать в темноте. А ведь привычный мир был совсем рядом, и в него так хотелось вернуться!
Камо прикрыл глаза. Вид у него был усталый. Даже тот слабый свет, что проникал в нашу камеру, тяготил его; может быть, поэтому его постоянно клонило в сон.
– Только один раз мама не рассердилась, застав меня у колодца, – снова заговорил Камо. – Так было в тот день, когда она увидела во сне горящие дрова. Это был добрый знак: разрешилась, стало быть, какая-то из донимавших ее проблем. Странное дело, я впервые увидел такой сон только здесь, в камере. Мое прошлое застыло и окостенело, и потому непонятно, какая такая проблема у меня могла разрешиться.
– Прошлое минуло, минет и настоящее, – ответил Доктор. – Твой сон говорит, что ты выйдешь отсюда и снова будешь свободен.
– Свободен? С тех пор как я потерял Махизер, для меня все изменилось, все разладилось.
– Ты сам себя мучаешь. У всех в жизни бывают черные полосы. – Доктор немного помолчал и продолжил: – Здесь нужно думать о хорошем, Камо. Представь себе, будто мы сейчас не тут, а, скажем, на набережной в Ортакёе, любуемся видом на азиатский берег и ведем беседу.
Доктору нравилось обращать наш взор вовне, в мир за стенами тюрьмы. Я перенял это у него. Представлять себе жизнь на воле было гораздо приятнее, чем обсуждать свои горести. В камере, куда заперли наши тела, время застыло на месте, но, когда наш разум покидал ее, время возобновляло свое движение. Наш разум сильнее тела, это доказанный медицинский факт, говорил Доктор. Так что мы часто воображали, будто оказались на воле, например, прогуливаемся по набережной среди веселых, беззаботных людей. Машем руками девушкам, под громкую музыку исполняющим танец живота на палубе яхты, что скользит вдоль набережной в Ортакёе. Проходим мимо обнимающихся парочек. Когда солнце начинает клониться к горизонту, Доктор покупает с лотка пакет слив и, улыбаясь, протягивает мне.
На прошлой неделе меня однажды притащили в камеру еле живым. Во рту так пересохло, что невозможно было разобрать мое бормотание. Думая, что мне хочется пить, Доктор прислонил меня к стене и попытался напоить, а я, открыв глаза, заявил, что хочу не воды, а слив. Мы потом два дня смеялись, вспоминая эти мои слова.
– Тебе, может быть, тоже хочется слив? – спросил Доктор у Камо.
Но тому эта история не понравилась. Не настроен он был на нашу волну.
– Прошлое, Доктор, – пробормотал он. – Наше прошлое…
Доктор опустил руку, которую держал в воздухе, словно протягивая Камо пакет со сливами.
– Наше прошлое осталось в недостижимой дали. Мы должны думать не о нем, а о завтрашнем дне.
– Знаешь ли ты, Доктор, что прошлого не может изменить даже Создатель? Всемогущий Бог повелевает настоящим и будущим, но ничего не может сделать с прошедшим. Даже он бессилен хоть что-нибудь сотворить с прошлым, что же говорить о нас?
Доктор впервые посмотрел на Камо с жалостью. Потом улыбнулся:
– Все мои знакомые парикмахеры любят поговорить, но они болтают о футболе или о женщинах. А ты? Случись мне оказаться твоим клиентом, хватило бы одного раза, больше бы я к тебе не ходил. Возможно, парикмахерам не следует учиться в университетах, иначе культура мужских бесед о футболе и женщинах просто-напросто исчезнет.
– Если бы я и не читал книг, все равно задавался бы теми же вопросами.
– Подумай вот о чем, Камо. Ты все твердишь о своем несчастливом детстве – но ведь после знакомства с будущей женой тебе удалось сбросить с себя груз прошлого. Так же будет и на этот раз. Завтра ты найдешь новое счастье и забудешь былые дни.
– Новое счастье?
Доктор глубоко вздохнул, потер закоченевшие руки и посмотрел куда-то вверх, словно был у себя в кабинете и раздумывал о том, как сладить с упрямым пациентом. Тут из коридора раздался громкий скрип железной двери.
Мы переглянулись. До нас донеслись веселые голоса следователей, и мы все превратились в слух.
– Ну как, раскололся?
– Немного осталось, через несколько дней закончим.
– Что применяли?
– Ток, дыбу, воду под давлением.
– Имя, адрес?
– Это мы знаем.
– Крупная рыба или так себе?
– Этот старый хрыч – крупная.
– Какая камера?
– Сороковая.
Это был номер нашей камеры.
Мы прижались друг к другу оледеневшими ступнями, пытаясь напоследок подзарядиться чужим теплом. Можно было уйти и не вернуться. Или уйти в здравом уме, а вернуться сумасшедшим, превратиться из человека в животное с раздробленным на куски сознанием.
– За мной идут, – проговорил Камо, посмотрев на прорезь в двери. – Самое время.
Звук шагов приближался, и вот дверь открылась. В дверном проеме показались два охранника, которые с трудом тащили под мышки крупного пожилого человека, перепачканного кровью. Его голова безвольно болталась.
– Вот вам еще один в компанию.
Охранники закрыли дверь и ушли.
– Он весь окоченел от холода, – сказал Доктор.
Проверил, нет ли у новоприбывшего сильного кровотечения или перелома, приподнял веки и попытался в полумраке вглядеться в глаза. Потом стал растирать ему ногу. Я взялся за другую. Она была холодна как лед.
– Давайте я лягу на пол, а вы его положите сверху, – предложил парикмахер Камо. – Надо бы его с бетона убрать.
Мы с Доктором подняли незнакомца, уложили на спину Камо, а сами легли по бокам, прижавшись поплотнее. Говорят, в старину люди, чтобы согреться, спали в обнимку с коровами или собаками. Тюрьма обратила для нас время вспять, вернула в самое начало истории. Прижавшись к незнакомцу, мы пытались вернуть его к жизни.
– Как ты, Камо?
– Я в порядке, Доктор. Такое впечатление, что этого бедолагу, перед тем как притащить сюда, голым держали под снегом.
– Под снегом?
– Ну да, в тот день, когда меня поймали, снег шел с самого утра.
– Стало быть, в этом году зима пришла рано. А когда меня взяли, стояла прекрасная солнечная погода.
Пока Доктор и парикмахер разговаривали, я молчал, только слушал. Не находил, куда вставить слово. Камо вот уже три дня то делал вид, что не замечает меня, то ругал за что-нибудь. Иногда, обращаясь ко мне, он называл меня студентом, но чаще – мальчиком. Но мне уже было восемнадцать лет, и я хотел, чтобы он относился ко мне хоть с толикой того уважения, какое выказывал Доктору. Когда меня схватили, я пытался представить себе, что меня ждет, но никак не мог подумать, что придется делить камеру с таким странным субъектом. Боль безгранична, и остается только ждать, сможешь ты выдержать ее или нет, – а вот как вести себя с Камо, я не мог понять, сколько ни старался. Один из тех полицейских в штатском, что схватили меня и затолкали в машину, тоже все называл меня мальчиком. «Пожалеешь, мальчик. Лучше говори, когда спрашивают!» – твердил он, выкручивая мне пальцы. «Я не мальчик», – ответил я, и тогда он обеими руками схватил меня за шею и начал душить. Другие полицейские его остановили – наверное, это была одна из их обычных игр. Они знали, как меня зовут, и хотели выяснить, с кем я должен был встретиться. Я был поражен – не столько тем, что они знали, кто я такой, сколько тем, что им известно, где и на какое время назначена встреча. «Я не мальчик, а студент. Иду в университет и понятия не имею, о какой встрече вы говорите». – «А почему же ты тогда бежал?» (Заметив слежку, я свернул за первый попавшийся поворот и пустился бежать.) – «Я опаздывал, хотел успеть на занятия».
Через полчаса меня привезли туда, где должна была состояться встреча, на автобусную остановку перед библиотекой Стамбульского университета, и пригрозили, что пристрелят, если я попытаюсь бежать. Полицейские в штатском вышли из машины, разошлись по сторонам и стали издалека наблюдать за теми, кто вместе со мной стоял на остановке. Я посмотрел на часы: без трех минут два. Наши встречи подчинялись строгим правилам; приходить можно было не раньше, чем за три минуты до назначенного времени, и если второй человек не явился, ждать его разрешалось тоже не более трех минут. Передо мной остановился автобус. Глядя на выходящих из него пассажиров, я боялся, что увижу человека, с которым должен встретиться. Удивительно, до чего много народа собралось на остановке, где я так часто бывал. Вокруг студенты, туристы, мужчины в деловых костюмах. Время шло быстро, вот уже без двух минут два. Я попытался определить, кто из людей на противоположном тротуаре смотрит в мою сторону, но там была такая толпа, что ничего не удавалось разобрать. Среди тех, кто поспешно переходил дорогу, лавируя между машинами, мог быть и человек, которого я ждал. Может быть, он почуял расставленную ловушку, а может, его насторожило что-то в облике следящих за мной переодетых полицейских. Или, угадав по моему встревоженному виду, что меня поймали, он сразу же смешался с толпой и ушел. Я посмотрел на часы: без одной минуты два – и, мгновенно приняв решение, бросился наперерез подходящему к остановке автобусу, но не рассчитал. Он врезался в меня, и я повалился. Послышались крики. Несколько человек схватили меня за руки, оттащили к машине и, бросив на заднее сиденье, начали избивать. «Кто это был, сволочь? Кто?» В рот мне сунули дуло пистолета. Я не мог открыть глаза, голова кружилась. «У тебя есть пять секунд, и я нажму на курок!» Через пять секунд пистолет вытащили у меня изо рта и принялись сжимать мошонку. Я закричал, но мне заткнули рот. Из глаз брызнули слезы.
Как бы ни готовил человек себя к боли, в момент столкновения с ней разум оказывается парализованным. Боль стирает всякое представление о времени, и оно останавливается. Окружающая реальность исчезает, весь мир сжимается до границ твоего страдающего тела. Этот миг замер навсегда, и никакое другое будущее тебя не ждет. Было в этом нечто схожее с прикованностью парикмахера Камо к прошлому. Все это я понимал. Но мог думать только об одном, мог задавать себе лишь один бессмысленный вопрос: почему, когда время так велико – миллиарды лет! – мы застряли именно в том его отрезке, где меня терзает боль? Как ребенок, обжегшийся о стакан с кипятком, опасливо прикасается к любому предмету, так и я не знал иных ощущений, кроме боли, и не мог думать ни о чем, кроме времени. Если бы я верил, что Доктор даст ответ на мои вопросы, я спросил бы его. Доктор полагал, что нельзя укрепить в себе стойкость перед болью, думая о ней, напротив, нужно о ней не думать. Но когда все бесконечное время вместилось в мое тело, в голове осталась только одна мысль: почему из всего этого многомиллиардного потока лет мы сейчас оказались именно в том мгновении, когда я корчусь от боли?
– А ты как, в порядке? – спросил Доктор, подняв голову и посмотрев на меня.
– Да.
– Давайте-ка встанем, а то Камо замерзнет.
Мы с Доктором сняли пиджаки (у Камо пиджака не было), постелили на пол и уложили на них пожилого незнакомца. Доктор измерил его пульс, дотронулся до шеи, потом смочил водой пересохшие губы. Незнакомец закашлялся, его грудь быстро заходила вверх-вниз.
Мы втроем сели рядом, привалившись спинами к стене, и стали смотреть на пожилого человека, на его лицо и длинные волосы. Его ноги почти упирались в дверь. Он один, лежа, занимал едва ли не всю камеру и походил на покойника перед похоронами – на том же кладбище, где уже погребли нас. Города возникают на развалинах других городов, мертвецы ложатся в землю, поглотившую прах других мертвецов. Стамбул делал вдох своими подземными камерами, в одной из которых ютились мы, и на нас оседал запах давно умерших людей. Наш разум становился пристанищем былых городов и их обитателей, и эта ноша была тяжела. Потому боль и терзала так жестоко нашу плоть.
– Интересно, он выживет? – заговорил парикмахер Камо. – Если нет, снова станет просторнее. Мы здесь и втроем-то с трудом помещались, а теперь нас четверо. Как нам лежать?
Доктор не ответил Камо, а поднял руку и торжественно, словно на священную книгу, возложил ее на сердце пожилого человека. Некоторое время он ждал, закрыв глаза, и в его спокойствии угадывалось нечто такое, что, казалось, способно оживлять покойников и заглушать боль.
– Очнется он, очнется… – прошептал Доктор.
Интересно, когда меня принесли сюда без сознания, он так же смотрел и терпеливо ждал, пока я очнусь? Так же прислушивался к моему дыханию больше, чем к своему?
Я поднялся на ноги и заглянул в прорезь. Девушка из противоположной камеры тоже стояла у двери. Я кивнул ей, ожидая увидеть отклик на ее лице. Возможности поговорить у нас не было, даже шепот разнесся бы по коридору и достиг ушей охранников. «Ты в порядке?» – попытался я спросить жестами. Девушка внимательно посмотрела на меня, а потом утвердительно кивнула. Она выглядела выспавшейся и отдохнувшей. Крови на нижней губе уже не было, однако заплывший глаз по-прежнему не открывался. Тем временем девушка подняла левую руку и указательным пальцем стала чертить в прорези невидимые буквы. Сначала я не понял, о ком она спрашивает. Заметив это, она начала чертить снова. «Человек, которого недавно принесли, дядя Кюхейлан. Как он?» – вот что она спрашивала. Оказывается, она знала его имя, была с ним знакома. Я тоже начертил в воздухе: «Он не умрет». А потом представился: «Меня зовут Демиртай».
Когда девушка принялась чертить в ответ свое имя, пожилой человек застонал, и я оглянулся. Он открыл глаза и пытался понять, где находится. Посмотрел на Доктора и парикмахера Камо, обвел взглядом стены и потолок, пощупал рукой бетонный пол.
– Стамбул? – с трудом проговорил он. – Это Стамбул?
Затем он закрыл глаза, но на сей раз не потерял сознание, а погрузился в сон, и на лице его возникло странное, едва ли не счастливое выражение.
Второй день Рассказывает Доктор Белая собака
– Так ты, дядя Кюхейлан, принял эту камеру за Стамбул? Мы сейчас под землей. Это там, наверху, проспекты и здания. Раскинулся город от одного края горизонта до другого, даже купол небесный с трудом вмещает его в себя. Под землей нет ни запада, ни востока, но там, наверху, если пойдешь вслед за ветром, обязательно повстречаешься с Босфором, разглядишь откуда-нибудь с холма его сапфировые волны. Если бы ты впервые увидел Стамбул, о котором давным-давно рассказывал тебе отец, не в этой камере, а с палубы корабля, ты понял бы, дядя Кюхейлан, что этот город – нечто гораздо большее, чем три стены и железная дверь. Когда плывешь издалека, то сначала по правому борту появляются едва различимые в ды́мке Острова[10]. Ты бы решил, что эти темные пятнышки – стаи птиц, опустившиеся на воду отдохнуть. Слева возникает берег, и змеей вьющиеся вдоль него во́ды в конце концов встречаются с маяком. Дымка тает, и красок становится все больше. Ты смотришь на купола и тонкие минареты так, словно перед тобой настенный ковер в твоем деревенском доме. Глядя на рисунок этого ковра, ты, бывало, погружался в размышления о неведомом мире, где течет совершенно неизвестная тебе жизнь, – и вот теперь корабль привез тебя в самое сердце этой жизни. Человек – это воздух, который он выдыхает, сделав сначала глубокий вдох. «Всей жизни не хватит», – говоришь ты сам себе. А город все растет – крепостные стены, башни, купола, – и тебе кажется, что он становится вторым небосводом.
У одной из стоящих на палубе женщин ветер уносит красный шейный платок, и он достигает берега прежде корабля. Ты ныряешь в толпу на пристани и принимаешься бродить по брусчатым улицам, так же бесцельно, как летит несомый ветром платок. Добравшись до Галатской площади, где воздух звенит от криков торговцев, ты достаешь из кармана кисет с табаком и скручиваешь цигарку. Мимо медленно бредет старуха, ведет на веревке овцу. Какой-то парень окликает ее: «Здравствуй, Бабуля! Куда это ты идешь с собакой на веревке?» Старуха оборачивается, смотрит на овцу, потом на парня и говорит: «Слепой ты, что ли? Овцу за собаку принял». Ты увязываешься следом за старухой. Навстречу попадается еще один молодой человек, и он туда же: «Что, Бабуля, решила собаку выгулять?» Бабуля снова оглядывается, смотрит на свою овцу и ворчит в ответ: «Да не собака это, а овца. Солнце вам всем голову напекло, что ли?» Проходите еще немного, и снова: «Что же это ты такую паршивую собаку на веревке водишь?» Потом улица пустеет, голоса смолкают. Сгорбленная Бабуля замечает тебя и спрашивает: «С ума я сошла, что ли, Дедуля? Принимаю собаку за овцу? Когда в моей голове стало пусто, опустел и весь мир, только я осталась, да ты, да эта непонятная животина». Пока Бабуля говорит, ты разглядываешь зверя на веревке. Кто это, овца или собака? Ты боишься, что твой первый день в Стамбуле, начавшись с недоумения, предвещает тебе полную сомнений жизнь.
Бабуля, потянув за веревку, медленно уходит прочь. Но ты не смотришь ей вслед, ты оглядываешься по сторонам, дивишься на творения рук человеческих. Человек создал башни, статуи, площади, возвел бесконечные стены. Море и земля были и до человека, а город – мир, человеком сотворенный. Город порожден человеком, и ты понимаешь, что он всегда будет нуждаться в человеке, подобно тому как цветок всегда нуждается в воде. Красота города, как и красота природы, в самом их существовании. Кривые камни превращаются во врата храма, бесформенная глыба мрамора – в величественную статую. Так что, думаешь ты, нет ничего удивительного, если овцы в городе оборачиваются собаками.
Ты бродишь по городу, пока солнце не опускается к крышам домов. Пьешь прохладную воду из служившего людям веками уличного источника. Слышится собачий лай, ты поднимаешь голову, смотришь в ту сторону, откуда он раздается, и видишь в воздухе красный платок – ветер несет его из Галаты к морю. Какое странное путешествие – жизнь! Платок, прилетевший с моря, в море и возвращается, а куда же, спрашиваешь ты, вернуться городскому человеку? Ты медленным шагом направляешься в ту сторону, откуда доносился собачий лай, словно надеясь отыскать там нужный тебе знак. Твоих ноздрей достигает аппетитный аромат, который приводит тебя ко двору ветхого дома. Над изгородью поднимается дымок. Ты подходишь поближе и заглядываешь через нее. Во дворе сидят три молодых парня, жарят на костре мясо и пьют вино. Один из них тихо что-то напевает себе под нос. Заметив на земле овечью шкуру и веревку, ты понимаешь, что в этом дворе окончила свой жизненный путь овца Бабули, а парни – те самые, что, потешаясь над старухой, весь день нарочно попадались ей на пути. Их затея в конце концов удалась: Бабуля поверила, что ее овца на самом деле собака, и отпустила животину. А три заговорщика мигом поймали овцу и устроили дружескую пирушку.
Пока я рассказывал эту историю, дядя Кюхейлан смотрел на меня, не отводя взгляда, и посмеивался. В конце я, по примеру студента Демиртая, повторил последнюю фразу:
– Да, три заговорщика мигом поймали овцу и устроили дружескую пирушку.
Дядя Кюхейлан снова рассмеялся.
– Умеешь ты красиво говорить, Доктор, – сказал он, – однако мой внутренний голос по-прежнему утверждает, что эта камера – Стамбул. Отец так много рассказывал мне о Стамбуле, что я порой не мог разобрать, где правда, а где выдумка. Например, он рассказывал о позабытом народе, который обитает под землей, не то в городе, не то на кладбище, протянувшемся от одного конца городских стен до другого, – эти люди выходят на поверхность только по ночам. Но я, слушая ребенком подобные истории, терялся в догадках, говорит ли он о том, что видел собственными глазами, или припоминает какую-нибудь из сказок «Тысячи и одной ночи»? Ты сам, Доктор, утверждал, что жизнь – странное путешествие. Две недели назад в далекой деревне меня отвели в полицейский участок, завязали мне глаза, а потом я прошел по темному подземному ходу и открыл глаза уже в Стамбуле, о котором мне столько рассказывал отец.
Разговаривая, дядя Кюхейлан активно жестикулировал: то расчесывал руками воздух, то выставлял вперед два пальца, словно держал в них воображаемую папиросу.
– По вечерам отец при свете газовой лампы устраивал на стене театр теней, изображал своими ловкими пальцами целые города. Так он повествовал и о Стамбуле. Сначала показывал нам длинные пароходы, затем еще более длинные поезда, а потом на стене появлялась тень молодого человека, стоящего под деревом. Когда отец спрашивал, кого ждет этот юноша, мы все в один голос отвечали: свою возлюбленную! Но отец, желая нас позлить, сажал юношу в тюрьму или заводил в воровской притон и лишь потом, когда мы теряли всякую надежду, устраивал ему встречу с любимой. Стамбул очень велик, твердил он, там за каждой стеной – своя жизнь, за каждой жизнью – своя стена. Он, Стамбул, словно колодец: глубокий, но тесный. Одних пьянит его глубина, других душит теснота. Потом отец поворачивался к нам и говорил: «Я расскажу вам о том Стамбуле, который видел собственными глазами». И он рассказывал, одновременно создавая на стене картины, и его рассказ уносил нас из нашего маленького домика в неведомый город, рождаемый тенями и становящийся огромным, как ночь. Я вырос на этих рассказах, Доктор. Эти стены, дверь и темный потолок мне хорошо знакомы, мой отец говорил именно об этом месте.
– Ты здесь только первый день, дядя Кюхейлан. Не торопись с выводами, подожди немного.
– Доктор, когда ты говорил, я чувствовал себя так, словно давно уже здесь. Сейчас день или ночь?
– Не знаю. О том, что наступило утро, мы узнаем, когда приносят еду.
Обычно по ночам следователи отправлялись на улицу, на задания, охотились на свою добычу. Это было единственное время, когда мы могли поспать и вообще немного расслабиться. Впрочем, какого-то прочно устоявшегося, единого для всех распорядка здесь не водилось. Бывало и так, что кого-то пытали круглые сутки, не возвращая в камеру, как меня первые пять дней.
– Интересно, что нам сегодня дадут поесть, – сказал я.
– А что, здесь по-разному кормят?
– Да, хлеб и сыр каждый день разные. Хлеб иногда просто черствый, а иногда очень черствый. Сыр то плесневелый, то откровенно гнилой. Повар каждый раз балует нас чем-нибудь новеньким.
Дядя Кюхейлан улыбнулся. Он уже два часа сидел на корточках, прислонившись спиной к стене. Следы побоев на его лице распухли, посинели. Только глаза поблескивали. Он поправил наброшенный на плечи пиджак и спросил замершего у прорези Демиртая:
– Никто не идет?
Демиртай обернулся, опустился на пол там же, где стоял, и уныло помотал головой:
– Когда пойдут, мы услышим скрип железной двери.
– Девушка ничего не сказала, когда ее уводили?
– Даже рта не раскрыла.
Девушку из противоположной камеры увели, когда дядя Кюхейлан еще лежал. Тот переживал за нее и расспрашивал о ней Демиртая.
Дядю Кюхейлана две недели пытали в армейской части, а затем отправили в долгий путь, который привел его в нашу камеру. Вместе с ним ехали четыре вооруженных охранника и девушка, на которую, как и на него, надели наручники. Из перешептываний охранников дядя Кюхейлан узнал, что в путь они отправились уже давно и девушку везут издалека. Сама девушка за всю дорогу не сказала ни слова, даже не шевельнула окровавленными губами. На остановках им давали хлеб, но она не ела, только пила воду. Дядя Кюхейлан рассказывал ей о себе и о своей деревне, она молча слушала. «Я верю, что ты никому не расскажешь, слишком уж ты молчаливая», – сказал он ей, и она, бросив на него быстрый взгляд, кивнула. Они, два впервые увидевших друг друга человека, двигались по пути, началом и концом которого была тьма, и доверяли друг другу, потому что на берегу океана боли время течет иначе.
– Своего имени она тебе тоже не сказала? – спросил дядя Кюхейлан.
– Сказала, – ответил Демиртай. – Точнее, написала.
– И что же она написала?
– Зине Севда.
– Зине Севда… – повторил дядя Кюхейлан. Его лицо просветлело. – Интересно, она немая? Может быть, нет, просто решила молчать, пока под арестом. С тобой она разговаривала, чертя буквы в воздухе. Почему же в дороге она мне не отвечала таким же способом? Потому что рядом были охранники?
Дядя Кюхейлан поднес воображаемую папиросу ко рту и сделал глубокий вдох. Потом выдохнул воображаемый дым и прислонился затылком к стене. Долго смотрел в пустоту, затем обвел взглядом темный потолок, снова поднес пальцы к губам, сделал вдох и посмотрел на меня. Мы встретились глазами.
С прежним, абсолютно серьезным выражением лица дядя Кюхейлан достал из кармана воображаемую табакерку и протянул ее нам с Демиртаем. Я на миг растерялся, но все-таки подыграл ему – сделал вид, будто беру из его пустой руки лист папиросной бумаги и насыпаю на него табак. Я курю, но сворачивать цигарки не умею, так что сначала посмотрел, как это делает дядя Кюхейлан, а потом повторил его движения. Дядя Кюхейлан снова полез в карман, достал воображаемый коробок спичек и закурил несуществующую папиросу. Парикмахер Камо не знал, чем мы занимаемся. Он уже несколько часов спал, сидя на корточках у стены и свесив голову.
– Сложнее всего всегда найти, обо что затушить окурок, – заговорил дядя Кюхейлан. – Обычно я ищу какую-нибудь трещину в стене и засовываю его туда. Если трещины нет, приходится бросать на пол. Однажды я очнулся в камере, где была кромешная тьма. Не удавалось даже дверь разглядеть – я нашел ее ощупью. Прислонился к стене, скрутил цигарку. Чиркнул спичкой, темнота вокруг мгновенно рассеялась – и что же я увидел? Из штукатурки на стенах торчали человеческие зубы, челюсти, отрезанные пальцы. Останки замученных жертв там использовали в качестве строительного материала. Я дотронулся до стены, все внимательно ощупал. И совсем забыл о том, что спичка продолжает гореть. Когда огонь обжег мои пальцы, я бросил ее на пол. А пальцы потом два дня болели.
Я понял, что дядя Кюхейлан не играет, а в самом деле верит, что между пальцами у него зажата папироса, – это было заметно по всем его движениям, по тому, например, как он, скручивая цигарку, стряхивает с одежды просыпавшиеся крошки табака, как дует на пальцы, когда догорает спичка. Я и сам любил играть с реальностью, но, представляя, как мы с Демиртаем гуляем по Стамбулу, я все равно помнил, что нахожусь в камере. Мой разум никогда не отпускал веревочки своей марионетки – воображения. К тому же мне никогда не доводилось играть в такие игры одному. Но дядя Кюхейлан ничего не воображал, для него все было реально. Он мог бы точно так же вести себя и в полном одиночестве, творить в тюремной тьме совсем иную жизнь. И о том, что эта камера и есть Стамбул, он говорил всерьез. Ему не было нужды выходить на волю, чтобы увидеть мир, – он переносил мир сюда. Эта камера была для него Стамбулом, и он не сомневался, что в воздухе вокруг висит табачный дым.
А дым все сгущался. Я помахал в воздухе рукой, чтобы разогнать его. Мне хотелось верить в реальность того, что я делаю, – так бывает, когда видишь приятный сон и не хочешь просыпаться. Ну совсем как в детстве. Когда я стал оглядываться, ища, обо что бы затушить окурок, Демиртай протянул в мою сторону руку:
– У нас же есть пепельница.
Некоторое время он держал воображаемую пепельницу на весу, а потом поставил на пол, нам под ноги. Я затушил свою самокрутку, потом Демиртай – свою.
– Демиртай, – удивленно произнес дядя Кюхейлан, – ты сейчас, достав пепельницу, кое-чему меня научил. Я столько дней мучился, отыскивая щели в стенах! Ты меня выручил.
Сказав это, дядя Кюхейлан замолчал и принялся с задумчивым видом поглаживать бороду. Потом повернулся ко мне:
– Доктор, а как в городе понять, что собака – это собака? Здесь ровняют с землей холмы и на их месте возводят огромные дома. Здесь луну и звезды заменяют уличные фонари. То есть человек переделывает природу до неузнаваемости, и как тут понять, насколько собака остается собакой?
– В городе все зависит от человека. Если ты знаешь, что такое человек, то и все остальное становится тебе понятно, – ответил я, хотя не был уверен в правоте своих слов. Я и сам задавался похожими вопросами и размышлял о том, какой ответ был бы самым правильным.
– Но насколько можно познать человека, Доктор? Смог ли ты до конца познать своих пациентов, чью плоть рассекал, чье сердце и печень видел собственными глазами? В детстве, когда отец с помощью теней на стене рассказывал нам о Стамбуле, он говорил, что люди здесь не более чем такие же тени. Человек оставил свой былой облик в прошлом и обрел в городе новый. Отец не видел в этом худа, ему это казалось удивительно интересным. Тени обладают особым очарованием, не поддаться ему невозможно. Порой отец рассказывал нам – в нашем-то бедном доме! – об экзотических фруктах; ему хотелось, чтобы мы их себе представили. Однажды, описывая апельсин, он показал нам тряпицу похожего цвета, а потом сделал вид, будто очищает кожуру, и рассказал, что такое дольки. Мы все подражали его движениям и угощались апельсинами. Городские люди воображают себе жизнь, а мы с удобством в воображаемой жизни устраивались. Когда у нас не было табака, мы все равно могли курить вдоволь. В чем тут причина – в бедности ли? Или в том, что мы ощущали иную грань бытия? Отец об этом ничего не говорил.
Вот и у больных я, врач, наблюдал подобный интерес к жизни, свойственный беднякам. У тех, кто ждал своей очереди в безнадежном, пропахшем лекарствами больничном коридоре. Многие из них потом умирали. Перед смертью их глаза, неспособные уже в полной мере видеть мир, выражали не упрек, а любопытство. Такую же жажду жизни я угадывал сейчас и в глазах дяди Кюхейлана.
– Человек – единственное существо, не довольствующееся тем, что собой представляет, Доктор. Птицы – просто птицы, выводят птенцов и летают. Деревья – просто деревья, зеленеют и дают плоды. Человек – совсем другое дело, он научился мечтать. Ему недостаточно того, что есть. Серьги из меди, дворцы из камня – все это результат интереса к невидимому. Город – страна мечты, говорил мой отец, город дарит безграничные возможности, и человек там не часть природы, а меняющий ее мастер. Он строит, создает, творит. И тем самым меняет самого себя – делая инструменты, придает и себе новую форму. Человек в своем естественном виде – простой кусок мрамора, а в городе он превратил себя в прекрасную статую. Поэтому былой свой облик он вспоминает с насмешкой. Насмешка эта в городе становится его священной верой, и всех, кто не таков, как он, городской человек презирает. Он неустанно работает, стремясь превратить почву в бетон, воду – в кровь, Луну – в свой второй дом. Он все меняет, и время начинает бежать быстрее, и чем быстрее оно бежит, тем необузданнее становятся человеческие желания. Вчерашнего дня для человека не существует, а день сегодняшний ему неясен. Что такое собака, любовь, смерть, он тоже представляет неотчетливо. На все он смотрит с интересом и сомнением. Мой отец привык к этому и, когда бывал в городе, походил на окружающих, а возвращаясь в деревню, всякий раз выглядел чужаком. В первые дни по возвращении он даже избегал нас обнимать – ждал, когда станет собой прежним.
Отец сравнивал это состояние с кессонной болезнью, которой страдают водолазы, опускающиеся на дно и потом поднимающиеся на поверхность. Только в эти дни он пил вино. Кстати, лучше всех умеют пить вино моряки, и они же самые неизлечимые мечтатели. Как-то, угодив за решетку, отец оказался в одной камере с бывшим моряком, и ночью соседу приснился кошмарный сон о том, будто его корабль тонет. Проснувшись в холодном поту, моряк рассказал отцу, что в темных глубинах моря живет огромный белый кит, насылающий на корабли бурю. Каждый моряк мечтает увидеть этого белого кита, погнаться за ним и загарпунить. В далеких морях плавал один капитан, которому – и больше никому, только ему одному – удалось отыскать белого кита. За многие годы до того капитан потерял ногу в схватке с этим морским чудовищем и с тех пор преследовал его, подгоняемый неукротимой жаждой мести. Когда они снова встретились, ярость белого кита схлестнулась с яростью капитана. Закончилась битва тем, что кит разбил огромный корабль на куски и все матросы вместе с капитаном пошли на дно. В живых остался только один матрос; он-то и поведал всем историю долгой погони и последней схватки средь неистовых волн. С того самого дня каждый моряк живет с мечтой увидеть белого кита и думает о нем даже чаще, чем о русалках. Отец показывал нам на стене тень кита, плавающего туда-сюда, и говорил, что стамбульских моряков тоже увлекала эта опасная мечта. Они бороздили северные и южные, западные и восточные моря, а потом, по прошествии многих месяцев, возвращались в укрытый туманом порт с пустыми руками, разбитые и печальные. Много их было, несчастных, которых свела с ума мечта о белом ките, просыпающихся среди ночи в холодном поту. Одним из них был и тот пожилой моряк, с которым отец сидел в одной камере. Это правдивая история, Доктор, и, как все другие истории, которые рассказывал мой отец, она заключала в себе тайну и очень мало кому была известна.
Дядя Кюхейлан замолчал, переводя дух, потом выпрямился, словно собрался сказать что-то важное, и повернулся ко мне:
– Историю о Бабуле, которую ты недавно рассказывал, я знаю. Ее я тоже слышал от отца. Он, помнится, посмеивался, когда говорил о том, как пожилая женщина поверила, будто овца – это собака, и как три шалопая устроили себе пир.
– Твой отец еще жив? – спросил я.
– Неужели я так молодо выгляжу? Нет, он давно умер.
Дядя Кюхейлан поднял руку и провел пальцами по стене, словно желая убедиться, что камера действительно существует. Возможно, он думал, что его отец много лет назад сидел именно здесь, и пытался найти на стене оставленный отцом след. Следы пребывания прежних заключенных, пусть и не его отца, на стенах камеры действительно присутствовали. Я тоже дотронулся до стены, медленно провел по ней рукой и сказал:
– Дядя Кюхейлан, ты знаешь историю про Бабулю, но ведь и я знаю твою историю про белого кита. Я сам мог бы ее тебе рассказать – и про капитана, сорок лет ходившего по океанам на китобойном судне, и про единственного матроса, спасшегося, когда это судно разбилось на куски.
– Про приключения моряков ты тоже знал?
Заметив, как удивили мои слова дядю Кюхейлана, в разговор вмешался Демиртай:
– И я знал.
Из коридора донесся легкий шорох. Демиртай дал нам знак молчать, припал к полу и заглянул в щель под дверью. Охранники, сидевшие в комнате у начала коридора, иногда выходили, пытаясь подловить разговаривающих заключенных. У каждого из них были свои привычные уловки: одни тихо подслушивали, надеясь узнать какой-нибудь секрет, другие распахивали двери и наказывали тех, кто говорил. Демиртай выпрямился:
– Все, ушел.
– Стало быть, вы знали про кита, – проговорил дядя Кюхейлан.
– Тут, в камере, мы рассказываем давно известные истории. Сначала мы с Демиртаем сидели здесь вдвоем, так что некоторые байки были рассказаны по два раза. Для тебя можем повторить их и в третий раз.
Студент Демиртай снова дал нам знак молчать. Послышался шорох шагов. В прорезь упала тень охранника и медленно уплыла прочь, шаги вскоре остановились. Охранник обходил камеры одну за другой и прислушивался. Мы переглянулись. Демиртай и я были привычны к таким проверкам. Порой нам подолгу приходилось сидеть молча. Если охранники разгуливали по коридору слишком часто или подолгу, мы старались заснуть, чтобы скоротать время, а потом слышали, как открывается дверь одной из камер и охранники кого-нибудь избивают. Их жертвы порой молили о пощаде или протестовали. Едва охранники возвращались в свою комнату, мы с Демиртаем представляли себе, как, оказавшись на свободе, отправляемся в дальнее странствие. Поднимаемся на борт проходящего через Босфор сухогруза под панамским флагом и выходим в Черное море. Мы стоим на палубе, встречая грудью влажный ветер, любуемся яростными волнами и парящими над головой чайками, а когда опускается ночь, уходим в каюту. Там в компании матроса с почерневшими от машинного масла руками мы смотрим телевизор. Мы всегда пересказывали друг другу содержание фильма и, если он был двухчасовым, растягивали историю на те же два часа. В каюте, такой же тесной, как наша камера, нас тоже донимал холод. Когда подкрадывался сон, мы ложились и грелись друг о друга.
О чем думал парикмахер Камо, когда просыпался и видел, как мы молча сидим, прислушиваясь к шагам охранника, и неподвижным взглядом смотрим в пустоту, словно старики в кофейне? Вряд ли о том, изменилось ли что-нибудь, пока он спал. Может быть, присутствие других людей давило на него невыносимой тяжестью и он спрашивал себя, почему обречен терпеть нас рядом с собой? Он не заговаривал с нами и не видел необходимости задавать вопросы – с безразличным видом снова опускал голову и погружался в сон. Правда, иногда перед этим не упускал случая рассердиться за какой-нибудь пустяк на Демиртая. Он постоянно пребывал в своем колодце, а мы были вовне. Он-то, по его словам, всегда отдавал себе отчет в том, кто он такой, а вот мы возгордились и теперь, попав сюда, должны встретиться с самими собой лицом к лицу. Мы слишком запачкались светом, вот отчего мы так глупы и растерянны. Мы – безнадежный случай. И Камо ничего не оставалось – только проклясть нас и предоставить самим себе.
В тот день, когда привели Камо, я был в камере один. Он держался настороже, словно кошка, которую заперли в одной конуре с собакой. Я спросил, не ранен ли он, но не дождался ответа. Я представился, но он, словно ничего не услышав, обрушил на меня град вопросов: «Кто ты такой? Сколько ты уже сидишь в этой камере? Зачем меня к тебе посадили?» Грязный, вонючий, голодный человек. Я предложил ему хлеба – он взял его после некоторых колебаний и, протягивая руку, внимательно смотрел мне в лицо. Мы были там, где люди знакомятся друг с другом поневоле. Я был старожилом, он – новичком. Он приготовился к чему угодно – и молча ждать час за часом, и наброситься на меня, чтобы задушить. Где он очутился: в трюме судна, которое идет неведомо куда, или на дне пропасти, откуда невозможно найти выход? Три стены, дверь, окровавленный человек – и больше ничего. Ему казалось, что стоит закрыть глаза и уснуть, как он проснется в совсем другом месте, все вокруг изменится. В его взгляде читалось любопытство, он пытался заново осознать себя. Снаружи донесся чей-то крик, Камо поднял голову. Чей вопль повторило эхо? Может быть, его собственный? Далеко ли стена, отразившая звук? Между верой в себя и отчаянием – тонкая грань. Боялся ли Камо, что на этой грани у него закружится голова?
Одно дело – понимать умом, что боль невозможно разделить, другое – почувствовать это собственным телом. Когда мы приходили в себя после невыносимых мук, нам казалось, что минуло много месяцев, даже лет. «Или это был миг, ничтожный, краткий миг?» Мысль о том, что мгновение и есть самая долгая мера времени, сводила нас с ума, ввергала в ужас. Боль не растягивала время, а углубляла. Парикмахер Камо, казалось, уже сталкивался с этим раньше. Приведенный в камеру, он выглядел растерянным, в мыслях его царил беспорядок. Он уже не раз бился о стену жизни, не раз падал. Подозрение стало для него способом уберечь себя, так что я не обижался на холод в его взгляде. Я дал ему хлеба и воды, поговорил с ним, пытаясь внушить, что не чужак для него, а такой же несчастный, оказавшийся на грани гибели. Парикмахер Камо провел рукой по пятнам крови на стене, вдохнул висящий в воздухе запах смерти и проговорил: «Нет для человека иного острова, кроме него самого». Что это было – безразличие? Отчаяние? У меня для таких случаев припасена фраза, врачующая любые раны. «Надежда лучше богатства, – сказал я. – Надежда лучше богатства». Он посмотрел на меня пустым взглядом. Точно так же я смотрел на стены в тот день, когда меня бросили в камеру. Стена и человек. Вот границы, за которые здесь не выйти.
Парикмахер Камо и дальше оставался таким же неспокойным и недружелюбным, каким был в первый день. Неведомые моря и глубокие пропасти стали для него прошлым еще до того, как он оказался в камере. Старые раны не давали ему покоя – отсюда и неуживчивость.
«Вот, стало быть, какова подземная изнанка Стамбула, – произнес он, глядя в потолок. – Я так и предполагал».
Что он предполагал? Он мог уехать из Стамбула – почему же так к нему привязан? Для знакомства с этим городом достаточно трех дней, а чтобы по-настоящему его узнать, мало будет и жизни трех поколений. Между знакомством и знанием – мощная крепостная стена. Чтобы преодолеть ее, нужно время. И с человеком точно так же. Темны глубины города, темны глубины человеческой души. Влажно там и холодно. Никому не хочется в эту темноту, где ты встретишься с собой лицом к лицу, – кроме парикмахера Камо. Его взгляд направлен внутрь себя. Созерцая собственную душу, он увидел глубины города. «Я так и предполагал». Некоторым людям не нужно иных учителей, кроме боли. Чтобы познать Стамбул, парикмахеру Камо не понадобилось ни трех дней, ни трех поколений. Хватило трех глубоких ран.
Что же до дяди Кюхейлана, то он попал в город, о котором мечтал, туда, где вместо знакомой ему природы, в которой он рос, возникли новая природа и новый человек. Он говорил голосом мечтательного поэта, неистового первооткрывателя или потерявшего разум влюбленного; реальность, которую он никогда не видел, была для него важнее реальности собственного бытия. Поэтому для него, пожалуй, подземелье обернулось благом: попади он наверх, мог бы испытать разочарование. Город, ставший праздником для глаз и живота, обителью наслаждения, избыл много бед и несчастий, но лишился и чарующей атмосферы старинных преданий. На смену энергии и творческому пылу первых поколений пришел ненасытный аппетит. Людей, искусство, собак – всё любят с аппетитом, словно заблудившиеся в лесу дети, которые готовы от голода съесть что угодно, но ничем не насыщаются. Рассказать об этом дяде Кюхейлану я не мог. В тюрьме важно вовремя замолчать. Нельзя было говорить, что красота, которой в городе действительно много, быстро оскудевает и что многие молодые люди, стремящиеся найти город своей мечты, ищут тщетно и впустую.
В детстве я искал стамбульскую жизнь на улицах, а потом сначала улицы, а после и площади были захвачены стремительно умножившимися машинами и огромными зданиями, и место улиц и площадей в нашей жизни внезапно умалилось. А может быть, это началось давно, просто я не сразу заметил. Я рос, становился с каждым годом выше, вместе со мной росли здания, и в конце концов многоэтажные дома обступили нас со всех сторон. Улицы сделались чище, на них больше нет лачуг. Может быть, та жизнь, что шла на этих улицах до появления многоэтажных домов, просто устарела? Раньше город тоже расширялся неудержимо во все стороны, дома росли ввысь, этаж за этажом, но все-таки не заслоняли небо. Дома не должны быть помехой для взгляда, обращенного к небу; вот предел их роста, чувствовал я в детстве. На любой улице я мог поднять голову и увидеть небесную синеву. В те времена силуэт города напоминал гряду невысоких холмов, волнами уходящих вдаль. Купола и башни перемежались широкими площадями, и гигантские тени не могли покорить ни одну из них.
Две недели назад, отправившись на улицу Лалели, где прошло мое детство, чтобы заглянуть в библиотеку Рагип-паши[11], я обратил внимание на то, что библиотека уже не выглядит сколько-нибудь заметным строением. Раньше она смотрелась украшением улицы, бриллиантом чистой воды, а теперь словно сжалась, скукожилась за толпой пешеходов, рекламными щитами и машинами. Тротуар стал гораздо выше, чем был когда-то, и главный вход в библиотеку теперь находится на метр ниже уровня улицы. Люди проходили мимо, не повернув головы: им было неинтересно, что находится за этой дверью. Едва войдя во двор библиотеки, я почувствовал, что оставил позади уличную суету. Мне показалось, что я попал в какой-то древний город. Мраморные плиты, которыми двор вымостили несколько столетий назад, резные камни, бронзовые украшения принадлежали давно забытой эпохе. Птицы лениво поводили крыльями, с розовых кустов, готовящихся к зиме, опадали листья. С любопытством глядя по сторонам, я подумал о том, что у человека есть право на спокойную, тихую жизнь и его жилище способно давать ему такую возможность. Время в прохладном воздухе библиотеки текло само по себе, никак не завися от течения времени в городе. Здесь оно не двигалось ни вперед, ни назад, а словно бы вращалось на месте, захваченное каким-то сильным источником притяжения. Я размышлял над вопросами, которые прежде не приходили мне в голову. Как могло получиться, что мир этого двора настолько отличен от внешнего мира, находящегося отсюда буквально в двух шагах? Как, пройдя через одну-единственную дверь, мы попадаем из одного времени в совершенно другое, словно из огня – в воду? И ведь два этих разных мира существуют один в другом, и при желании можно из одного заглянуть в другой, напрячь слух и услышать, что там происходит.
В библиотеке мне предстояло встретиться с одной девушкой, так что я пересек двор, поднялся по ступенькам и вошел в читальный зал. Потолок в читальном зале представлял собой небольшой купол, опирающийся на четыре колонны, – я хорошо его помнил. Стены облицованы бело-голубыми изразцами. Я обвел взглядом деревянные шкафы с книгами и рукописями. В школьные годы, занимаясь здесь, я, бывало, поднимал голову и начинал рассматривать эти шкафы и стены, теряя счет времени. Моего лба коснулось прохладное дуновение, и я, вспомнив, зачем сюда пришел, перевел взгляд на столы. Все они, за исключением одного, были заняты юношами и девушками, корпящими над домашним заданием. Я не знал, как выглядит та девушка, с которой мне нужно встретиться. Условным знаком должен был послужить учебник анатомии в ее руках. Несколько человек посмотрели в мою сторону и вернулись к своим делам. Я медленно прошел вдоль столов, поглядывая на книги, но нужную мне девушку не нашел. Взглянул на коричневые деревянные часы на стене. От моих они ушли вперед на десять минут. Часы показывали неверное время или я опоздал на встречу? Я было заволновался, но потом вспомнил, что эти настенные часы еще тогда, в детстве, все время спешили на десять минут.
Я снова вышел во двор.
Глядя на это пространство, отделяющее библиотеку от такой близкой улицы, я подумал о босфорских течениях. На поверхности во́ды пролива текут с севера на юг, а на глубине – в противоположную сторону. Стамбул в этом смысле похож на Босфор. Две различным образом устроенные жизни существуют здесь рядом друг с другом и одновременно – в разных эпохах, доказывая, что пространство может господствовать над временем, а время способно течь в разные стороны. Архитекторы научились играть со временем раньше, чем физики. Они словно бы прокладывают в пространстве туннель, пропускают через него время и переносят людей из одной эпохи в другую. Время этой маленькой библиотеки, вокруг которой бурлил людской поток, стремилось в другую сторону, словно невидимое течение на дне Босфора, и благодаря этому здесь, в городских глубинах, шла своя, безмятежная и неторопливая жизнь.
Все девушки вокруг были одинаково одеты и причесаны. Мне и раньше казалось, что все молодые люди похожи друг на друга, а в тот день – особенно. Старею, что ли? Вполне может быть, у меня уже и волосы начали седеть. Остановившись у двери, я оглядывал двор. Никого с учебником анатомии там не было. Может быть, я просто не замечаю эту девушку, а она здесь, затерялась среди сверстниц? Может быть, она меня увидит и узнает? Моим опознавательным знаком тоже была книга – «Морской волк» Джека Лондона. Я вытащил ее из кармана и взял в руки так, чтобы было видно название. На меня посмотрело несколько подростков. Должно быть, подумали: что здесь забыл этот человек, по возрасту годящийся им в отцы? Я вернулся в читальный зал и пошел мимо столов, держа перед собой книгу и заглядывая в глаза девушкам. Они тоже смотрели на меня. И вдруг все разом вскочили на ноги и выхватили пистолеты, крича: «Не двигаться! А то пристрелим!» Со двора в читальный зал вбежало несколько человек, один из них приставил пистолет к моей голове. «Это ты – Доктор? Ты?» Я ничего не ответил, и тогда кто-то сзади ударил меня кулаком по голове. Я упал. «Морской волк» выпал из моих рук, отлетел в сторону. У меня звенело в ушах. Перед глазами все плыло.
Я ощутил, как время внезапно остановилось, словно разбитые часы, однако, отконвоированный со двора, был тут же приведен в чувство обрушившимся отовсюду стамбульским уличным шумом. Полицейские окружали меня со всех сторон. На тротуаре собралась большая толпа, с интересом наблюдавшая за происходящим. Гадали, кто я такой: убийца, вор, насильник? Толкали друг друга, пытаясь получше меня рассмотреть. Пока агенты в штатском быстро вели меня к машине, я смотрел в людские лица. В одном ли времени мы с ними жили? Дядя Кюхейлан был прав, когда говорил, что человек, строя город, создает одновременно и самого себя, но если бы он увидел лица тех, кто сбежался поглазеть на мой арест, то, подумав, спросил бы: до чего довело этих людей городское время?
Послышался скрип железной двери. Я стряхнул с себя воспоминания и вернулся в камеру.
– Может быть, это Зине назад привели? – предположил дядя Кюхейлан.
Железная дверь продолжала скрипеть, медленно поворачиваясь на петлях, а мы гадали, какую камеру выберут следователи, кого уведут с собой. Камер здесь было очень много. Говорят, на войне каждый солдат верит, что уж его-то смерть непременно пощадит, и в этом мы ничем от них не отличались. Каждый из нас размышлял об одном и том же: скоро кого-то уведут за железную дверь, но кого? Спасение от подобных мыслей есть только одно: надо думать о чем-то хорошем. Вдруг просто наступило утро и принесли еду, хлеб с сыром?
Парикмахер Камо поднял голову и посмотрел на прорезь.
– Пусть наконец уже придут за мной, – проворчал он.
– Это, наверное, пайку принесли, – откликнулся я. – Сильно проголодался?
Камо не ответил и никак не отреагировал на мою улыбку. Он смотрел на свет, просачивающийся в прорезь.
– Удалось тебе поспать? – продолжал я. – Мы тут много говорили.
– Ваши разговоры мне не мешали, а вот собачий лай то и дело будил.
– Собачий лай?
– А вы разве не слышали?
– Нет. Откуда здесь взяться собаке?
– Вы, должно быть, увлеклись разговором, вот и не заметили. Лай доносился издалека, из-за тюремных стен.
– Тебе приснилось.
– Я могу отличить сон от реальности, Доктор. Каждый раз, услышав лай, я приоткрывал глаза, чтобы убедиться, что я все еще здесь. Лай был так же реален, как эта камера.
Дядя Кюхейлан положил руку на плечо Камо:
– Ты прав. Наверное, собака лаяла очень далеко, мы просто не обратили внимания.
Камо покосился на руку у себя на плече, потом взглянул дяде Кюхейлану в лицо:
– Похоже, это была белая собака. Лай резкий такой.
Дядя Кюхейлан убрал руку.
Из коридора послышались голоса, и мы все повернулись к двери.
– Я заберу вот этих, – сказал один из говоривших, очевидно показывая бумагу с именами заключенных.
– Они все в одной камере, – ответил охранник.
– В которой?
– Сороковой.
Мы переглянулись. Сунули руки под мышки, чтобы немного согреть их напоследок, и стали молча ждать.
Шаги загрохотали по бетонному полу, словно камни. Сколько человек шло по коридору, понять не удавалось, но их точно было больше обычного. Коридор все не кончался, голоса следователей эхом отдавались от стен и звенели в наших ушах. Мы надеялись, что они пройдут мимо, но нет, они остановились у нашей камеры. Лязгнул железный засов, и серая дверь отворилась. Камеру залило светом.
Парикмахер Камо первым встал на ноги.
Но охранник оттолкнул его.
– Стой на месте, дубина! – рявкнул он. – А остальные пусть выйдут.
Третий день Рассказывает парикмахер Камо Стена
– Далеко в горах, укрытых облаками, была деревня – каменные дома да дворы без деревьев, посмотришь издалека – подумаешь, что это и не деревня вовсе, а россыпь валунов. Однажды под вечер в ту деревню пришел странник в черной хырке[12], с длинным посохом в руке. Поздоровался со стенами, потом с собаками, а потом и со стариками, что сидели у стены дома. На вопрос, кто он и как его зовут, странник ответил: «Я – пророк». Жители деревни предлагали ему ночлег, однако он вежливо отказался. Но люди видели, что босые ноги странника, израненные от долгого пути, оставляют кровавые следы на земле, и принялись настаивать, предлагая ему пищу и кров. Странник же принял только воду и мягким голосом сказал, что станет гостем лишь тому, кто узрит в нем пророка. Дети глядели на него во все глаза, а старики смеялись. Странник переночевал под открытым небом. Наутро он снова объявил себя пророком, а крестьянам, пожелавшим в доказательство чуда, ответил так: «Слово, идущее от сердца, – вот самое великое чудо! Не взыскуйте иных чудес, верьте слову!» Но никто ему не поверил, и следующую ночь странник тоже провел на улице. Выпил воды, устроился под стеной вместе с собаками, да и уснул. На следующее утро, когда он снова повел все те же речи, над ним стали смеяться уже и дети. Странник же был спокоен. «Если эта стена заговорит, – сказал он, – то вы, не верящие мне, поверите ли ей?» – «Поверим!» – отвечали все в один голос. Тогда босой странник в черной хырке и заплатанных штанах повернулся к стене и воззвал: «Эй, стена! Скажи им, и малым, и старым, что я – пророк!» Крестьяне, хоть и не верили ему, смолкли и стали ждать. И стена заговорила. «Ложь! – объявила она. – Этот человек не пророк!»
Сколько времени прошло с тех пор, как следователи увели Доктора, студента и дядю Кюхейлана? Оставшись в одиночестве, я заговорил со стенами. Глядя на ту, что была напротив меня, рассказывал ей истории и сам над ними смеялся. Одному в камере гораздо лучше. Не нужно терпеть присутствие других людей, страдать от их глупости. Я знаю, каковы люди. Они жаждут истины, но не понимают ее. После стольких усилий, жертв и молитв во что они поверят: в чудо говорящей стены или в то, что от этой стены услышали? «Ложь! Этот человек не пророк!» Разве не ложь истинная суть человека?
Если бы здесь были Доктор со студентом, они сказали бы: «Мы и эту историю знаем. Мы тут рассказываем известные истории, делимся тем, что есть». А как же иначе? Хоть одна нерассказанная история, хоть одно непроизнесенное слово разве остались на свете? Как-то весенним днем, когда вдруг хлынул ливень и лил, не прекращаясь, час за часом, так что никому не хотелось и носа высунуть на улицу, посетитель моей парикмахерской произнес эту фразу, а я потом рассказал ему историю о страннике. Больше всех смеялся над растерянностью крестьян из горной деревушки архитектор Адаза – аж чай пролил себе на галстук и, увидев в зеркале, как теперь выглядит, рассмеялся пуще прежнего. Вот только не знал он, что не сможет уснуть в эту ночь. Еще посмеиваясь, он вышел из парикмахерской, а на следующее утро прибежал назад невыспавшийся, с красными, воспаленными глазами.
– Камо, скажи мне правду. Я до самого утра не мог успокоиться, все думал об этом. Скажи, был тот странник пророком или нет?
Я успокоил его, усадил на стул перед зеркалом в голубой раме, заказал в соседней чайной два стакана чаю.
– Адаза, – сказал я архитектору, – раз ты просишь у меня ответа, значит поверишь мне, что бы я ни сказал?
– Да, поверю.
Принесли чай. Я сделал глоток, архитектор смотрел на меня и ждал.
– А если скажу, что я – пророк, ты тоже мне поверишь, Адаза?
Он не ответил. Я протянул ему сигарету, потом закурил сам.
– Стало быть, ты не веришь, что я – пророк, – продолжил я. – Ну а если эта стена заговорит, стене ты поверишь?
Адаза уставился на стену. Внимательно изучил Девичью башню, пароход, чаек. Долго разглядывал стоящие под картиной горшок с базиликом и маленький радиоприемник. Потом перевел взгляд на флаг и постер над зеркалом и застыл, будто завороженный невинной улыбкой девушки (мои клиенты всегда заглядывались на ее ноги, упуская из виду лицо), так, словно опоздал на свидание и оттого потерял ее, но хранит о ней незабываемые воспоминания. А если бы не опоздал? Жил бы с ней счастливо где-нибудь далеко-далеко отсюда? Наконец взгляд архитектора Адазы опустился от постера к зеркалу, где он увидел собственное лицо.
– Ложь! – сказал он, глядя на свое отражение. Помолчал немного. Затем затянулся сигаретой и выдохнул дым прямо в зеркало. Когда отражение скрылось в дыму, он повторил: – Ложь! – и по щеке его скатилась слеза. Не говоря более ни слова, он встал и вышел в открытую дверь.
Больше он ко мне не заходил, и я подумал, что он нашел себе нового парикмахера. Его жена была близкой подругой моей. Однажды она пришла к нам и рассказала, что Адаза ушел из дому и пропал без вести. После этого заболела одна из их дочерей. Жена Адазы попросила меня найти пропавшего мужа и привести его домой. Махизер поддержала ее просьбу, и я отправился на поиски. Обошел все места, где собираются архитекторы, обшарил бары Бейоглу, просмотрел новости о происшествиях на третьих страницах газет и в конце концов узнал, что Адаза прибился к бездомным, обитающим близ крепостной стены[13]. Тогда я начал обыскивать подземные туннели и тайные проходы, что тянутся кротовьими норами от мыса Сарайбурну до Кумкапы, да расспрашивать нюхающих клей уличных мальчишек и дешевых проституток, и вот однажды ночью я нашел его в Джанкуртаране, у костра, разведенного под стеной с той ее стороны, где проходит железная дорога. Вокруг костра собралась дюжина бездомных нищих. Они передавали друг другу бутылку с вином, а один из них пел заунывную, с надрывом песню: «Как тебе не стыдно, подлая судьба!» Я встал за деревом и некоторое время наблюдал за ними, не подходя ближе. «Дни мои чернее ночи…» – выводил певец, когда по железной дороге загрохотал поезд. Земля под ногами задрожала, среди деревьев мелькнул желтый луч и исчез. Когда шум поезда затих вдали, смолкла и песня. «Эй, Странник, – подал голос кто-то из нищих, – поговори с нами, как вчера говорил. Расскажи что-нибудь новое».
Странник этот был не кем иным, как архитектором Адазой. Когда он поднялся на ноги, я увидел на нем черную хырку, а в руке он держал длинный посох. И еще он был бос, как скиталец из притчи про стену. Держал он себя так, словно намеревался обратиться с речью к самому изысканному обществу. Обвел взглядом присутствующих и заговорил:
– Нам солгали. Человек, первым нашедший применение огню, что горит сейчас перед нами, не дал ему имени. Имя дали пришедшие позже и заявили, что человечество, мол, открыло огонь. Сущее существует, как его можно открыть? Нам не сказали, что первый человек не открыл огонь, а создал его. Пока огонь сам собой возгорался и сам собой гас, он был ничто. Однажды человек поджарил на огне добытое на охоте мясо, согрел им свою пещеру. И это было не открытие, а сотворение. От нас скрыли истину.
– Да здравствует Странник!
– Молодец, Странник! Мы ничего не поняли, но ты давай говори.
– Да выпей вина, а то в горле пересохнет.
Архитектор Адаза был пьян, но хорошо помнил то, что услышал когда-то от меня. Сейчас он повторял слова, сказанные мной однажды в парикмахерской, просто чтобы время тянулось не так медленно, пока я стриг его.
– Мы – жертвы города, – продолжал Адаза. – Мы бедны или несчастны, а чаще всего – и то и другое. Нас учили не терять надежды. Надежда – причина того, что мы миримся со злом. Но если сегодняшний день нам не принадлежит, где гарантия того, что нашим будет день завтрашний? Надежда – ложь, придуманная проповедниками, политиками, богачами. Они обманывают нас, скрывают от нас истину!
Эти слова вызвали у пьяных нищих еще больший восторг:
– Будь проклята надежда! Да здравствует вино!
– Правду говоришь!
– Надежда – опиум!
Адаза перебил эти возгласы вопросом:
– Братья, как по-вашему, этот город мертв или жив?
Я подумал, что он сейчас вспоминает свои университетские годы: говорил он так, словно обращался к революционно настроенным студентам, выкладывал годами копившиеся заветные мысли. Он тосковал по тому времени, когда примыкал к молодым бунтарям, и жалел, что отдалился от них из страха перед полицией. Однажды, выпив лишнего, он рассказал мне об этом и прибавил: «Ты можешь считать, что избавился от прошлого, но прошлое никогда тебя не оставит».
Бродяги загомонили все разом:
– Этот город одновременно и мертв, и жив!
– Тому, кто скажет, что он жив, я бутылку о башку разобью!
– Мертв, мертв!
Адаза разволновался. Снова заговорив, он то и дело привставал на носки:
– Мои бездомные братья! Отверженные и униженные! – Его голос звучал все громче. – Этот город создали не мы, оказались мы в нем не по своей воле. И убили его не мы. Выхода нет, корабли сожгли до нас. Кто сотворит новый город, как некогда первый человек сотворил огонь? Кто вдохнет в него душу?
– Говори, Странник, говори!
– Расскажи нам еще и про полнолуние!
– И про звезды!
Тут они все задрали головы. Я тоже отошел на два шага от своего дерева и глянул в небо. Небесная бездна была бесконечна – только у бездомных и пьяных нашлось бы время, чтобы нырнуть в нее. Здесь, вдали от городских огней, небо просто кишело яркими звездами, на которые горожане – разные там стоматологи, пекари, домохозяйки – никогда не смотрят. Звезды словно собрались в кучу над крепостной стеной и подрагивали в пустоте, каждый миг готовые посыпаться на землю.
– Ночь длинна!
– Нужно еще выпить.
– Странник, почитай нам стихи про звезды!
Стихи? Нет, на этот раз я не собирался слушать его скверные вирши. Я медленно подошел к собравшимся вокруг костра.
Увидев меня, архитектор Адаза на миг замер, а потом приложился к бутылке и сделал большой глоток, словно узнал разгадку давно мучившей его тайны и после долгих, впустую потраченных лет нашел свое счастье. Потом рассмеялся.
– Вот, – воскликнул он, – тот самый парикмахер Камо, о котором я вам рассказывал!
Все взгляды устремились на меня. Вблизи уродство бездомных стало еще очевиднее, шрамы на лицах – заметнее. Расплодились по всему Стамбулу, словно крысы на помойке, и пригрели у себя архитектора Адазу. А тот доволен и так пьян, что рот перекосило. Однажды в такой же с виду счастливый вечер, когда в Стамбуле тоже рано стемнело, мы с Адазой пошли в мейхане. После двух стаканов ракы он заявил, что хочет почитать свои новые стихи, встал на стул и громким голосом, так, чтобы все вокруг слышали, принялся декламировать. Это было невыносимо. От плохих стихов у меня болит сердце. Сейчас, стоя под стеной у костра, архитектор Адаза держал в одной руке бутылку с вином, а другой опирался на свой длинный посох, только потому и не падал.
– Камо, – сказал он, – в той истории странник не лгал, а указывал на ложь. Так ведь? Слово – единственный способ добраться до истины, вот что он пытался объяснить людям.
– Господин архитектор, – ответил я, – Адаза, тебе пора вернуться домой.
Пьянчуги вокруг костра вздрогнули и замерли, косясь то друг на друга, то на Адазу. А тот настаивал на своем:
– Камо, мы ищем истину, явленную в те времена, когда первый человек не назвал огонь огнем. Что может нам помочь, кроме стихов? Поэты способны достичь не только другого берега реальности, но и другого берега мечты и приблизиться к тому времени, когда еще не было огня. В университете нас этому не учили, не говорили, что нужно читать стихи. Лгали нам каждый день.
Вместо того чтобы вернуться домой, к семье, архитектор Адаза упивался словами, которые забудет через несколько минут. У него была любящая жена и две красавицы-дочки. Дуракам везет, но они этого не ценят. Что же ему еще нужно? В его руках счастье, за которое любой нормальный человек жизнь отдаст, чего же еще он ищет?
Пьянчуги, глядя на меня, гадали, что я буду делать. Грязные, отвратительные, тощие. Ни одного в приличной одежде или хотя бы нормально постриженного. И архитектор Адаза ничем не лучше. Этот ли субъект регулярно являлся в мою парикмахерскую и избегал класть ногу на ногу, чтобы не помять брюки, отутюженные его супругой?
– Камо, – продолжал он, – помнишь, ты говорил, что человек, всей душой отдавшись какому-либо убеждению, превращается в шайтана? Видишь, теперь и я стал таким.
Да, это так: если для человека главным становится какое-то убеждение, он превращается в шайтана. Начинает презирать других людей. Все, что есть важного в жизни, – в его руках, он считает себя источником блага. Зло, по его мнению, исходит от других, но только не от него. Иногда я испытывал своих клиентов этими словами. Они охотно со мной соглашались или начинали спорить между собой, а я тем временем менял точку зрения и утверждал прямо противоположное тому, что говорил раньше. Так я определял, кто из моих собеседников крепко держится за свои мнения, а кто – нет.
– Разве я так говорил? Не припоминаю, – ответил я Адазе.
– Вы не смотрите, что Камо парикмахер. Он учился в университете. Знаний у него больше, чем у профессора, и он лучше всех понимает мои стихи.
И почему его не сбила машина, когда он пьяным шатался по улицам? Его жена, погоревав какое-то время, начала бы новую жизнь, нашла бы для своих дочерей отца получше. Такие люди неисправимы, их глупость неискоренима, где бы они ни оказались, я это понял еще в детстве. Говори им что угодно – они все равно будут упорствовать в своих заблуждениях и готовы хитрить ради этого. Будут хвалить вас и рассыпаться в любезностях, чтобы ваш авторитет возвысил их скверные стихи. Окончив университет, начинают строить города; оказавшись у власти, принимаются говорить о справедливости. И хотят, чтобы вы жили так, как измыслят они своим жалким умишком.
Я взял бутылку, протянутую мне архитектором Адазой, и сел к костру между двумя бродягами, которые подвинулись, чтобы дать мне место. Посмотрел по сторонам, обвел взглядом все лица. Собравшиеся выглядели такими радостными, будто спаслись после кораблекрушения, – и такими же обессиленными. Прошлого у них не было, вино помогало им жить в настоящем; они верили в огонь, крепостные стены и звезды.
Адаза сел рядом со мной, отложил в сторону свой посох и стал смотреть на языки пламени и искры, что рождались желтыми, становились голубыми и вмиг исчезали. В его глазах показались слезы. Если он и походил на спасшегося после кораблекрушения, то на того, кто не рад спасению и готов вернуться во тьму, похоронить себя в море. В этом мире у него не осталось ни соломинки, за которую можно ухватиться, ни сокровищ, которые стоило бы искать. Сохранись у него хоть какие-то силы или подтолкни его кто-нибудь легонько в спину, он сделал бы последний шаг, упал в морскую бездну и остался бы лежать на дне, глубоко под синими волнами.
Заметив, что Адаза, кажется, замолчал надолго, бродяги загомонили:
– А стихи? Ты обещал стихи!
Но архитектор не отвечал, и тогда один из них, подняв в воздух руку с зажатой в ней бутылкой, заявил:
– Я могу стихи почитать.
Он был слеп на один глаз, но другой ярко блестел в отсветах пламени.
– Валяй! – сказали ему.
– И чтобы там было про женщин.
– И про звезды!
Одноглазый отхлебнул еще вина и произнес:
Я не ведал, что такое счастье, Пока не познал вкус твоих алых губ.Потом замолчал и уставился на собутыльников, желая убедиться, что они его слушают. Издалека послышался собачий лай. Одноглазый продолжил читать стихи:
Солнце играло в твоих волосах, И к небу взлетала счастливая песня. Ты окунала в ручей свои нежные ноги, И они серебрились в воде, словно рыбки. День пришел и ушел. Заплела свои волосы И с перелетными птицами Покинула наши края, Оставив открытой дверь ночи, Меня оставив на берегу. Я не ведал, что такое счастье, Пока не познал вкус твоих алых губ.– И все?
– Про женщину там разве было?
– А про звезды?
– Да что вы понимаете в поэзии!
Собачий лай стал громче, и все посмотрели в ту сторону, откуда он приближался. Среди развалин крепостной стены показалось несколько собак. Одна из них, белая, держалась позади. При свете полной луны тени животных сплетались друг с другом. Подойдя поближе, собаки стали тыкаться носами в руки пьянчужек, обнюхивать все вокруг и вскоре нашли кости, которые бездомные для них оставили. Белая собака ждала поодаль.
Одноглазый не обратил на собак внимания. Он приложился к бутылке, потом встал.
– Пойду отолью, а после еще вам стихи почитаю.
Никто ему не ответил.
Я тоже отхлебнул вина, встал и пошел за одноглазым. Крепостная стена, осиянная лунным светом, уходила вдаль, казалась бесконечной. В этой части города ничего не было, кроме стены, звезд и костра. Небо становилось все шире. Один из пьянчуг высоким, резким голосом затянул песню:
Солнце вечернее с неба печально спускалось. Ты, мое счастье, навеки со мной распрощалась…Подойдя к нише в стене, одноглазый остановился, покачиваясь и пытаясь расстегнуть ширинку. Я подскочил к нему, толкнул в нишу и зажал рот. Выхватил свой стальной нож, взмахнул им в воздухе и приставил к горлу одноглазого. Тот не мог понять, что происходит. Вылезший из орбит глаз блестел в лунном свете. Выражение лица было скорее изумленным, чем испуганным. Наяву это с ним стряслось или во сне? Он силился вспомнить, кто я, потом – где мы находимся и, наконец, кто такой он сам. Если бы издалека не доносилась песня, он мог бы подумать, что давно умер, а теперь вдруг очнулся на кладбище. Он и так был невелик ростом, а тут, придавленный моим весом и прижатый к стене, совсем съежился. Я еще раз взмахнул ножом:
– Не вздумай кричать! Я хочу кое-что спросить у тебя.
Я немного отодвинулся от одноглазого, разжал руку, которой держал его за горло, а нож поднял повыше, к его глазу.
– Пожалуйста, не убивай меня, я отдам тебе, что наворовал! – прошептал он. Пахло от него вином и чем-то затхлым. Я слышал, как бьется его сердце.
– Я хочу у тебя кое-что спросить. Ты должен сказать мне правду.
Он кивнул:
– Клянусь, не солгу!
Я не спросил его, почему он все еще цепляется за жизнь, почему не вырыл себе в какой-нибудь мусорной куче могилу и не сгинул в ней со своим единственным глазом и затхлым запахом. Вместо этого я проговорил:
– От кого ты услышал стихи, которые недавно прочел?
Его глаз блеснул и погас.
– Я сделал что-то, чего не должен был делать? – спросил он, запинаясь.
– Ты не должен был рождаться на свет. Отвечай: от кого услышал стихи?
Этот простой вопрос требовал простого ответа, но из-за маячившего перед единственным глазом острия мысли его совсем смешались.
– Это стихи учителя, который преподавал нам в начальной школе, – пробормотал он.
Вот и вся тайна его жизни. Он сказал все, что мне нужно было знать.
– Где ты учился, в деревне Карапынар?
Лицо одноглазого просветлело:
– Да, я из Карапынара. Наш учитель приехал из Стамбула…
Я не позволил ему договорить. Схватил за горло и прижал к стене:
– Не говори о нем ни слова, не оскверняй его имя своим поганым ртом! Не об учителе говори, а о своей деревне.
Одноглазый прикоснулся слабыми пальцами к моему запястью и умоляюще посмотрел на меня. Что за беда с ним приключилась, что он сделал не так? На лбу выступил пот, из угла рта стекала струйка слюны. Он уже почти не мог дышать, когда я ослабил хватку и отпустил его шею. И сам заговорил вместо него:
– До деревни вашей надо добираться трудной дорогой через горы, над которыми всегда висят облака. Деревья у вас не растут, вы разводите скот. Дома строите из черного камня. Называется деревня Карапынар[14], но источника там нет, воду вы берете из колодцев.
Я схватил одноглазого за подбородок, задрал его голову вверх и продолжал говорить, глядя ему в лицо:
– Стены ваших домов заслуживают доверия куда больше, чем вы. Каменная стена – что при свете дня, что в темноте – одна и та же и стоит на своем месте не меньше ста лет. Вы же днем улыбаетесь человеку в лицо, а ночью вешаете ему на дверь отрубленную куриную ногу. Своих изъянов вы не видите, просить прощения не умеете. Насилуете родственниц, а потом их убиваете, чтобы на семью не лег позор. Имя Аллаха не сходит с ваших уст. Вы отлично умеете плакать и причитать. Слушая похоронные плачи, пытаетесь представить себе былые времена. Пусть хоть весь мир сгорит – вам и дела нет, лишь бы ваш дом устоял. Вы убеждены, что все зло приходит извне. Источник зла – соседи или явившиеся в деревню чужаки. А что в вашем собственном сердце свилась клубком змея, не замечаете.
– Правду ты говоришь, – произнес одноглазый безжизненным голосом. – Смотри, что они со мной сделали. Выбили мне глаз и выгнали из деревни.
– Молчи, я не хочу ничего о тебе знать. У тебя своей истории нет, история у вас общая, и ты – лишь ее часть.
Одноглазый пошарил рукой под лохмотьями и достал из потайного кармана деньги:
– Возьми! Я каждый день буду приносить тебе еще!
Я взмахнул ножом, из протянутой руки брызнула кровь, деньги упали на землю. Одноглазый тихонько ахнул и отдернул руку.
– Вы трусливы, хитры, а когда выпадает случай – жестоки. И учителя своего сжили со свету. Рано утром, когда вы еще спали, он вставал, разжигал огонь в печи, чтобы согреть единственный класс школы. Чертил мелом рисунки на доске. Рассказывал вам о горах, непохожих на ваши, и о зверях, о которых вы никогда не слышали. Но вам было плевать, круглая Земля или плоская, океаны занимают на ней больше места или суша. А он собирал вас по вечерам на школьном дворе, показывал Млечный Путь, Полярную звезду. Когда же вы расходились по домам, оставив улицы собакам, он в своей маленькой комнатке при тусклом свете писал стихи, которые позже вам прочитает, – и не замечал черных теней, скользящих под его окном. Понадобилось время, чтобы он понял, что вы за люди, какую жизнь ведете за своими крепко-накрепко запертыми дверями. Каждый дом, каждый человек – темная пещера. Ему пришлось в этом убедиться. И потому его последние стихи полны разочарования. Деревня ваша называется Карапынар, но это ложь, источника в ней нет – и ваш внешний облик столь же лжив. Учитель не смог вынести этой лжи.
Бродяга смотрел на меня так, словно у него сейчас выпадет и последний глаз, кусал губы. Потом схватил за руку, заплакал. Ни дать ни взять крыса, попавшая в ловушку. Кто знает, когда он в последний раз так всхлипывал? Но думал он не о своих грехах, а о ноже в моей руке. Я оттолкнул его к стене и схватил за ворот:
– Кончай рыдать, а то глотку перережу. Поздно. Вы всегда опаздываете. Много лет назад надо было плакать и просить у учителя прощения. Что плохого он вам сделал, кроме того, что открыл правду сидящим у стены старикам? От его слов вы теряли сон, просыпались посреди ночи в холодном поту. Подходили в темноте к дверям и смотрели куда-то в дальние дали. Потом курили до самого утра. Вам не хотелось знать правду. Жить во лжи и во зле, со змеей в сердце и не признавать этого было так замечательно. Вы не только учителя предали, но даже и горы, в которых живете!
– Кто ты? – боязливо спросил одноглазый. – Ты из нашей деревни?
Я не на шутку разозлился:
– Не важно, кто я, важно, кто ты такой, кто вы такие. Почему вам ни разу не пришло в голову посмотреть на самих себя? Учитель покинул Стамбул, бежал от городской грязи в вашу деревню, чтобы не лишиться рассудка. Стамбул распух, словно гниющий труп, и люди уподобились заводящимся в падали паразитам. Нужно было бежать от этого кошмара, найти убежище в деревне. Переводить по ночам французских поэтов и обрести новое вдохновение для собственных стихов. Но чем деревенские жители отличаются от городских? Разве человек повсюду не один и тот же? Учитель слишком поздно понял, что из одного кошмара попал в другой. Город лжив, но лжива и деревня, и теперь он оказался окружен ложью со всех сторон. Все прогнило, не осталось в мире места, где можно было бы найти убежище.
Я наклонился к одноглазому, ощутил запах его сальных волос, дотронулся пальцем до грязного лба.
– Вот такой, как оказалось, была цена его надежде, – сказал я, показывая бродяге грязь, оставшуюся на пальце. – Этот учитель был мой отец. В своем последнем стихотворении он проклял людей. В ту ночь, когда было написано это стихотворение, он вышел на улицу и поднял голову к небу. Млечный Путь протянулся от одного края горизонта до другого. Мерцала вдали Полярная звезда. Но до нее он достать не мог и потому избрал иное направление, противоположное, вглубь земли, и так завершил свои странствия. Разве любая смерть не есть падение? Он дошел до колодца на деревенской площади, заглянул в него. Замшелые стены источали приятный запах. Он глубоко вдохнул в себя колодезный воздух. Бросил вниз камень. Немало времени прошло, прежде чем камень долетел до воды и по колодцу разнеслось гулкое эхо. Внизу было темно, влажно и таинственно. Там было спрятано сердце мира.
Со стороны костра послышались крики – о нас вспомнили.
– Одноглазый, куда ты запропастился?
– Парикмахер Камо, где ты?
Еще немного – и они пошли бы нас искать, зазвучала бы песня стальных ножей.
Обернувшись, я увидел белую собаку, потерял равновесие и споткнулся о подвернувшийся под ногу камень. Выронил нож. Когда она успела так близко к нам подобраться? Морда у нее была симпатичная, сложение крепкое. Шерсть длинная, шелковистая. Эта собака ничем не напоминала тех, что жили под крепостной стеной. Есть она не просила. Зубы поблескивали в лунном свете. Острые уши были похожи на волчьи. К мощным лапам не пристала грязь. Белая собака смотрела на меня, не шевелясь и ничем не обнаруживая своих намерений. Я нагнулся и подобрал с земли нож. Отступил на два шага, прижался спиной к стене. Вспомнил, что привело меня сюда этой ночью с ножом, а за мной – и белую собаку.
Послышался шум приближающегося поезда. Земля задрожала. Грохот колес, похожий на стук молота по наковальне, все ускорялся. Тук-таки-так. Скоро сюда придут бродяги. Тук-таки-так. Зазвучит песня стальных ножей. В эту ночь каждый должен узнать свою судьбу. Я изо всех сил прижался спиной к стене. Крепче стиснул нож в руке. Что рассказал им архитектор Адаза, когда я ушел от костра? «Вы не смотрите, что Камо – парикмахер, у него есть красивая жена». Ночь пропитана вожделением. Поезда влюблены в рельсы. Пьяницы передают из рук в руки бутыль вина – женщину с алыми губами и потным животом. Поезда любят рельсы, дети любят колодцы. Тук-таки-так. Мой отец тоже любил колодцы. В деревне Карапынар он смотрел на звезды, измерял скорость ветра, составлял календарь осадков. Мой отец тоже любил колодцы. Тук-таки-так. Вот если бы колодец в деревне Карапынар закрутился бы водоворотом и поглотил тупых детей, лживых стариков, черствых женщин, поглотил бы дома с запертыми дверями и кур с отрубленными лапами. Тук-таки-так. Поглотил бы он и тогда моего отца?
Вожделение, которым была пропитана ночь, вдруг исчезло, словно его растащили по тайным ходам шустрые муравьи. В ушах звенело. Когда шум поезда начал стихать, я поднял голову. Почему я лежу на бетоне? Я устал. Лжецы и пьяницы утомили меня. Болела голова. Я с трудом выпрямился. Потом сел, прислонившись к стене, и вытянул ноги. Шея, спина, грудь взмокли от пота. Я поднес к губам бидон с водой, сделал глоток. Который час? Я посмотрел на прорезь в двери, глаза заболели от света. Еще глоток воды. Какое сегодня число? Я потерял счет дням. Доктора и остальных еще не привели. Хорошо, что я оказался один в камере во время припадка. Мне не нужна ничья помощь.
Я перевел взгляд на противоположную стену. Царапины, буквы, пятна крови. Штукатурка на стенах потрескалась, местами осыпалась. Фразы, неизвестно когда написанные, перемешались друг с другом. «Человеческое достоинство!» – было написано на стене. «Однажды непременно!» «За что эта боль?» Да, за что эта боль? Тех, кто сюда попадал, занимала главным образом эта мысль. Боль рассекала не только сознание, но и весь мир, и человек начинал думать, что раз здесь царство боли, то там, наверху, в Стамбуле, ее вовсе нет. О век миражей! Самый лучший способ скрыть ложь – выдумать еще одну. Создав под землей царство боли, можно отвлечь внимание от боли на поверхности. Люди, запертые в холодных камерах, тоскуют по многолюдным проспектам. Люди наверху радуются, что спят не в камере, а в своей теплой постели. Но на самом деле Стамбул переполнен людьми, которые задыхаются, не имея ни малейшей надежды на будущее, и каждое утро ползут на работу, словно черви. Стены домов уходят корнями вглубь, к стенам тюремных камер, и счастье, которым утешаются обитатели этих домов, фальшиво. Только так может устоять этот город.
– Сейчас будет потеха! – загремел в коридоре зычный голос охранника.
Что это? Открыли железную дверь?
– Всем выйти из камер!
У меня не было ни малейшего представления, что с нами собираются делать.
Охранник колотил по дверям и одну за другой отпирал их. Дошла очередь и до моей камеры. Лязгнул засов, дверь распахнулась, внутрь хлынул свет, обжигая глаза. Голова заболела еще сильнее.
– А ну, вставай, подонок! За дверь! – рявкнул охранник и пошел дальше, открывая дверь за дверью.
Я встал и вышел в коридор, где уже выстроились другие заключенные. Мужчины, обросшие бородами, и женщины с лицами в синяках смотрели друг на друга. Охранник возвращался, открывая двери по другую сторону коридора. Отворил и камеру напротив. Едва дверь распахнулась, Зине Севда вскочила на ноги. Когда ее привели назад? Пока я валялся в припадке? Девушка вышла в коридор и встала напротив меня. По виду ее становилось понятно, что она очень давно не спала. Опухли не только лицо и шея, но даже пальцы. С нижней губы стекла капля крови, Зине вытерла ее рукой.
– А ну-ка, смотрите!
Мы воззрились на следователей, стоящих в начале коридора. Их было много. В руках они держали дубинки и цепи. Рукава засучены. Смотрят на нас и смеются.
– Вот ваш старейшина, ваш ангел-хранитель!
От железной двери за ноги подтащили какого-то человека и положили в начале коридора. Из одежды на нем были только черные трусы. Я узнал огромное тело дяди Кюхейлана. Он напоминал утопленника, выброшенного на берег. Весь в крови. Седые волосы стали красными. Что это, его убили, а потом приволокли сюда, словно на кладбище? По коридору прошел гул встревоженных голосов.
– Сволочи, – прошептал кто-то. И снова: – Сволочи!
Охранник услышал, подскочил к нам с перекошенным от злобы лицом:
– Кто это сказал?
Направо и налево посыпались удары. Брызнула кровь, кому-то вышибли зубы.
Два следователя взяли дядю Кюхейлана за руки и попытались поднять.
– Давай, громила, пройдись немного!
Дядя Кюхейлан был жив. Он застонал – так громко, что услышали и те, кто стоял в самом конце коридора.
– Давай, старый хрыч!
Дядя Кюхейлан пошевелил рукой, потом протянул ее вперед, словно ощупывая пустоту перед собой. Голова его на мощной шее была опущена, и он походил скорее на какое-то животное, чем на человека. И стон, который вырывался из его горла, тоже напоминал рев раненого зверя. Изо рта текла слюна. Он что-то бормотал, но слова сливались в бессмысленный хрип. В кого превратился дядя Кюхейлан? Что за стонущее существо было перед нами? Одной ногой он стоял на полу, другая волочилась следом. Следователи отпустили его руки и оставили стоять на одной ноге. На какое-то время дядя Кюхейлан застыл, тяжело дыша. Потом подтянул вторую ногу, перенес на нее часть своего веса. Поднял голову. Его лицо не было лицом человека. Губы раздулись, язык торчал наружу. Брови рассечены, глаза слиплись от крови. Из ран на груди тек гной.
– Смотрите хорошенько! – крикнул один из следователей. – Полюбуйтесь на дело наших рук! Нашего правосудия не избежит никто, поняли?
Дядя Кюхейлан обрел сходство с одним из тех капитанов, что преследовали по морям и океанам белого кита, боролись со штормами и ураганами, но возвращались в порт ни с чем – как в той истории, что рассказывал ему отец. Корабль его разбился, паруса порвались в клочья. И, подобно тем капитанам, потерпев поражение, он уже мечтал о новом плавании. Медленно переставляя ноги, он слышал, как стрекочет в ушах целая армия цикад. Булькающая в носу кровь казалась ему соленой морской водой. Это был бесконечный сон. Но если другие искали своего белого кита в открытом море, то дядя Кюхейлан – в море Стамбула. Эта погоня пьянила, зов ее ничем не заглушить. Ему не требовался спасительный остров; все острова он стер со своей карты. Он должен был или покорить море, или сгинуть в волнах. Спину его исчертило множество ножевых шрамов. Медленно переставляя ноги по бетонному полу, он вдруг поднял голову, словно услышал издалека чей-то крик и пытался понять, с какой стороны принес его ветер.
Когда дядя Кюхейлан начал самый трудный в своей жизни путь, Зине Севда, стоявшая напротив меня, прямая, словно деревце, сжала кулаки. Потом по-детски зажмурилась, тихо сделала шаг вперед и встала лицом к дяде Кюхейлану. Между ними было метров пять-шесть. Все заключенные уставились на нее, следователи переглянулись. В коридоре воцарилась тишина, слышно было только, как с дяди Кюхейлана падают на бетонный пол капли крови.
– Что это она?
– Начальник, это та девушка, которую доставили с гор.
Зине Севда вытерла лоб и щеки рукой, поправила волосы. Все смотрели на нее и ждали, что она будет делать. А она вдруг опустилась на колени и раскинула руки в стороны, ожидая, когда окровавленный человек добредет до нее, чтобы заключить его в объятия. Подошвы ног у нее были в трещинах, вся шея – в ожогах от сигарет. Не русалка, явившаяся из волн и поющая в прибрежных скалах на закате свою песнь, а израненная женщина. Видел ли ее дядя Кюхейлан? Мог ли он своими слипшимися от крови глазами разглядеть впереди девушку, что ждала его на коленях с раскинутыми руками?
– Встать, шлюха!
Но Зине Севда не обратила никакого внимания на крики следователей, только слизнула языком черную кровь с губы и еще шире развела руки.
– Поднимите эту шлюху!
Один из следователей двинулся в ее сторону, поигрывая дубинкой. Остановился перед Зине. Сплюнул на пол окурок, медленно растер носком ботинка, глядя на девушку. Ощерил желтые зубы. Отступил на шаг и с размаху пнул Зине в живот. Та отлетела в сторону, врезалась в дверь камеры и какое-то время лежала без движения. Потом прижала руку к животу и медленно выпрямилась. Снова встала на колени. Посмотрела на дядю Кюхейлана. Между ними еще оставалось значительное расстояние.
Следователь носком ботинка отшвырнул окурок к стене. Нагнулся к девушке, посмотрел ей в лицо. Не увидев никакой реакции с ее стороны, выпрямился, продолжая щериться. Крутанул дубинку в руке, потом поднял ее вверх. Он стоял прямо напротив меня. Я схватил поднятую для удара руку. Дубинка застыла в воздухе. Следователь обернулся и взглянул мне в лицо. Ублюдок! Узнал он меня? Знакома ли ему песня стальных ножей? В моих висках пульсировала боль. Все в коридоре мерзли, стоя на бетонном полу, а мое лицо горело. Мозг словно сверлили дрелью. Знакома ли ему песня стальных ножей? Ублюдок! Он толкнул меня и попытался высвободить руку. Но силы не хватило, и тогда он истошно завопил.
Четвертый день Рассказывает дядя Кюхейлан Голодный волк
– Охотники шли по крутому горному склону, когда началась метель. Такой снег повалил, что в двух шагах ничего не видать. А тут еще и время к ночи, темно. Сбились они с пути. И вдруг увидели впереди свет. Поспешили в ту сторону, утопая в снегу, и добрались до небольшого домика, а добравшись, постучали в дверь и взмолились: «Помогите, замерзаем! Впустите нас!» – «Кто вы?» – ответил им из-за двери женский голос. «Три охотника из Стамбула. Мы сбились с дороги, ищем, где укрыться от непогоды». – «Моего мужа дома нет, не могу я вас впустить», – отвечала женщина. Охотники принялись умолять: «Если не откроешь дверь, мы здесь умрем! Хочешь, отдадим тебе свои ружья?» Выл ветер, издалека донесся грохот лавины. Хозяйка открыла дверь, пустила охотников к очагу, накормила их. Охотники порылись в своих ягдташах, подарили ей зеркальце, гребень и складной нож: «Ты нас спасла от смерти, спасибо тебе!» Хозяйка поблагодарила их за подарки и ушла в свою комнату, а охотники легли у огня и уснули. Однако вскоре их разбудил какой-то свист. Доносился он из очага, огонь в котором вдруг заиграл всеми цветами радуги. Из трубы в комнату влетело что-то сияющее, и оказалось, что это зеленокрылая пери[15] в ореоле света! «Не бойтесь, – молвила пери, – я явилась сюда предначертать судьбу». – «Нашу?» – спросили охотники. «Нет, ваша судьба была предначертана еще до того, как вы родились. Я прилетела сюда, потому что женщина в соседней комнате ждет ребенка, и мне нужно предначертать судьбу того, кому вскоре предстоит появиться на свет». Охотники попросили рассказать им, какая же судьба его ждет. «Вы все равно не сможете ее изменить», – отвечала пери, но охотники принялись настаивать, и тогда пери улыбнулась и выполнила их просьбу. «Родится мальчик, – поведала она. – Он вырастет сильным и здоровым, а когда ему исполнится двадцать лет, женится на любящей его девушке. Однако в брачную ночь его съест волк». – «Ну нет! – воскликнули охотники. – Такого мы допустить не можем!» – «Не спорьте с судьбой!» – сказала пери, бросила им в глаза какой-то порошок, и они уснули. А проснувшись утром, рассказали друг другу свой сон и поняли, что это и не сон вовсе, раз им всем приснилось одно и то же. Тогда они поклялись на своих ружьях хранить эту тайну, а когда придет время, спасти сына хозяйки дома. Та ни о чем не узнала. Охотники объявили ей: «Теперь ты наша сестра, и у нас есть к тебе одна просьба. Мы хотим побывать на свадьбе твоего ребенка, так что обязательно сообщи нам о ней». Следующие двадцать лет были для охотников непростым временем. Все это время они готовились к роковой ночи. Когда в Стамбул пришло приглашение на свадьбу, они, как ветер, примчались в дом среди гор, где когда-то спасались от бури, и открыли хозяевам тайну, которую хранили все эти годы. С собой они привезли большой ящик, который поставили посреди комнаты, и велели жениху и невесте провести ночь в нем. Ящик они опоясали семью цепями, а на крышку повесили семь замков. Сами же объявили, что спать не будут, и, дабы случайно не задремать, каждый из них отрубил себе по мизинцу. До утра они прислушивались к воющему в горах ветру, а стоило чему-то шевельнуться во тьме, сразу начинали стрелять. С первыми лучами солнца они закричали от радости: «У нас получилось!» Открыли семь замков, сняли семь цепей. Однако в ящике они, не веря своим глазам, обнаружили лишь невесту, всю перепачканную кровью. «Что случилось?!» – вскричали охотники. «Я сама не поняла, как так вышло, – отвечала, запинаясь, невеста, – но, едва вы закрыли крышку сундука, я превратилась в волка и съела своего любимого. Не знаю почему, но съела».
На лице внимательно слушавшего меня Доктора появилось странное выражение – не то веселое, не то испуганное.
– Удивила тебя концовка, Доктор? – спросил я. – Знаешь, порой люди, которым я рассказывал эту историю, вместо того чтобы удивиться, смеялись.
– Здесь тоже такие могли бы найтись, – ответил Доктор, глядя на спящего парикмахера. Потом склонился к нему, словно прислушиваясь к его дыханию, на несколько секунд застыл и принял прежнюю позу. – Эту историю я прежде не знал, дядя Кюхейлан. Она мне понравилась. Ее ты тоже от отца услышал?
– Да, в тот вечер, когда сломался радиоприемник и нами вдруг овладела ужасная скука, отец рассказал эту историю, чтобы немного нас успокоить.
– Часто вам бывало скучно?
– В деревне все время с кем-то общаешься, мы просто не знали, что такое скука. Но радио нас изменило. В тот день, когда сломался приемник, нам не хотелось ничего делать, наши обычные игры стали казаться бессмысленными. Мы думали о том, что в таких случаях делают городские.
– Странно, – удивился Доктор.
– Отец привез транзисторный радиоприемник в одну из своих поездок. Мы знали: если он возвратился быстро, стало быть, проводил время в Стамбуле со своими друзьями, а если задержался – угодил в одну из стамбульских тюрем. В тот раз его долго не было. Чтобы мы не расстраивались при виде его исхудавшего, бледного лица, он сразу доставал из чемодана приготовленные для нас маленькие подарочки. Больше всего нам понравился радиоприемник, который мы увидели впервые в жизни. В тот вечер мы слушали, как по радио читают роман. Один мужчина был влюблен в женщину, которая отвергала его чувства. Она уехала из Стамбула в Париж и вернулась лишь через много лет. И вот они снова встретились на открытой террасе чайной. С деревьев опадали желтые листья. Мужчина закурил и зажег сигарету женщине. Словно влюбленная пара с открытки, говорилось в романе, они сидели рядом и смотрели на пароходы и дворец Топкапы. Наконец женщина повернула голову и посмотрела мужчине в глаза. «Меджнун[16] ради своей любви скитался по пустыне, а у тебя была своя пустыня?» – спросила она. «Да, – ответил он, – без тебя этот город превратился в пустыню». – «Что бы ты сделал, если бы однажды утром, проснувшись, обнаружил, что я превратилась в старую крысу?» – «Относился бы к тебе с прежней нежностью, а если бы ты умерла, соблюдал траур». Женщина закурила новую сигарету и произнесла: «Я расскажу тебе одну историю». Она словно устраивала мужчине экзамен. Однако диктор объявил, что передача подошла к концу, а продолжение можно будет услышать через неделю в это же время. Так что нам предстояло целых семь дней ждать историю, которую рассказала женщина.
Доктор прикрыл глаза – должно быть, от головной боли. Он старался не смотреть на свет, отвернулся от прорези в двери, но меня слушал внимательно.
– А на следующей неделе радиоприемник сломался. Как ни бился отец, починить его не удалось. Должно быть, отца так обеспокоило впервые появившееся на наших лицах выражение унылой скуки, что он сказал: «Не переживайте, я знаю этот роман». Говорил ли он правду? Так или иначе, нам было нужно, чтобы отец знал роман и чтобы мы ему поверили. И он показал нам историю, которую женщина рассказала мужчине. Создавая искусными, как у фокусника, пальцами тени на стене, он изобразил охотников, беременную хозяйку и явившуюся из дымохода пери, домик в горах и огромный ящик. Но в тот вечер мне впервые захотелось иного счастья: чтобы отец взял меня с собой в сверкающий желтыми огнями Стамбул. Потом я спросил, есть ли в этой истории какой-нибудь скрытый смысл. «Сами подумайте, – ответил отец, – какая в истории скрыта загадка и каков ответ на нее. Зачем женщина из романа рассказала ее мужчине?»
– Дядя Кюхейлан, – усмехнулся Доктор, – я люблю головоломки, но здесь загадка неизвестна, как отгадку-то придумать?
– Отец велел нам найти и вопрос, и ответ. Дал срок до следующего вечера.
– Ну и как, нашли?
– Мама нашла. Она была мастерицей загадки разгадывать.
– Дай мне срок до завтра, я тоже постараюсь найти ответ.
– Пожалуйста, Доктор. Чего-чего, а времени у нас тут предостаточно.
Студент Демиртай, который дремал сидя, склонив голову на колени, выпрямился и протер глаза. Было заметно, что он замерз. Глядя на спящего парикмахера Камо, он сказал:
– Завидую ему. Так крепко спать в здешнем холоде! Наверное, я тут мерзну больше всех.
– Не удалось поспать? – полюбопытствовал я.
– Чуть-чуть, дядя Кюхейлан. Я слушал вашу историю. Словно фильм смотрел. Перед глазами возникали картины: ночь, метель, свет в окне занесенного снегом дома… По-моему, главный вопрос истории стал очевиден к ее концу: возможно ли было, несмотря ни на что, все-таки изменить судьбу ребенка?
– Если вопрос такой простой, то простым должен быть и ответ, – рассудил Доктор. – Ты его нашел?
– Да, Доктор, нашел. По-моему, судьбу никак нельзя было изменить.
– Почему? Что, если бы они оставили юношу в ящике одного?
– Тогда в волка превратился бы кто-нибудь из охотников, расправился бы с остальными и все равно проник бы в ящик.
– Ну нет, – не согласился Доктор. – У охотников тогда появился бы шанс убить волка. Им ведь хотелось не только спасти юношу, но и встретиться с хищником. Они отрубили себе мизинцы, пролили кровь. Думали, что волк придет на запах крови, бросит им вызов.
Демиртай задумался, словно пытался найти ответ на экзамене.
– Дайте и мне время, я придумаю что-нибудь получше.
Доктор повернулся ко мне:
– А какой ответ дала твоя мать, дядя Кюхейлан? Она тоже сказала, что судьбу нельзя изменить?
– Нет, мама думала по-другому.
– У меня тоже имеется ответ. Можно, скажу?
– Что за спешка, Доктор? У тебя же есть время до завтра.
– Мне кое-что пришло в голову, пока я говорил с Демиртаем. Никакой загадки в истории про охотников нет. Загадка находится вне ее: женщина, героиня романа, рассказала эту историю, чтобы задать вопрос, касающийся ее самой, так?
– Хорошо излагаешь, продолжай.
– Женщина хотела узнать, как далеко простирается готовность мужчины к самопожертвованию. Она собиралась спросить: если бы ты был на месте юноши из истории, вошел бы ты со мной в тот ящик? Ей нужно было не найти способ решения проблемы, а выяснить, готов ли мужчина задуматься о ее решении.
– Ты говоришь в точности как моя мама, Доктор. Может быть, ты читал этот роман?
– Нет, не читал.
– Там счастливый конец. Как сказал мой отец, бывает любовь, которой нужно созреть. Такова была судьба этой любви.
– Судьба любви… – пробормотал Доктор, словно говорил сам с собой. Ногтем по стене прочертил сверху вниз прямую линию. – Судьба как эта линия? Можно ее изменить или нет? Спрошу об этом Камо, когда он проснется. Дядя Кюхейлан, было бы недурно, если бы ты тоже поспал, набрался сил.
– Не хочу спать. А Камо хорошо спит, да. Ты не смотри, что у него на лице ни ран, ни синяков. Вчера его так треснули дубиной по голове, что он на пол рухнул.
Когда избитого парикмахера Камо притащили в камеру, мы двое тоже были в ужасном состоянии. Боль никак не давала уснуть. Думал же я не столько о Камо, сколько о девушке из камеры напротив. Зачем она шагнула вперед, зачем пошла на мучения? Встала посреди коридора и распахнула руки мне навстречу. Ее били, но она все равно не повиновалась. А потом парикмахер Камо, пытаясь защитить ее, схватил следователя за руку и впечатал в стену, повергнув всех – не исключая Зине – в изумление.
«Да нет же, – говорил Камо, – не хватал я его за руку, просто случайно дотронулся, вот он и взъелся».
Но я хорошо все помнил. И хотя весь был в крови и ноги мои налились чугунной тяжестью, я все равно видел коридор и выстроившихся вдоль стен заключенных. И слух я не потерял. Зине Севда стояла напротив меня на коленях, протягивала ко мне руки. Парикмахер Камо схватил следователя за руку и отбросил к стене. Воздух взорвался воплями и руганью. Охранники набросились на Зине и Камо. Я не мог пошевелить языком. Из горла вырывался только хрип.
«Ты ошибаешься, дядя Кюхейлан, я не пытался помочь девчонке. Да и что бы это изменило? Каждого должна заботить его собственная боль. В чужие дела я не лезу. В этом мире никому не дано облегчить чужие страдания. Мне это очень хорошо известно. На следователя я не нападал и девушку не защищал. А вы можете думать что хотите, мне все равно».
Раскаивался ли он в своем благородном поступке? Было ли ему не по себе оттого, что он пришел на помощь другому человеку? Одни люди бегут от одиночества, а другие, наоборот, стремятся к нему. Парикмахер Камо искал уединения даже в этой крохотной камере. Он мало говорил, сидел, низко склонив голову и разглядывая носки своих ног. Взгляд Камо бродил по полу, словно он следил за ползающим там муравьем, скользил по стенам, будто выискивая какую-нибудь дырочку или щелочку, где можно было бы спрятаться, а потом вновь устремлялся на его ступни. «Подлое время!» – говорил он сам себе. Когда его начинало клонить в сон, повторял, как припев: «Подлое время!»
Здесь, глубоко под землей, наши движения замедлялись, тяжелели. Разум, привыкший к скоростям, принятым на поверхности, впадал в спячку, пытаясь приспособиться к жизни в камере. Наши собственные голоса казались чужими. В ушах звенело от малейшего шороха. Ослабевшие пальцы в темноте шевелились сами собой, словно уже не принадлежали нам. Труднее всего нам было узнавать не других, а самих себя. Что с нами происходило? Кому принадлежит это терзаемое болью тело и сколько оно еще сможет выдержать? Время, расплывающееся и источающее гнилостный запах, здесь было нашим главным врагом; оно вреза́лось в нашу плоть, словно плуг в почву, все глубже и глубже.
Или, может быть, парикмахер Камо имел в виду не здешнее время, а то, что течет наверху, в том мире, куда можно попасть, если подняться по невидимой лестнице? Там нет ни вокзалов, ни переполненных пассажирами пароходов, ни многолюдных бульваров. И фонарей, мостов, башен тоже нет. Там все исполнено великого смысла. Одна грань этого смысла – скорость, другая – тревожное напряжение. Этот смысл отражен в любой части всеобщего целого: в задернутых шторах, в толпе идущих с работы, в площадях, где влюбленные назначают свидания. В те дни, когда дождь, хлынув на город, очищает его от многие дни копившейся грязи, а потом выглядывает солнце, этот смысл становится особенно отчетлив.
Время, неустанно тикающее в родильных домах, переулках и открытых до утра ресторанах, играет скверные шутки со скоростью городской жизни. Человек забывает о солнце, луне, звездах и живет лишь по часам. Рабочие часы, учебные часы, час на свидание, обеденный час. И когда в конце концов приходит час ложиться спать, у него не остается ни сил, ни желания думать о мире. Он погружается в темноту. Единый, всеобщий смысл расползается по отдельным вещам, прячется в них. Что это за смысл и куда он нас влечет? Чтобы не замутить свой разум этим вопросом, человек придумывает себе маленькие радости и пускается в погоню за ними. Так он бежит от тягот жизни, обретает спокойный сон, и на сердце у него становится легче. Он верит в это – до тех пор, пока стена в его душе не рушится, погребая под собой сердце. И тогда он с ужасом понимает, что пульсация под руинами уже не биение сердца. Это пульсирует время. Человек оказывается беспомощным. Наступает подлое время, противиться которому невозможно, проникает в плоть человека, в вены города.
Верил ли парикмахер Камо в существование такого времени? Оттого ли сидел, повесив голову, вздыхал, бранился? Непокой, царящий наверху, не оставил его и в подземелье. Он все искал уголок, где мог бы остаться один. Будучи еще молодым, верил, что его жизнь подошла к концу, и смотрел не в будущее, а в прошлое. Следователи тоже это знали. «Эй, старик! – говорили они мне. – Есть ли у тебя за душой столько же тайн, сколько у твоего соседа по камере? Глубока ли твоя память настолько, как у парикмахера Камо?»
Во время пыток я и сам спрашивал себя, где лежат пределы моей памяти. При этом думал я не о том, что мне известно, а о том, что неизвестно. Чем сильнее мне хотелось забыть, тем напряженнее этому противилась память. Иногда я кричал во все горло, по временам замолкал и каждый раз говорил себе: вот он, предел памяти. Потом боль ширилась, и я достигал новых пределов. Как это было странно – чувствовать себя первооткрывателем боли. Мою плоть терзали, мне дробили кости, и я постоянно знакомился с новыми ликами боли. Следователи потешались надо мной: «Ты, никак, вообразил себя Иисусом на кресте?» Я был привязан к толстому деревянному брусу, руки разведены в стороны. Я висел в воздухе. Под ногами – пустота, вверху – бесконечность. Я застыл в неподвижной точке небесной сферы, Земля и звезды вращались вокруг меня. Я пытался узнать самого себя, прорываясь сквозь боль. Следователи смеялись. «Мы таким, как ты, немало крови выпустили и дали собакам вылакать. Иисуса к кресту прибивали мы, кожу с Мансура аль-Халладжа[17] сдирали тоже мы. Наша история куда славнее вашей. Слышал про анархиста Эдуара Жорреса, бельгийца? Он приехал в Стамбул, чтобы убить султана Абдул-Хамида[18]. Султан всегда совершал пятничный намаз в мечети Йылдыз, после чего неизменно доходил от мечети до своей кареты за одну минуту и сорок две секунды. Анархист Жоррес, зная об этом, завел механизм своей бомбы так, чтобы она взорвалась в нужное время. Однако в ту пятницу Абдул-Хамид задержался у дверей мечети, беседуя с шейх-уль-исламом[19], и благодаря этому уцелел. При взрыве погибло шесть человек. Анархиста поймали. Знаешь, что мы с ним сделали? Вогнали гвоздей ему в кости и ногти вырвали один за другим. Довели до того, что он превратился в нашего раба. Даже сам Иисус не выдержал боли, куда уж там какому-то анархисту. Разве Иисус при последнем издыхании не вопиял к Господу: „Отец, зачем Ты меня оставил?“ В боли каждый одинок. Так что и ты расколешься».
Вися на кресте с завязанными глазами, я терял сознание. В ушах гудело, я забывал, где нахожусь. Издалека доносился волчий вой. Сколько дней – нет, сколько недель прошло? Той ночью, пробираясь в горах по глубокому снегу, я увидел волка. Облака над горой Хаймана рассеялись, одна за другой появлялись звезды. Светила полная луна. Волк стоял выше по склону, у кромки леса, и смотрел на меня. Он был один. В глазах, как у всех лесных волков, читался голод. Неужели, кроме меня, он не нашел в ночи никакой другой добычи? Не смог напасть на след оленя или зайца? Я достал из кармана брюк браунинг, ощутил в руке холод его рукоятки. Вставил патрон. Я знал, что здесь дом волка, его гора, а я – всего лишь забредший сюда на время путник. Мне нужно было до рассвета достичь деревни у подножия горы.
Мне передали, что один знакомый юноша ранен и теперь находится в этой деревне, лежит в доме чабана. Медлить было нельзя, требовалось во что бы то ни стало забрать юношу до восхода солнца. Снег местами становился очень глубоким, идти было тяжело. Я шагал все медленнее, спотыкался. На спине словно лежал огромный камень. Даже собственное тело казалось мне невыносимо грузным. По шее тек пот.
В очередной раз выбравшись на ровное место, я остановился. Покрепче затянул и заново завязал ослабшие шнурки на ботинках, отряхнул с себя снег. Шедший за мной волк тоже встал и неподвижно замер выше по склону. Его хвост припорошило снегом. Взгляд внимательный, острый. Было ли волку трудно, как и мне, идти по снегу? Судя по худобе, ему нелегко пришлось этой зимой. Он не приближался ко мне, но и не уходил. Расстояние между нами позволяло достать его выстрелом, но я не хотел причинять ему вред. Я поднял свой браунинг, который положил на снег, пока затягивал шнурки, и сунул в карман. Потом показал волку пустые руки.
Он поднял голову и завыл. Волк был готов сразиться с любым врагом, победить или в одиночестве погибнуть. Он ничего не боялся, кроме голода. Эхо волчьего воя прокатилось по лесу, взлетело к небу. Хищник был похож на скалу, век за веком стоящую на вершине холма под ударами яростных ветров. Не было волка сильнее его, не было дыхания голоднее, чем у него. Все должны были знать это и покориться ему. Вой, холодящий кровь, все звучал и звучал, объял всю ночь, достал до звезд.
Но вот он смолк. И тогда вступил я. Задрал голову, как волк, и закричал. Эхо откликнулось и мне. Я протянул руки к звездам. Я тоже здесь, под этим же самым небом. Готов сразиться с любым врагом, победить или в одиночестве погибнуть. Я кричал, пока не притомился. Потом перевел дух. Взял пригоршню снега и стал растирать руки, думая тем временем: человек я, встретивший волка, или же волк, преследующий человека? Кто из нас недавно выл, оповещая о себе ночь? Мое дыхание пахло голодом. По шее бежал холодок. Этот лес – дом мой или же я просто забредший сюда на время путник?
Я поднял глаза к небу. Отец говорил, что мы живем не только на земле, но и там. Наш мир отражается в небе, будто в зеркале. И в том небесном мире у каждого из нас есть двойник. Правда, тамошние люди днем спят, а ночью просыпаются. В жару мерзнут, а в холод им жарко. При свете ничего не видят, а в темноте у них отличное зрение. Здешние мужчины там женщины, а женщины – мужчины. Реальная жизнь для них не важна, важны сны. Они обожают обниматься с незнакомцами. Стыдятся не бедности, а богатства. Когда мы смеемся, они плачут, когда мы плачем – смеются. На похоронах поют веселые песни и пляшут. В детстве я часто смотрел на небо, надеясь увидеть там другого себя. Пытался представить себе, как бы мне там жилось. Теперь же, глядя на темный лес, я думал: кто знает, нет ли в лесу еще одного отражения нашего мира? Оттого и на голоса наши откликается эхо: это отзвук нашей иной жизни. Там, среди деревьев, у каждого человека есть двойник-зверь. У кого-то – олень, у кого-то – змея. Может быть, там я – волк. Опасный, одинокий, поджарый. И сейчас я преследую, несмотря на голод и усталость, пожилого человека.
В ту сухую морозную ночь небо было прозрачным, словно сиреневое стекло. Я посмотрел на волка. Он, как и я, отдохнул, дыхание стало ровным. Я не мог медлить, пора было продолжать путь. И мы снова побрели, оставляя в снегу глубокие следы и глядя вперед. Мы знали, что за каждым спуском последует новый подъем и там, наверху, будет дуть новый ветер. Мы привыкли к одиночеству. Мы были словно падучие звезды: сегодня мы есть, а завтра нет нас. Поэтому нам нравилось идти бок о бок с другим живым существом. Мы видели тени друг друга в лунном свете, и этого было достаточно, чтобы друг другу доверять. Обратно тоже пойдем вместе? Снова вместе под тем же небом? Я решил, что куплю у чабана мяса и брошу волку на обратном пути. Еще и поэтому я так спешил.
Ни разу не передохнув, весь в поту, я перевалил через гору Хаймана и еще до рассвета достиг деревни. Завидев дом чабана на окраине, я остановился и осмотрелся. Деревня спала. Из труб тянулись тоненькие струйки дыма. Крыши покрывал гладкий снег. А вот на земле снег был испещрен следами: коровьими, собачьими, человеческими. В окошке чабана горел слабый свет – он оставил там зажженную керосиновую лампу. Это был условный знак. Если бы лампа не горела, я понял бы: что-то пошло не так. Я оглянулся. Волк стоял поодаль, смотрел на меня. Должно быть, почуял запах собак и остерегся подходить ближе, остался ждать на границе своих владений. Собак, впрочем, видно не было ни вокруг дома, ни у двери. Наверное, забились от холода на сеновал или ушли в деревню. Я приблизился к дому, внимательно разглядывая следы на снегу: нет ли среди них похожих на отпечатки армейских ботинок? Ничего подозрительного не заметил. Остановился, принюхался. Присмотрелся к склону напротив. Откуда мне было знать, что меня поджидают военные? Что они сидят в засаде еще с прошлой ночи? Единственное, что могло меня насторожить, – отсутствие собак. Но не насторожило. Я доверился свету в окне. Он ослепил мой разум. Мне хотелось как можно скорее забрать раненого и уйти из деревни до рассвета. Но едва я вошел на двор, как путь мой закончился. Солдаты, прятавшиеся за стеной, так быстро набросились на меня, что я не успел выхватить из кармана пистолет. Меня повалили на снег, врезали по голове прикладом, связали руки и потащили в дом.
Я сплюнул кровь, залившую рот, и закричал. От ярости из глаз брызнули слезы. Я не мог поверить, что так легко попал в ловушку и позволил себя скрутить. Попытавшись вырваться, я перевернул ногой стоявший на полу чайник. Потом обвел взглядом комнату, чтобы увидеть того, кто меня предал. Чабана не было, никаких раненых – тоже. Военные привели из соседней комнаты высокого юношу и указали ему на меня:
– Этот?
– Да.
Я не сразу его вспомнил. В прошлом году я забрал его из этого дома, чтобы отвести в горы к группе, с которой он должен был встретиться.
– Он доставлял снаряжение из Стамбула?
На этот вопрос парень тоже ответил утвердительно и прибавил:
– Он знает Стамбул как свои пять пальцев.
Знаю Стамбул? Это-то с чего вдруг?
В прошлом году, пробираясь ночью по горам к месту встречи, мы с ним болтали о том о сем. Я, как всегда, заговорил о Стамбуле, пытаясь узнать что-то новое, взглянуть на город глазами другого человека. Он рассказал о Золотом Роге, а я – о мостах через него; он завел речь о широких проспектах с огромными витринами, а я перевел разговор на площади, в которые упираются эти проспекты. Вот, должно быть, он и решил, что связь с нашими в Стамбуле обеспечиваю я. А может быть, мое имя всплыло у него в памяти, когда от него потребовали назвать имя связного.
– Врет он! – сказал я, но военные мне не поверили. Снова избили меня до крови.
Две недели меня допрашивали, пытаясь узнать адрес и имя моего контакта в Стамбуле, и все это время подсовывали карту города, требовали, чтобы я обозначил на ней районы и улицы. Спрашивали, какие связанные с городом тайны я знаю. Я рассказал им о тех, что хорошо всем известны. Поведал о деревянных пристанях, о небоскребах из стали и стекла, о садах, где цветет багрянник. Показал места, откуда лучше всего любоваться закатом, и парки, где в вечерние часы всегда многолюдно, но все равно отыщется где присесть и отдохнуть (увы, этих парков с каждым годом остается все меньше). Описал огоньки далеких домов, которые по ночам загораются и гаснут светлячками. «Стамбульцы теряют веру в свой город, но я верю в Стамбул», – сказал я на допросе.
Каждый город желает быть завоеванным, и каждая эпоха порождает нового завоевателя. Я завоевал Стамбул своим воображением. Я верил в Стамбул, жил мечтой о нем. Когда все вокруг теряли надежду, я верил, что нужен там, что меня там ждут. Я был готов отдать за Стамбул свою жизнь. Матерью моей любви была боль. Когда Иисус воскресил мертвеца, он не просто оживил труп, но напомнил человеку, забывшему о своем бессмертии, что тот бессмертен. Вот и я должен был напомнить бессмертному городу о его бессмертии. И если нужно, я готов был, подобно Иисусу, взойти на Голгофу и принять на себя всю боль этого города. Стамбул, чья красота умаляется с каждым днем, нуждался во мне.
Волк, сопровождавший меня в ночном пути по заснеженным горам, поделился со мной своим временем. Отец, по ночам рассказывая мне истории, объединил свое время с моим. Ни его истории, ни этого волка я уже не мог забыть. Зная это, я пожелал добраться до Стамбула и ради этого сделал последний шаг в своей жизни. «Если вы отвезете меня в Стамбул, – сказал я военным, – я покажу нужные вам места и открою тайны, которые вы хотите узнать». Раз уж мне не избежать боли, лучше испытать ее в Стамбуле; если уж суждено мне умереть, то и умереть лучше там.
Эта камера, куда меня бросили, доставив в Стамбул, не внушала мне страха. Я чувствовал себя в ней как дома. Она казалась мне бесконечной. За ее стенами – море и улицы, за ними – новые стены. Одно неотделимо от другого. За каждой стеной – улица, каждая улица выводит к морю. Боль оборачивается счастьем, слезы – смехом. Печаль, тревога и радость сплетены в клубок, словно котята в корзинке; человек порой путает одно с другим. Кажется, что стоишь на пороге смерти, – ан нет, снова возвращаешься к жизни. Бесконечность кратка, как миг. Теперь я находился именно в этом пограничном состоянии. Я ощущал, что за стеной, к которой я прислонился, море и знакомые улицы, уходящие в бесконечность. Я слушал звучащий во мне голос. И важно мне было не то, что я вижу, а то, чего видеть не могу. Как и всем.
Когда парикмахер Камо закашлялся, я перестал смотреть за переделы стен и вернулся в камеру. Оказывается, я замерз. Я поглядел на Доктора и студента. Их лица скрывала темнота, но было понятно, что они тоже мерзнут: ссутулились, руки засунули под мышки.
Парикмахер Камо перестал кашлять, поднял голову и уставился на нас с видом ребенка, проснувшегося в чужой комнате.
– Как ты? – спросил Доктор.
Камо не ответил. Протянул руку, взял стоявший у двери бидон, выпил воды, вытер губы тыльной стороной кисти.
Я повторил вопрос Доктора:
– Как ты, Камо?
Если ему и было плохо, он не собирался об этом говорить. Но выражение его лица немного смягчилось.
– Дядя Кюхейлан, – сказал он, – ты любишь волков?
Во сне волка увидел, что ли? Какого волка он имел в виду: того, что шел за мной ночью по снегу, или того, что съел жениха из истории про охотников?
– Да, люблю.
Парикмахер Камо повернул лицо к свету и не мигая уставился в какую-то невидимую точку. Потом с веселым видом – таким я его не видел очень давно – заявил:
– Если бы я превратился в волка, я бы всех вас съел.
Что нам было делать: покатиться со смеху или испугаться?
– Ты, должно быть, проголодался. Тут немного хлеба осталось. Хочешь?
– Все равно сожрал бы вас.
Камо говорил, не отводя взгляд от света. Что бы ему там ни приснилось, он твердо был намерен нас съесть.
– Почему? – спросил я.
– Разве на все нужна какая-то причина, дядя Кюхейлан? Хорошо, если тебе так будет спокойнее, я скажу почему. Ты рассказываешь истории, действие которых происходит на морозе. И снег-то у тебя идет, и охотники в метель попадают. У нас тут и так холодрыга, а из-за тебя становится еще холоднее, бетонный пол в лед превращается. Я так замерз, что ничего другого не остается – только обернуться волком. Хочу разорвать вас на части и съесть.
Может, на него так повлиял запах запекшейся крови, которой мы все перепачканы? Зубы зачесались, захотелось нашего истерзанного мяса? Я улыбнулся своим мыслям, повернул лицо к свету и, как Камо, устремил взгляд в невидимую точку. Если внутри каждого человека есть темная пропасть, то Камо стоял на краю своей. Смотрел в бесконечную пустоту и, даже глядя на свет, видел в нем только мрак. Поэтому он и презирал боль. Мир представлялся ему легковесным, жизнь – тоже. Он мало ел и мало пил. Копил в памяти слова, но предпочитал молчать. Любил темноту и сон. Закрывал глаза и погружался в себя. Глядя на наши лица, сразу замечал, что они испачканы светом, и жалел нас. Наше состояние его огорчало. Может быть, он раздумывал над теми же, все теми же вопросами: подобна ли судьба линии, прочерченной на стене, неужели ее никак нельзя стереть, изменить?
– А ты как, дядя Кюхейлан? – спросил Доктор, дотронувшись до моей руки. – Ты о чем-то задумался…
Разве? Я и сам не знал, что за мысли бродят в моей голове.
– Эх, я думал о Стамбуле, – откликнулся я. – О том Стамбуле, что наверху.
– О Стамбуле?
Каждый раз, когда я забываю, о чем думал, или хочу поменять тему разговора, первым делом мне вспоминается Стамбул.
– Когда выйду отсюда, – сказал я, – сначала прогуляюсь по Галатскому мосту. Постою рядом с рыбаками, полюбуюсь на Босфор. А потом пойду искать моего двойника, который живет здесь совершенно другой жизнью.
– Двойника? – удивился Доктор.
– Что это за другая жизнь? – поддержал разговор студент Демиртай.
– Какую бы жизнь я вел, если бы родился в городе? На этот вопрос есть ответ, потому что здесь живет мой двойник. Вы говорите, что всегда рассказываете уже известные истории. А вот эта история вам точно неизвестна.
Они с любопытством глядели на меня.
– И что же нам неизвестно?
– Вы знаете меня так же плохо, как знаете Стамбул и боль.
– Ну так расскажи!
– Расскажу, пожалуй. В детстве в нашей маленькой деревне отец по вечерам показывал нам на небо и говорил, что в нем, как в зеркале, отражается наша жизнь. У каждого из нас там есть двойник. По ночам я вставал с постели, подходил к окну и смотрел на небо, думая о том, что сейчас делает мой двойник. Особенно часто я смотрел на небо, когда отец уезжал в город. А когда он возвращался и начинал говорить о Стамбуле, я думал, что он рассказывает о нашей другой жизни. Может быть, Стамбул и есть тот небесный город, думалось мне, где живут наши отражения, и отец ездит туда повидать наших двойников. Любит похожего на меня ребенка и рассказывает ему истории о деревне. Однажды мне в голову пришла такая мысль: если тот ребенок – мое отражение в Стамбуле, то я – его отражение в деревне. Ему тоже любопытно, как я живу. С тех пор я начал жить не только для себя, но и для того ребенка. Старался заниматься тем, что ему в городе недоступно: удил в реке рыбу, собирал в горах дикие сливы. Лечил раненых животных, помогал пожилым женщинам донести их ношу до дома. И если каждый человек живет для кого-то другого, то я, думая об этом, старался вести себя вдвойне ответственно. Я помнил, что, когда слишком много смеюсь, мой двойник плачет, когда плачу я – он смеется. Точнее, не он, а она. Я – мальчик, она – девочка. И вот сейчас я расскажу вам историю этой девочки. Хотите?
– Хотим. Рассказывай.
– Давайте сначала выпьем чаю. В горле пересохло.
Я поднял руку, словно держал в ней чайник, и разлил чай по воображаемым кружкам. Раздал каждому по кружке, берясь за них осторожно, кончиками пальцев – горячие же. Потом достал сахар. От чая шел густой пар. Я медленно размешал сахар ложкой. Остальные сделали то же самое. Когда студент Демиртай стал вращать ложкой слишком быстро, я знаком велел ему размешивать сахар помедленнее: стук ложки о стенки кружки могли услышать охранники. Демиртай улыбнулся. Эта улыбка, этот чай и эти истории – вот то удовольствие, которые мы могли получать здесь от жизни.
Пятый день Рассказывает студент Демиртай Огни в ночи
– Шла война. Истории о войне обычно длинные, но эту я расскажу вкратце. Один отряд был изрядно потрепан многодневными боями. Съестные припасы у солдат кончились, связь с другими отрядами они потеряли. Решили отступать. Ночью в темноте пустились в путь, долго шли и в конце концов добрались до широкого горного луга. Набрали воды из озерца, собрали ягод с ежевичных кустов. Подстрелить оленя они не могли: вдруг враг услышит? Немного поспав, начали подниматься на крутую гору. Шли по ночам, а днем спали среди скал. Огонь не разводили, ловили змей и ящериц и ели сырыми. Если бы им не было известно, что враги убивают пленных, среди них обязательно нашлись бы готовые сдаться, лишь бы их кормили хоть раз в день. Вот бы узнать, что с армией, не разбита ли? Как установить с ней связь? Никаких следов своих войск им не встречалось, зайти в какую-нибудь деревню и расспросить крестьян они не осмеливались. Вся окрестная местность находилась под контролем противника. В общем, это длинная история, я ее пересказываю вкратце. Через три дня редеющий отряд поднялся на другую гору. Бойцы от усталости повалились на землю и уснули под лучами солнца. Вечером нашли воду, умылись, немного пришли в себя и стали разбираться, куда забрели. Один солдат с золотым зубом, указав на долину внизу, сказал, что там – его родная деревня. Товарищи его, словно заблудившиеся дети, стояли и смотрели в ту сторону, глотая слюну. Огни деревни мерцали в темноте, словно светлячки. Солдат с золотым зубом сказал, что мог бы сходить туда и принести что-нибудь поесть. Командиру эта идея не понравилась: солдата могли схватить и убить. Но тот отвечал: «Все одно мы вот-вот умрем. Если повезет, я принесу не только еды, но и вести о том, где наши и что с ними». Все его поддержали. Простившись с товарищами, солдат отправился в долину, растворился в темноте. Небо трижды поменяло цвет, из сиреневого стало алым. На заре солдат с золотым зубом вернулся, нагруженный двумя мешками. На расспросы товарищей ответил: «Я хочу сначала кое-что вам рассказать. Присаживайтесь». И он положил на землю свои мешки. «В деревне полным-полно вражеских солдат. Но они не знают ее так, как я. Поэтому мне удалось пробраться никем не замеченным к своему дому. Постучал я в дверь. Дверь открыла жена и едва не вскрикнула от неожиданности, но я зажал ей рот, успокоил ее. А вот что случилось дальше?» Задав этот вопрос, солдат с золотым зубом сунул руку в мешок и достал круг сыра. «Кто даст правильный ответ, тот получит этот сыр». Много дней изнемогавшие от голода солдаты закричали наперебой: «Ты спросил, сколько в деревне врагов!», «Ты спросил, где наши!» Пока все кричали, сидевший позади других боец родом из Стамбула поднял руку и сказал: «Ты прямо там, у двери, посношался со своей женой». Солдат с золотым зубом рассмеялся и кинул стамбульцу сыр. Послышались удивленные возгласы и смешки. Тогда солдат с золотым зубом достал из мешка кусок пирога. «Этот пирог, – сказал он, – я дам тому, кто скажет, что было дальше». – «Ну уж теперь-то спросил, где наши!» – ответил один боец. «Нет, ты справился о здоровье детей», – предположил другой. Сидевший сзади стамбулец опять поднял руку. Такие всегда держатся позади, что в армии, что в школе. «Ты еще раз посношался со своей женой», – предположил он. Солдат с золотым зубом снова рассмеялся и вручил ему пирог. Затем достал из мешка жареную курицу и поднял ее над головой: «А это – тому, кто знает, что было после!» Тут все бойцы, словно на утреннем построении, в один голос закричали: «Ты в третий раз с ней посношался!» Солдат с золотым зубом за живот схватился от смеха: «Нет, потом я снял сапоги!»
Я повторил последнюю фразу: «Нет, потом я снял сапоги!» – и, зажав рот рукой, сдавленно рассмеялся. Доктор и дядя Кюхейлан тоже смеялись, их плечи ходили вверх-вниз. Слышно ничего при этом не было, но стена, к которой мы прислонились, дрожала. Мы походили на детей, которые, нашалив, прячутся там, где их не увидят взрослые, и тихонько смеются. Наши глаза светились весельем. Один из способов получше узнать человека – выяснить, над чем он смеется. С парикмахером Камо мы знакомились, выясняя, над чем ему смеяться не хочется. Лицо его оставалось угрюмым, взгляд – совершенно равнодушным. Ему не было дела до того, над чем мы так долго хохочем.
Немного успокоившись, я выдавил из себя:
– Что-то уж больно много мы веселимся, как бы не случилось с нами чего плохого.
– Плохого? – отозвался Доктор. – Что же плохого может с нами здесь случиться?
И мы снова рассмеялись. Смеющийся человек, так же как и пьяный, забывает о будущем, не печалится о жизни. И время, когда смеешься, останавливается, как от боли. Прошлое и будущее стираются, и остается лишь бесконечность, имя которой – мгновение. Устав смеяться, мы замолкли. Вытерли выступившие на глазах слезы.
– Эту историю я слышал, – сообщил дядя Кюхейлан, – но в ней не было солдата из Стамбула – события происходили в России.
Вместо меня ответил Доктор:
– Здесь любая история цепляется за Стамбул.
– То есть вы, рассказывая хорошо известные истории, меняете их по своему произволу?
– Разве твой отец не поступал так же, дядя Кюхейлан? Разве он не отправлял стамбульских моряков в погоню за белым китом, разве не приводил в Стамбул охотников из истории про волка?
И между Доктором и дядей Кюхейланом завязалась беседа о военных, моряках и охотниках, а потом – о рыбацкой деревушке в Кумкапы, которую сровняли с землей при строительстве шоссе вдоль моря; о багрянниках, которых все меньше становится на босфорских берегах; о построенной четыре века назад великим архитектором Синаном мечети Ильясзаде, которую снесли, чтобы построить автозаправочную станцию; о том, что самый близкий к Стамбулу остров тысячу лет назад во время землетрясения погрузился в морскую пучину, словно Атлантида… Может быть, сам Стамбул тоже остров?
В глазах Доктора Стамбул действительно был островом, с каждым днем все больше раздающимся вширь от пороков, которые однажды приведут его к катастрофе. Пороки здесь не пребывают в неизменном виде, а все время меняются. Поэтому город невозможно познать раз и навсегда, его нужно познавать каждый день заново. Его тайна подстегивает стремление к переменам, разжигает желание быстрее достичь будущего. В результате настоящее становится неопределенным, а вместе с ним размывается и сама реальность, уступая место символам. Место гор занимают дома, место равнин – балконы с цветочными горшками. А любовь превращается в ненасытное, вечно ищущее новой пищи, волосатое, влажное животное.
Дядя Кюхейлан возражал Доктору, утверждая, что символы реальнее, чем сама реальность. В этом мире, куда человек попадает не по своей воле, он должен просто существовать, а не постигать свое существование. Гора без нас все равно остается горой, дерево – деревом. Но разве таков город? Разве таковы сталь, электричество, телефон? Человек, создающий из звуков музыку, а из цифр – математику, вместе с городом творит новую вселенную; отдаляется от природы внешней и приближается к своей собственной; верит не в холмы, а в бесконечные ряды крыш, не в реки, а в многолюдные проспекты, не в звезды, а в сияющие повсюду электрические огни.
А во что верил я – в звезды или в городские огни?
Месяц назад, скрываясь под чужим кровом в Хисарустю, я смотрел в окно и думал как раз об этом – пытался понять, где кончаются звезды и где начинаются городские огни. Оторвавшись от книги, смотрел на Млечный Путь, мечтал, а потом начинал сомневаться, что мерцающие точки, которые я вижу, это он и есть.
Первые несколько дней я жил в том доме не один, рядом была Ясемин. Ее настоящего имени я не знал, да и сам для нее был Юсуфом. Мы встретились с ней близ площади Таксим, в парке Гези, узнали друг друга по условным знакам: вокруг ее шеи был повязан зеленый платок, а я держал в руке спортивный журнал. Она выглядела старше меня лет на пять-шесть.
– Юсуф, – сказала Ясемин, когда мы добрались до дома, – нам предстоит провести здесь несколько дней. Соседи меня знают. Если будут спрашивать, скажем, что ты мой брат. Но все-таки лучше старайся не попадаться никому на глаза.
Дом этот был хибаркой-геджеконду[20] – одна комната и маленькая ванная у входа. Вместо кухни – печка в той же комнате, где мы жили.
Когда пришло время ложиться спать, мы по очереди переоделись в ванной и легли на две стоявшие у противоположных стен кушетки. Вскоре я проснулся от запаха зажженной спички и, приоткрыв глаза, увидел, что Ясемин сидит на подоконнике с сигаретой в руке.
– Не спится? – спросил я.
– Мы никак не можем связаться с одним нашим другом. Вчера он не пришел на две встречи. Я думаю о нем.
– Он знает про этот дом? – ляпнул я, не подумав.
– Есть только один адрес, который из него могли выбить, если поймали. Вчера ночью мы очистили ту квартиру. Про этот дом он не знает.
– Да я так просто спросил.
– Нет ничего плохого в том, что ты об этом подумал, Юсуф.
Я встал с кушетки, подошел к Ясемин, сел на стул по другую сторону стола и тоже закурил.
– Ясемин, – сказал я, стараясь не показывать, что нервничаю, – ты когда-нибудь попадала в тюрьму?
– Нет. А ты?
– Я тоже нет.
Дом стоял на склоне холма. Вниз уходили ряды геджеконду. Улица спускалась к самому морю, и ее огни смешивались с огнями проходящих по Босфору кораблей. Это было одно из самых красивых мест пролива – и вместо роскошных вилл и небоскребов здесь стояли крохотные геджеконду.
Мы заварили чай и просидели до самого утра. Говорили не о политике, а о книгах и о наших мечтах. Я завидовал тому, как много стихов знает Ясемин: на каждое сказанное мной слово она отвечала цитатой. «Море», – говорил я, и она шептала: «Свободный человек, любить ты будешь море!»[21] «Часы», – произносил я, и она откликалась: «Часы! Живет в вас бог, бесстрастный, беспощадный»[22], смеясь, словно первая ученица в классе. Свет мы выключили, и ее лицо озаряло мерцание уличного фонаря. Под утро, когда туманная дымка на горизонте начала окрашиваться красным, мы легли на свои кушетки и уснули, не обращая внимания на крики чаек и ворон.
В полдень Ясемин ушла из дома и вернулась, когда уже стемнело. С собой она принесла полную сумку продуктов.
– От нашего пропавшего товарища по-прежнему никаких известий, Юсуф. Завтра я уеду за город, вернусь самое позднее через три дня.
– А что делать мне?
– Я принесла тебе еды. Если не вернусь к вечеру третьего дня, уходи отсюда. И проследи, чтобы здесь не осталось никаких следов твоего пребывания.
Ясемин согрела воду и пошла в ванную мыться. Вышла она оттуда в пижаме. Я тем временем сидел за столом и пытался зашить разошедшийся шов на плече своего пиджака.
– Ты умеешь шить? – спросила Ясемин.
– Нет.
– Тогда оставь, я зашью. А у меня сломалась застежка на серьге, почини.
Я принял у нее янтарные серьги, сравнил их, чтобы понять, как мне починить застежку. Взял нож и осторожно, стараясь не поцарапать янтарь, начал работать. Ясемин подняла голову от моего пиджака.
– Ты любишь работать руками? – спросила она.
– Не очень. А ты?
– Я была портнихой. Люблю прикасаться к ткани, кроить ее. Свою пижаму и платье я сшила сама.
Я оглядел платье, висевшее на стене. Короткое, до колена, с поясом и широким вырезом. Цветочный орнамент сочетался по цвету с сережками.
– Встань-ка, примерь.
Я надел пиджак, развел руки в стороны, потом вытянул их вперед.
– Спасибо!
Ясемин поправила на мне помявшийся воротник.
– Времени у тебя будет много, так что погладь свой пиджак, пока меня не будет.
– Слушаюсь! – улыбнулся я.
– Это не приказ, а просьба.
Влажные волосы Ясемин пахли розами, и вся она была такая чистая и свежая после ванны. Она медленно отошла от меня. Сняла чайник с печки, налила в кружки чаю.
Она любила поговорить. Рассказала мне о бедном доме своего детства и мире, который видела из его маленького окошка. Снова откликалась на каждое мое слово строчкой стихов. Полила пеларгонии, которые росли на подоконнике в двух горшках. На одной цветки были свежие, яркие, на другой завяли. Ясемин сказала, что, когда вернется, польет и растения в садике у дома: мирабилис, олеандр и розы. За разговором ночь текла быстро, словно вода из треснувшей бутылки. Мы не заметили, как небо начало светлеть и исчезли звезды.
Проснулся я от шума дождя. Кушетка напротив была пуста. Ясемин ушла тихо, не стала меня будить.
Я сел на подоконник и закурил.
На улице разыгралась самая настоящая буря. Бушевал ветер. Ярилось море. День внезапно обернулся ночью. Мрачные тучи были словно нарисованы масляными красками на холсте. В Босфоре боролся с волнами корабль, который несло к берегу. Волны подбрасывали и раскачивали его из стороны в сторону. Отчаянно ревела сирена, но ее голос тонул в шуме дождя, завываниях ветра и грохоте волн. В любой момент судно могло пойти ко дну. Все матросы молились, задрав головы к небу, а между тем, может быть, собравшиеся на берегу пьяницы, попрошайки и самоубийцы молились тоже: пусть этот корабль сядет на скалы и примет нас на борт, а потом уж может тонуть. Затонувший корабль – лучшая могила. Море бесилось, пенилось и вставало на дыбы, словно неукротимый дикий жеребец. Нашла Ясемин, в какую погоду уйти, ничего не скажешь. Или, может быть, это буря ждала, когда она выйдет из дома, а злосчастный корабль доберется до опасного места? Садик был усыпан листьями мирабилиса, олеандра и роз, улицы опустели. Собаки и бездомные попрятались в развалинах брошенных домов. Стамбул, ошалевший от бедности и расточительства, с распахнутыми объятиями ждал моряков, но те, воссылая молитвы богу бурь и его же проклиная, не могли думать об иной могиле, кроме моря. Когда все пути закрыты, что лучше – покориться судьбе или проклинать ее? Вот на какие мысли наводила буря. А ведь даже из двух пеларгоний на окне, растущих при одной температуре и пьющих одну и ту же воду, одна вянет, а у другой распускаются цветы.
Тут я и заметил янтарную сережку. Она лежала между двух цветочных горшков, равнодушная к дождю и ветру за окном. Это была та сережка, которую я починил накануне вечером. А где же другая? Я обшарил всю комнату, посмотрел на кушетке, на полу у двери, в ванной перед зеркалом. Как могла Ясемин, уходя из дома, забыть одну сережку в подобном месте? Неужели она так спешила?
Я присел на кушетку и поднял сережку в воздух, держа ее двумя пальцами. Она была похожа на желтую виноградину. В ее прозрачной глубине вспыхивали искорки, тихо плескались оранжевые и коричневые волны. Я смотрел на самую обычную янтарную сережку так, словно впервые увидел нечто подобное. Как наш разум делает выбор? Что должно произойти, чтобы человек обратил внимание на какую-нибудь вещь?
Возможно, как и серьги, прежде не цеплявшие моего взгляда, я не замечал и Ясемин, хотя и ходил с ней по одним и тем же улицам. Может, это был такой же дождливый день. Укрытые зонтами люди спешили вдоль роскошных зданий, проходили, не повернув головы, мимо девочек-нищенок, поющих у входов в пассажи. Кто-то думал о своей несчастной любви, кто-то – о непослушных детях. Все говорили на одном языке, но никто друг друга не понимал. Когда идет дождь, Стамбул превращается в лес из лишенных листвы деревьев. Начинается переполох, все дома, улицы и лица становятся похожи друг на друга. Я прошел мимо Ясемин, которая спешила на тайную встречу. Я тоже шагал быстро, надвинув капюшон на самые глаза. Если бы одна из ее янтарных сережек упала и Ясемин, не заметив этого, пошла бы дальше, а я поднял бы отскочившую к моим ногам сережку из лужи и на миг застыл, глядя то на свою мокрую ладонь, то на серую толпу, в которой растворилась Ясемин, – если бы так случилось, стал бы Стамбул для меня другим? Поселила бы эта сережка в моем сердце радость, которой я прежде никогда не ведал?
Стамбул любит вопросы больше, чем ответы, вот что странно. Он может счастье превратить в кошмар и, наоборот, сделать так, что на смену исполненному отчаяния вечеру придет радостное утро. Он черпает силу в неопределенности. Такая уж, говорят, у городов судьба. На одной улице – рай, на другой – ад, но завтра все может поменяться местами. Это как в старинной истории о короле и нищем. Однажды королю захотелось развлечься, и он приказал перенести во дворец уснувшего на улице нищего. Когда тот проснулся, то увидел, что все вокруг воздают ему королевские почести, спешат услужить. Поборов первоначальную растерянность, он поверил, что и в самом деле облечен королевской властью, а его прошлая жалкая жизнь всего лишь сновидение. Когда настала ночь и нищий, довольный жизнью, уснул, его перенесли из дворца на прежнее место. Открыв глаза, он обнаружил, что снова находится на улице, среди мусора и отбросов. Нищий никак не мог понять, где реальность, а где сон. Такой фокус с ним проделывали несколько ночей подряд. Просыпаясь то во дворце, то на улице, он каждый раз верил, что та, другая, жизнь – это сон. Кто сказал, что сказки устарели и не отражают жизни современных городов? Разве эти король и нищий не похожи на стамбульцев? Один забавляется, играя чужими судьбами, другой оказывается то на одной, то на другой чаше весов реальности. Знают ли эти люди, спешащие куда-то под дождем, кем они проснутся завтра?
И подобно тому как Стамбул больше, чем просто Стамбул, сережка Ясемин была не просто янтарной сережкой. У нее имелась своя история: она понравилась Ясемин, та купила ее и носила в ухе, потом дала мне на починку, и я тоже стал частью истории.
Я снова подошел к окну и выглянул на улицу. Море успокоилось, волны присмирели. А где же корабль, который недавно сражался с бурей и посылал отчаянные сигналы о помощи? Продолжил свой путь или пошел ко дну? Дождь уже не лил стеной, а едва моросил. Собаки снова вышли на улицу. Вдоль домов задумчиво брел какой-то человек, без пальто и без зонта, не обращая внимания на лужи под ногами. Вот он остановился и посмотрел в мою сторону. Лица его с такого расстояния было не разглядеть, но легко угадывалось, что он устал и голоден. Подумав немного, человек не пошел дальше, повернул назад и теперь зашагал быстро, словно вспомнил, что забыл дома какую-то вещь, и торопился за ней вернуться.
Я заварил чай и только сейчас, когда утро уже давно кончилось, позавтракал. Оглядел книги на единственной в комнате полке и взял две – «Антологию мировой поэзии» и роман Яшара Кемаля «Тощий Мемед»[23]. Лег на кушетку, прочитал сначала несколько стихотворений, потом взялся за роман.
С улицы, залитой веселым светом выглянувшего после дождя солнца, доносились голоса детей и торговцев. Мне хотелось распахнуть окно, но тогда стало бы понятно, что в доме кто-то есть. Я выглянул на улицу сквозь щель между шторами и чуть-чуть приоткрыл оконные створки – так, чтобы снаружи было незаметно, – вдохнул прохладный, свежий воздух.
Следующие дни я провел, валяясь на кушетке, читал и вволю спал. По вечерам, не зажигая света, смотрел на городские огни и проходящие по Босфору корабли. Со спокойным сердцем и с зажатой в руке янтарной сережкой ждал вечера третьего дня. Роман я дочитал, некоторые стихотворения перечел по нескольку раз.
Наступил третий день. В голову мне начали приходить тревожные мысли. Наверное, Ясемин схватили. Когда солнце стало клониться к горизонту, я собрался, навел порядок в комнате, взял из ванной свою зубную щетку и бритву. Завязывая мусорный мешок, набитый окурками, услышал за дверью шаги. В дверь постучали, но не нашим условным стуком. Я замер. Послышался детский голосок:
– Кто-нибудь есть дома?
Должно быть, соседский ребенок.
Я не шевелился.
– Дяденька, откройте, пожалуйста. – На этот раз почти шепот.
Дяденька? Откуда ребенку про меня известно? Если он видел, как я заходил в дом вместе с Ясемин, то почему зовет не ее, а меня? Я не знал, что и думать. Не зажигая света, я подошел к двери и приоткрыл ее. На пороге стояла маленькая девочка и смотрела на меня огромными глазами.
– Дяденька, у меня на завтра сложное домашнее задание. Вы мне не поможете? Бабушка сказала, чтобы я вас попросила.
– Бабушка?
– Мы живем неподалеку. Тетя Ясемин помогает мне с уроками.
– Тети Ясемин нет дома. Когда она вернется, я скажу ей, и она к вам зайдет.
– Бабушка хочет, чтобы вы пришли. Она сказала: «Сходи позови дядю Юсуфа».
Сотни вопросов роились в моей голове. Откуда ей известно, что Ясемин сегодня не вернется? Почему она знает мое имя? Теперь, конечно, я уже не мог не пойти за девочкой: любопытство не дало бы покоя. Да и лучше было, наверное, посидеть до ночи у соседей.
– Подожди немного, я надену пиджак.
Выходя из дома, я захватил свой рюкзак. Возвращаться я не собирался. Мешок с мусором положил в мусорную кучу у невысокой садовой ограды.
– Как тебя зовут?
– Серпиль.
Серпиль свернула за угол и пошла вверх по узкому темному переулку мимо покосившихся заборов. Я молча последовал за ней. Потом мы свернули в другой переулок, который я ни за что не нашел бы сам, и стали подниматься по корявой каменной лестнице. Когда мы добрались до дома девочки, я понял, что он находится прямо над геджеконду Ясемин.
Дверь была открыта. Серпиль вошла первой и позвала меня:
– Проходите, дядя Юсуф!
Дом напоминал наш, в нем тоже была только одна комната. На тахте у окна сидела пожилая женщина и вязала.
– Пришел, Юсуф?
– Добрый вечер, – поздоровался я.
– Проходи, сынок, сядь рядом со мной.
Только тут я понял, что женщина слепа. Я сел на краешек тахты, глядя не в лицо ей, а на спицы в руках. Словно догадавшись об этом, она отложила вязанье и попросила:
– Сядь поближе.
Протянув руки, она дотронулась до моего лица, ощупала щеки, подбородок, лоб, потом одной рукой провела по шее, а другой – по бровям и носу.
– Черты у тебя правильные, лицо красивое, – сказала она так, будто говорила о вязанье. – Ясемин про тебя рассказывала. Помоги моей девочке с домашним заданием. Моего ума не хватает отвечать на эти школьные вопросы.
Приходилось ли мне раньше видеть столь бедное жилище? Голое, без штор окно. Стекло разбито, дыра внизу заделана полиэтиленовой пленкой. На полу у противоположной стены – газовая горелка, рядом коробка с посудой: несколько тарелок и чашек. На горелке стоял чайник. Коврик на полу потертый, выцветший. Штукатурка осыпалась со стен. Ни стола, ни стульев. В изголовье тахты лежали одно на другом два сложенных одеяла. Было понятно, что ночью бабушка и внучка спят на одной постели, головами в разные стороны.
Серпиль подняла с пола свой выцветший школьный портфель, достала учебник и тетрадь и села рядом со мной.
– Учительница задала нам три вопроса и велела написать ответы.
– Ну что ж, давай начнем, – предложил я. – Читай вопросы по очереди.
Серпиль взглянула сначала на бабушку, потом на меня и прочитала:
– Вопросы к уроку. Вопрос номер один. Почему времена года сменяют друг друга? Почему не стоит все время лето или зима?
– Откуда же мне знать? – сказала бабушка.
Мы с Серпиль обменялись улыбками.
– Пиши, Серпиль, – начал я. – На это есть две причины. Первая причина заключается в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Вторая – в том, что земная ось наклонена. Из-за того что на протяжении года солнечные лучи падают на Землю под разным углом, температура на ее поверхности меняется. Потому-то и происходит смена времен года.
– Я так и знала, – произнесла бабушка.
– Если знала, почему не сказала? – удивилась Серпиль.
– Да не ответ я знала, красавица моя, а то, что Юсуф, как все друзья Ясемин, очень умный.
Я вдруг закашлялся.
– А я не друг Ясемин, я ее брат.
– Какая разница? Что друзья, что братья, все вы похожи.
Так, беседуя втроем, мы доделали домашнее задание Серпиль. Разобрали, почему, несмотря на смену времен года, снег на горных вершинах никогда не тает и почему на полюсах все время зима.
– Мы как тот полюс, – объявила бабушка. – Все время бедные. Вот бы богатые и бедные менялись местами, как времена года. Вот это была бы настоящая справедливость.
Осенний ветерок, залетавший в комнату сквозь щели в окне, намекал, что вскоре нужда в такой справедливости возрастет. Что они будут делать, когда настанет стамбульская зима и промозглый холод начнет пробирать до костей? Будет ли им чем топить печку? Сквозь дырки в чулках Серпиль виднелись ее пальчики. Наверное, сейчас бабушка вяжет ей чулки, а потом возьмется за теплый свитер. Обе они, и бабушка, и внучка, были совсем худые. Пальцы тонкие, лица бледные. Было понятно, что живут они вдвоем: никакого другого места для сна, кроме тахты, в комнате не было.
– Мне пора, – объявил я.
Бабушка взяла меня за руку:
– Нет, так не годится, ты еще не выпил чаю, не поужинал. Серпиль, золотце, у тебя ведь больше заданий не осталось? Налей нам чаю. И принеси дяде Юсуфу поесть.
– У меня еще есть одно задание, бабушка. Мне нужно выучить стихотворение.
– Какое?
– «Моя родина краше рая».
– Краше рая? – рассмеялась бабушка.
Я встал с тахты:
– Пусть Серпиль учит, а я чая налью.
– Вот спасибо, сынок! Там еще есть хлеб и оливки. Поешь с чаем.
– Спасибо, но я сыт, поужинал незадолго до того, как к вам идти.
Серпиль уселась на одеяла и открыла книжку со стихотворением.
Я налил чаю, размешал сахар.
Бабушка положила вязанье на колени и взяла горячую кружку обеими руками.
– Я научилась вязать, когда мне было столько же лет, сколько сейчас Серпиль. Тогда я еще не лишилась зрения. Наша деревня стояла на другом конце света. Времен года у нас там было два: летом я работала в поле, а зимой вязала. Тогда я думала, что весь свой век проведу в поле, а сейчас вот зарабатываю на жизнь тем, что вяжу свитера и продаю их. Соседи помогают – рассказывают обо мне знакомым. Иногда я и сама спускаюсь на набережную и торгую там. Но на свитерах разве много заработаешь? Девочке нужно гораздо больше.
– Не только девочке, но и вам тоже.
Бабушка поставила кружку на подоконник и наклонилась ко мне:
– Я тебе задам один вопрос. Интересно, найдешь ли ты ответ?
– О чем?
– Не о чем, а о ком. О Серпиль.
Я недоуменно посмотрел на бабушку.
– Это простой вопрос, – улыбнулась она. – Серпиль – дочка моей дочери и одновременно сестра моего мужа. Как такое может быть?
«Ну и вопрос», – подумал я.
– Похоже на загадку.
– Я задаю Ясемин такие вопросы, но с ответом не тороплю, позволяю подумать до следующей встречи – чтобы у нее был лишний повод прийти. Сможешь найти ответ?
– Сомневаюсь. Трудный вопрос.
– Это хорошо. Тебе я тоже дам срок. Иди куда хочешь, но береги себя и возвращайся живым и здоровым. Я буду ждать от тебя отгадки.
– Не волнуйтесь, вернусь и на вопрос отвечу, – заверил я, стараясь, чтобы мой голос звучал весело.
Бабушка выпрямилась и потерла пальцами глаза:
– Знаешь, Юсуф, я скучаю по своим мечтам тех лет, когда еще могла видеть. На деревенских свадьбах я, глядя на невест, представляла себе, что они – горные пери. Какие у них были гордые шеи! А полные груди трепетали от дыхания, словно птицы. Я мечтала, что, когда вырасту, буду похожа на этих красавиц, но еще до того, как я созрела, жизнь моя изменилась. Наступило такое лето, когда день за днем в нашей деревне дул пахнущий гнилью ветер. Посевы погибли. Пастухи находили утонувших в реке оленей, упавших с обрыва волков. Даже подобные султанам неба ширококрылые орлы стали падать на землю. Болезнь, ослеплявшая животных, добралась и до детей. У многих моих друзей начинали болеть глаза, и они в ту же ночь умирали. Зазвучали причитания плакальщиц. Мне повезло, я ослепла, но осталась жива. Как горько я рыдала! А плакальщицы всё причитали. Это из-за того ваша деревня проклята, говорили они, что вы ставили ловушки на малых оленят, стреляли в волчат. Знакома ли тебе такая сказка, Юсуф? Был на свете город, где жили одни слепые – все дети слепыми рождались. И вот однажды родился зрячий, стал смотреть по сторонам. Слепые перепугались, как бы другие дети не заразились такой опасной болезнью, и убили того ребенка, а труп сожгли. Я все думаю о Стамбуле. Чего заслуживает город, настолько исполненный пороков? Какое проклятие падет на него? Или оно уже пало и мы испытываем последствия? Зрячих здесь линчуют. Ты мечтатель, сынок, тебя тоже линчуют. – Бабушка говорила все медленнее и тише, словно засыпала, даже не говорила, а бормотала себе под нос: – И Ясемин, красавицу с гордой шеей и трепещущей, как птица, грудью, тоже…
Я посмотрел на улицу. Из окна была видна калитка нашего садика. Можно следить за тем, кто приходит в геджеконду Ясемин, кто уходит. Но кто будет следить – слепая бабушка? Уже совсем стемнело, Ясемин не вернулась и теперь уже не вернется.
Издалека долетали звуки корабельных сирен и крики чаек. Звезды наплывали на город с востока, точно облако пыли. Небо казалось влажным, будто подернулось пленкой воды. Может быть, за горизонтом было еще больше звезд, но им уже не хватило места. Небо выглядело одновременно бесконечным и убористым – словно могло при необходимости уместиться в стеклянный колпак фонаря. И не поймешь, где кончаются звезды и начинаются городские огни.
Бабушка снова наклонилась ко мне, взяла за руку и вложила в мою ладонь свернутый листок бумаги.
С любопытством развернув его, я прочел записку, всего несколько слов: «За домом следят. Серая точка. Завтра. 15. Забудь сережки».
Сережки?
Бабушка поднесла руку к груди и достала из лифчика янтарную сережку. Пару той, что я починил.
– Ясемин приходила? – взволновался я.
– Я слепая, откуда мне знать, – уклончиво ответила бабушка. – За домом есть тропинка, Серпиль тебе покажет. Никто не увидит, как ты отсюда уйдешь.
Я перечитал записку. У нас был свой набор условных знаков и предосторожностей. Места встречи мы обозначали цветами. Серая точка – это автобусная остановка напротив библиотеки Стамбульского университета. Встречи происходили на час раньше указанного, то есть я должен был прийти на остановку к 14:00. Приложив свою сережку, Ясемин тем самым подтвердила, что записка действительно от нее. Приказ «Забудь сережки!» был строг, как вбитый в стену гвоздь. У меня с собой не должно быть ничего, имеющего отношение к другим людям.
Я поцеловал бабушкину руку:
– У нас дома растут пеларгонии. Я оставлю ключ, вы польете?
– Не беспокойся, сынок, ключ у нас есть.
Бабушка снова взялась за вязанье, спицы взлетали и падали, словно птичьи крылья. Когда я уходил, она крикнула мне вслед:
– Не забудь про мою загадку! Буду ждать тебя с ответом!
На улице в лицо мне ударил резкий ветер. Я поплотнее обмотал шею шарфом и вслед за Серпиль нырнул в темноту. Тропинка извивалась по склону, кое-где раздваиваясь. По обе ее стороны росли кусты. Чужаку недолго и заблудиться в этом лабиринте. Становилось все темнее, собачий лай внизу отдалялся. Потом подъем кончился, кусты расступились, и мы оказались на чьем-то огороде. Дальше я должен был идти один.
Я достал из кармана деньги, половину отдал Серпиль. Попросил ее хорошо учиться и ухаживать за бабушкой. Наклонился, поцеловал в лоб и только тут заметил, какое красивое у нее лицо и ясные глаза. Она была такая чистая, тоненькая и волшебная – точь-в-точь горная пери. Не хватало лишь янтарного отсвета. Я наклонился, отбросил косички Серпиль назад, поднял вверх ее подбородок и вдел ей в уши янтарные сережки.
– Теперь они твои.
Серпиль зажмурила глаза и провела руками по лицу. Дотронулась до сережек, подрагивающих, словно две капли воды. На лице у нее появилась самая красивая в мире улыбка. Казалось, она вот-вот взлетит от счастья и ветер унесет ее в звездное небо.
Пока я медленно шел по огороду, мне вспомнились стихи, которые я услышал от Ясемин. «Свободный человек, любить ты будешь море!»
Тут кто-то позвал меня по имени. Я замер и вгляделся в темноту. С какой стороны донесся голос? Мое сердце заколотилось от страха, по шее потек холодный пот. Когда меня снова позвали, я приоткрыл глаза.
– Демиртай, – сказал Доктор, – ты говорил во сне.
– Задремал, – отозвался я, глядя на темные стены камеры.
Хорошо было спать, уходить глубоко в свои мысли. Я представлял себе, что покидаю тюрьму и становлюсь таким же, каким был до ареста. Иное дело просыпаться. Открыв глаза и снова обнаружив, что нахожусь в камере, я впадал в отчаяние, меня грызло чувство вины. Глядя на стены цвета темного гноя, я задавался вопросом, как позволил себя схватить, почему не бежал быстрее. Эх, если бы мне выпал второй шанс! Шанс, который полностью изменил бы мою жизнь. Так говорил я себе, а потом начинал ерзать, изнывая от боли в израненном теле.
– Дядя Кюхейлан, – заговорил я, – можно загадать тебе загадку?
– Давай. Что, после моей вчерашней головоломки решил меня испытать?
– Моя загадка сложнее. Слушай. Передо мной женщина и маленькая девочка. Я спрашиваю: это твоя внучка? Она отвечает: это дочь моей дочери и одновременно – сестра моего мужа. Как такое может быть?
– Тебе это во сне приснилось?
– Нет, – сознался я, но про Серпиль и ее бабушку рассказывать не стал.
– Дочь моей дочери, сестра моего мужа, – пробормотал дядя Кюхейлан, чтобы лучше запомнить. – Хорошая загадка. Я подумаю немного, может быть, и разгадаю ее.
Размышляя над загадкой, дядя Кюхейлан и Доктор одновременно строили предположения: почему это уже второй день никого не уводят на допрос, почему обитателей всех камер оставили в покое? Ни вчера никого не пытали, ни сегодня. Железную дверь открывали, только когда менялась охрана и приносили еду.
– Следователи ведь тоже люди. Утомились, поди, каждый день работать по десять, а то и двадцать часов, и все вместе отправились в отпуск. И сейчас нежатся где-нибудь на курорте, может быть, на острове в океане, лежат на пляже и греют свои косточки, – смеялся дядя Кюхейлан.
– Нет, – возражал Доктор, – они вспотели за работой, вышли потные на улицу, а там холодный ветер. Вот они и заболели. А другие от них быстренько заразились. И сейчас они отдыхают по домам, пьют чай с лимоном и липовым цветом.
Пока Доктор и дядя Кюхейлан пересмеивались, по бетонному полу прокатилась маленькая пуговка и замерла у наших ног. С кого она упала, мы не поняли. Пуговка в виде звездочки, желтая, с двумя дырочками. Дядя Кюхейлан подобрал ее с пола, поднес к свету:
– Такая пуговица подходит для женской одежды.
Мы с ним встали. Да, действительно, в прорезь противоположной двери смотрела Зине Севда. Ее лицо выглядело портретом в серой рамке. Она оторвала одну из своих пуговиц и бросила в щель под дверью, чтобы привлечь наше внимание. Увидев нас, точнее, дядю Кюхейлана, Зине заулыбалась. Глаза, окруженные синяками, ожили.
– Как ты? – написала она в воздухе пальцем.
Дядя Кюхейлан начал отвечать, медленно, словно первоклашка, выводя буквы. Я оставил их наедине, сел на пол, положив свои ноги на ноги Доктора, и посмотрел на безразличного ко всему парикмахера Камо. Тот дремал, опустив голову на колени. Сегодня он еще ни разу не заговорил и вообще вел себя так, будто нас не было. Залез в свою раковину и только и делал, что спал.
Дядя Кюхейлан оторвался от прорези, нагнулся и окликнул его:
– Камо, подойди к двери. Зине Севда хочет тебя поблагодарить.
Камо поднял голову и взглянул на дядю Кюхейлана с еще более безразличным видом, чем обычно. Потом оглядел камеру, словно пытаясь вспомнить, где находится, и махнул рукой: оставьте, мол, меня в покое. Обнял колени руками, опустил голову и скрылся в своем собственном мире. Самым уединенным, самым далеким от нас местом, которое он мог найти, был сон.
Шестой день Рассказывает Доктор Птица времени
– На корабль, стоящий в порту Стамбула, тайком пробралась девушка и спряталась в большой шлюпке. Завернулась в парусину и стала прислушиваться к звукам снаружи. Когда корабль отошел от пристани, облегченно вздохнула. Следующие несколько дней она то спала, то просыпалась, слушала песни, которые пели матросы. Когда корабль бросил якорь в порту, дождалась, пока утихнет суматоха на борту и настанет ночь, выбралась из шлюпки, спустилась на пристань и пустилась бежать. Она попала в новый мир. Бежала она до самого утра и заметила, что луна следует за ней: куда бы она ни направилась, луна плыла в ту же сторону. К утру девушка достигла пустыни, рухнула на песок и немного отдохнула. Потом заметила в отдалении хижину. Перед хижиной лицом к солнцу стоял престарелый отшельник и молился. Увидев приближающуюся красавицу в шелковых одеждах, отшельник воззрился на нее, словно на привидение. Потом вбежал в хижину, упал на колени перед священной книгой и так сказал сам себе: «Бог испытывает меня. Я должен побороть искушение. Да и ко всему прочему старый я уже человек. Выйду из хижины, дам девушке воды». Девушка рассказала отшельнику, что не хотела попасть в султанский гарем и потому сбежала из Стамбула, а теперь желает остаться здесь, жить рядом с отшельником и найти путь к Богу. Отшельник отвечал, что лучше бы она продолжила путь: там, за барханами, живет другой пустынник, который куда лучше сможет объяснить ей, как приблизиться к Богу. И девушка под палящим солнцем пошла дальше. К полудню она добралась до хижины второго пустынножителя. Тот сначала решил, что увидел мираж, протер глаза и посмотрел снова. Перед ним стояла длинноволосая, крутобедрая пери. Такого трудного испытания еще не выпадало в жизни отшельника. «Если Бог подвергает меня столь великому искушению, должно быть, я уже близок к святости», – подумал он, тут же упал на колени, простирая руки к небу, и возопил: «Господи! Я стар, но во мне еще живут плотские желания. Тело мое пылает, кровь кипит, но я устою, не поддамся шайтану!» Затем отшельник взял чашу, налил в нее воды и вышел к девушке. Та жадно припала к чаше, а несколько капелек, соскользнув с ее губ, скатились вниз по шее. Прищурив глаза, девушка взглянула на отшельника и сказала: «Приюти меня, позволь жить рядом с собой, укажи мне путь к Богу!» Отшельник вздохнул: «Ах, доченька! И хотел бы я показать тебе путь к Богу, но есть человек, который сделает это лучше меня. Перейди через эти барханы, и попадешь к подвижнику, который живет там, где заходит солнце. Там ты познаешь Божественную истину». Что такое пустыня? Что там можно найти, кроме песка и солнца? Одинаковые песчинки, одинаковые барханы, одинаковые пустынножители. Все похожи один на другого, все говорят одно и то же. А раскаленное солнце все пылает и пылает в небе. Шла девушка, шла, устала. Когда солнце уже готово было скрыться за горизонтом, она перевалила последний бархан и увидела внизу хижину. «Вот самое прекрасное место во всей пустыне!» – сказала сама себе девушка. Перед хижиной она обнаружила отшельника, который выглядел помоложе, чем предыдущие. Он стоял на коленях лицом к заходящему солнцу и молился. Обернувшись на голос девушки, он увидел перед собой настоящую пери, босоногую, с пышными юными грудями. Настоящий дар божий! Отшельник подхватил девушку, которая падала с ног от усталости, и отнес в хижину. Смочил ее лоб, шею и потрескавшиеся губы влажной тканью и до утра сидел у ее изголовья. Господь избирает различные пути, чтобы показать человеку сотворенную им красоту. Роза в саду, вода в пустыне, звезды в небе красивы. Но красота девушки-пери была отражением самого рая. Путь к Богу лежал через поиск этой красоты. В ее-то поисках нестарый еще отшельник и забрался в самое сердце пустыни. Когда небо начало светлеть, девушка открыла глаза и посмотрела на него. «Я не хочу возвращаться во дворец, – сказала красавица, – позволь мне жить рядом с тобой, укажи мне путь к Богу». Они вышли из хижины, преклонили колени перед поднимающимся солнцем, закрыли глаза. Бог был с ними. День они провели, собирая листья и готовя ложе для девушки. Ночью легли спать рядом. Отшельник видел жаркие сны, долго думал, как ему быть, и наконец надумал. «Готова ли ты всем своим существом служить Богу?» – спросил он девушку. Та была готова. «Тогда слушай. Главный враг Бога – шайтан. Бог ввергает его в ад, но он находит способ сбежать. Долг человека – помогать Богу. Повторяй за мной то, что я делаю». Отшельник снял с себя одежду. Девушка тоже сбросила свои шелка. Тем временем стемнело, небо раздалось вширь и наполнилось звездами. Нагие, они опустились на колени и устремили взгляд на полную луну. Так они стояли, словно молясь, но тут в облике отшельника кое-что начало меняться. Его мужской орган мало-помалу ожил и поднялся. «Что это?» – спросила девушка. «Это и есть шайтан, – ответил отшельник, – он причиняет мне муки». Девушка удивилась, пригляделась, насупила брови. Жалко ей стало отшельника. А тот вдохновенно провозгласил: «Я знаю, зачем Бог направил тебя сюда. Он желает увидеть, ввергнем ли мы моего шайтана в твое адское пламя. Господь испытывает нас обоих. Мы должны друг другу помочь». Девушка ответила ему преданным взглядом и заверила, что готова сделать все, что понадобится, дабы почтить Бога. Отшельник встал и отвел девушку в хижину. Проснувшись на следующее утро, они улыбнулись друг другу. «Шайтан и в самом деле, должно быть, главный враг Бога, – сказала девушка. – Войдя в меня, он рассвирепел, обезумел от адского огня. Я считала: этой ночью мы ввергли его в геенну целых шесть раз». – «Нам необходимо будет делать это и впредь. Путь к Богу требует упорства», – ответил отшельник и залез на девушку, чтобы еще раз ввергнуть шайтана в адское пламя. «В мире нет наслаждения, подобного этому, – прошептала девушка чуть позже. – Как глупо заниматься чем-то другим, когда есть возможность посвятить себя Господу! Но вот о чем я думала всю ночь: почему Бог давным-давно не уничтожил шайтана? Если он хочет это сделать, но ему не хватает сил, значит он не всемогущ. Если же он обладает необходимой силой, но не хочет уничтожить шайтана, стало быть, попустительствует злу. И наконец, если он и обладает необходимой силой, и хочет уничтожить шайтана, почему же тот до сих пор существует?» Так они и проводили дни в пустыне: беседовали, спали и поклонялись Богу. Солнце каждый день вставало в одном и том же месте и в одном и том же месте заходило, только луна каждую ночь меняла свой лик. Однажды, когда отшельник сидел у стены хижины и смотрел вдаль, девушка стала жаловаться: «Я не желаю бездельничать и сидеть на месте, мне хочется служить Господу! Чего мы ждем со вчерашнего дня, почему не ввергаем шайтана в ад?» Отшельник улыбнулся: «Мы преподали шайтану урок. Пока он снова не наберется спеси и не поднимет голову, мы не сможем его наказать». Девушку этот ответ не успокоил. Она выглядела расстроенной. «Твой шайтан присмирел, – пожаловалась она, положив руку на живот, – но мое нутро пылает огнем. Моя геенна жаждет шайтана». Тут вдалеке показалось облако пыли, и через некоторое время к хижине приблизился отряд всадников. «Мы прибыли, чтобы забрать принцессу!» – объявили они, схватили девушку и ускакали, растворились в таком же облаке пыли. А добравшись до Стамбула, передали девушку дворцовым лекарям и служанкам. Те искупали ее в ванне с розовой водой и усадили перед зеркалом. Украсили волосы лентами, умастили кожу ароматным маслом, подвели глаза сурьмой. Приведя таким образом девушку в надлежащий вид, ее отправили в распоряжение пожилых женщин. Те стали расспрашивать, как она жила в пустыне. «Я поклонялась Богу, – сказала девушка, – каждый день совершала благочестивые деяния. Раздвигала ноги, а отшельник ввергал шайтана в мой ад. Я узнала, что благочестие приносит человеку блаженство. Как жаль, что я не смогу больше служить Богу!» Пожилые женщины на миг остолбенели, а потом расхохотались. «Не печалься! – утешили они девушку. – Здесь тоже найдутся желающие разделаться с шайтаном во славу Господа!»
И я тоже рассмеялся, как будто сидел там, во дворце, рядом с теми пожилыми женщинами. Попытался повторить последнюю фразу, но не смог – захлебнулся смехом.
Дядя Кюхейлан и Демиртай хохотали пуще моего. Сон и смех в минуты, свободные от боли, шли им на пользу. Взгляд становился бодрее, оживал сорванный во время пыток голос. Переглянувшись точь-в-точь как обитательницы гарема, они снова рассмеялись, на несколько мгновений забыв, где находятся. А может быть, они потому так и смеялись, что ни на миг не могли забыть об этом.
Попав в тюрьму, первые несколько дней человек не способен осознать, что с ним случилось. У него не получается совместить в сознании самого себя и камеру. Потом он начинает думать о времени. Когда жили люди, оставшиеся в городе наверху, – несколько недель или несколько столетий назад? Есть ли разница во времени между тем, что происходит здесь и во дворце? Разговаривая друг с другом, мы понимали, что не свалились сюда из пустоты, а пришли из времени, текущего за пределами тюрьмы. Но из какого? Пытаясь понять это и напасть на след настоящего времени, мы рассказывали друг другу истории.
Студент Демиртай перестал смеяться.
– До самой последней сцены все, о чем ты говорил, оживало перед моими глазами, словно фильм. Плывущий по волнам корабль, бредущая по пустыне девушка, звезды над хижиной, приближающееся облако пыли… Потом пленка оборвалась. Начав смеяться, я выпал из времени этой истории и вернулся в тюремное время. Едва прозвучала последняя фраза, все картины, нарисованные моим воображением, стерлись.
– Позавчера, когда дядя Кюхейлан поведал нам историю про волка, ты говорил то же самое: рассказ оживал у тебя перед глазами. Ты хочешь стать кинорежиссером?
– Да, мне хотелось бы стать режиссером, чтобы снять на пленку все эти истории. Хотя некоторые, может быть, уже сняты…
В разговор вступил внимательно слушавший нас дядя Кюхейлан:
– Что, эту историю тоже все знают?
– А ты ее не слышал?
– Нет, не приходилось.
– Ну вот, значит, мы впервые рассказали историю, которой ты не знаешь. Повезло тебе!
– Я, Доктор, конечно, хорошо знаю Стамбул, но историй о нем, которых я еще не слышал, все равно очень много. И мой отец, возвращаясь из Стамбула, каждый раз говорил, что узнал что-то новое, услышал о каких-то новых интересных людях и событиях, с восторгом нам о них рассказывал. Он говорил, что улицы Стамбула становятся все шире, а дома – все выше и от этого возникает ощущение бесконечности. Как в пустыне. Под бескрайним небом существует множество непохожих друг на друга миров. Человек в Стамбуле, с одной стороны, уверен, что вся Вселенная в его руках, а с другой – ему кажется, будто он затерялся в этом огромном городе; его восприятие и самого себя, и города каждый день меняется. Однажды отец повстречал на берегу Золотого Рога пожилого мужчину, который держал в руке круглое зеркальце. То в зеркальце посмотрит, то на противоположный берег. Отец присел рядом с ним, поздоровался. Некоторое время они молчали, а потом пожилой заговорил: «Вот, смотрю в зеркало и вижу, какой я некрасивый. В молодости я таким не был. Полюбил одну девушку, женился на ней. У нас родились дети. Мы прожили вместе сорок счастливых лет. На прошлой неделе моя жена умерла, мы похоронили ее вон на том склоне, на кладбище рядом с холмом Пьера Лоти[24]. Когда закрылись глаза моей жены, ушла в прошлое и моя красота. Как быстро пролетели годы! Теперь, глядя в зеркало, я замечаю, что постарел и подурнел».
Дядя Кюхейлан подобрал ноги, сел прямо, прислонившись к стене, и продолжил:
– Рассказав об этой встрече, отец прибавил, что таких людей, которые в прошлом считали себя красавцами, а теперь не находят в себе никакой красоты и то же самое думают о Стамбуле, становится все больше. «Я покажу вам время этих людей», – сказал отец, зажигая лампу. Тени его пальцев явили на стене птицу с широкими крыльями. «Смотрите, – произнес отец, – это птица времени. В прошлом она летит, летит, летит. А долетев до сегодня, перестает махать крыльями и, застыв, парит в воздухе. Таково стамбульское время. В прошлом оно машет крыльями, а долетев до нас, медленно плывет в пустоте».
Дядя Кюхейлан посмотрел на свои огромные ладони. Растопырил пальцы, словно перья.
– В детстве, – продолжал он, – мне, хотя я и поверил в птицу времени, не удавалось представить себе Стамбул, о котором рассказывал отец. А теперь, в тюрьме, я понимаю, о чем он говорил. Каждый раз, открывая глаза, я вижу над собой птицу с черными неподвижными крыльями – птицу времени.
Мы подняли головы и взглянули вверх, в непроглядную черноту – так, словно впервые видели столь густую тьму и боялись, что она нас поглотит. Кто прошел сквозь этот мрак до нас? Кто остался жив, кто навсегда закрыл здесь глаза? С каждым днем мы все больше забывали жизнь наверху, как будто родились не там, а под землей. Мы знали, что противоположность холоду называется теплом, но что это такое, не могли вспомнить. Словно живущие в почве черви, мы привыкли к темноте и влаге. Если бы не пытки, мы могли бы жить здесь бесконечно. Нам вполне хватило бы для этого хлеба, воды и немного сна. Если встать сейчас и потянуться, достали бы мы до тьмы под потолком? Смогли бы дотронуться кончиками пальцев до птицы времени, что парит там, раскинув неподвижные страшные крылья?
– Дядя Кюхейлан, – заговорил я, – когда-нибудь мы отсюда выйдем. Прогуляемся вместе по Стамбулу. Потом заглянем ко мне домой, сядем за столик на балконе, откуда видно море. Ты будешь рассказывать истории, а я слушать.
– Почему это я буду рассказывать, а не ты?
– Тебе известно гораздо больше историй, чем записано в книге «Декамерон», дядя Кюхейлан. А ты любишь ракы? Нальем себе по стаканчику, ты будешь рассказывать, а я – слушать.
– Красота! Может быть, сегодня вечером устроим ужин с ракы, а, Доктор?
– Хорошая мысль. Ужин приготовлю я. Пожарю рыбу. На как мы поймем, что настал вечер?
– Поскольку у нас нет часов, мы – хозяева времени. Захотим – настанет вечер, захотим – утро.
Студент Демиртай выпрямился и спросил с видом шаловливого ребенка:
– А меня пригласите? Вы ведь не лишите меня ракы под тем предлогом, что я еще слишком юн?
Мы с дядей Кюхейланом переглянулись, изобразив на лицах сомнение.
– Дядя Кюхейлан, – продолжал Демиртай, – если хотите, я схожу на пристань, к рыбакам. Я знаю, где продается самая лучшая рыба. Заодно зайду к зеленщику, куплю всего, что нужно для салата, а потом в бакалейную лавку на углу – за ракы. Возьму большую бутылку.
– Рано еще.
– Что? Так ведь уже скоро вечер, солнце спускается к крышам, воздух на улицах звенит от голосов детей, возвращающихся домой из школы!
– Торопиться некуда, надо сперва немного подумать.
– Дядя Кюхейлан, если пустите меня за стол, я вам скажу отгадку моей вчерашней загадки.
– Какой загадки?
– А потом, если хотите, еще одну загадаю…
Дядя Кюхейлан помолчал, затем медленно заговорил:
– Значит, так. Спустишься к морю, выберешь самую лучшую рыбу. На обратном пути купишь ракы и все для салата. Договорились?
– Вам даже не нужно будет на улицу выходить. Усаживайтесь себе на балконе, беседуйте, рассказывайте истории. Я куплю все, что надо, и вернусь еще до того, как на улицах начнется вечернее столпотворение. По дороге послушаю, о чем говорят люди на рыбном рынке и в автобусе, узнаю, был ли сговор на последних скачках, в каком квартале недавно случился пожар, какой певец на днях развелся. И газету куплю.
– Лимон не забудь, – вмешался я в разговор. – Ужин приготовлю сам и на стол тоже накрою. Налью ракы в стаканы. Когда в городе один за другим начнут загораться огни, я включу для вас музыку на магнитофоне.
– Да, музыку надо будет послушать, – согласился дядя Кюхейлан. – Но если я, набравшись немного, начну петь, вы меня остановите, пожалуйста. Есть люди, которые славятся красивым голосом, а я прославился тем, что голос у меня препоганый. Наши деревенские с дороги сворачивали, услышав, что я пою. – И дядя Кюхейлан рассмеялся.
– У меня голос тоже скверный, – пожаловался я. – Когда пью ракы, сам не пою – слушаю, как поет жена. Такой красивый голос, как у нее, большая редкость.
– А она сама любит ракы?
– Любила. Она давно уже умерла. Когда узнала, что больна, втайне от меня напела несколько кассет с песнями. Знала, что это лучший способ до конца моей жизни составлять мне компанию за столом. По вечерам я включаю магнитофон, сажусь за стол, наполняю стакан и подолгу смотрю на Стамбул. Представляю себе, что огоньки по обе стороны Босфора горят в сказочной стране пери. Стены и башни дворца Топкапы справа от меня – замок их султана. Слева светятся огни Девичьей башни и казарм Селимийе, а в хорошую погоду можно разглядеть, как мерцают вдали Острова. Сам того не замечая, я допиваю второй стакан, наливаю третий. Голос жены поет старинную песню. Песню о разлуке. Разлука – это город по ту сторону надежды. Оттуда никогда не приходит вестей. Зови – не дозовешься, жди – не дождешься; вместо утешения является грустный вечер. Ракы в бутылке все меньше, звезд на небе все больше. Жена заводит новую песню. Вокруг распускаются цветы. Ночь качается, словно хрустальная люстра. Издалека доносятся гудки пароходов, быстрые чайки чертят линии в небе…
Я поднял голову и посмотрел вверх. Повернет ли парящая над нами птица времени, укажет ли нам путь во тьме? Сможем ли мы и в самом деле когда-нибудь выйти отсюда и, сидя на балконе с видом на Босфор, беседовать и любоваться Стамбулом?
– Дядя Кюхейлан, – снова заговорил я, – сейчас я уподобился человеку, которого твой отец встретил на берегу Золотого Рога. Мне кажется, что, вспоминая жену, я тоже начинаю думать, будто былое счастье принадлежит только прошлому.
Демиртай бросил на меня любопытный взгляд.
– Первый раз вижу тебя грустным, Доктор, – произнес он.
– Грустным? А я и не заметил. Предпочитаю здесь думать о хорошем, а грусть оставлять за столом с ракы.
– Вы же пригласите меня за этот стол, правда? По крайней мере, так я понял по вашим словам.
Я не ответил – ждал, что скажет дядя Кюхейлан.
Тот, еще некоторое время посмотрев на Демиртая изучающим взглядом, произнес то, что от него ждали:
– Ты умный мальчик. Добро пожаловать к столу! Выпьем вместе.
Но Демиртай, вместо того чтобы обрадоваться, скроил кислую мину и наклонился вперед:
– Дядя Кюхейлан, а нельзя ли не называть меня мальчиком? Раз мне можно пить ракы, я уже не мальчик.
– Да это я так, по привычке, Демиртай. Ты уже взрослый мужчина.
Демиртай с довольным видом выпрямился, снова прислонился к стене и спросил:
– А Зине Севда? Ее пригласим?
– Хорошая мысль. Надо ей сказать.
В щель под дверью подул морской ветер. Мы все посмотрели в ту сторону. Ветер, скользнув по бетонному полу, принес к нашим босым ногам запах соли и водорослей. По щиколоткам побежал холодок, но это быстро прошло. Порой ветер, как сейчас, приносил запах моря, порой – сосен или счищенной с апельсинов кожуры; мы старались удержать в себе это мимолетное ощущение и надышаться ветром, прежде чем он, оставив нашу камеру, устремится назад, к Босфору. И каждый раз нам было мало, хотелось еще. Может быть, если бы мы чуть сильнее верили своему воображению и безогляднее отдавались мечте, нам удалось бы даже расслышать грохот волн, вздыбленных южным штормовым ветром, и рокот двигателей рыбацких шхун.
– Доктор, – заговорил дядя Кюхейлан, словно пожилой рыбак, пытающийся перекричать шум бури, – напомни, как называется та книга, о который ты недавно говорил? Та, где много историй?
– «Декамерон»?
– Да, она. Название какое-то странное, в голове не удержалось.
– Да и сама книга странная. В одном городе началась эпидемия чумы, и несколько знакомых между собой мужчин и женщин решили уехать оттуда, переждать чуму на загородной вилле. Если способ избежать смерти – бегство, то способ убить время – беседа. Десять вечеров подряд, собираясь у камина, они рассказывали друг другу истории. «Декамерон» на древнем стамбульском языке означает «десять дней», отсюда и название книги. Говорили они о любви и о плотском влечении, обсуждали слухи и сплетни и много смеялись. Заглушали страх перед чумой с помощью легкомысленных историй, среди которых был и рассказ о сбежавшей в пустыню принцессе.
– О сказках, которые рассказывали тысячу и одну ночь, я слышал, а об историях, рассказанных за десять дней, – нет. Почему отец мне о них не говорил? Наверное, просто других историй было много, до этих очередь не дошла?
– Может быть, он тебе их и рассказывал, но не уточнял, откуда они взяты.
– Кто его знает… – задумчиво пробормотал дядя Кюхейлан, помолчал, словно пытаясь разом припомнить все сюжеты, хранящиеся в его памяти, и спросил: – Город, в котором разразилась эпидемия чумы, – это Стамбул?
– Видишь ли, дядя Кюхейлан, для нас любой город – Стамбул. Если маленький мальчик заблудился в темноте на узких улочках, это происходит в Стамбуле. Юноша, пускающийся в странствия, чтобы найти свою возлюбленную; охотник, мечтающий изловить черно-бурую лисицу; корабль, идущий сквозь бурю; принц, желающий держать в своей руке, словно алмаз, весь мир; последний бунтовщик, поклявшийся не сдаваться; девушка, сбежавшая из дома с мечтой о карьере певицы; воры, поэты и сказочные богачи – все рано или поздно оказываются в Стамбуле. Во всех историях рассказывается о нем.
– Ты говоришь как мой отец. Он утверждал, будто в Стамбуле – что под землей, что на поверхности – парит над головой, не шевеля крылами, похожая на темную тень птица времени. Отец знал тайну этого города, но не говорил о ней прямо, а намекал в своих историях. Стамбул не часть чего бы то ни было, а совокупность частей. Вот что он пытался нам объяснить. Может быть, он тоже узнал эту тайну в каком-нибудь похожем на здешнее месте, под землей.
– То, что узнал твой отец, сейчас узнаём мы.
– Но людям из «Декамерона» повезло больше нашего. Они бежали из города и спаслись от смерти, а нас бросили на самое дно города, во тьму. Мы бы сейчас что угодно отдали, только бы очутиться не здесь, а среди тех рассказчиков, так ведь? Они на виллу отправились по своей воле, а нас здесь заперли против нашего желания. Еще хуже то, что они от смерти отдалились, а мы к ней приблизились. И если наш Стамбул – тот же самый город, что и в «Декамероне», то истории наши, как мне думается, текут в разных направлениях. Так?
– Ты прав, дядя Кюхейлан, – ответил я, но не договорил – раздался скрежет железной двери.
Мы замерли в напряженном ожидании. Переглянулись, потом посмотрели на прорезь и стали прислушиваться, не донесутся ли из коридора голоса. Вот уже второй день каждый раз, когда открывалась железная дверь, мы в страхе начинали гадать: поведут ли кого-то на пытки или это просто доставили еду? Сегодняшнюю кормежку принесли несколько часов назад. Сейчас будут менять охрану. Или пришли взять папку с чьим-нибудь делом, возьмут и уйдут. Я изо всех сил пытался придумать еще какой-нибудь вариант, при котором нас оставили бы в покое в нашей камере. Нам здесь хорошо, мы всем довольны, только бы не водили нас на допросы и позволяли сидеть, прижавшись друг к другу, беседовать и дремать вполглаза, словно кролики. Мы не берем за меру счастливую жизнь наверху. Тот мир для нас лишь далекое и давнее воспоминание. В тюрьме единственная мера – боль. Когда ее нет, ты счастлив. И мы готовы довольствоваться этим. Как бы нам счастливо жилось, если бы нас оставили в покое!
– И это пройдет, – сказал дядя Кюхейлан. Не мне, Демиртаю.
Заметно побледневший студент изо всех сил пытался разобрать доносившиеся из коридора звуки. То были не обычные разговоры охранников; в коридор вошло не меньше десятка людей, их голоса сливались в неразборчивый гул. Иногда они переходили на шепот, порой громко смеялись. Ясно было, что двухдневные выходные закончились. С кого начнут? С нас? С девушки из камеры напротив? Или двинутся дальше по коридору?
– Правда пройдет? – слабым голосом спросил Демиртай.
– Конечно. Каждый раз ведь так было. Отчего же теперь должно быть иначе?
– Раньше, когда меня пытали каждый день, я чувствовал, что готов к этому. Но за два дня я размяк, привык к покою. Теперь мне будет еще больнее.
– Демиртай, боль всегда одинакова. Какая была в начале, такая и теперь. Сколько раз нас уже водили на допрос? Пойдем еще раз и вернемся уверенными в себе.
Страх постоянно жил у нас в груди, маленькими мышиными зубками грыз нам сердце. Мы очень часто сомневались в себе. Сможем ли устоять против обжигающего разум огня боли, удержаться на грани безумия? Когда тело пронзали электрические разряды, мы теряли способность думать, но какая-то искорка в глубине сознания не потухала, привязывала нас к жизни. Существовал ли мир за пределами этих стен? Было ли у нас какое-то будущее? Когда наши тела наливались тяжестью, мы ощущали, как всю Вселенную охватывает тревога и Луна ускоряет свое вращение вокруг Земли, а Земля все быстрее обращается вокруг Солнца. Нескончаемая боль скручивала и время, и наш разум.
– А может быть, – прошептал я, – никого и не заберут. Постоят еще немного и вернутся туда, откуда пришли.
Я тоже за два дня, как и Демиртай, успел привыкнуть к покою и даже готов был поверить, что меня больше никогда не поведут на допрос. Может быть, следователи забыли про нас или же им надоело спускаться так глубоко под землю? Мы напоминали зверей, которых время от времени кормят, а потом предоставляют самим себе. Мы трогали влажные стены, нюхали воздух, прижимались друг к другу. Когда нас звали, подходили, когда прогоняли, отходили. Напрягали слух, прислушивались, словно в первый раз, к медленно приближающимся шагам.
– Когда мы вернемся, я дам ответ на твой вопрос, – сказал дядя Кюхейлан.
– Какой вопрос? – с любопытством отозвался Демиртай.
– Ты что, забыл о своей загадке? Про пожилую женщину, которая сказала, что девочка рядом одновременно ее внучка и сестра ее мужа? Я долго думал и понял, как такое может быть. Когда вернемся, поговорим об этом за стаканчиком ракы.
Лицо Демиртая просветлело, словно у ребенка, готового поверить лукавящему взрослому.
– Хорошо. А у меня для тебя еще одна загадка есть. До утра из-за стола не встанем. Хорошо?
– Конечно, Демиртай. Пить за одним столом с тобой для меня честь.
Дверь открылась. Внутрь штормовой волной хлынул свет. Мы закрыли ослепленные глаза руками.
– Вставайте, подонки!
Мы медленно встали. Следователи вывели из камеры сначала Демиртая, потом дядю Кюхейлана. Мне велели остаться. Остаться? Я одновременно радовался за себя и жалел уходящих друзей. Смотрел, как они идут: Демиртай – опустив плечи, дядя Кюхейлан – спокойно, уверенно. Их ждала боль, которой не испытаю я, и мне было страшно за них, но при мысли о том, что меня не будут пытать, что лицо мое не будет залито кровью, на душе становилось легче. Боль неизбежна, но на этот раз она пройдет мимо, заберет других. Я знал, что инстинкт заставляет нас думать в первую очередь о себе и своей выгоде. Мне рассказали об этом еще на первом курсе университета. Однако у человека есть не только инстинкты. Мы готовы были терпеть боль, готовы были выносить пытки ради тех, кого мы любим.
– Ты тоже вставай, урод!
Эти слова были обращены к парикмахеру Камо. Последние два дня тот никак не общался с нами, сидел, прислонившись к стене, и постоянно дремал, словно старая черепаха. Теперь он пошевелился, что-то бормоча про себя, поднял голову и посмотрел на следователей. Встать он даже не попытался. Взгляд его застыл, устремленный в одну точку.
– Кому говорю, сволочь, встать! – В голосе следователя послышалась злоба.
Парикмахер Камо казался частью стены. Спина вросла в кирпичи, ноги присохли к полу. Вспомнить, сколько он там просидел, было невозможно. Вздохнув со скучающим видом, Камо снова пошевелился, дотронулся до стены и поднялся на ноги. Очевидно, он наконец поверил, что его тоже заберут, но в его движениях не чувствовалось ни страха, ни облегчения – только абсолютное безразличие. Во сне он много раз видел, как его ведут на допрос, но каждый раз, открыв глаза, оказывался на прежнем месте. Почему, когда всех остальных подвергали пыткам, он все ждал и ждал своей очереди? Почему, когда всех остальных выводили через железную дверь, он спал в камере? Мучаясь этими вопросами, Камо впадал в ярость из-за того, что мастера пыточных дел не терзают его тело. Он надеялся, что физическая боль облегчит страдания его души. День за днем он ждал этого.
Камо сделал шаг к двери и прошел между следователями в коридор. Тащить его и подталкивать не было нужды. Его заветная мечта сбылась, и ему плевать было, что ждет его в конце коридора, за железной дверью. Следователи ушли не сразу.
– Тащите эту сволочь сюда, к Доктору, – сказал один из них.
К камере, схватив за волосы, подвели человека в перепачканной кровью одежде и втолкнули внутрь, прямо на меня. Мы упали, я ударился головой о стену и чуть не сломал руку. Дверь захлопнулась, в камере снова стало темно. Немного придя в себя, я встал и посмотрел на оставшегося лежать человека. Тот стонал.
– Как ты? – спросил я, помогая ему подняться.
Незнакомец с трудом сел, прислонился к стене.
– Рана болит, – проговорил он.
– Куда тебя ранили?
Его волосы, лицо и шея были залиты кровью, но держался он за икру левой ноги.
– Вот сюда. Рана огнестрельная.
– Огнестрельная?
– Да, два дня назад меня схватили после перестрелки. Пулю вытащили в больнице, а потом отвезли сюда. С самого утра пытали.
Когда я протянул руку, чтобы ощупать его ногу, он напрягся, нахмурил брови. Пациенты не любят, когда трогают их раны. Начав работать в больнице, я в первые годы находил такое поведение странным и пытался понять, чем оно объясняется, а потом заметил, что не только больные, но и вполне здоровые стамбульцы стараются избегать прикосновений. В прошлом, когда людей постоянно преследовали заразные болезни вроде чумы или холеры, они все-таки не испытывали такого отторжения от тел ближних. Со временем на смену заразным недугам пришли те, которыми каждый страдает в одиночестве: рак, диабет, инфаркт, а люди отгородились друг от друга и живут словно в скорлупе. Утверждая: «Я – человек», ты теперь тем самым заявляешь о своем желании отграничить себя от других, установить между вами дистанцию. Стоит ли удивляться, что в наше время, когда не только чужие люди, но и друзья избегают физического контакта, пациент в кабинете врача ощущает себя запертой в клетке кошкой? Подобное беспокойство нельзя объяснить одной лишь тревогой за свое здоровье. Мне даже казалось, что в наши дни Стамбул способна опустошить не эпидемия чумы, а лишь эпидемия прикосновений, когда люди, страшась одной мысли о том, что до них могут дотронуться, сбегут прочь из города.
– Позволь осмотреть твою рану. Я врач.
Штанина незнакомца была распорота по шву, в прорехе виднелся белый бинт: рану перевязали. Я осторожно приподнял повязку и повернул ногу к падающему сквозь прорезь в двери свету.
– Кровотечения нет. Швы держатся.
Возвращая повязку на место, я заметил, что незнакомец немного расслабился и уже спокойно наблюдает за моими действиями.
– Холодно, – пожаловался он.
Я приложил руку к его лбу:
– У тебя жар. Но это нормально после ранения. Не беспокойся, заживет.
– Надеюсь.
Я взял кусок хлеба и ломтик сыра, лежавшие рядом с бидоном, и протянул незнакомцу.
Тот замер, как будто увидел что-то непонятное. Я положил хлеб в его ладонь. Незнакомец некоторое время нерешительно разглядывал его, потом откусил немного – и в два счета сжевал весь кусок. Тяжело дыша, потянулся к бидону, напился и сказал:
– Меня зовут Али. Все меня знают по прозвищу – Али Кремень.
Я знал это прозвище. Мало того, оно было вбито в мою память, словно гвоздь. Я наклонился, чтобы лучше рассмотреть его лицо. Сросшиеся брови, морщины на лбу. Лет тридцать, наверное. Выглядел он старше моего сына.
– А я – Доктор, меня все так называют.
– Доктор… Из клиники «Джеррах-паша»?
– Да.
Мы знали друг о друге, но никогда прежде не встречались. Наша встреча, которая должна была состояться несколькими неделями раньше на какой-нибудь из красивых стамбульских улиц или в кафе на набережной, произошла только теперь, в камере. Но мы были еще живы, а значит, путь наш пока не подошел к концу. Он изучал меня с тем же любопытством, что и я его.
– Я думал, ты молодой человек, студент медицинского факультета[25].
Нужно ли сказать ему правду?
Когда моя жена заболела раком поджелудочной железы, ей захотелось быстрее умереть, чтобы не терпеть невыносимую боль. «Сделай мне инъекцию, спаси меня!» – попросила она. В самом начале нашего знакомства мы, двое неопытных влюбленных, бродили по всему Стамбулу и, как было принято в те годы, на каждой пристани загадывали желание, в каждом парке срывали цветок и гадали на его лепестках, сколько будет у нас детей. Как хочется в этом возрасте знать свое будущее! Где мы будем жить через десять лет, что будем делать через двадцать? Что с нами станется через полвека, мы даже не могли себе представить, только мечтали к этому возрасту вдоволь насладиться жизнью. Моя жена слишком рано подошла к границе страны под названием Смерть и теперь хотела перейти ее без боли. «Дорогая моя, если ты хочешь, чтобы мы умерли вместе, я сделаю инъекцию и тебе, и себе», – сказал я. Она попыталась улыбнуться: «Нет, тебе нужно жить. Ты должен увидеть, как вырастет наш сын, а потом – его дети, и только затем прийти ко мне. Но не раньше».
Когда наш сын вырос в молодого мужчину, мне захотелось, чтобы он поскорее женился, – в том числе и для того, чтобы сбылась мечта его матери. Но он ушел из дому, на последнем курсе стал прогуливать занятия на медицинском факультете. Он выбрал другой путь – присоединился к одной из революционных группировок, которых стало в городе так много. Отовсюду приходили известия о перестрелках. Гибли люди. Я следил за событиями, читая газеты. Вздрагивал, встретив имя, похожее на имя сына, или фотографию похожего человека. Порой, когда я садился на пароход, или проплывал на нем под темной тенью моста, или ночью, не в силах заснуть, выходил побродить по набережной, мой сын вдруг появлялся рядом и крепко обнимал меня. Я вдыхал родной запах, похожий на запах его матери, прикасался пальцами к его коже, смотрел в лицо, черты которого все больше заострялись, пытался поймать свет в усталых глазах. «Не беспокойся, отец, со мной все хорошо. Эти дни пройдут». Но они не проходили. Шло время, и мне становилось все тревожнее.
Однажды дождливым осенним утром я рано вышел из дому и направился, спрятавшись под зонтом, в больницу, до которой идти было минут пятнадцать. Сын нырнул ко мне под зонт, взял под руку: «Не останавливайся, пойдем дальше». Он насквозь промок, как бездомный пес. Дрожал, кашлял, прикрывал рот платком. Я поймал такси, отвез его в больницу. Оказалось, у моего сына туберкулез. Он заболел туберкулезом в городе, где почти не осталось заразных болезней, а люди стали избегать прикосновений. Заплатил за убеждения собственным здоровьем. Когда мы с ним спорили, он говорил: «Отец, добро, как и зло, заразно», – и вот надо же было именно ему подхватить заразную болезнь! Старый город умер, новый никак не рождался. Из-под земли доносился гул. Гнилостный запах не могли смыть никакие дожди. Окрыленные мечтами молодые ребята были похожи на корабли, что пускаются в путь к укрытым дымкой пределам океана и в конце концов разбиваются о скалы. Да и когда этот город любил своих сыновей? Кого и когда он жалел? Однажды, когда я сказал это своему сыну, он ответил: «Отец, наша задача – не просить о любви, а творить ее. Ради этого все наши усилия».
Сын, сумевший преподать урок жизни отцу, теперь лежал на больничной койке без сознания, трясся в ознобе и бредил. Его подушка промокла от текущего со лба пота. Я весь день просидел у его изголовья, прислушивался к дыханию, мерил температуру. Ночью, когда в опустевших больничных коридорах слышались лишь изредка тихие шаги медсестер, мой сын открыл глаза и прошептал: «Мне надо встать, завтра у меня встреча». Даже если бы я разрешил ему уйти из больницы, он просто не смог бы этого сделать. «Отец, это очень важно. Речь идет о жизни моих товарищей. Завтра я должен встретиться с одним из них». Кроме туберкулеза, у него были проблемы с почками и желудком. Вот цена пренебрежения своим здоровьем. Ему еще долгое время требовалось провести в постели. «Сынок, если это так важно, пойду вместо тебя, не переживай», – сказал я. Он не ответил, только закрыл глаза и погрузился в глубокий сон. На лице у него появилось детски невинное выражение – точно такое я видел много лет назад, когда заходил ночью в его спальню. Мой мальчик вырос, но во сне он будто бы снова становился младенцем. Мне хотелось, чтобы он и проснулся с таким же выражением на лице, но нет – открыв на рассвете глаза, он посмотрел на меня взглядом, исполненным грусти. «Отец», – произнес он сдавленным голосом. Я склонился к нему, погладил по голове, сжал руку. «Да, сынок?» Я был готов отдать за него свою жизнь, которую когда-то сохранил по желанию его матери. Из груди сына вырывался хрип. «Отец, – продолжил он, – если бы это не было так важно, я бы тебя не отправил на встречу. Тебе нужно пойти в библиотеку Рагип-паши в Лалели и увидеться с одной девушкой. Она – посредник. Она скажет тебе, когда и где ты встретишься с человеком по имени Али Кремень. Имей в виду: встреча с Али состоится на час раньше того срока, который назовет девушка. Ни с ней, ни с ним я никогда раньше не сталкивался. Они решат, что ты – это я, тем более что знают меня под прозвищем Доктор, поскольку я учился на медицинском факультете. А если что-то пойдет не так или тебя задержит полиция, скажешь, кто ты такой на самом деле».
Когда мужчина обретает завершенность? Вскоре после родов жена призналась, что испытывает неведомое прежде ощущение: «Я чувствую, что стала целой, завершенной – как будто какие-то детали внутри меня наконец встали на место». На лице у нее проступило новое для меня, умиротворенное выражение. Глядя на нее, я испытывал зависть и любопытство. Что это за завершенность такая? Как мне достигнуть такого ощущения? Достаточно ли для этого делать добро другим людям или занять место сына? Вновь и вновь – сидя в одиночестве на набережной Босфора, ложась ночью спать, медленно идя по утрам на работу – я задавал себе этот вопрос: когда мужчина обретает завершенность? Теперь я задал его себе снова.
Когда-нибудь с этим вопросом столкнется и мой сын.
«Сынок, – сказал я ему, – я положил тебя сюда под чужим именем. Кто ты на самом деле, не знает ни одна душа. Тебе ничто не грозит».
Седьмой день Рассказывает студент Демиртай Часы с цепочкой
– В то утро, придя на работу, Шерафет-бей, директор библиотеки, расположенной в районе Бейазыт, никого не застал у двери. Обычно его прихода дожидались два любителя чтения, но сегодня он был один. Прислонившись к стене здания, много лет назад переделанного в библиотеку из конюшни при мечети, Шерафет-бей открыл пакет с печенкой. Потом присел на корточки, выложил мелко нарезанные кусочки на брусчатку и стал наблюдать, как собираются кошки. Потом отвлекся на голубей, разгуливающих под чинарой, – достал из сумки мешочек с пшеницей и принялся рассыпать ее горстями. Отношения между здешними кошками и голубями были мирными. Возвращаясь к дверям библиотеки, Шерафет-бей увидел, как с другой стороны подходят два его знакомца, любители почитать с утра пораньше. Он поздоровался и между делом заметил, что сегодня они опоздали на десять минут. Любители чтения посмотрели на часы и возразили: нет, они пришли вовремя. Шерафет-бей достал из жилетного кармана часы на цепочке. Выяснилось, что часы любителей чтения отстали. Шерафет-бей понимающе улыбнулся, однако позже, убедившись, что часы отстают у всех посетителей библиотеки, да и не только у них, осознал: со стамбульским временем что-то не так. Звонки в школах звенели на десять минут позже, киносеансы начинались через десять минут после указанного на афишах времени, пароходы отходили и причаливали с десятиминутным опозданием, но никто не замечал этого сдвига. Мальчишки-газетчики не кричали о нем по утрам на перекрестках. Шерафет-бей каждый день открывал библиотеку по своим собственным часам и всякий раз задумывался: отчего же все другие часы вдруг отстали? В общем, это длинная история, но я пересказываю ее вкратце. На одном краю света кончалась война, на другом – готова была начаться. Над Стамбулом повисла тяжкая атмосфера, гнет которой не облегчался даже запахом весны. Моряки отправлялись в море с подавленным видом; женщины, развесив постиранное белье, несколько дней потом забывали его снять. Шерафет-бей не мог смириться с тем, что часы у всех в городе отстают и завсегдатаи библиотеки приходят позже открытия. Нужно было что-то делать. И он начал обходить другие библиотеки: утром, как обычно, кормил кошек и голубей, до обеда работал, а потом, поручив свои дела помощникам, отправлялся в гости к коллегам. В читальных залах слышался тревожный шепот. Выпуск новостей на государственной радиостанции начинался на десять минут позже положенного, и с опозданием на десять минут звучал призыв к молитве с минаретов. Стамбульское время полностью изменилось, и единственными неврущими часами остались часы Шерафет-бея. Он не знал, что ему грозит опасность, что за ним следят люди с черными полицейскими значками. Понятно было, что попытка бороться с ошибками радиоведущих и муэдзинов обошлась бы слишком дорого, и Шерафет-бей решил, что должен спасти хотя бы библиотеки. Он неустанно рассказывал коллегам-библиотекарям о правильном времени и попранной истине, а еще о том, что поведение кошек и голубей, многие годы мирно уживавшихся в Бейазыте, изменилось: кошки стали злобными, голуби тревожно били крыльями. Мы должны позаботиться о времени, твердил он, должны донести истину до новых поколений. «Пока мои часы идут без остановки, пока есть кому каждый день их заводить, время на нашей стороне», – говорил он и верил в это всем сердцем. Однажды утром Шерафет-бей чудом увернулся от летевшей на него машины, днем в последний момент не стал пить купленный на улице отравленный шербет, потому что стакан показался ему грязным, но вечером, когда, возвращаясь с работы, он уже подошел к дверям своего дома, его настиг пущенный из темноты в спину нож. На крики жены сбежались соседи, вызвали врача. Шерафет-бей понял, что его жизненный путь подошел к концу, достал из кармана часы с цепочкой и отдал их жене. Та, взглянув на украшенную красными рубинами крышку, печально спросила: «Как же так может быть, что у всех часы идут неправильно и только у тебя – правильно?» Шерафет-бей ласково взглянул на жену, жестом попросил ее наклониться и под любопытными взглядами соседей что-то прошептал ей на ухо, а потом навсегда закрыл свои глаза. На следующий день его худое тело обмыли и после намаза, запоздавшего на десять минут, отвезли на кладбище, зарыли во влажную землю. Соседки поплакали о покойном, попричитали, а потом, продолжая всхлипывать, спросили у вдовы, что прошептал ей муж перед смертью. Вдова, плача, покачала головой и ответила так: «Что сказал мне муж, я не расслышала. Вы же знаете, я немного туга на ухо».
Последнюю фразу вместо меня повторил дядя Кюхейлан:
– «Я немного туга на ухо!»
Мы все вместе рассмеялись.
Сидя в камере, мы не испытывали боли, но всегда находились на ее пороге. Не так ли было и наверху? Там, среди небоскребов, трущоб, автомобильных гудков и безработицы, с нами в любой момент могла стрястись какая-нибудь беда. Огромный город, согревающий своих жителей искусственными мехами, способен был внезапно отвергнуть нас и сбросить в канализацию. Этот риск возбуждал наш аппетит, каждый день порождал все больше желаний. Мы верили, что приблизились к вратам рая, и полагали, что ад находится у нас под ногами. Оттого таким чрезмерным было наслаждение, таким неотступным – страх. Мы забывались смехом. Каждое чувство оказывалось не в меру раздутым, эгоистичным и, покидая нас, оставляло после себя мерзкий, липкий запах на нашей коже. Когда мы замечали это, нам еще сильнее хотелось изменить Стамбул.
После стольких дней допросов у меня, как у тех стамбульцев из истории про библиотекаря, отстали часы, и во время пыток я задавал сам себе больше вопросов, чем следователи. Я был не машиной, а человеком, и близился тот час, когда моя плоть и кости не смогут больше выносить боль. Я начал задумываться о том, как ее прекратить. Может быть, если я заговорю, это никому не повредит? Может быть, выдать следователям какие-нибудь незначительные сведения, чтобы эти костоломы остановились? Назвать какое-нибудь одно имя, один какой-нибудь адрес? Человек, чье имя я назову, давно уже скрылся и находится в безопасности, конспиративной квартиры по известному адресу давно уже нет. Так я пытался убедить самого себя. Я выдам только что-нибудь совсем-совсем неважное, я никого не подвергну опасности. Следователи убедятся, что им не лгут, а я спасусь от боли. Неужели нельзя так сделать? Размышляя об этом, я не мог понять, откуда проникают в мой мозг подобные слова. Должно быть, электрические разряды, прожигая тело, превращались сначала в боль, потом – в отчаяние и в конце концов – в мысленные промельки невинных словечек. Я приближался к какому-то рубежу и не мог понять, что меня ждет за ним.
Что мне делать, за что держаться? Я хотел посоветоваться с Доктором, но что он мог сказать, кроме того, что нельзя терять надежду? От моей слабости не находилось средства, вопросы в моей голове не имели ответов. Передо мной высилась окровавленная стена, и я не видел ничего, кроме нее. Я был одинок, как библиотекарь Шерафет-бей, веривший только своим часам, хотя все остальные часы в Стамбуле показывали другое время. В памяти всплыли чьи-то слова: «Великие мечты влекут за собой великое разочарование». Впервые в жизни я признал себя побежденным, и от этого было горько на душе. Я не сумел превозмочь боль, уготованную мне городом.
– Эту историю ты уже рассказывал, только кончалась она иначе, – заметил Доктор.
– Как в одну реку нельзя войти дважды, – парировал я, – так и в Стамбуле нельзя дважды рассказать одну и ту же историю.
Жизнь коротка, истории длинны. И мы хотели стать частью какой-нибудь из них, притоком влиться в реку под названием Жизнь. Потому и рассказывали одну байку за другой.
– Эти часы на цепочке, – вступил в разговор дядя Кюхейлан, – один из предметов моего любопытства, связанных со Стамбулом. Если верить отцу, красные рубины на их крышке сияли в темноте, как звезды. Всякий, кому случалось их увидеть, потом ночь за ночью смотрел на небо и, только обнаружив там звезды, похожие на рубины, убеждался, что часы показывают истинное время.
– В детстве я ходил в библиотеку, где часы всегда спешили на десять минут, – поделился Доктор. – В те времена о часах, украшенных рубинами, рассказывали много историй, и все они почему-то кончались по-разному, постоянно менялись. Ребенком я не придавал этому значения, но теперь эти часы на цепочке и меня заинтересовали.
– Как будто у нас нет в этой камере других печалей… – пробормотал я себе под нос.
Дядя Кюхейлан, сидевший рядом со мной, обернулся и поглядел на меня.
– А разве у нас есть другие печали, Демиртай? – спросил он так серьезно, будто сидел не на перепачканном кровью бетонном полу, а в какой-нибудь кофейне.
Мне захотелось улыбнуться. Но вместо этого я заговорил о трупе женщины, который видел накануне в помещении для допросов. Следователи время от времени развязывали мне руки и ноги и давали подняться, осмотреться вокруг. У стены лежала женщина. Без одежды. На ее коже живого места не было от кровоподтеков. Не возникало сомнений, что она мертва: ее губы и грудь не шевелились, она не дышала. Один из следователей подошел к телу и пнул его в живот. Потом еще раз. И еще. Затем наступил на пальцы и стал их плющить. При этом он глядел на меня, с любопытством ожидая, не исказится ли мое лицо, не сорвутся ли с губ какие-нибудь слова, и мотал головой в такт движениям ноги. Ему было весело. Возле руки женщины лежали часы с разбитым стеклом. Следователь заметил, куда направлен мой взгляд, и на некоторое время задумался, словно столкнулся с предметом неясного назначения. Потом наступил на часы ботинком, измазанным грязью и кровью. Медленно повернул ботинок на каблуке. Раздавил часовую и минутную стрелки, пружинки и шестеренки. Тело его двигалось вперед-назад, голова описывала круги в пустоте. На лице застыло бессмысленное, как у пьяного, выражение. И не только эти вполне обыкновенные часы крушил он своим ботинком, а словно самое прошлое и будущее, вчерашний день и сегодняшний. Кто мог бы его остановить? Он разрушал время, держал в своей руке смерть. Кровь, мясо и кости были на его стороне. Он не умел и не желал останавливаться. Под его ногой хрустели стрелки, со лба тек пот, набухали вены на висках. Подобно древним фараонам, он мнил себя не столько человеком, сколько едва ли не равным богам существом. Он был непогрешим и не ведал страха кары. Он повелевал болью, властвовал над жизнью и смертью своих жертв.
– Мне тоже показали эту женщину, – сказал дядя Кюхейлан. – Думаю, после твоего допроса. Часы уже были раздавлены, осколки стекла и металлические детали валялись по всему полу.
– Это уже вторая смерть, которую мне довелось здесь увидеть, – проговорил я.
Какой смысл в том, что часы женщины продолжали показывать правильное время после ее смерти? Вот о чем мне хотелось спросить. Или вот еще о чем: какой смысл в том, что мы терпим здесь муки, если в городе наверху ничего об этом не знают? Когда первые люди решили возвести Вавилонскую башню, Бог пресек эту попытку, смешав их языки так, что они разучились понимать друг друга. Но что толку? Ненасытный человек все равно подчинил себе и землю, и небо, построил не одну, а тысячи башен, пронзающих небосвод. Когда здания принялись расти в высоту, человек заметил, что Бога больше нет, и уже не искал его. Создавая города запутаннее всех муравьиных троп, он, человек, смешал все языки и расы. Стал жить так, будто никогда не умрет. И если возникнет надобность в новом Боге, то человек – лучший кандидат на его место. Чем больше росла сила человека, тем длиннее становилась его тень, и, глядя на нее, он забыл, что такое добро. Он сам не замечал, что делает. Добро он заменил правдой, а правду – балансом прибылей и убытков. Воспоминания о первом огне, первом слове и первом поцелуе стерлись из его памяти. Осталась только боль, напоминающая человеку о добре. Он попытался заглушить ее обезболивающими лекарствами. Мы здесь, в подземелье, мучаясь от боли, больше размышляли о том, что такое добро. Но я не мог понять, какой смысл в нашей боли, если на нее наплевать тем, кто живет в городе наверху?
– Демиртай, – нарушил молчание Доктор, – давай не будем говорить о смерти. Поговорим лучше о той насыщенной жизни, что идет наверху. Хоть нас там и нет, Стамбул остается цветущим, шумным городом. Мысль об этом утешает, правда?
Я не ответил.
Дядя Кюхейлан посмотрел на нас, понял, что мы ждем какого-то слова от него, и тихим, спокойным голосом произнес:
– У нас дома на стене висел ковер с оленем. Я расскажу вам о нем. Однажды мой отец, указав на этот ковер, спросил: «Сможете ли вы полюбить настоящего оленя так, как любите этого?» Почему-то мне показалось странным, как эти два слова – «настоящий» и «олень» – прозвучали вместе. Я сидел у окна. Был поздний вечер. На небе горели звезды, внизу виднелись горы, в горах жили олени. Отец посмотрел на меня так, словно увидел в моих глазах и звезды, и горы, и оленей, и поведал мне историю о печальном юноше, жившем в Стамбуле. Этот юноша влюбился в женщину, увидев ее портрет, и жил лишь мечтой о ней. Однако, встретившись наконец с предметом своих мечтаний, он взглянул на него один раз и отвернулся – больше ему смотреть не хотелось. «Я люблю женщину на портрете, – сказал он, – а настоящая не вызывает у меня никаких чувств». Сердце юноши питалось не реальностью, а мечтой. Странная любовь… Или странный человек? Отец сказал, что стамбульцам свойственно именно такое состояние духа. Виды Стамбула, висящие на стенах, им милее улиц, по которым они ходят каждый день, мокрые от дождя крыши и чайные под открытым небом на набережной. Они пьют ракы, рассказывают легенды, а потом смотрят на украшающие стены изображения и вздыхают. Им кажется, что они живут в каком-то другом городе. Совсем рядом текут воды Босфора, спешат по волнам пароходы, машут крыльями чайки. Мальчишки разводят под мостом костер и спорят, пытаясь угадать модель машины по звуку мотора; рабочие ночной смены слушают жалобные песни. На лицевой стороне картин, развешенных в домах, кафе и учреждениях, изображен видимый облик Стамбула, а на задней – другой, невидимый. Все, словно околдованные, смотрят на картины, а потом грустно ложатся спать. Подобно тому как их сутки разделены на сон и бодрствование, надвое они делят и время.
В голове у дяди Кюхейлана скопилось столько слов, что историй у него имелось больше, чем улиц в Стамбуле.
– Вот как стамбульцы делят время, – продолжал он, разведя руки в стороны. – Они полагают, что подлинный Стамбул – город, принадлежащий прошлому. В прошлом этот усталый город жил полной, яркой жизнью, был столицей великолепной империи, а теперь погрузился в глубокий сон и, может быть, никогда уже больше не проснется. Его прекрасные легенды постигла та же судьба, что и его прекрасные особняки: они превратились в руины. Верящие в это стамбульцы поклоняются прошлому, читают романы о былых временах. Но есть ли иное время, кроме настоящего? Разве не в этом городе слились воедино все времена? Такого рода вопросы, если они и проникают в сознание, стамбульцы предпочитают забывать. Они смотрят не на то, что рядом, а вдаль. Забвение помогает им терпеть боль, но они не замечают, что забыли и о настоящем времени. Жизнь и смерть для них – одно и то же, прошлое бесконечно. Они безнадежно влюблены в далекие эпохи, а город, в котором просыпаются каждое утро, презирают. Громоздят бетон на бетон, возводят повсюду ничем друг от друга не отличающиеся купола. Сносят, ломают, а потом, утомившись, приходят домой и ложатся спать под картиной с видом прекрасного Стамбула. – Дядя Кюхейлан повернулся ко мне: – Слушаешь, Демиртай? Я любил оленя, изображенного на ковре, но это не мешало мне полюбить оленей, живущих в горах. Мне нравились рассказы о прошлом Стамбула, но нравится и Стамбул теперешний. Я вот что понял: стамбульцы хотя и любят свой город, но не чувствуют к нему нежности. Любовь без нежности превращает их в эгоистов. И они не ощущают этой ущербности, подобно людям, которые тиранят любимых, хотя и обожают их. Они думают, что счастливые времена навсегда ушли, и не верят в Стамбул.
– Ты поэтому так хотел сюда попасть? – спросил я. – Чтобы своими глазами увидеть, каков на самом деле современный Стамбул?
– Я задавался вопросом, смогу ли когда-нибудь осуществить свою мечту. И вот на последнем повороте жизненного пути сумел сделать нужный шаг и попал в Стамбул. Непременно ли расплатой за это должна была стать боль? Почему я не попытался сделать это раньше, почему предпочел оказаться здесь уже на пороге смерти? Эти вопросы меня не беспокоят. Когда меня схватили, я пообещал следователям выдать все свои тайны, если меня отвезут в Стамбул. Теперь они, словно заведенные, спрашивают меня каждый день об одном и том же. Я рассказываю им о Стамбуле – не понимают. Показываю – не видят. Им нужно, чтобы боль сломила меня, чтобы я отказался от своей привязанности. Они хотят, чтобы я потерял веру и в себя, и в Стамбул и стал бы похож на них самих. Ради этого они готовы на любое злодейство. Они режут на куски мое тело, только бы моя душа уподобилась их душам, – и не замечают, что моя вера в этот город лишь укрепляется.
– Какая разница, дядя Кюхейлан, укрепится наша вера или нет? – уныло спросил я. – Никто же не видит, какие мучения мы здесь испытываем. О нас никто не знает.
– А те, кто пытают нас? Они видят.
Я знал, что вина за боль, которую мы здесь испытываем, лежит в равной мере на городе и на времени. Город и время едины, и потому Бог утратил здесь свою власть. Смотреть за нами было некому. Те, кто говорит, что Бог сотворил добро, а зло пришло в мир от людей, ошибаются. Если бы Бог хотел, он сделал бы добро безграничным. Разве для него существуют препятствия? По-моему, это он породил зло, а творить добро предоставил людям. Знают ли об этом живущие наверху? Остался ли там хоть кто-нибудь, кто думает о нас, кому не все равно, что с нами здесь происходит?
– Самый лучший свидетель боли – это тот, кто ее причиняет, – повторил свою мысль дядя Кюхейлан.
– Вы вот говорите о времени да о часах, – заговорил Доктор. – Али Кремень такой же. Постоянно спрашивал, который теперь час.
Накануне Доктор долго разговаривал с брошенным в нашу камеру Али, осмотрел его рану, набросил ему на плечи свой пиджак, заметив, как он дрожит от холода. Али хотел узнать, который час, спрашивал, почему в камере нет часов. Все, кто попадает сюда, на первых порах мучаются от незнания времени. На улице его можно узнать по смене дня и ночи, по солнцу и темнеющему небу; на работе – по висящим на стене часам; в школе – по звонкам на урок и с урока; в автомобиле – по стрелке спидометра. Наверху каждый звук, каждый предмет говорят о времени. А здесь где оно? В серых стенах, в темном потолке, в железной двери? В доносящихся издалека, словно волчий вой, криках боли? В брызгах крови на стене? В последнем взгляде того, кто уходит из камеры, чтобы больше никогда не вернуться? Али Кремень очень переживал из-за того, что не может взглянуть на часы; когда за ним пришли, он, медленно выбираясь из камеры на своей раненой ноге, первым делом спросил у охранников, который час. «Никоторый, – ответили ему. – Время для тебя закончилось».
В тот день, когда Али задержали, он и его товарищи собрались на сходку в Белградском лесу[26]. В такой холод, решили они, там будет безлюдно. Их было двадцать человек. Впервые столько сошлось вместе. Они раздобыли план тюрьмы, уходящей на три этажа под землю и известной под названием «Центр расследований», и теперь обсуждали налет на нее: как попасть внутрь, как справиться с охраной и добраться до камер. Распределили, кто какую задачу на себя возьмет. Курили одну сигарету за другой, говорили об арестованных товарищах и новом пополнении в своих рядах. Новости отовсюду приходили неутешительные, но они подшучивали друг над другом, смеялись. И если не в сегодняшний, то в завтрашний день они верили твердо.
Так они сидели плечом к плечу, кутаясь в пальто и кашне, когда оставленные в дозоре товарищи подали им световой сигнал. Один из собравшихся сходил к дозорным, быстро вернулся и сказал: «Нас окружают, готовьтесь к бою». Они разделились на группы по четыре человека и рассеялись по лесу в разные стороны, пока кольцо вокруг них еще не сомкнулось. Намерения стать легкой добычей у них не было. Пытаясь понять, в каком направлении сосредоточены основные силы противника, они внимательно оглядывались вокруг. Вскоре раздались первые выстрелы: одна из групп наткнулась на полицейских. Группа во главе с Али пыталась прорваться в другом месте. Если бы им удалось проскользнуть сквозь кольцо на запад, они могли бы легко спрятаться в жилых кварталах. В небе стрекотал вертолет, от поднятого им ветра дрожали ветви деревьев. Воробьи, скворцы и вороны торопились улететь прочь. Но лес был такой густой, что группа Али незамеченной пробиралась под пологом ветвей. Вскоре выстрелы зазвучали чаще, и стало понятно, что другие группы тоже вступили в схватку. При свете дня выбраться из леса было очень сложно. Али Кремень и его товарищи взбирались по склону холма, когда совсем рядом грянул выстрел. Они бросились на землю. Но в пределах видимости никого не было, и стало понятно, что стреляли не в них – это по другую сторону холма вел бой кто-то из их товарищей. Али и его группа решили идти на помощь. Они надеялись застать полицейских врасплох и расчистить путь себе и друзьям. Двигаться старались бесшумно, но вышло не так, как они рассчитывали. Из одного окружения они попали в другое. Под градом пуль, среди взрывов гранат группа потеряла направление. Где свои, где полиция, понять не удавалось. Падали ветви, летел во все стороны снег, и они уже не слышали друг друга – только отстреливались, пока вертолет не улетел. Перестрелка стихла. Али Кремень понял, что оторвался от товарищей и остался один. Огляделся вокруг: никого. Изучил следы на снегу, посмотрел за кустами. Его товарищи либо погибли, либо ушли в другую сторону.
Али постоянно передвигался с места на место. Он решил, что не будет пытаться спастись в одиночку, а придет на помощь какой-нибудь из других групп, отыскав ее по звукам выстрелов. Ему несколько раз удавалось ускользать от преследователей. И вот у него осталась последняя обойма. Али остановился посреди густого леса, пытаясь перевести дыхание. Он очень устал. Опустился на колени, потом лег на снег, чтобы было не так жарко. Размышляя, куда идти дальше, он смотрел вверх, на ветви над головой. Начинало вечереть. Облака рассеивались, небо очищалось. Словно чернила в воде, расползались сумерки. Деревья будто бы стали еще выше. Ночь была безлунная. Вдруг Али Кремень услышал чей-то голос и схватился за пистолет. И снова:
– Али!
Он направился к темневшему вдалеке пятну и увидел, что на снегу под деревом сидит девушка из его группы по имени Мине Баде. Али опустился рядом с ней на колени. Мине тяжело дышала.
– Я потеряла много крови, – прошептала она.
– Куда тебя ранили?
– В грудь.
– Я вытащу тебя отсюда.
– Не нужно. Я знаю, что это конец.
– Нет, мы выберемся!
– Надеюсь, нашим товарищам удалось спастись.
– Судя по тому, что выстрелов больше не слышно…
– Они выбрались.
– Я понесу тебя. В темноте выйти из леса незамеченными будет легко.
– Я знаю, что Али Кремень никогда не бросит начатое дело. Но прошу тебя, оставь меня здесь, лучше осуществи план, который мы сегодня разработали.
– Ты о налете?
– Да. Вы должны напасть на Центр расследований и спасти тех, кого там истязают.
– Мы сделаем это вместе.
– Мне бы очень этого хотелось. Мой любимый тоже там. Спасти его, обнять…
Мине Баде не договорила, закрыла глаза. Али Кремень в тревоге дотронулся до ее лица.
Вдалеке раздался крик совы.
Глаза Мине Баде открылись.
– Мне так хочется пить…
Али протянул ей пригоршню снега:
– Растопи во рту.
– Ты знаешь, кого я люблю, Али?
– Знаю.
– Я не сказала ему об этом. Не решилась.
– Не переживай. Он тоже тебя любит.
– Правда? Откуда ты знаешь?
– Мы говорили о вас с товарищами. Всем известно, что вы влюблены друг в друга, – кроме, я так думаю, вас двоих.
Мине Баде глубоко вздохнула. Прислонилась головой к дереву, взглянула на звезды. С неба одна за другой упали две звезды, и она обрадовалась, как в детстве:
– Видел, как звезды упали?
– Да.
– Я загадала желание.
– Оно обязательно сбудется.
– Я чувствую, что лицо у меня горит.
– Когда тебя ранили?
– Час назад. Я шла наугад, а потом упала у этого дерева.
– Тебя могут найти по кровавым следам.
– До утра не найдут. А я до утра и не доживу.
– Нет, они могут прийти и в темноте. Здесь оставаться нельзя. В квартале у самого леса есть дома, где мы сумеем спрятаться.
– Али, я больше не боюсь. Может быть, потому, что узнала – моя любовь не безответна.
– Это хорошо, что твой страх прошел.
– Теперь не нужно признаваться ему в любви. Достаточно обнять.
– Может быть, он больше тебя страшился заговорить об этом.
– И поэтому так на меня смотрел?
– Как?
– Был у него такой взгляд… А теперь… Как же он, должно быть, страдает, как ему больно от пыток!
– Мы спасем их, избавим от этой боли.
– Не трать время на меня, Али. Найди наших товарищей. Спаси тех, кого пытают в подземелье!
Издалека снова донесся крик совы. Зашуршали ветки. Где-то совсем близко громом прокатился выстрел.
Али Кремень уложил Мине Баде на снег и сам лег рядом. Посмотрел по сторонам. Среди ближайших кустов и деревьев никого не было видно, а вдалеке в такую темную, безлунную ночь ничего не разглядишь. Али затаил дыхание и прислушался. Услышав, как немного поодаль хлопает крыльями взлетающая птица, прошептал:
– Лежи и не двигайся, я посмотрю в той стороне и вернусь.
И он пошел, медленно и беззвучно, прячась за стволами деревьев и вглядываясь в сплетение ветвей впереди. Никого не увидев, решил, что выбрал неверное направление. Он уже собирался повернуть назад, когда совсем рядом прогремел выстрел. Али рухнул на землю, корчась от боли в ноге. Одной рукой он держался за рану, а другой пробовал нащупать в снегу выроненный пистолет. Но ему не дали такой возможности – окружили, навалились сверху, надели наручники.
– Пустите меня! – заходился в крике Али. – Пустите!
Это показалось нападавшим подозрительным, и они пошли по оставленному им следу прямо к тому месту, где лежала Мине Баде. Добравшись до дерева, под которым Али ее оставил, они принялись светить фонарями по сторонам. Но увидели только пятна крови, а больше ничего и никого.
– Кто здесь был? – спросили они у Али. – Кому ты подал знак своими воплями?
– Никому я не подавал никаких знаков, – ответил Али.
– Твои следы ведут к тому месту. Отвечай, чья это кровь?
– Какая кровь? Я не вижу ничего, кроме снега.
Упав под градом обрушившихся на него ударов, Али подумал о Мине Баде. Ему было радостно, что она смогла сбежать, несмотря на тяжелую рану. А его история подошла к концу. Или его убьют на месте, или дадут пожить еще несколько дней. Он давно был к этому готов. Ему хотелось обрушить на полицейских поток брани, но из наполненного кровью рта вырвался лишь стон. Теряя сознание, он в последний раз увидел огни вертолета в небе и услышал звуки выстрелов, гремевших по всему лесу.
Сбудется ли желание, загаданное Мине Баде? Сможет ли она спастись и вылечить свою рану?
– Она не это загадала, – возразил я Доктору, который рассказывал нам о той ночи так, словно сам ее пережил. – По-моему, Мине Баде пожелала, чтобы на Центр расследований был совершен налет, чтобы освободили тех, кого здесь мучают. Может быть, ее желание сбудется и нас освободят.
– Возможно, ты и прав, Демиртай. Может быть, она думала о нас, когда загадывала желание.
– Кроме того, упала не одна звезда – их было две. Если одна не поможет, другая точно сработает.
– Надеюсь.
– В кого влюблена Мине Баде? Али не сказал?
– Нет.
– Ее возлюбленный тоже здесь, на этой бойне.
– В подземных камерах полным-полно людей… – задумчиво проговорил Доктор. – Кто знает, в которой из них он сидит?
– Мине Баде так обрадовалась, когда узнала, что любима… Это место в истории понравилось мне больше всего. Мне хотелось бы того же самого – узнать здесь и сейчас, что та, кого я люблю, тоже ко мне неравнодушна.
– Это не история, Демиртай, это случилось на самом деле.
– Разве все, случившееся в прошлом и ставшее предметом для рассказа, не история, Доктор? Прошлого здесь нет. Разве мы не поняли это еще много дней назад?
По примеру типичных стамбульцев мы то тосковали о вчерашнем дне, то мечтали о том, каким будет завтра, а про сегодня старались не думать. И истории выбирали такие, чтобы, с одной стороны, они повествовали о прошлом, а с другой – о будущем, превращая настоящее в мост между вчера и завтра. Нам было страшно, что мост этот обрушится и мы упадем в пустоту. Один и тот же вопрос постоянно преследовал нас: кто хозяин сегодняшнего дня, кому он принадлежит?
Издалека, откуда-то из-за железной двери, донесся резкий звук. Мы насторожились. Звук раздался снова, и на сей раз стало понятно, что это был выстрел. Должно быть, следователи пристреливали новое оружие или, разозлившись, уложили кого-то.
– «Беретта», – заметил дядя Кюхейлан, давая понять, что в огнестрельном оружии разбирается не хуже, чем в людях.
Мы ждали новых звуков. За железной дверью тянулись длинные запутанные коридоры – настоящий лабиринт. Не угадаешь, как далеко от нас стреляли. Тем временем грохнул еще один выстрел.
– Теперь браунинг, – определил дядя Кюхейлан.
Потом стало тихо.
– Время уже позднее, а никто за нами не приходит, – снова заговорил дядя Кюхейлан. – Вечереет, солнце садится. Вчера мы хотели устроить застолье с ракы, да не вышло. Может, сегодня?
Мы собирались расположиться дома у Доктора на балконе. В городе начнут потихоньку загораться огни, а мы будем перечислять районы, лежащие перед нами и вдали: Ускюдар, Кузгунджук, Алтунизаде, Саладжак, Харем, Кадыкёй[27], остров Кыналы; будем называть мечети, узнавая их по высоте минаретов, а по автомобильным гудкам определять, где возникли пробки. Столетие за столетием люди изо всех сил старались погубить этот город. Ломали, рушили, потом громоздили друг на друга новые здания. И мы будем дивиться тому, как, несмотря ни на что, Стамбул еще держится и умудряется оставаться чарующе прекрасным.
Доктор постелил на стол белую скатерть. Принес сыр, дыню, барбунью, хумус, хайдари, поджаренный хлеб, салат. Дополнил картину тарелочками с сармой и аджикой[28]. Посередине поставил вазу с желтыми розами, и свободного места на столе не осталось. Он налил в стаканы ракы, проверил, поровну ли, и разбавил водой. Потом сходил и включил магнитофон. Зазвучала берущая за душу песня.
– Пожалуйте к столу!
Мы подняли руки и чокнулись воображаемыми стаканами:
– За здоровье!
– За здоровье!
– Пусть это будет самый плохой день нашей жизни!
Наши руки на мгновение застыли в воздухе.
– Пусть это будет самый плохой день нашей жизни! – повторил дядя Кюхейлан, и все мы рассмеялись.
Хорошо, что мы пили не в мейхане, а у Доктора на балконе, не то могли бы побеспокоить своим хохотом людей за соседними столиками.
Внизу автомобильные гудки сливались с криками чаек, Стамбул жил своей жизнью, не обращая на нас внимания. Напротив, на открытой террасе, молодые люди пили пиво. Один из них играл на гитаре, другие пели, но их голоса до нас не долетали. На верхнем этаже соседнего дома, глядя в окно и приглаживая рукой волосы, говорила по телефону женщина. Большинство окон было не зашторено. В одном из них пожилой человек, сидя в кресле, смотрел телевизор, а рядом играли дети. Солнце опускалось все ниже, воды Босфора темнели. На пароходе, идущем из Эминоню в Ускюдар, зажглись огни. В сердцах его пассажиров жили радость и надежда.
– Зине Севда тоже вскоре подойдет, – сказал дядя Кюхейлан. – У нее было несколько дел, просила передать, что задержится.
Мы снова подняли стаканы:
– За дочь гор Зине!
Зажглись огни на Девичьей башне, и она засияла, словно жемчужное колье на шее Стамбула. Казалось, она так близко, что можно достать рукой. Глядя на башню, мы задумались, каждый о своем; песня, льющаяся из магнитофона, несла нас в медленном потоке своей мелодии.
– Теперь понятно, – заговорил Доктор, – почему нас два дня не водили на допросы, почему не пытали. В это самое время шла схватка в Белградском лесу. Крупная операция на большой территории, занявшая немало времени. Получается, наши следователи тоже в ней участвовали, а нас оставили в покое.
Дядя Кюхейлан улыбнулся:
– Стало быть, когда нам здесь стало полегче, там умирали наши товарищи. Странный мир! Теперь, когда наши мучения возобновились, в других местах, надеюсь, людям станет лучше.
Мы подняли стаканы:
– За то, чтобы другим людям стало лучше!
Пили мы немного быстрее, чем полагается, – соскучились по ракы.
Мне хотелось быть таким же веселым, как молодые люди на террасе напротив, счастливым, как женщина в окне, и умиротворенным, как пожилой человек перед телевизором. Если бы я мог выйти на улицу, то пошел бы к Галатскому мосту. Съел бы балык-экмек[29], понаблюдал бы за лодками в Золотом Роге. Потом медленно поднялся бы по улице Юксек-Калдырым в Бейоглу и зашел бы в кино. Нередко, отправляясь туда, я выбирал не фильм, который хотел бы посмотреть, а кинотеатр, куда хотел бы пойти, его архитектуру и интерьер, связанные с ним воспоминания и получал удовольствие от любой картины, которую там показывали.
– Дядя Кюхейлан, – сказал я, – не пришло ли время дать ответ на мою загадку? Что скажешь?
– Ты прав.
Я еще раз повторил вопрос, который задала мне бабушка, живущая в крохотном геджеконду:
– Рядом с пожилой женщиной – маленькая девочка. Пожилая женщина говорит: «Это дочь моей дочери и сестра моего мужа». Ну-ка, скажи, как такое может быть?
Дядя Кюхейлан взял ломтик поджаренного хлеба, окунул в хумус. Медленно прожевал. Вытер усы тыльной стороной кисти и, поймав мой полный любопытства взгляд, усмехнулся:
– Потерпи, Демиртай, сейчас расскажу. В нашей деревне жила смуглая женщина лет сорока, при ней – светленькая девочка, ее дочь. В соседях у них был симпатичный молодой человек двадцати лет от роду. Смуглая женщина сошлась со своим соседом. Они часто забирались вместе на сеновал, а потом и поженились. Примерно в то же время в деревню вернулся отец молодого человека. Он много лет назад уехал в Стамбул на заработки и пропал. Все думали, что он или умер, или позабыл деревню. Было ему за сорок, жена его давно умерла. Он полюбил светловолосую дочь соседки и начал с ней новую жизнь. Вскоре родился у них ребенок, девочка. Смуглая женщина, ставшая бабушкой, очень обрадовалась и все свое время проводила с внучкой. Сидела и играла с ней на улице перед домом, а всех, кто проходил мимо, встречала такой присказкой: «Дочь моей дочери, мужа сестра, как увлекательна наша игра».
– Нет, ну так не честно!
– Почему? Разве ответ неправильный?
– К сожалению, правильный, но так нечестно. Ты с самого начала знал ответ.
Дядя Кюхейлан и Доктор рассмеялись, словно два старика, проживших рядом всю жизнь. Чокнулись стаканами и выпили.
– С самого начала – не знал. Два дня думал, перебрал в уме сотню вариантов. И в конце концов нашел ответ.
– Хорошо, тогда как быть с твоей историей? Она произошла на самом деле или ты все придумал?
– Что за вопрос, Демиртай? Все, случившееся в прошлом и ставшее предметом для рассказа, – история, разве не ты сам это недавно сказал? И противное утверждение тоже верно. Все, о чем мы здесь рассказываем, произошло в прошлом и является чистой правдой.
Он был прав. За моей историей тоже стояла чистая правда: в домике в Хисарустю меня ждала бабушка – надеялась, что я вернусь и отвечу на ее вопрос. Я дал ей слово и должен был вернуться живым и здоровым. Должен был устоять против течения Стамбула, не дать ему сбить меня с ног. Должен был помогать бедным, быть одиноким в толпе, не поддаваться головокружительным чарам сияющих витрин и вывесок. Может быть, мне предстояло встретиться в тайном месте с Ясемин. Может быть, в тихую ночь я буду сидеть рядом с ней и слушать, как она читает стихи. Я поверю каждому их слову. За окном взойдет луна и будут мерцать желтые, розовые, красные звезды.
– Демиртай, а как насчет второго вопроса?
– Какого вопроса?
– Ты же вчера обещал загадать еще одну загадку, если я разгадаю эту.
Уходя от бабушки, я был полон надежд. Я рассчитывал найти ответ на ее вопрос, а вернувшись, загадать ей загадку. Мне хотелось отвечать вопросом на вопрос, хотелось познакомиться с бабушкой поближе и часто-часто навещать ее. Но я слишком медленно бежал, судьба настигла меня, я оказался в тюрьме, и приготовленную для бабушки загадку мне пришлось загадать не в геджеконду, смотрящем на Стамбул с вершины холма, а здесь, в камере.
– Один человек путешествовал с молодой девушкой. Когда его спрашивали, кто она ему, он отвечал: «Это моя жена, дочь и сестра». Возможно ли такое?
– Сложный вопрос.
– А ты думал, я легкий задам?
– Одновременно и жена, и дочь, и сестра, так?
– Именно.
– Придется поразмыслить.
– А ты пошарь в памяти, может быть, у вас в деревне был и такой случай.
– Я подумаю, – улыбнулся дядя Кюхейлан. – А если ничего не надумаю, попрошу Доктора помочь. Что скажешь, Доктор? Поможешь мне?
– Конечно.
– Хочешь, проси помощи у Доктора, хочешь – у парикмахера Камо…
Тут мы переглянулись и одновременно подняли стаканы с ракы:
– За парикмахера Камо!
– Пусть он вернется целым и невредимым.
Если в первые дни нам больше всего хотелось выбраться отсюда и снова окунуться в поток стамбульской жизни, способный с головой поглотить человека, то потом наши желания постепенно скукоживались, мельчали и, наконец, перестали выходить за пределы камеры. Единственное, чего мы теперь желали, – чтобы наши друзья, которых увели на допрос, возвращались живыми и невредимыми душой и рассудком. Так мы ждали и парикмахера Камо, которого увели накануне. Рассказывали истории, пили ракы, слушали песни. Смотрели на отражающиеся в море огни. Пытались забыть о своих ранах и увечьях. Когда послышался скрип открывающейся двери, мы замерли и переглянулись. Может быть, это вернулись домой соседи с первого этажа? Нет, это была другая дверь. Проклятая железная дверь. Ее скрип еще не затих, а мы уже вспомнили, что находимся не на балконе в гостях у Доктора, а в подземной камере.
Восьмой день Рассказывает Доктор Копья небоскребов
– Однажды в электросети Стамбульского аэропорта произошел сбой, и самолет с четырьмя членами экипажа и тридцатью семью пассажирами на борту не смог приземлиться, а затем пропал с радаров над морем. На следующее утро жители города проснулись в тревоге. Отправляясь на пароходе в 7:30 из Кадыкёя на европейский берег, они читали газеты, пили чай и время от времени заглядывали в газеты соседей: нет ли там каких-нибудь других новостей? Те, кто сидел у окна, протирали запотевшие стекла, словно надеясь увидеть в волнах зовущую на помощь жертву авиакатастрофы. Проплыв через туннель времени, по одну сторону которого виднелись казармы Селимийе, вокзал Хайдарпаша и Девичья башня, а с другой – мечеть султана Ахмеда, Айя-София и дворец Топкапы, пассажиры парохода высаживались на берег, где громоздились бетонные здания и торчали вверх копья небоскребов. Каждый день с тревогой и надеждой переправлялись они с одного берега на другой. Даже если им и случалось у себя дома прийти в иное расположение духа, на пароходе, в поезде и в автобусе на их лица ложился отпечаток, соответствующий общему настрою тех дней. На третий день утром, когда пассажиры парохода с прежней серьезностью на лицах читали газеты и пили чай, один длинноволосый молодой человек взял в руки гитару и спел посвященную памяти жертв авиакатастрофы песню в новомодном стиле рок. Погибшим понравилась бы эта композиция. Тут вдруг с палубы послышались крики. Все бросились туда и, взглянув на берег, увидели, что на скалах лежит без сознания женщина, прибитая к мысу Сарайбурну холодными волнами. Это был единственный человек, уцелевший после крушения авиалайнера. Согласно сведениям, опубликованным на следующий день одной газетой, у женщины были сломаны ноги. Другая газета сообщала, что у нее разорвана барабанная перепонка, третья – что у нее отнялся язык, четвертая – что она ослепла на один глаз. На первую полосу все газеты поместили одну и ту же фотографию: спасенная женщина лежит на больничной койке, опутанная трубочками капельниц, а рядом сидит мужчина в костюме и фетровой шляпе. «Я бесконечно рад, что моя жена выжила», – гласила подпись под снимком в одном издании. «Я вновь обрел свою дочь», – было написано в другом под той же фотографией. «Господь вернул мне сестру», – будто бы заявил мужчина в фетровой шляпе третьей газете. Пассажиры парохода делились новостями и спорили, какой же из репортеров написал правду. Каждый считал, что против истины не погрешил листок, который он держал в руках. Так и не придя к общему мнению, решили отложить спор на завтра. Газеты сходились только в одном: женщину зовут Филиз-ханым, а мужчину – Жан-бей. Оставшуюся часть истории газетчики растянули на следующие несколько дней, словно роман с продолжением; ее подробности излагали уже не корреспонденты отдела происшествий, а их коллеги, острые перья из отдела культуры; перед глазами читателей возникали все новые и новые картины из жизни Филиз-ханым и Жан-бея. Жан-бей, родившийся и выросший в европейской стране (по одним сведениям – во Франции, по другим – в Швейцарии), в юности посетил Стамбул туристом. Во время поездки он закрутил мимолетный роман с певицей французского (или швейцарского) происхождения, выступавшей в одном из ресторанов Бейоглу. Погулял с ней по туристическим местам Стамбула, а потом вернулся на родину и знать не знал, что оставил женщину беременной. Завершив свое образование, Жан-бей начал преподавать в университете (не то социологию, не то биологию, а может быть, и вовсе физику) и женился на преподавательнице с того же факультета. Он был счастлив, трудолюбив, его ценили коллеги. Через пять (согласно другим источникам – десять) лет он по неизвестной причине развелся и поклялся больше не жениться. Многие годы он жил один и был верен клятве, пока не полюбил свою студентку. Этой студенткой была приехавшая из Стамбула Филиз-ханым. Они решили пожениться и на свадьбу, разумеется, пригласили мать невесты. Самолет из Стамбула прибыл с опозданием, так что мать Филиз-ханым явилась на бракосочетание в самый последний момент. Когда она вступила в зал, где собрались гости, Жан-бей пришел в полную растерянность. Перед ним предстала та самая певица из ресторана, с которой он много лет назад провел несколько чудесных дней. Они узнали друг друга, но ничем этого не выдали. Прочитав о том, что Филиз-ханым приходится Жан-бею одновременно и женой, и дочерью, пассажиры парохода в изумлении воззрились друг на друга. Давненько им не приходилось слышать о такой жестокой проделке судьбы. Но на следующий день их ошарашили известием, что на этом история не кончилась. Когда Жан-бей был еще младенцем, его мать ушла из семьи, бросив мужа и сына. Отец Жан-бея, сидевший на свадьбе за главным столом, не мог поверить своим глазам, когда увидел мать невесты: ведь это была его жена, сбежавшая невесть куда много лет назад! Они тоже друг друга узнали, но не подали вида. Итак, Филиз-ханым была не только женой и дочерью Жан-бея, но еще и его сестрой. Пассажиры парохода, читая эту новость, силились удержать на месте глаза, норовящие полезть на лоб после каждого предложения, а дочитав, воскликнули: «Ах, чтоб тебя!» Прочитанному они поверили, потому что выросли на черно-белых мелодрамах. Конечно, газеты противоречили одна другой, но пассажиры парохода знали, что истину следует искать не там, где все гладко, а как раз там, где не все сходится. Один из них, взметнув вверх свою газету, сказал так: «Это еще не все! Да, мы уже поняли, что Филиз-ханым приходится Жан-бею и женой, и дочерью, и сестрой, но моя газета сообщает, что она еще и его тетя по матери!» Другие пассажиры запротестовали: нет, это уж совершенно невозможно! Однако, надеясь, что ошибаются, и желая узнать еще более поразительные подробности, они все же попросили прочесть написанное в той газете. Как все любители сплетен, они старались выглядеть одновременно заинтересованными и равнодушными, помешивали сахар в чае, смотрели в окно. Пароход медленно шел сквозь туман по морю, имя которому – время, направляясь к тому берегу, где ждала их эпоха небоскребов.
Я замолчал и прищурился, словно вглядывающийся в даль путник. Посмотрел по сторонам.
– Пароход медленно шел сквозь туман по морю, имя которому – время…
Студент Демиртай, с любопытством ждавший, чем я закончу, улыбнулся:
– Доктор, ты пришел на помощь дяде Кюхейлану. Разгадал вместо него мою загадку.
Было видно, как тяжело дается Демиртаю улыбка. Боль в истерзанном теле мучила его все сильнее. Сегодня студента привели с допроса в полубессознательном состоянии, он постанывал и бормотал что-то неразборчивое, не мог пошевелить руками и поднять голову. Улегшись, словно в постель, на бетонный пол, он глубоко вздохнул и тут же забылся сном. Я снял с себя пиджак – думал подложить под голову Демиртаю, чтобы удобнее было лежать, но вместо этого укрыл его – пусть хоть немного согреется. Пригладил ему волосы, вытер кровь со лба и шеи.
Немного позже притащили дядю Кюхейлана, и я почувствовал себя дежурным в отделении скорой помощи, куда один за другим прибывают раненые. У дяди Кюхейлана были рассечены брови и раздроблены ступни, рубашка и штаны снова пропитались кровью. Я уложил его рядом с Демиртаем, укрыл пиджаком их обоих и сказал вслух: «Пусть ваше утро будет лучше вечера!» Потом я сидел, слушал их прерывистое дыхание, смотрел на заострившиеся черты лица, пока до нас не дошла очередь идти в туалет. Я помог им добрести туда, до самого конца коридора. Демиртай еще был в состоянии ходить, хотя и медленно, а дядя Кюхейлан не мог наступать на одну ногу, поэтому опирался на меня.
– А что такого, Демиртай? – спросил дядя Кюхейлан. – Ты вчера задал свой вопрос нам обоим. Вот Доктор и ответил вместо меня.
– А у тебя не получилось?
– Я думал, думал, да ничего не придумал и попросил Доктора помочь.
– Стало быть, разгадку надо было искать не в вашей деревне, а в Стамбуле.
– Да, выходит, так. Никакой деревне не сравниться со Стамбулом в том, что касается загадок, превращающих ложь в реальность…
– Стамбул и раньше был таким, дядя Кюхейлан? – Демиртай, похоже, уже и сам знал ответ. – Этот город всегда лгал, всегда обманывал людей?
Природа не лжет. День и ночь, рождение и смерть, землетрясение и буря реальны. Истине Стамбул научился у природы, но ложь сотворил сам. Научил подводить глаза, изменять лицо, обманывать память. Привязал всех к себе и породил рабов алкоголя, которые верят, что, проснувшись, обнаружат рядом давно ушедшую любимую. Породил бедняков, убежденных, что богачи по праву зарабатывают столько денег. Породил тысячи надежд. Несчастного непременно ждут счастливые дни. Безработный однажды обязательно принесет домой хлеб и мясо. Чтобы скрыть людское одиночество, Стамбул сотворил сияющие витрины. Сотворил разум, который, не довольствуясь отсутствием бога, пожелал стать богом сам. Стамбул похож на женщину, которая постоянно обнадеживает влюбленного в нее мужчину заманчивыми обещаниями, но остается недоступной. Самая первосортная ложь – у него. Он вызвал к жизни мужчин и женщин, страстно желающих ему верить.
– Демиртай, ты все больше начинаешь походить на моего отца – задаешь такие же трудные вопросы, как он, – сказал дядя Кюхейлан.
– Слишком поздно.
– Для чего поздно?
– Слишком поздно, дядя Кюхейлан, – повторил Демиртай.
Был ли он таким же на воле? Легко ли поддавался унынию, бродя среди кафе, вывесок и нищих? Возможно, тогда в душе его все перемешивалось, как на улицах с их стремительными метаморфозами и постоянной сменой картин городской жизни, и радость в ней легко уживалась с унынием. Смеясь, мог вдруг загрустить, разговаривая – вдруг надолго замолчать. «Слишком поздно». Знал ли он сам, для чего?
– Демиртай, – вмешался я в разговор, – из того, что возражений с твоей стороны не последовало, я заключаю, что ты признаешь мой ответ правильным.
– По правде говоря, Доктор, меня заинтересовала не столько отгадка, сколько авиакатастрофа, о которой говорилось в этой истории.
– Ты о ней слышал?
– Да, на том самолете была подруга моей мамы. Они условились встретиться на следующий день. Мама хотела отдать ей роман, который недавно прочитала. Узнав о катастрофе, она никак не могла поверить, что подруга погибла, и несколько дней ждала хороших новостей.
– Что твоя мама сделала потом с этой книгой?
Демиртай опустил голову и некоторое время разглядывал свои ноги. Было заметно, что с каждым днем он все больше мерзнет. Какую бы позу он ни принял, что-нибудь в его теле начинало болеть сильнее. Его движения замедлились, свет в большущих глазах мерк. И ни от разговоров, ни от молчания лучше ему не становилось.
– Не знаю, – ответил Демиртай, не поднимая головы. – Скорее всего, отнесла в библиотеку. Я не спрашивал.
– Мне бы на твоем месте было интересно.
– Доктор, я сейчас думаю не о книге, а о пассажирах того самолета. Я считал, что все они погибли, и не знал, что кому-то удалось спастись.
Он думал о женщине, уцелевшей в авиакатастрофе, но не мог спросить, правдива эта часть истории или нет. В камере человек сохраняет представление о понятиях, но теряет уверенность в том, что знает, какой смысл за этими понятиями стоит. Ему кажется, что он впервые видит свет, воду, стены. Всякий звук меняет свое значение. В его голове так много вопросов, что даже собственные руки он изучает с сомнением. Он не может понять, почему что-то в историях может быть ясно и понятно, а что-то – темно и скрыто. Разве не таков и Стамбул, одна часть которого расположена наверху, а другая – под землей? Знание этого далось Демиртаю дорогой ценой, и теперь он уже не мог спросить: «Это правда?»
– Жаль, что моя мама об этом не знала, – продолжал он. – Если бы она услышала, что один человек в той катастрофе все-таки уцелел, это дало бы ей хоть немного надежды. Легче было бы бороться с приступами тоски, мучившими ее по ночам, когда она курила одну сигарету за другой. Как будто мало было того, что она вырастила меня без отца! Мама работала в одной компании разносчицей чая. Ей хотелось, чтобы я получил образование и смог вести другую жизнь, совершенно непохожую на ту, которую прожила она сама. Спать мама ложилась позже меня, а утром мы выходили из дома вместе. Рекламное панно на остановке, менявшееся каждую неделю, демонстрировало ей то курорт, где она отдыхала в своих мечтах, то уютный дом, который мы когда-нибудь приобретем. Она всегда с большим воодушевлением говорила о нашей будущей жизни. Чтобы скопить побольше денег, по выходным моталась в далекие кварталы прибираться в чужих домах. У каждого квартала было свое лицо. Богатые и бедные, традиционалисты и западники, люди с культурным стамбульским произношением и с твердым анатолийским акцентом – все селились возле себе подобных. Люди, прежде стыдившиеся ложиться спать сытыми, когда рядом голодает сосед, нашли выход из положения: переезд. Внутри большого Стамбула появилось много маленьких городов, сытые и голодные отдалились друг от друга. Когда на одном конце города день подходил к концу, на другом только начиналось веселье. На одном берегу вставали, чтобы идти на работу, а на другом только ложились спать. Каждый жил в своем Стамбуле, рядом с похожими на него самого людьми. Даже глядя на море, все видели разные пейзажи. Мама бегала с одной работы на другую, мечтая о доме в богатом квартале, о новом шикарном телевизоре и холодильнике, и верила, что меня ждет совершенно иное будущее. Она не знала, что сам я в это не верю. Доктор, я рассказывал тебе такую историю? У Золушки спросили, почему та влюбилась в принца. «Сказка не предусмотрела для меня иной судьбы», – был ответ. Жизнь в нашем квартале тоже не предусматривала иной судьбы. Во всех семьях мечтали об одном и том же, но все упирались в один и тот же тупик. И никто не спрашивал почему. Я тоже не спрашивал, пока не начал читать книги, что дали мне старшие ребята, с которыми мы играли в футбол на пустыре.
Демиртай потянулся за бидоном с водой, сделал два глотка и продолжил:
– Мечта о хлебе и мечта о свободе в Стамбуле отрицают одна другую. Или ты отказываешься от свободы ради хлеба, или жертвуешь хлебом ради свободы. Обрести и то и другое одновременно невозможно. Ребята из нашего квартала хотели изменить эту судьбу, мечтали в тени у ярких вывесок о совершенно ином будущем. Читая книги, которые они мне давали, я думал: возможно ли оно, это иное будущее, если весь Стамбул изъязвлен ранами? На улицах становилось все больше машин, на пустырях росли новые здания. Там, где раньше стояли грустные деревья, теперь высились подъемные краны и строительные леса. Умножилось число нищих попрошаек и голодных птиц, с трудом отыскивающих пропитание. А я все читал и читал, стараясь понять этот город, к которому так привязаны моя мама, мои учителя и друзья.
Сразу после сна голос у Демиртая был резкий, хриплый, а теперь потихоньку смягчался.
– Мама не успевала за потоком городской жизни, много работала и сильно уставала. Рассказывая о своем детстве, она жаловалось, что раньше перемены не были такими быстрыми. Они входили в жизнь постепенно, давая время к себе привыкнуть. Новшества радовали нас, говорила она, но не сбивали с толку. Мы знали, с чем нам предстоит встретиться завтра. А теперь разве так? Новое стремительно вторгается в нашу жизнь и так же стремительно ее покидает, не успев устареть, – стирается, не оставляя ни следа, ни памяти. Мы еще не сжились с одним новшеством, а его уже сменяет другое. Но способности человека все-таки ограничены. Мы ходим быстрее черепахи, но бегаем медленнее зайца. Способности нашего разума и чувств тоже имеют пределы. Мы опережаем традицию, но отстаем от новшеств. Изменения, нарушающие этот баланс, ломают наши внутренние весы. Новое больше не может быть продолжением старого, ибо старого нет. Все выбрасывается на свалку. Понятие преемственности предано забвению. Привязанность теряет значение. Души переполнены мусором, как уличные урны. Эта гонка утомляла маму. По ночам она видела грустные сны, днем жила мечтами. Что еще ей было делать? Она не знала, как построить целостную жизнь в разодранном на куски Стамбуле. За что ей было хвататься, как не за мечты?
Демиртай не любил одиночества. Он боялся оставаться один в камере, радовался, когда нас становилось больше; скучал по вокзалам, стареньким пароходам, по бульварам, где то и дело толкаешь кого-то в густой толпе. Красота города – в его многолюдности: повсюду звучат голоса и светят огни. Когда на одной улице жизнь замирает, оживленнее становится на другой. Бетон перемешан с железом, сталь одевают в стекло. Жители Стамбула похожи на свой город. Они сделаны из земли, огня, воды и дыхания. Тверды как сталь, хрупки как стекло. В этом городе человек воплощает в жизнь мечты алхимиков древности. Не довольствуясь тем, что есть, он стремится к невообразимым новшествам. Соединяет огонь и воду, любовь и ненависть. Чтобы изменить природу, которую находит уродливой, он разбавляет добро злом. Покупает за деньги ложь, украшает жилище искусственными цветами, загоняет себе под кожу силикон. Каждое утро просыпается с надеждой увидеть в зеркале лицо, которое понравится ему больше, чем вчера. Алхимия в Стамбуле начинается с самого человека. Мать Демиртая была одновременно сильной и слабой, торопливой и медлительной, надеялась на лучшее будущее и предавалась унынию. Как это все в ней уживалось, она не понимала. Старалась угнаться за временем, за рекламами и гудками машин. Боялась воспоминаний: они говорили о том, что прекрасная эпоха осталась в прошлом. Город был разорван на куски, жизнь оказалась бесплодной, люди – испорченными. Каждый день оказывался хуже предыдущего. Как все одинокие люди, она любила романы с хорошим концом. Целостность, утраченную дома, на работе и на улице, она находила в книгах, и противоречия в ее душе примирялись. Одна часть ее души была сталь, другая – стекло; одна – слезы, другая – гнев.
– Мама верила книгам. – Демиртай взглянул на нас, словно хотел понять, верим ли книгам мы. – Иногда по ночам, когда она, зачитавшись, забывала обо мне или когда курила больше обычного, я думал, не появилась ли в ее сердце новая рана. Но я не спрашивал, а она не рассказывала. Она была похожа на утопающего ребенка, который пытается глотнуть воздуха, бьется на поверхности воды, не идет ко дну, но и спастись не может. Она жаловалась на город, построенный не на мечтах, а на расчетах, и сравнивала Стамбул с красочной книжной обложкой. Рисунок на обложке обманывает человека, не дает понять содержащуюся в книге истину. Я, совсем еще ребенок, иногда спрашивал у нее: «Мама, зачем ты так много работаешь?» – «Демиртай, – отвечала она, – я хочу купить дом, чтобы в будущем тебе хорошо там жилось. Сейчас я не могу обеспечить тебе хорошую жизнь, но прикладываю все усилия, чтобы в будущем ты был счастлив. И пусть это будущее не кажется тебе далеким – на самом деле оно совсем близко. Прочитав о жизни, которую ведут герои книг, ты поймешь это лучше». Так она говорила, а я преданно слушал. Это у нее я научился верить книгам.
– Мама знает, что тебя арестовали? – спросил я.
– Нет. Я не видел ее уже несколько месяцев. Я не ходил в наш квартал – знал, что объявлен в розыск.
– Почему, Демиртай? Ты же мог подойти к ней на многолюдной улице, когда она возвращалась с работы, и никто не заметил бы.
– Я думал об этом, Доктор. Несколько раз даже пытался так сделать, но в последний момент останавливался. За ней могли следить.
А мой сын подходил ко мне. Иногда в толпе, иногда в темном переулке. Дотрагивался до моей руки. Шел рядом, стараясь попадать в ногу. Слушая Демиртая, я понял, как мне повезло. Я думал о тех, кто долго и тщетно надеется увидеть своего ребенка, о тех, кто узнаёт о смерти сына или дочери, и говорил себе, что принадлежу к счастливому меньшинству. Я нашел своего сына, положил в больницу. Отдал его в надежные руки.
– Демиртай, – сказал я, – у меня был коллега, с которым я проработал вместе долгие годы. Его юная дочь ушла из дому, присоединилась к одной из революционных группировок. Однажды он узнал, что его дочь застрелили и товарищи тайно похоронили ее. Он отыскал эту могилу. Поставил над ней мраморный надгробный камень с изображением парохода. Точно такой же рисунок был на обложке «Иллюстрированного путеводителя по Стамбулу», который они с дочерью любили листать, когда она была маленькая. Каждую неделю он приходил на могилу и разговаривал с лежащей под землей дочерью. Читал ей статьи из «Иллюстрированного путеводителя». Рассказывал о куполах, сияющих, словно звезды, об улицах, извилистых, как реки, о зданиях, копьями устремленных ввысь. Однажды к нему пришли товарищи его дочери и признались, что произошла ошибка: «На этом месте лежит другая девушка, тоже наш товарищ, а ваша дочь похоронена на другом берегу». Мой коллега не смог уснуть ни в ту ночь, ни в следующую. А на третью ночь пошел к той же могиле, что и всегда, лег рядом с ней и уснул. Проснулся рано-рано, посмотрел на утреннюю звезду, послушал, как шуршит ветер в ветвях кипарисов. Потом поднял с могилы горсть земли, вдохнул ее запах и подбросил в воздух. Ветер развеял ее без следа. «Я в ответе за эту могилу, – сказал сам себе мой коллега. – Я привязался к ней, а она – ко мне». Встал на колени и заплакал. Он верил, что, если бросит эту могилу, брошены будут и его дочь на другом кладбище, и прочие покойники. И продолжил регулярно навещать ее. Приносил «Иллюстрированный путеводитель по Стамбулу», читал вслух, рассказывал, что изображено на картинках. Знаешь, почему я вспомнил этот случай? Мне кажется, твоя мать поступила точно так же. Читала вслух обещанную подруге книгу на берегу моря, которое поглотило самолет, а дочитав, наверное, бросила в море.
– Доктор, – удивился Демиртай, – ты уже второй раз рассказываешь грустную историю. Что с тобой случилось? Раньше ты убеждал нас, что здесь не нужно говорить о смерти и боли.
Подумав, я понял, что он прав.
– Сам не заметил, как так вышло. Должно быть, по временам теряю контроль над собой.
Я приложил ладонь ко лбу Демиртая, пытавшегося согреть руки дыханием. У него был жар. Я посчитал пульс. На запястье под кожей совершенно не осталось мяса, одни кости. Демиртая била дрожь. Я попросил его откинуться назад, осторожно приподнял его ноги и положил их на свои колени. На ступнях живого места не было. Я сжал пальцы его ног в ладонях, постарался передать им хоть немного тепла.
Демиртай хихикнул.
– Что такое? – спросил я.
– Щекотно!
– Ну и хорошо. Хорошо, что ты можешь смеяться.
– А нужно?
– Да, нам нужно смеяться. Иначе дядя Кюхейлан отругает нас за то, что мы рассказываем грустные истории. Как-то строго он на нас смотрит.
– Тогда я расскажу смешную историю.
«Интересно, – подумал я, – вспомнилось ли ему нечто новенькое, или это будет что-нибудь из того, что мы уже слышали?»
– Какую историю?
– Про белого медведя.
– Про белого медведя?
– Точнее, про белого медвежонка.
– Давай рассказывай.
И Демиртай, оставив попытки высвободить свои ступни из моих ладоней, начал рассказывать:
– На Крайнем Севере всё изо льда: ледяная земля, ледяные холмы, ледяной воздух. Маленький белый медвежонок прижался к своей маме, зарылся в ее густую, теплую шерсть и спросил: «Скажи, ты ведь моя настоящая мама?» Мать удивилась: «Конечно, малыш!» – «А твоя мама тоже была белой медведицей?» – «Да, моя мама тоже была белой медведицей». – «А твой папа?» – «И он тоже был белым медведем». Тогда белый медвежонок пошел к отцу и спросил: «Ты ведь мой настоящий папа?» – «Да», – ответил отец. И так далее: «Твой отец тоже был белым медведем?» – «Да». – «А твоя мама?» – «Да, и она тоже». В общем, это длинная история, но я рассказываю ее вкратце. Получив ответ на все свои вопросы, белый медвежонок яростно вцепился когтями в лед и закричал: «А если это так, то почему я все время мерзну?!»
Мы приглушенно рассмеялись. Если бы нам не приходилось сдерживаться, наш хохот услышали бы даже наверху.
– Если это так, то почему я мерзну? – повторил Демиртай и, еле переводя дух, словно запыхавшийся от бега ребенок, продолжил: – Я тоже все время мерзну. Такое впечатление, что внутри меня вместо костей сосульки. Почему я хуже всех вас переношу здешний холод?
– Потому что ты – белый медвежонок, – дал я ответ, которого он ждал.
– Наверное, так оно и есть.
Раздался скрип железной двери. Мы тут же прекратили смеяться и стали прислушиваться к звукам, доносящимся из коридора.
Вампиры, сосущие во мраке кровь юных дев, возвращались в свою пещеру. Волки, на куски разрывающие в чаще беспомощных детей, проходили через железную дверь. Повсюду распространялся тошнотворный запах. Мы были будто путники в пустыне, упавшие в колодец и ждущие, когда же мимо пройдет караван и вызволит нас. Мы мечтали однажды проснуться далеко-далеко отсюда, на горячих песчаных барханах, где не слышен скрип железной двери. Мы были беспомощны, словно корабль, попавший в свирепую бурю. Каждый считал себя тем единственным матросом, которому удастся спастись, но и страх оказаться среди погибших не отпускал нас.
Мы ждали, не смея пошевелиться, и прислушивались. Открылась дверь одной из камер, потом захлопнулась. Мучители пошли дальше, с грохотом распахнули другую дверь. Раздался пьяный смех, затем послышалась песня, в которой невозможно было разобрать слов. Голоса и шаги стали приближаться к нашей камере. Следователей было много, они очень сильно шумели и невыносимо воняли. Остановились перед нашей камерой. Но открыли не нашу дверь – они притащили Зине в камеру напротив. Ругань. Бессмысленные смешки, как у пациентов психиатрической больницы. И наконец – удаляющиеся шаги.
Демиртай встал, осторожно подошел к двери и заглянул в прорезь. Потом обернулся к нам:
– Зине не видно. Но ее только что привели. Скоро встанет. Я подожду.
Он даже не обращал внимания на то, что стоит босыми ногами на холодном бетоне.
Жизнь в камере состояла из повторений. Медленно вращалась тьма над нашими головами, мы говорили об одних и тех же людях, об одном и том же городе, цеплялись за одну и ту же надежду. И тем не менее каждый день мы начинали с мысли о том, что он – новый. Смотрели друг на друга так, словно впервые встретились. Сообразив, что в круговороте боли мечты наши тоже ходят по кругу, на некоторое время замолкали. Если у счастья есть пределы, то должны же они быть и у несчастья? Если есть пределы у смеха, то может ли быть беспредельной боль? Мы каждый день находили новые поводы для того, чтобы посмеяться, но уже чувствовали, что и смех наш каждый раз все тот же, и начали понимать, что подходим к какому-то новому порогу.
Подняв голову, мы смотрели в потолок и пытались вспомнить, состоит ли из повторений жизнь в том Стамбуле, что наверху. Прилавки на базарах, голуби близ мечетей, голоса детей, выходящих из школы, – одинаковы ли они на европейском берегу и на азиатском? Одинаково ли течение Босфора во всех прибрежных районах? Все ли новорожденные одинаково кричат, все ли старики, умирая, испускают одинаковый последний вздох? Мы думали о смерти. Похожа ли одна смерть на другую, повторяют ли они друг друга?
– Зине Севда подошла к прорези, вас зовет, – сказал Демиртай.
– Обоих?
– Да. Она хочет с вами поговорить.
Я помог дяде Кюхейлану встать, и мы вместе сделали два шага к двери. Прищурились, привыкая к свету из коридора. Увидев Зине, радостно улыбнулись, словно узрели собственную дочь.
– Как ты? – написал дядя Кюхейлан.
– Хорошо. А вы?
– Мы тоже, доченька.
Заплывший левый глаз Зине сильно распух, синяков на лице прибавилось. Трещина, рассекшая нижнюю губу, стала заметнее. Шея была черной от грязи, сальные волосы прилипли к ней. Девушка внимательно оглядела меня, словно подсчитывая раны на моем лице:
– Доктор, а ты как?
– Я-то в порядке, а вот тебе после допроса нужен покой. Ложись, поспи.
Не дождавшись, пока я допишу свой ответ, Зине Севда быстро начала чертить в воздухе новый вопрос:
– Вы рассказываете друг другу свои тайны?
– Нет, – ответил я.
Дядя Кюхейлан и Демиртай кивнули, подтверждая мои слова.
– Уверены? – спросила Зине Севда.
– Что ты хочешь этим сказать?
Что она хотела сказать?
Время, свободное от пыток, мы проводили во сне, за разговорами или молча трясясь от холода. Рассказывали о своих мечтах, творили себе собственное небо. И берегли друг от друга свои тайны, как бережет их Стамбул.
– Доктор, – написала Зине Севда. Ее палец на мгновение нерешительно застыл в воздухе. – Следователи знают твою тайну.
Мою тайну?
Я сглотнул. Закрыл глаза, ноющие от света, протер их и снова открыл.
– Как они могли узнать?
– Ты сам рассказал.
– Нет, на допросах я ничего не говорил.
– Не на допросе, в камере. Среди вас оказался их человек. Ему ты и рассказал.
– Что ты говоришь, доченька?
Что она говорила?
Зине Севда терпеливо выводила в воздухе слово за словом:
– Во время пыток я потеряла сознание, потом пришла в себя. Следователи положили меня у стены, а сами разговаривали. Я слышала их разговор. Вчера один заключенный, пока его вели на допрос, сорвал с глаз повязку, выхватил у охранника пистолет и наугад открыл огонь. Потом побежал по коридорам, сам не зная куда. Далеко не ушел. Его взяли в кольцо и без колебаний застрелили. Мы вчера слышали эти выстрелы.
Зине Севда ненадолго остановилась, желая убедиться, что мы прочитали написанное ею, и продолжила:
– Мои глаза были завязаны, Доктор. Я не видела их лиц. Они думали, что я без сознания. Пили чай, курили. Потом упомянули в разговоре тебя. Один из них рассказал, как говорил с тобой и завоевал твое доверие. А потом выложил и то, что выведал у тебя.
Выведал?
– Что же он у меня выведал?
– Что ты не настоящий Доктор…
Я медленно отошел от прорези. Добрел до противоположной стены и замер на месте, словно ребенок, который видит кошмарный сон, но не может даже закричать.
– Знают, – шептал я сам себе. – Боже мой, они знают…
С трудом переступая ногами, я вернулся к двери.
– И еще кое-что, – продолжила Зине Севда. – Они говорили о девушке по имени Мине Баде и о том, что человек, в которого она влюблена, не ты. Мине Баде любит другого Доктора.
Я уже не в силах был двинуться с места. Опустился на пол там же, где стоял. Обхватил руками голову. Рубашка казалась мне тесной, и я одну за другой оторвал пуговицы. Дядя Кюхейлан ухватил мои запястья и прижал меня спиной к стене. Я попытался высвободиться, но он только усилил хватку.
Что же это со мной стряслось?
Я слышал, что в жизни есть три вещи, которые нельзя вернуть. Какие? Выданная тайна – одна из них или нет? Мне захотелось обратить время вспять и вернуться – нет, не на месяц или год назад, а в далекую-далекую эпоху, когда человек еще не был человеком, когда мир не знал насилия. Какая прекрасная была тогда жизнь! Мир не ведал тревог. Боль не составляла основу бытия. Человеку хватало взглядов и прикосновений. Никто не вел учет рождений, не вторгался в естественный порядок смертей. И не было нужды в тайнах.
– Мы не доносчики, – слабым голосом произнес Демиртай. – И мы даже не знаем твоей тайны, нам нечего выдавать. Так ведь, дядя Кюхейлан?
– Вы… – пробормотал я.
– Мы никому ничего не говорили.
– Да что вы могли бы сказать? Меня арестовали вместо моего сына. Настоящий Доктор – он. Вам я об этом не говорил. Я пошел вместо него на встречу. А когда меня поймали, сказал полицейским, что я – это он.
Мой сын должен был встретиться с человеком по имени Али Кремень. Стояли последние жаркие деньки. Я наслаждался ярким солнцем. В последний раз порадовался встрече с тем Стамбулом, который можно увидеть в библиотеке Рагип-паши. Там, во дворе библиотеки, я склонился к земле, раздвинул почву руками, нырнул под землю и прополз в темноте, словно червь, в эту камеру. Содрал с себя старую кожу, под ней оказалась новая. В одиночестве сожрал свою плоть, от жажды выпил свою кровь. Моя жена любила петь одну старинную песню; ее слова я ногтями нацарапал на стене. «Распускайся скорее, цветок! Не думай, не вечно лето!» Я закрыл глаза и говорил в темноте. Здесь – место Страшного суда. Все живые умерли, все мертвые воскресли. Я слышал их мольбы. Однажды дверь открылась, и вошел Али Кремень. Он был ранен. Его карманы переполнял свет. Когда его боль становилась невыносимой, капли света просачивались наружу и таяли. Он горевал о погибших товарищах, говорил о Мине Баде, жалел меня. Сказал, что Мине в меня влюблена. «В ее груди, Доктор, – говорил он, – две раны: одну оставила пуля, другую – ты. Рана от пули заживет, а другая? Как исцелить страдающее сердце Мине?» Али Кремень говорил, и потолок исчезал, в камеру лился звездный свет. Издалека слышался голос моей жены, она пела: «Я – соловей, ты – роза в саду любви». Мой сын на воле, мой сын влюблен, и возлюбленная готова отдать ему свое сердце. Они вскоре поправятся и найдут друг друга. Али Кремень тоже обязательно должен был выздороветь и избавиться от тоски. Мне захотелось ему помочь. Я разжал ладонь и поделился с ним частичкой моей тайны. «Не расстраивайся, – сказал я, – та девушка влюблена не в меня, а в моего сына. Они встретятся и помогут друг другу. Не грусти, скоро они поправятся».
– Это все? – спросил дядя Кюхейлан.
– Что «все»?
– Это все, что стало известно следователям?
– Да.
– Тогда в чем проблема?
– Они узнали, что мой сын на свободе. Его будут искать.
– Им известно, где он?
– Нет.
Здесь я не был самим собой. Я был отцом, назвавшимся прозвищем своего сына. Али Кремень, выходит, тоже был не Али, а полицейским, раненным во время схватки в Белградском лесу. Пулю достали, рану зашили, и он с изможденным видом явился в мою камеру. Рассказал мне то, что узнал из материалов следствия, так, словно поведал собственную тайну. Он был ранен, и я поверил ему. Он страдал, и я поверил ему. Напоил его водой, поделился хлебом. Когда он заговорил о девушке, в которую влюблен мой сын, я поверил ему еще больше. Мне хотелось, чтобы ему стало легче. Мне хотелось, чтобы стихла его боль. Я подарил ему частицу своей тайны, но не сказал, где мой сын.
– Ты уверен в этом?
– Уверен. Я никому не говорил, где мой сын.
– Конечно не говорил. – Дядя Кюхейлан положил руки мне на плечи. – Потому что ты не знаешь, где он.
– Не знаю.
– А раз не знаешь, то и сказать не можешь, так ведь?
– Не могу.
– Потому что не знаешь.
– Потому что не знаю.
– Так чего же ты боишься?
– Я не сумел сохранить свою тайну. А если я не смогу сохранить и свою стойкость и сдамся под пыткой…
До этого дня я был счастлив в тюрьме. Даже когда извивался от боли, стонал и плевал кровью – я был счастлив. Мне хватало того, что у меня есть. Я радовался своей тайне. Пусть мне выпустят всю кровь, говорил я себе, пусть я испущу здесь свой дух – никто не узнает, что я храню в своем сердце. Пусть мое тело превратится в одну большую рану – мой сын на свободе, он выздоровеет. Пусть я умру – он будет жить. Когда человек несчастлив, он знает об этом, а вот когда счастлив, оказывается, замечает это не всегда.
Дядя Кюхейлан дал мне напиться.
– Успокойся, все будет хорошо.
– Правда?
– Не бойся, Доктор, теперь все будет хорошо.
– Наверное, я умру. И пусть бы так и было.
Наступила зима. Стало рано темнеть. На крыши лег нежный, как пух, снег. В том Стамбуле, что наверху, ярко сияют витрины, по проспекту Независимости, как всегда, течет оживленный людской поток. Повсюду киноафиши, запахи вкусной еды и звуки музыки. Сквозь толпу из бесконечности в бесконечность движется трамвай. На его задней площадке стоят, держась за руки, влюбленные юноша и девушка. Юноша – мой сын. Он что-то шепчет девушке на ушко – как же мне интересно, что именно! Его лицо безмятежно, он улыбается, как в детстве. С улицы доносится мелодия старинной песни. Услышав ее, мой сын выглядывает в окно трамвая. «Распускайся, цветок! Продлим этот прекрасный миг!» – поется в песне. Мой сын всматривается в толпу, словно ищет в ней знакомое лицо, потом еще крепче сжимает руку любимой. Явившийся из бесконечности трамвай, проходя, словно луч света, сквозь толпу, уносит моего сына в новую бесконечность.
И тут открылась железная дверь. Громкий скрип разнесся по всему коридору.
– Наверное, я умру, – повторил я.
– Зачем это? – спросил дядя Кюхейлан.
– Если я умру, не останется никого, кто знал бы, где мой сын.
– Доктор, но ведь и ты этого не знаешь!
– Слишком поздно…
– Нет!
– Слишком поздно…
Дядя Кюхейлан внимательно посмотрел на меня и влепил мне пощечину. Подождал немного и отвесил еще одну.
Девятый день Рассказывает парикмахер Камо Самое лучшее стихотворение
– Пассажир, сошедший с поезда после бессонной ночи, увидел перед вокзалом Хайдарпаша, там, где спускается к морю лестница, худого человека в кепке. Тот держал в костлявых пальцах какую-то фотографию, смотрел на нее и то плакал, то начинал хохотать. Плача, он низко склонял голову, а когда смеялся, походил на безумца. Пассажир ночного поезда поставил свой чемоданчик на землю и присел рядом с человеком в кепке. Подозвал продавца бубликов, купил по штучке себе и незнакомцу. Посмотрел на купола, парящие над противоположным берегом, словно гряда облаков, и заговорил о том, какими погожими выдались последние деньки, и о том, что у каждого времени года в Стамбуле свой запах. Он читал названия проходящих мимо вереницей пароходов и находил в каждом глубокий смысл. Стамбул – город, в котором все кажется ясным и очевидным, но вовсе таковым не является. Вот лестница: она ведет к морю, она обеспечивает проход от вокзала к пристани, и на ней же можно сидеть и рассматривать фотографии. Не один лик реальности являла она, а несколько. Реальность, признаваемая всеми, находилась на другом конце города. Неизвестно было, одно ли и то же солнце светит на этой и на той стороне пролива. Никто не мог быть уверен в том, что там дует тот же ветер, что и здесь. Пассажир ночного поезда и человек в кепке решили отправиться в путь и проверить, какие на том берегу солнце и ветер. Дошли до пристани, сели на пароход. Устроившись на корме, пили чай, любовались старинными дворцами, башнями и казармами и думали о том, что Стамбул не притягивает к себе историю, а увяз в ней и никак не выберется. Этой историей можно торговать, наделав из нее красочных открыток. Однако, сойдя с парохода и прошагав мимо уличных торговцев и слепых музыкантов, пассажир ночного поезда и человек в кепке сразу же усомнились в справедливости последней мысли. Продавцы открыток торгуют не историей, а ложью, решили они. На вокзале Сиркеджи они сели на пригородный поезд и доехали на нем, минуя ветхие кварталы, мейхане и руины крепостных стен, до самой последней станции. Там они обернулись и посмотрели на Стамбул и на небо, которое обрело новый цвет. Понаблюдали за тем, как бродячие собаки едят мертвых птиц. Жетончики на проезд обратно они купили заранее. На том же пригородном поезде и на том же пароходе вернулись к началу пути – на лестницу, спускающуюся к морю от вокзала Хайдарпаша. Вечерело. Птичьи стаи тянулись к красному солнцу, летели мимо минаретов и куполов. Взяв сигарету, протянутую пассажиром ночного поезда, человек в кепке заговорил, будто ждал наступившей минуты весь день. «Все случилось в этот самый вечерний час, – сказал он. – Моя жена ушла из дому и больше не вернулась. Говорили, что она сбежала, пропала без вести или умерла, – я не слушал. Давал объявления в газеты, вешал плакаты на улицах. Обошел полицейские участки и больницы, потом стал частым гостем в питейных заведениях. Сидя в мейхане, вспоминал ее имя. Чтобы забыть ее, спал с проститутками. В своем родном городе, будто в ссылке, считал дни, месяцы, времена года. Смотри, вот фотография моей жены. Она всегда со мной. Любоваться ею – все равно что пить воду из чаши, украшенной изумрудами, только вода каждый раз одна и та же. Прелесть ее бесконечна и может поспорить с красотой Стамбула. Вспоминая те дни, когда мы были вместе, я смеюсь от счастья. Но, обращаясь мыслями к будущему, я понимаю, что больше никогда не увижу свою жену. Я оказался в пустоте. Смеюсь, вспоминая о прошлом, запечатленном на фотографии, и пла́чу о будущем».
Заметив, что к концу рассказа я уже еле шевелю языком, дядя Кюхейлан помог мне выпрямиться и прислониться к стене. Потом протянул руку за бидоном, в котором оставалось воды на два глотка.
– Попей немного, а то в горле небось пересохло.
– Я, дядя Кюхейлан, смеюсь, когда думаю о прошлом, как тот худой человек в кепке. Но о будущем не плачу. Будущее я ненавижу.
– Камо, ты можешь смеяться, над чем хочешь, и ненавидеть, что тебе угодно. Главное, чтобы ты не сдался боли.
– На боль мне наплевать, – ответил я, хотя все мое тело находилось в ее власти – от пальцев ног, паха и поясницы до шеи, челюсти и висков. При каждом вдохе грудная клетка раскалывалась на части, а перед открытым глазом (второй заплыл) вспыхивали искры.
Я с трудом сделал глоток. Вода обожгла мне горло.
– А теперь нужно поесть, – продолжал дядя Кюхейлан, вкладывая мне в ладонь кусок хлеба.
– Вот это будет сложно, – проговорил я, глядя на хлеб, который выглядел твердым как камень.
– Жевать не можешь?
– Зубы болят, и нёбо кровоточит.
– Тогда давай я разжую.
Дядя Кюхейлан забрал у меня хлеб и откусил кусочек.
– Ты давно тут один? – спросил я, обводя камеру взглядом, словно просторную площадь.
– Доктора и студента Демиртая увели незадолго до твоего возвращения.
– Как студент? Еще не сошел с ума, не сдался?
– Нет, Камо, они оба держатся.
– Интересно, дядя Кюхейлан, сколько во всех этих камерах осталось тех, кого еще не сломали. На допросе мне показывали много заключенных, которые падали на колени, молили о пощаде и отвечали на все вопросы следователей.
– В соседних камерах порой так страшно кричат, что мне самому становится больно. Те, кто не вынес пыток и сдался, все равно наши братья, Камо. Мы можем лишь жалеть их.
– Жалеть? Вот уж нет. Каждый раз, когда с моих глаз снимали повязку, я думал, что увижу перед собой нашего студента. Он тоже, как и другие, будет плакать, умолять мучителей о пощаде, позорно…
– Чем думать о таком, лучше ешь хлеб.
Дядя Кюхейлан взял кончиками пальцев комок пережеванного хлеба и положил мне в рот, словно в открытый клюв птенца.
Я приступил к утомительной работе. Помял хлеб языком. Заложил за щеку. Сглотнул слюну, чтобы смягчить горло. Кончиком языка отправил следом хлеб. Он пошел вниз, царапая глотку, словно клубок колючек.
– Еще немного… – предложил дядя Кюхейлан.
– Нет, надо отдохнуть.
– Хорошо, переведи дух.
– Когда ты перевязал меня этой тряпкой? – спросил я, поднимая левую руку.
– Болит? Пришлось завязать туго-натуго.
– Болит, но не из-за повязки.
– Когда тебя принесли, из запястья текла кровь. Я оторвал рукав у своей рубашки и перевязал рану. Ты был в полубеспамятстве, не помнишь, наверное.
– Последнее, что я помню, – гвоздь.
– Какой гвоздь?
– Который они вбили мне в запястье.
– В запястье?
– Да.
– Чтоб им пусто было! В голове не укладывается. Что ж они за люди такие?
– А вот такие. Они-то и есть настоящие люди, дядя Кюхейлан. Неужели ты до сих пор не понял? Когда Бог сотворил природу, небо и землю, шайтан в ответ прибрал к рукам людей, дал им вкусить плод с древа познания. После этого человек сделал то, что недоступно другим живым существам, – осознал свое бытие. И возгордился, и возлюбил себя превыше всего остального, даже превыше Бога. Его он не предал забвению только потому, что хотел обрести жизнь после смерти. Собственное бытие стало для него мерой всех вещей. Он губил природу, убивал тварей живых. Придет время, он убьет и Бога. Потому зла в мире больше, чем добра. Я и мучителям моим это сказал. Шайтановы отродья! Они вкололи мне в ухо шприц невесть с чем. Голова горела как в огне. Хотели добраться до моего мозга. Я боролся изо всех сил, чтобы не сойти с ума. Пытался вырваться из цепей. Бился головой о стену. Они хотели, чтобы я молил о пощаде, а я покрывал их отборной бранью. То стонал, то принимался хохотать. Вы – люди, сказал я им, вы – настоящие люди. Никогда не думал, что смогу так страшно кричать. Они макнули меня головой в воду – хотели, чтобы я оставался в сознании, хорошенько чувствовал боль. Работали умело, как хирурги, как мясники. Отыскивали уязвимые места и отворяли врата боли. Делали то, что нужно, чтобы быть человеком.
Дядя Кюхейлан слушал меня, держа в пальцах кусочек хлеба.
– Дядя Кюхейлан, – продолжал я, – к революционерам я не примкнул, потому что они ошибаются в вопросе о природе человека. Они верят, будто человек по сути своей добр и его можно спасти от зла. Они полагают, что эгоизм и жестокость – следствие неблагоприятных условий жизни. Они не видят ада, что царит в душе человека, не замечают, что он жаждет превратить в ад весь мир. Революционеры ищут истину там, где ее нет, напрасно приносят себя в жертву. Человека нельзя исправить. Человека нельзя спасти. Можно только сбежать от него.
Дядя Кюхейлан смотрел на меня с любопытством и жалостью. Как и все, он считал, что я безнадежно рехнулся, но терпеливо слушал.
– Разве остался в мире уголок, куда не добрались люди? Они разъезжают на шикарных джипах, полицейских автомобилях и автобусах, что развозят их по домам после работы. Ими переполнены банки, школы, мечети и церкви. Под их пято́й города и деревни, горы и леса. Стамбул, который ты так любишь, тоже принадлежит им. Они лгут и насилуют. Им мало того, что они проникли во все уголки мира, – они хотят проникнуть в наше нутро. Они прибрали к рукам наши тела. Даже если сбежать от людей – как сбежишь от самого себя? Как нам от самих себя спастись? Вместо того чтобы задуматься над этим, революционеры и политики, учителя и проповедники говорят, говорят, говорят… И обманывают не только других, но и самих себя. Поэтому я уважаю наших здешних мучителей. Им нет нужды лгать. Они не скрывают истину. Не стесняются творить зло. Из всех известных мне людей, сказал я им, вы более других достойны уважения. Как раз в это время они резали на куски мое мясо, словно разделывали на бойне еще живую скотину. Я в самом деле вас уважаю, сказал я, ибо вы какие внутри, такие и снаружи. Вы подлинные! От этих моих слов они пришли в бешенство, совсем потеряли власть над собой. Били кулаками по стенам, крушили стекла. Кричали от боли. Потом ушли, с грохотом захлопнув дверь, оставили меня одного, прикованного к стене, с завязанными глазами. Днем то было или ночью? Быстро ли, медленно ли текла жизнь наверху? Наверное, они ушли в одно из соседних помещений; наверное, схватились за телефон и стали названивать своим женам, говорить, как соскучились по ним. «Я так устал! Снова видел кошмар. Хочу напиться и уснуть в твоих объятиях». Жены были полны нежности. Они хорошо умели играть роль, к которой их готовили с самого детства. В таких случаях их голоса делаются мягче, сердца обливаются кровью. Они пообещали своим любимым обнимать, целовать и ласкать их, когда те придут домой, раздвинуть ноги и пустить их в себя. Пообещали своим мужчинам жадное до ласк тело. Ничего большего им сделать не дано. Они сами не знали, день или ночь на улице, быстро или медленно течет жизнь, многолюдны улицы или пустынны. Поговорив с женами, мои мучители погрузились в молчание. Вытерли пот. Сели на пол у стены, закурили. Стали ждать, когда успокоится бешено колотящееся сердце. Как только их ярость утихла, они вернулись туда, где оставили меня, связанного. По звукам шагов я понял, что их столько же, сколько и было раньше. Теперь они говорили спокойно. «Камо, – сказали они, – ты должен рассказать нам о прошлом. Камо, ты должен открыть нам тайны своего прошлого». Я поднял голову и ответил им, глядя в темноту под плотной повязкой: готовы ли вы услышать нечто большее? Сам Бог не властен изменить прошлое и оставляет нас с ним один на один – так не слабо ли вам услышать нечто большее? Исчадия ада! Человечьи отродья! Они сняли с меня цепи, развязали глаза. Посадили перед зеркалом и заставили всмотреться в лицо, какое бывает у мертвых. «Будущее – это мы, – сказали они. – Смотри в зеркало, Камо: у тебя нет будущего, но есть прошлое, и это прошлое ты отдашь нам».
Дядя Кюхейлан, лицо, которое я узрел в зеркале, было разбитым и грязным, живого места не найдешь. Из одного уха течет кровь, из другого – гной. Один глаз открыт, другой заплыл. Брови рассечены. Губы в трещинах. Изо рта тянется нитка слюны. Это лицо не походило на человечье. Мы знаем, что такое зеркальное стекло, дядя Кюхейлан. Нам знакома рамка, она сделана из дерева или из металла, украшена цветочным орнаментом или позолотой. А что внутри зеркала? Можем ли мы познать пустоту в его глубине? Можем ли постичь тайну волшебства, заключенного в его слоях? Зеркало похоже на колодец, над которым я так часто склонялся в детстве, в который мог смотреть часами. По сторонам был свет, но в центре крутился темный водоворот. И я был там, в этом водовороте. Я еле дышал. Боль в груди тяготила, будто огромный камень. Меня сотрясал кашель – казалось, легкие вот-вот разорвутся. Я думал, что мне теперь делать. Разбить зеркало? А может, сломать шею кому-нибудь из моих мучителей? И вдруг я весело, по-детски рассмеялся, словно в луна-парке, в комнате с кривыми зеркалами, не обращая внимания на боль в груди. Смех превратился в хохот, эхом отразился от стен.
Дядя Кюхейлан, видимо желая заставить меня замолчать, положил мне на нижнюю губу комок пережеванного хлеба:
– Съешь-ка еще вот это. Тебе нужно.
В нос ударил запах плесени. Свело желудок. Чуть не стошнило. Я вытащил хлеб изо рта.
– Не могу. Не получится проглотить.
– Хорошо, подождем немного.
– Я видел там Зине.
– Зине? Где, на допросе?
Я знал, что дядя Кюхейлан встрепенется, услышав это имя.
– Да. Когда я разбил зеркало о морду следователя, они набросились на меня, стали яростно избивать – позабыли все свои изощренные пытки. Я потерял сознание. Не знаю, сколько прошло времени. Потом на меня вылили ведро холодной воды, и я пришел в себя, трясясь от озноба на ледяном бетоне. Мое тело отяжелело. Тот глаз, что еще открывался, видел все как в тумане, мог разглядеть лишь контуры. Стол, стул. Несколько человек вокруг. Длинная стена. В конце стены – две толстые колонны, между ними подвешено тело. Чтобы понять, кто это, нужно было либо подобраться поближе, либо как-то развеять туман, застилающий мне взгляд. Я потер свой глаз, очистил его от запекшейся крови. Поднял голову и еще раз взглянул в ту сторону. Между колонн за руки была подвешена женщина. Она едва могла пошевелить головой. Одежды на ней не было. Из грудей текла кровь. Все тело покрывали порезы, от плеч они красными лентами спускались вниз, к животу, паху, ногам. Было понятно, что следователи снова решили пытать кого-нибудь у меня на глазах, чтобы я уступил чувству сострадания и сдался на их милость. Они думали, я из тех, с кем это может сработать. Я снова протер глаз, присмотрелся и понял, что на кресте между колонн, словно христианская святая, висит Зине Севда. Она была совсем легонькая, будто осенний листок на дереве: далека от земли, близка к небу. Веревки на запястьях потребовались не для того, чтобы она не упала, а для того, чтобы не улетела вверх. Неужели эта самая девушка несколько дней назад опустилась на колени рядом с нашей камерой, не обращая внимания на толпу охранников и следователей? Она узнала меня. Подняла голову чуть выше. Шире открыла здоровый глаз. Уголки ее губ дернулись – она попыталась улыбнуться. Но надолго ее не хватило. Силы кончились, голова снова упала на грудь. Я смотрел на нее не отрываясь. Нашей наготы я не стыдился. Я знал, что мучители попытаются сначала овладеть нашими душами, а уж потом возьмутся за тела. Я положил руки на пол и, собравшись с силами, выпрямился. Встал на колени. Вытер пот со лба и пятна крови со щек и шеи и замер живым изваянием. Из коридора не доносилось ни звука. Слышно было только, как с пальцев ног Зине падают на пол капли крови. Я стоял на коленях, подобный статуям, неподвижным под солнцем, дождем и снегом, и ждал. Следователи заворчали, послышалась злая ругань. Они поняли, что я подражаю Зине, тому, как несколько дней назад она упала на колени в нашем коридоре. Меня схватили за волосы и оттащили к дальней стене. Положили мои руки на деревянный брус. Принесли длинный, тонкий, блестящий гвоздь, приставили к левому запястью. И ударили по нему тяжелым молотом. Мне показалось, что гвоздь вошел не в руку, а в мозг. Я застонал. Из глаз – и здорового, и заплывшего – хлынули слезы. Восхищаюсь вами, сказал я мучителям. Вы делаете то, на что больше никто не способен: показываете свою суть такой, какова она есть. Прежде чем взяться за души заключенных, вы рассекаете собственное нутро, словно плод граната, и разбрасываете вокруг его содержимое. Они отдернули от меня свои руки. Отступили на шаг, переглянулись. У них не было иного выхода, как только продолжать начатое. Они достали из коробки еще один гвоздь. Приставили к моему правому запястью. Подняли молот. Тут я и потерял сознание. Но в последнее мгновение успел подумать: интересно, они повесили передо мной Зине, чтобы я заговорил, или же меня распяли на глазах у Зине, чтобы сломать ее?
Дядя Кюхейлан дотронулся до моего здорового запястья, сжал его пальцами, поцеловал. Приложил к своему лбу. Закрыл глаза. Замер, не отнимая моего запястья ото лба, и застонал. Вот это было лишнее. Я сам мог справиться с собственной болью, а он пусть думает о своей. Я попытался высвободить руку, но он не дал. Я попытался еще раз, но дядя Кюхейлан так и держал мое запястье в своих огромных ладонях, прижав ко лбу, пока я не закашлялся. Заметив, что кашель мой никак не прекращается, он поднял на меня глаза и положил мою руку на место – аккуратно, словно маленького воробушка. Потом поправил мое склонившееся в сторону тело, прислонил спиной к стене. Поднял с пола кусок ткани, вытер кровь, вытекшую у меня изо рта. Наверное, это был второй рукав его рубашки. Протер мне лоб и шею. Вылил на ткань последнюю воду из бидона и смочил мои губы.
Кружилась голова. В висках стучало – но это было не биение моего сердца, а пульсация времени. Времени, что явилось из прошлого и ударило о волнорез будущего, выбросив меня на берег. Я не смог приспособиться к его темпу. Оно то вскипало, словно море в шторм, то успокаивалось. Превращалось то в миг, то в бесконечность. Оно забрало у меня мою Махизер, унесло ее в дальние дали и билось в моих жилах, чтобы я с каждым вздохом вспоминал ее имя. Время хотело, чтобы я улыбался прошлому и плакал о будущем.
В тот день, когда дядя Кюхейлан рассказал о небесной стране, в которой мы все отражаемся, где у каждого из нас есть двойник, я поднял голову, посмотрел в потолок и увидел в темноте Стамбул – залитый дождем, многолюдный, объятый тревогой. Услышал голоса уличных торговцев, школьные звонки, шум машин, выдыхающих выхлопные газы в густом транспортном потоке. Стамбул, раскинувшийся от одного края горизонта до другого, пожирает женщин и мужчин, а потом извергает. Повсюду стоит запах гнилого мяса. Каждый видит в другом чужака, никто ни с кем не заговаривает. Подражая своему городу, люди в один день просыпаются радостными, а в другой – унылыми. Работают с утра до вечера, с вечера до утра. С мыслью о смерти они смирились и готовы к чему угодно – но только не к тому, чтобы столкнуться лицом к лицу с истиной, спрятанной в глубине их сердец. Грязной рекой текут по улицам, а когда устают – скапливаются на площадях. Среди этих людей был и мой двойник, во всем мне противоположный, как отражение в зеркале. Я мужчина, мой двойник – женщина. Я – нервный, она – спокойная. Я – некрасивый, она – красавица. Я – плохой, она – хорошая. Я – парикмахер Камо, она – моя жена Махизер. Связывала нас поэзия. Мы читали друг другу стихи, творили из них собственный язык. На этом языке, никому, кроме нас, не ведомом, мы говорили друг с другом, смеялись, любили. Нам хотелось, чтобы даже во сне нас посещали стихи, чтобы мы могли начинать с них свой день. Но время не дало нашему языку пустить корни, укрепиться в почве. Подлое время.
Когда Махизер бросила меня и ушла из дому, я первым делом стал искать не ее, а самое лучшее стихотворение.
Языка, которому я научился от матери, мне было недостаточно. С ним я вырос, выучил его слова, с их помощью познакомился с вещами и людьми. Знание, которое дает язык, я считал истинным и готовился жить такой же жизнью, что и все вокруг. Пользовался ограниченным набором слов, а когда молчал, тот же самый набор звучал в моей голове. Творцом языка был не я, он уже существовал, когда я родился. И я верил, что никогда не выйду за пределы этого языка, – пока однажды не нашел в маминой шкатулке среди прочих бумаг написанные от руки стихи. Эти стихи сочинил мой отец. Я впервые увидел его почерк и подпись. Он использовал вроде бы знакомые мне слова, но они зазвучали иначе, их буквы обретали новое значение, и в результате рождался новый, небывалый, неожиданный смысл. Подобно сказочному лекарю Локману, искавшему живую воду, мой отец искал чистый язык самой жизни. Он снимал с неба звезды и вешал на их место светочи стихов. Он клялся, что поэзия и любовь вместе сосут молоко из груди смерти. Он отдергивал шторы и рукой протирал запотевшее окно, из которого видна реальность. Он был из тех редких – и становится их все меньше – поэтов, которые похожи на хищников, что охотятся в одиночку. Умер он до моего рождения, но оставил мне бесценное наследство. Благодаря его стихам я не увяз в болоте желаний. Желание – наш новый бог. Как и прежний, оно старается стать вездесущим и всевластным. Для него нет преград. Но старый бог был фальшивым. Желание, стало быть, – подделка под фальшивку. Если к этому прибавить фальшь, свойственную самим людям, жизнь становится просто невыносимой. Кто может сломать этот порочный круг, кроме поэта? Кто, кроме поэта, способен говорить на языке смерти и вместо безграничности желания обещать людям бесконечность реальности?
Я решил найти самое лучшее стихотворение из всех сочиненных поэтами, чтобы иметь его при себе, когда снова увижу Махизер, и начал ходить по библиотекам. Рылся в каталогах. Сидел в читальных залах, изучал журнальные подшивки, штудировал книги. Когда дело дошло до детских стихов, я отправился на азиатский берег, в детскую библиотеку района Чинили.
Был солнечный осенний день. Маленький двор библиотеки полнился птичьим щебетом, как в одном из лирических стихотворений отца. Тень от заросшей плющом стены наводила на мысли о спокойном сне. У стены на краю лужайки стояла старая деревянная скамья с облупившейся краской. Я прошелся по брусчатке, потом по лужайке и сел на скамью, чтобы отдохнуть после утомительного подъема от пристани по жаре. Из-за стены не доносилось ни звука. Вокруг никого не было. У меня уже начали слипаться глаза, когда калитка отворилась и во двор вошла маленькая девочка в школьной форме с портфелем в руке. Она собиралась подняться по лестнице к двери библиотеки, но потом посмотрела в мою сторону. На ней были очки с такими толстыми стеклами, что я усомнился, видит ли она меня. Но девочка подошла и села рядом на скамейку.
– Ты чей папа? – спросила она.
– Ничей, – ответил я.
– А за кем тогда ты пришел?
– Ни за кем.
– Наверное, ты новый библиотекарь?
– Нет. А со старым что случилось, на пенсию уходит?
– Она умерла.
Я немного помолчал, думая, что сказать.
– Пожилая уже была, да?
– Старше моей мамы. В ту ночь, когда она умерла, в библиотеку залез вор. Не найдя ничего, кроме книг, украл часы со стены. Так что теперь мы без часов.
– Новый библиотекарь купит часы и повесит на стену.
– Наши старые часы спешили на десять минут. Мы к ним привыкли.
– Новые тоже можно перевести на десять минут вперед.
– Забудьте, что происходит за этими стенами, говорила тетя-библиотекарь, забудьте о том времени, что на улице.
– И как, получалось?
– Иногда.
Мне стало любопытно, как им это удавалось. Что заставляло детей забыть о времени? Древние каменные стены? Книжки с картинками? Щебет птиц? Или дело было в самой тете-библиотекаре?
– Меня зовут Камо, – представился я, – а тебя как?
– Кыванч.
– А скажи-ка, Кыванч, далеко ты видишь в этих очках?
– Ты как мальчишка, дядя Камо. Тоже смеешься над моими очками.
– Нет, я не смеюсь. Мне интересно, видно ли тебе по вечерам звезды на небе.
– Нет, не видно. Небо очень далеко и как в тумане. Но я видела звезды в книжках с картинками. Я умею находить на звездной карте Северного полушария Полярную звезду.
– А меня в твоем возрасте интересовал не север, а юг. Спросишь почему? Он у меня ассоциировался с погружением вглубь Земли. У нас во дворе был колодец, я часто играл рядом с ним. Слово «юг» напоминает мне об этом колодце, о подземелье.
– А библиотека – наверху, на втором этаже. Чтобы попасть в читальный зал, надо подняться на десять ступенек.
– Я уже большой и привык к высоте. Ты любишь считать?
– Да. Ступеньки, трещинки в стене, окна – все считаю. Никогда не забываю.
– Кыванч, а кто теперь открывает библиотеку, кто за вами присматривает?
– Владелец бани по соседству приходит, утром открывает библиотеку, а вечером закрывает. Но он за нами не присматривает, мы одни сидим, уроки делаем. После того как умерла тетя-библиотекарь, мы больше не шалим.
– Молодцы. Я несколько дней поработаю рядом с вами.
– Это же детская библиотека, дядя Камо. Что ты здесь будешь делать?
– Я занимаюсь одним исследованием. Буду просматривать книжки со стихами. А ты зачем пришла, домашнее задание готовить?
– Я сюда прихожу каждый день после школы. Жду, когда мама заберет меня по дороге с работы. А до тех пор делаю уроки.
Кыванч соскользнула со скамейки, взяла портфель и направилась к лестнице. Я – за ней. В квадратном читальном зале сидели, разложив на столах книжки и тетрадки, несколько мальчиков и девочек. Вдоль стен тянулись полки. Везде была чистота и порядок. Ни одного пятнышка, если не считать потеков на штукатурке купола. Кыванч села за стол у окна и жестом пригласила меня садиться рядом, на соседний стул. Я обвел глазами полки. Естественные науки, история, география… Поэзия. Я взял стопку книг, сел на стул, который предложила мне Кыванч, достал из кармана бумагу и ручку. На стене напротив виднелся круглый след от украденных часов, вверху круга торчал одинокий ржавый гвоздь.
В тот день я наслаждался не только чтением стихов пожилых поэтов, тоскующих о давно прошедшем детстве, но и тем, что работал рядом с детьми. Мне нравилась их молчаливая сосредоточенность, и сам я тоже не шумел. Тихо перелистывал страницы, переходил от одной книги к другой, делал пометки, пока Кыванч, взглянув в окно, не начала собираться. Я понял, что настал вечер. Вслед за девочкой я спустился по лестнице и посмотрел, как она обнимается у калитки с матерью.
– Дядя Камо, это моя мама!
Та, увидев бумагу и ручку в моих руках, приняла меня за учителя:
– Приятно познакомиться, ходжа.
– Взаимно, – ответил я, пожимая ей руку. – У вас очень умная дочка. Кыванч здесь самая старательная.
– Спасибо!
И они, держась за руки, вышли за калитку.
– Тебя сегодня ждет сюрприз, – донеслись до меня слова мамы Кыванч.
Я закурил. Выдохнул облачко дыма. Из библиотеки я уходил в таком хорошем расположении духа, какого давно не помнил. Улица была пуста. Слева светились окна мечети, справа – бани. Дни становились короче, темнело уже рано. Дома быстро окрашивались в сумеречные тона. Осенний ветер трепал развешанное на балконах белье. Кыванч шагала вприпрыжку рядом с мамой, похожая на веселого котенка, и смотрела на балконы, пыталась разглядеть, что могла, сквозь толстые стекла очков. Потом отпустила мамину руку и побежала вперед. Все это приводило на память один рисунок – не помню, где я его видел, но он надолго остался в моей голове. На черно-белые стены и тротуары падал желтый свет. Темнели длинные ветви деревьев. Птицы на электрических проводах напоминали фарфоровые безделушки. А впереди, под фонарем с разбитой лампочкой, стояла женщина. Она сделала шаг вперед и раскинула руки навстречу бегущей к ней девочке. Они обнялись и на какое-то время замерли, а потом, взявшись за руки, принялись кружиться на месте, словно флюгер. Должно быть, это и был тот сюрприз, о котором мама говорила Кыванч. Превратившись в три темных пятна, две женщины и девочка растворились в сумерках там, где кончалась улица.
Когда они исчезли из виду и вокруг не осталось ничего, кроме деревьев и птиц, я пришел в себя. Мне показалось, что женщина, обнимавшая Кыванч, похожа на Махизер. Но фонарь, под которым она стояла, не горел, а в темноте я часто принимал других женщин за свою жену. Так что я не был уверен, она ли это, но все равно, бросив окурок на тротуар, поспешил следом. На перекрестках я вертел головой, пытаясь понять, не свернули ли они, и бросал взгляд в освещенные окна, пока улица не уперлась в широкий проспект с оживленным движением. Оказавшись в толпе людей, я понял, что сбился со следа. Той же дорогой я вернулся назад, снова заглядывая в окна и переулки. В ту ночь я еще много раз проделал этот путь. Замерз, устал.
На следующий день, когда мы с Кыванч снова встретились в послеобеденное время посреди сада детской библиотеки, мой изнуренный вид не укрылся от ее взгляда.
Я сидел на скамейке. Войдя в сад, Кыванч (волосы у нее были заплетены в косички) сразу направилась ко мне и заговорила, словно со школьным приятелем:
– Почему ты такой усталый?
– Вчера допоздна работал.
– Мне тоже нужно поработать. Очень много задали.
– Я могу тебе помочь.
– Правда?
– Если ты хочешь, конечно.
– Хочу!
– Договорились.
– А вечером я пойду в кино.
– Здорово! С мамой?
– Нет, с тетей Ясемин. Маме сегодня надо будет задержаться на работе.
– А кто такая тетя Ясемин? Твоя родственница?
– Нет, мамина подруга. Она вчера к нам приехала и сегодня тоже у нас переночует.
– Это ее твоя мама вчера назвала сюрпризом?
– Да. Тетя Ясемин иногда приезжает к нам и остается на некоторое время.
– Чем же вы занимаетесь? Играете в «дочки-матери»?
– И в «дочки-матери», и в прятки, и в «кошкин дом».
– А потом ложитесь спать…
– И в обнимку засыпаем.
– Смотри, у меня тоже есть для тебя сюрприз.
Я достал из кармана шоколадку и положил в маленькую ладошку Кыванч. Ее зеленые глаза широко распахнулись, и толстые стекла очков тоже позеленели.
В тот день я не читал стихов, а помогал Кыванч с домашним заданием. Съел кусочек шоколадки, которой она со мной поделилась. Вместе мы записали в ее тетрадь сказку и нарисовали гору, овечку и дерево. Когда дело дошло до теста из десяти пунктов, я дал ей несколько маленьких подсказок. Работа близилась к концу, когда я заметил, что свет в окне начинает потихоньку меркнуть, и сказал, что мне пора идти. Улыбнулся на прощание детям, которые уже привыкли к моему присутствию. Все они сидели, по обыкновению повернувшись в сторону часов, точнее, в ту сторону, где раньше висели часы. Прислушиваясь, как и они, к ритму, который отстукивали несуществующие часы, я спустился по лестнице из десяти ступенек и вышел в приотворенную калитку. Широкими шагами пересек улицу, завернул во двор мечети, сел на табурет и вместе с согбенными стариками стал ждать вечера, наблюдая за улицей.
Когда из библиотечного сада весело выбежала моя Кыванч, я встал и двинулся за ней, прячась в тени. Я знал, что она пойдет по тому же пути, что и вчера, и на том же месте, под разбитым фонарем, встретится с тетей Ясемин. Между нами сохранялось определенное расстояние: я должен был оказаться достаточно близко, чтобы отчетливо разглядеть лицо, и достаточно далеко, чтобы меня не заметили. Кыванч пробежала еще немного, и из-под темного фонаря ей навстречу шагнула женщина, в том же пальто, что и вчера. Это была моя жена Махизер, такая же прекрасная, как и раньше. Те же розовые губы и огромные глаза. Я прислонился к стене и смотрел, как Махизер и Кыванч радостно обнимаются.
Я знал, что Махизер, уйдя от меня, присоединилась к революционерам, скрывается и часто меняет имена. Стало быть, ее новое имя – Ясемин. Она сама себя губила. Подобно цветку, который раскрывается, не зная, что такое красота, подобно осеннему листу, который падает с ветви, не зная, что такое смерть, Махизер жила, не отдавая себе отчета в том, какая она необыкновенная. Она не знала, что, заснув, превращается в пери, – а я знал. Я вместо нее хранил в памяти красоту ее лица. Если бы сегодня в библиотеке среди других вопросов домашнего задания Кыванч мне попался бы такой: «Что есть красота?» – я нарисовал бы портрет Махизер и написал бы под ним: «Знать о красоте, быть влюбленным в нее, но не иметь возможности к ней прикоснуться – то же самое, что знать о воде, но погибать от жажды». Эти слова – обо мне. Я знал, что такое вода, но погибал от жажды, видел Махизер – но жил без нее. Проклинал время, людей и Стамбул. Всех ненавидел.
Мы пошли – они впереди, я следом – и, прошагав по узким улицам, выбрались на широкий проспект. По очереди поймали такси и доехали до проспекта Бахарийе. Сначала съели по сэндвичу, а потом пошли смотреть фильм (на афишу я даже не взглянул). Они сели поближе к экрану, а я – в последнем ряду, у самого выхода. Попытался вспомнить, когда мы с Махизер в последний раз ходили в кино. Во время сеанса я смотрел одновременно и на нее с Кыванч, и на экран. Они были увлечены фильмом, а я погрузился в воспоминания о своем былом счастье. Когда мы вышли из кинотеатра, оказалось, что на улице сильно похолодало. Осенний ветер сделался почти по-зимнему морозным. Мы пошли многолюдным проспектом. Ели жареные каштаны, купленные с лотка, разглядывали витрины. Потом снова по очереди поймали такси и вернулись на прежнюю улицу. Они вышли у многоэтажки с зеленой дверью, я – на ближайшем перекрестке. Притаившись в тени у стены, я стал ждать, когда покажется человек в сером плаще, который уже несколько часов следил за Махизер.
С тех самых пор, как Махизер встретилась с Кыванч, этот невысокий человек следовал за ними. Поднятый воротник плаща делал его похожим на шпиона из заграничного фильма. Он тоже ловил такси, сидел в кинотеатре, смотрел на витрины. То и дело закуривая новую сигарету, бросал быстрые взгляды по сторонам, но так и не заметил, что я за ним слежу. Вот и сейчас, выйдя из такси, он закурил. Подошел к зеленой двери, открыл ее, заглянул в подъезд. Достал из кармана бумажку, что-то на ней написал, потом снова поднял воротник и перешел на другую сторону улицы, туда, где за невысокой оградой темнел погруженный во мрак пустырь. Я двинулся следом и увидел, что он стоит у дерева посредине пустыря. Я подошел и попросил закурить. Он достал из кармана зажигалку, несколько раз щелкнул ей, наконец зажег – и, едва огонь осветил мое лицо, его свободная рука дернулась к поясу. Но я оказался проворнее: выхватил нож, приставил к горлу мерзавца, потом ударил его по коленям и повалил на землю. Забрал у него пистолет.
– Кто ты такой? – спросил я. – За кем ты следишь? Чьей жене ловушку готовишь?
Он уже опомнился от первого потрясения.
– Я – представитель власти, – изрек он уверенным тоном. – Отпусти меня, не то пожалеешь.
Я врезал ему по лицу и повалил на спину. Придавил коленом его грудь.
– Ах ты, шайтаново отродье! Ублюдок ты, а не представитель власти!
Не сдержав ярости, ударил его еще раз. Он прохрипел что-то неразборчивое, не то ругательство, не то мольбу, и пару раз дернулся. Я нажал коленом сильнее, он попытался освободиться. Хрустнули ребра, и он застонал от боли. Я ощутил на лице его смрадное дыхание.
– Знаешь, кто ты такой? – спросил я. – Попробую объяснить, только вряд ли ты поймешь. Моя жена Махизер – реальность, ты – тень, что стремится ее уничтожить. Тень реальности ничего не стоит, она ничтожна. Чтобы спасти реальность от ничтожества, создать ее снова, нужны прекрасные стихи. Я ищу их. А ты? Ты враг реальности, враг истины!
После той ночи мой стальной нож чаще стал петь свою песню. За одну неделю я спас свою жену от трех теней. До чего же наивна была Махизер! Думала, что знает мир и сможет его изменить, а сама даже не замечала, что я – здесь, совсем рядом. Ходила по стамбульским улицам, не имея понятия, что происходит у нее за спиной. Металась с одного берега Босфора на другой, словно челнок. Стояла на автобусных остановках, сидела в кафе, бродила вокруг библиотек. Когда человек, с которым у нее была назначена встреча, не приходил, в тревоге спешила покинуть условное место. Ночевала в Ускюдаре, Лалели, Хисарустю в кварталах с замшелыми крышами, в холодных, сырых квартирах. Поздно ложилась, рано вставала. Поливала цветы и занималась с детьми в тех домах, где останавливалась. Когда однажды вечером она снова пришла на ту улицу в Чинили, где находится детская библиотека, и обняла Кыванч, я обрадовался не меньше, чем эти двое.
Ту ночь Махизер провела в доме Кыванч, наутро из дома не вышла. В последнее время она выглядела усталой и больной, черты лица заострились. Ей нужно было заняться своим здоровьем, отдохнуть. «Хорошо, что она хотя бы на день останется в этом доме, – подумал я. – Пока она здесь отдыхает, пойду в библиотеку, почитаю стихи». Я купил в бакалейной лавке шоколадку и медленно двинулся по улице, с которой успел сродниться. Дойдя до библиотеки, решил подождать Кыванч в саду. Вскоре калитка открылась, и она вошла в сад с широкой улыбкой на лице. Усевшись рядом со мной, спросила:
– Где ты пропадал? Так долго не приходил. Я начала волноваться.
– Ходил по другим библиотекам, – объяснил я.
– Тетя Ясемин тоже о тебе спрашивала.
– Тетя Ясемин? Обо мне?
– О тебе, конечно, о ком же еще.
– Она обо мне знает? То есть о том, что я здесь бываю?
– Разумеется. Я ей о тебе рассказала.
– Когда?
– Когда мы на прошлой неделе ходили в кино. Рассказала, как ты помог мне сделать уроки.
– Целую неделю знает…
– Да.
– Ладно, и что же она сказала?
– Что знает тебя и любит.
– Любит? Так и сказала, ты уверена?
– Уверена.
– А еще что она сказала?
– Вчера вечером она написала письмо и положила мне в портфель, чтобы я тебе отдала. Вот, смотри.
Я взял запечатанный конверт. Осмотрел его со всех сторон, покрутил в руках, не зная, что делать. В голове мелькали мысли о том, что может сулить мне это письмо: радость, горе? Тут я заметил, что Кыванч наблюдает за мной с насмешливой улыбкой. Я тоже улыбнулся и погладил ее по голове:
– Ты самая красивая девочка в этой библиотеке.
– Нам сегодня задали написать стихотворение. Ты мне не поможешь?
– Я скоро должен буду уйти. Поработай сегодня над заданием одна, ладно?
– Ладно.
– Ну, давай иди наверх, начинай писать стихи.
– Хорошо, дядя Камо.
– Удачи, Кыванч!
– Спасибо… А больше ничего?
– Ты про что?
– У тебя сегодня не будет для меня сюрприза?
– Ой, чуть не забыл! Вот, смотри, что я тебе купил.
– Шоколадка! Спасибо, дядя Камо. Я обожаю шоколадные сюрпризы!
Наблюдая за тем, как Кыванч поднимается по лестнице и входит в читальный зал, я почувствовал, что мои ладони, между которыми сжато письмо, вспотели.
Я вскрыл конверт. Посмотрел на листок, исписанный с двух сторон изящным почерком моей жены, прочитал написанные в нем слова. «Любовь», «боль», «рана», «память». Махизер выстраивала в строчки знакомые мне слова, и каждое затягивало в себя, словно водоворот. «Сожаление», «слезы», «гнев», «разлука», «слезы», «сожаление», «забыть», «простить», «судьба», «смерть», «одиночество», «судьба», «сожаление», «слезы», «забыть» – эти слова повторялись снова и снова; раз написанная фраза опять возникала несколькими строчками ниже. Вместо «близко» Махизер писала «далеко», вместо «жизнь» – «смерть», вместо «встреча» – «разлука». В другое время, в другом месте я знал значения этих слов, но что хотела сказать ими моя жена, не понимал. Ее язык не был похож ни на язык моей матери, ни на язык отца. Слова утрачивали свой смысл, сталкивались друг с другом, перемешивались, словно вспугнутые птицы, разом взлетающие всей стаей. Крыло одного слова врезалось в крыло соседнего и ломалось. Закрывалась дверь в будущее. «Я хочу забыть», – писала моя жена. «В огромном Стамбуле я чувствовала себя приговоренной к заключению», – писала она. «И хотя я люблю тебя, Камо, но прошлое – наша тяжкая ноша, мы должны избавиться от нее», – писала она.
Что же это за странное заблуждение? Она употребляла слово «любовь» точно так же, как остальные слова, не выделяя его, не придавая ему особенного значения. Я стонал от угрызений совести. Перечитывая письмо, спрашивал себя: неужели после стольких страданий я не смогу справиться с временем? Не смогу победить слепую и глухую судьбу? Я был разбит. Одинок. Во сне меня преследовали кошмары. О поверженное мое сердце! О муки совести, давние, бесконечные! Кому под силу вытерпеть эту пытку? Махизер просила, чтобы я признал ее право быть забытой, а мне требовалось другое право – право не забывать. Я не мог хотя бы на миг отвести свой внутренний взор от ее лица. Случись такое, я уже не был бы самим собой и упал бы бездыханным. Превратился бы в мертвеца, которого не примет могила. О отравленные стрелы совести! Если бы я забыл Махизер, от меня остался бы лишь труп. Пища для червей.
В своем письме Махизер плавила, как в печи, все стихи, что мы когда-то читали друг другу. Она уподобилась осиротевшему ребенку. Стонала от боли. Говорила, что заперта в тесной комнате, и просила вызволить, спасти ее. «Открой дверь! – молила она. – Открой, освободи меня! Иди своим путем и дай мне идти своим!» Она рыдала и молотила в дверь маленькими кулачками. Бух! Бух! «Открой!» Она твердила, что я владею ключом, который даст ей свободу, но я не знал, что мне делать. Забыл, где я. Послышался собачий лай – сначала вдалеке, потом все ближе, ближе… Эти голоса в темноте были мне знакомы, я легко мог различить среди них голос белой собаки. Как же я продрог! Болела грудь. В голове звенело. Бух! Бух!
– Открой дверь! Дежурный! Отвори!
И против желания я потихоньку начал осознавать, что голос, раздающийся откуда-то из глубины, принадлежит дяде Кюхейлану:
– Открой дверь! Мой товарищ умирает! На помощь!
Бух! Бух!
Приоткрыв здоровый глаз, я вгляделся в темноту. Дядя Кюхейлан стоял у двери и бил по ней рукой. Я не мог окликнуть его. Не в силах был даже пошевелить пальцем. Сумел только издать тихий, хриплый стон.
Дядя Кюхейлан склонился надо мной:
– Ты жив! Дорогой мой парикмахер, ты жив!
Он поднял мою упавшую на плечо голову, взял с пола кусок ткани, смочил губы, вытер лоб. Стал гладить мои волосы, бормоча утешительные слова: когда-нибудь мы выйдем отсюда и вместе прогуляемся по Стамбулу. Прекрасные мечты – это то, что нужно или несчастным влюбленным, или тем, кто стоит на пороге смерти. Держа мою руку, дядя Кюхейлан понимал, что конец мой близок. Я потратил все отпущенное мне время – и наверху, и здесь.
Лязгнул железный засов. Дверь камеры открылась, показалась огромная туша охранника.
– Что вы орете, уроды?
– Мой товарищ совсем плох, ему нужна помощь, – умоляющим голосом проговорил дядя Кюхейлан.
– Ну и пусть сдохнет. И ему будет легче, и нам.
– Хотя бы дайте немного воды и таблетку обезболивающего…
– Эта таблетка скоро понадобится тебе самому, старый хрыч. Тебя велели вести на допрос. Вставай!
Рядом с огромными ногами охранника я увидел белую собаку. Она пришла из глубины коридора и теперь застыла в ореоле света, словно мраморная статуя. Ее уши стояли торчком, шерсть напоминала ворсистое шерстяное одеяло. Глаза, похожие на волчьи, смотрели так же пристально, как в былые дни.
Не заметив белой собаки, охранник вывел дядю Кюхейлана из камеры, захлопнул дверь, задвинул засов. Я остался с белой собакой один на один.
Последние силы покинули меня. Глаза закрылись. Я хотел уснуть бесконечным сном.
Белая собака медленно подошла поближе, я почувствовал кожей ее дыхание. Потом она легла рядом, прижалась ко мне своим жарким телом, положила длинный хвост мне на ноги и стала ждать, когда я согреюсь. Будь у нас время, она могла бы лежать так часами. Но времени у нас не было. Белая собака подняла голову. Встала. Облизала мое лицо и тело влажным розовым языком, словно ласкала своего щенка. Исцелила одну за другой все мои раны. Боль утихла. В этом невыносимо жестоком мире человек вправе хотя бы с закрытыми глазами дышать и не испытывать боли. Иначе нет никакого смысла жить. Белая собака пошевелилась. Плотнее прижалась к моему плечу. Слизала скользким языком все с детства копившиеся страхи. Успокоила меня. На душе стало легко-легко. Я словно бы ступил в теплую, тихую реку. Жаль, что жизнь не так добра, как белая собака. Жаль, что жизнь не вывела меня на новый путь, когда я сбился с дороги.
Десятый день Рассказывает дядя Кюхейлан Желтый смех
– «Мне три яблочка пришли, да одно чуть надкуси»[30]. Пожилой картограф помолчал и снова повторил слова, которые встретил, когда перебирал хранившиеся в маленьком сундучке письма давно умершей возлюбленной: «Мне три яблочка пришли, да одно чуть надкуси». Доктор, я уже рассказывал тебе эту историю? Правда? Тогда на сей раз перескажу ее чуть иначе. Слушай. От умершей возлюбленной картографу осталось наследство – одиночество и сундучок с письмами. Всю свою жизнь он странствовал по морям. На каждом континенте составлял новые карты, на каждом острове добавлял на карту другие острова. Отправляясь в свое последнее путешествие уже убеленным сединами стариком, он хотел попрощаться с морями, а оставшиеся годы жизни провести на суше. Хотя он и восхищался моряками, желавшими после смерти покоиться на дне, сам мечтал найти последнее пристанище возле женщины, которую любил в далекой юности. Об этом он поведал соседу по каюте – компасному мастеру. А тому все равно было, где обрести вечный покой, в море или на суше, лишь бы в правильное время. «Жизнь моя идет по этим часам», – говаривал он, доставая из кармана часы на цепочке, и нежно поглаживал их крышку. Рубины, украшавшие ее, складывались в таинственные знаки. А может быть, друзьям просто нравилось думать, что в этих знаках заключена какая-то тайна. Одной звездной ночью в борт судна ударила мощная волна. Раздался треск. Пожилой картограф и компасный мастер вышли из каюты на палубу и, увидев заполонившие небо яркие-преяркие звезды, замерли на месте, словно были не стариками, проведшими всю жизнь в море, а детьми, завороженными небесной бездной. Над ними медленно текла река Млечного Пути. Пожилой картограф указал на изгиб звездного течения: «Смотри-ка, не напоминает ли это узор на твоих часах?» Компасный мастер достал часы на цепочке, чтобы сравнить, и они увидели, что рубины на крышке в точности повторяют изгиб Млечного Пути. «Выходит, – сказал пожилой картограф, – время твоих часов и знаки на них верны». Стали быстро собираться облака, закрыли все небо. Ветер завыл в парусах, застонали канаты, хлынул ливень. Буря подхватила корабль, словно осенний листок. Встревоженная команда принялась за работу. Подчиняясь распоряжениям капитана, чей громовой голос пересиливал бурю, моряки пытались установить руль и паруса в нужное положение, метались то влево, то вправо, натягивали и ослабляли канаты. Три дня не утихала буря, три дня лил дождь. Корабль носило по волнам, и моряки уже не знали, где они – в океане или в каком-то неведомом море. Под вечер третьего дня ветер улегся, волны присмирели, на небе вновь показались звезды. Буря кончилась. Моряки пытались понять, куда их занесло. Требовалось срочно подлатать изорванные паруса и пополнить запасы пресной воды, вытекавшей из треснувших бочек, а для этого – как можно скорее пристать к какому-нибудь берегу. Капитан изучал карты, смотрел на звезды и наконец выяснил, что одна из старых карт соответствует положению звезд, наблюдавшемуся на небе. Указав пальцем на море в углу этой карты, он объявил: «Мы здесь! – и прибавил: – В одном дне пути отсюда есть остров. Мы можем направиться туда». Пожилой картограф и компасный мастер, стоявшие рядом с капитаном, переглянулись. Остров, окрашенный в небесно-голубой цвет, показался им подозрительным. «Капитан, – попросили они, – давайте не будем так далеко отклоняться от нашего маршрута». Этот остров походил на ложный, из тех, что выдумывали в былые времена влюбленные картографы. Водился у них такой обычай – нарисовать в неведомых водах остров и дать ему имя возлюбленной. Моряки рассказывают немало историй о кораблях, устремлявшихся к обозначенным на картах ложным островам и не находящим среди волн ничего, кроме разочарования. Пожилой картограф и компасный мастер высказывали сомнения насчет голубого острова, но всего, что знали, не говорили. А знали они вот что: не кто иной, а именно пожилой картограф в молодости и нанес на карту небесный остров. Открыто об этом они сказать не могли, опасаясь гнева капитана: как бы тот не приказал бросить их в море, связанными по рукам и ногам. Так что два друга ушли в свою каюту и всю ночь провели за разговором. «Свою любимую, – рассказал пожилой картограф, – я впервые увидел на базаре нашего городка. Стал писать ей письма. Она писала мне в ответ, и эти послания, которые она переправляла тайно, боясь гнева непутевых старших братьев, я перечитывал много-много раз. Отправляясь в свою первую океанскую экспедицию, я пообещал привезти ей из дальних стран подарок, который она никогда не забудет. Я собирался заработать немного денег на китобойном судне, вернуться, забрать свою любимую и бежать с ней на край света. Возлюбленная моя была так красива, стройная, нежная, хрупкая! Увы, пока я странствовал, она заболела, много дней пролежала в постели и умерла. Вернувшись из путешествия, я пошел на кладбище и рядом с ее могилой вырыл другую – для себя. Следующие несколько ночей я работал над картой. Выбрал далекое неисследованное море, нарисовал в нем самый красивый на свете остров, закрасил его небесно-голубым цветом и дал ему имя любимой. Пока существует наш мир, сказал я себе, буду искать этот несуществующий остров. И с мечтой о нем отправился в море». Белый корабль с порванными парусами плыл, рассекая грудью волны, к острову в безлюдном уголке мира. Пожилой картограф и компасный мастер уснули на рассвете. Вечером, когда корабль вошел в те воды, где якобы находился остров, они проснулись от крика впередсмотрящего: «Земля!» Земля? Как такое может быть? Пожилой картограф не верил собственным ушам. В волнении он выбежал на палубу – и увидел перед собой небесного цвета город с крепостными стенами, куполами и башнями. «Стамбул! – прошептал пожилой картограф имя своей умершей возлюбленной. – Стамбул!» В изумлении и восторге смотрел он, как воплощается в реальность остров, некогда его рукой нанесенный на карту. Колени у него подогнулись, и он упал на палубу. Склонившись над ним, компасный мастер увидел на губах старика-картографа улыбку человека, сполна насытившегося жизнью. «Неужели это правда? – спросил тот. – Неужели перед нами тот самый никогда не существовавший остров, который я назвал именем своей возлюбленной и подарил ей?» С берега к кораблю летели чайки. Дул легкий бриз. Тут-то пожилой картограф и скончался, и тело его по моряцкому обычаю погребли на дне морском. Прошло много лет, и стамбульцы, которые свой город считали реальным, а белый корабль, явившийся из тумана, – сказкой, стали рассказывать о капитане этого корабля, пожилом картографе и компасном мастере самые разные, непохожие одна на другую истории.
Я был один в камере, но говорил, представляя, что напротив сидит Доктор.
Изуродованными пальцами я медленно скрутил цигарку и протянул ему. Чиркнул спичкой, дал прикурить Доктору, потом затянулся сам.
– Стамбульцы считали свой город реальным, не подозревая, что живут на карте с белого корабля, – продолжал я, глубоко вдохнул и выпустил в воздух облачко дыма. – Что скажешь, Доктор? Не хотел бы ты нанести на карту остров, а потом вместе с китобоями уйти в бескрайние моря?
Моим тайным островом с самого детства тоже был Стамбул. В тот зимний вечер, когда отец рассказал нам историю о пожилом картографе, я достал из школьного портфеля географическую карту и нанес на нее остров, который потом часто с любовью рисовал в воображении. Я чувствовал, что живу в эпоху, когда люди предпочитают не знать, а видеть. Весь мир менялся. Люди видели, но оттого забывали любить. У них не было своего воображаемого острова, и они не знали, что ищут. У них в голове не укладывалось, как я мог столько лет любить этот город издалека; они стерли из памяти воспоминания о том, каково это – быть завоевателем, и потому не могли меня понять. У каждого завоевателя есть мечта, он идет своим собственным путем. Путь Иисуса не похож на путь Александра Македонского. Александр завоевывал города, Иисус желал завоевать души их обитателей. А я мечтал завоевать и то и другое, спасти сразу и город, и его жителей. Я был нужен Стамбулу.
Все толкуют о красоте этого города, но никому не удается жить в нем счастливо. Его красота тускнеет от неуверенности в будущем, эгоизма и насилия. Город – воплощение красоты и совершенства, которые ищет в подлунном мире человек. Бог на эту роль уже давно не подходит. Строя город, человек пытается сотворить новую природу и найти себя в ней. Разве не то же самое сделал Бог? Разве он, желая обрести смысл, не создал землю, небо и человека? С тех пор прошло много времени. Теперь все не так, как было. Хаос начал выталкивать Бога вовне. Но если есть «вовне», то должно быть и «внутри», и этим «внутри» для человека стал построенный им город. Создавая новую природу, человек, сам того не заметив, вызвал из небытия и новое время. Вместе с ним в мир явилась меланхолия – печаль Бога, который не может приспособиться к новому времени. Свершается то, чего он боялся со времен Вавилонской башни.
Говорят, у одной заморской народности принято уродовать лица детей, чтобы враги из соседнего племени не могли, украв их, продать в рабство. Дети теряют красоту, но остаются свободными. На языке этих туземцев уродство и свобода нарекаются одним словом, а слово «красота» одновременно означает «рабство». Так и жители Стамбула живут в вечном страхе потерять свой город и потому делают все, что в их силах, чтобы уничтожить его красоту. И на земле, и под землей множат боль, предаются во власть зла. Уродство называют свободой. Но Стамбул знает, что происходит, и пытается бороться с человечьей глупостью. Огромный город сопротивляется в одиночку, пытаясь защитить свою красоту.
Он благ, справедлив, честен. А красота бесконечна. Красота – в слове, в лице, в камнях стены, на которую падает дождь. Даже если у нее нет вещественного воплощения, она живет в мечтах человека и в неведомом. С тех пор как человек, устав исследовать земные просторы, принялся создавать в городе новую природу, он дал жизнь стеклу, стали, электричеству. Ему понравилось творить. Посмотрев в зеркало, он сказал себе: я не открыватель природы, а творец города. Он устранил противоречие между собой и природой, объединил дух и материю. Все времена и места собрал в единое целое и, глядя на город, увидел не только прошлое, но и будущее. А потом устал от быстрого бега. Загрустил. Впал в уныние. Задумался о том, что в красоте сокрыто уродство, в бытии – небытие. Опустились руки у человека. Может быть, он увидел, как бьется в агонии красота его города? В таком случае он должен снова вдохнуть в нее силу. Может быть, он почувствовал, что жизнь в городе теряет свою ценность? Значит, он должен вернуть ценность городской жизни. Может быть, в нем иссякла любовь, не осталось у него больше тайн? Тогда ему нужно обратить свою любовь на город и, вместо того чтобы мучить, заново его завоевать.
Об этом я говорил Доктору, глядя в стену напротив.
Я поднес ко рту воображаемую цигарку, затянулся. Вздохнул, увидев, что, несмотря на мои старания, пепел все-таки упал на пол. Попытался поднять его кончиками пальцев, но он рассыпался в прах. У меня снова стало тяжело на душе.
А впервые тоска пробралась в мою душу, когда, вернувшись с допроса, я не увидел в камере парикмахера. Спросил у охранника, что с Камо, но не получил ответа – охранник только осклабился и закрыл дверь. Доктора и студента Демиртая тоже не было. Их я не видел уже два дня. Возвращались ли они в камеру, пока я был на допросе? Смогли ли немного отдохнуть и поспать? Никакого знака они мне не оставили. Пустой бидон стоял все в том же углу, где и раньше. Я ощупал стены и дверь – свежих пятен крови не было. Камера напротив тоже стояла пустая. Я бросил пуговицу в щель под дверью, но отклика не последовало; несколько минут я простоял на здоровой ноге у двери, глядя в прорезь, но Зине Севда не появилась.
Издалека, из-за стен, коридоров и железных дверей, донесся звук выстрела. Вроде браунинг. Выстрел раздался снова, и я понял, что не ошибся. Встал с пола, держась руками за стену. Добрался до двери, волоча изувеченную ногу, словно мешок с камнями. Заглянул в прорезь, надеясь хоть что-то увидеть. В коридоре было пусто. В белом электрическом свете – ни тени, ни дыхания. С какой стороны донесся выстрел? Кто стрелял?
Мне в голову пришли два варианта. Когда я последний раз видел Доктора, он говорил: «Хорошо бы умереть». Может быть, это он? Или простодушный Демиртай? Вспыльчивый Камо? Упрямая Зине Севда? Если кто-то из них, воспользовавшись удобным случаем, выхватил у следователя пистолет, далеко ли он мог уйти, не зная, как выбраться из лабиринта коридоров?
Второй вариант был лучше: в Стамбуле наверху о нас не забыли. К тем нашим товарищам, которым удалось выбраться из Белградского леса, присоединились другие. Они поклялись положить конец боли, освободить мучеников. Это они шли нам на помощь. Среди них были сын Доктора и Мине Баде.
Выстрелы загремели снова, один за другим. Браунинг, беретта, вальтер, смит-вессон. Я мог различить их по голосам так же легко, как диких животных из лесов на горе Хаймана, близ которой прошла вся моя жизнь. Я напряг слух. Потом вспомнил, какие раны может нанести человеку пуля, и встревожился.
Что сейчас происходит с моими друзьями? Живы они или мертвы? Впрочем, одно здесь не исключало другого. Когда я не видел своих друзей, они были сразу и живы и мертвы, дышали и бездыханными валялись на полу. Стены, разделяющие нас, делали обе возможности равновероятными. То же относилось и к стрелявшим. Товарищи, с боем прорывавшиеся к нам на помощь, одновременно были врагами, решившими нас убить. Больше я ничего не знал. А раз не знал, то все варианты выглядели одинаково возможными. То же самое касалось нашей камеры в восприятии живущих наверху. Узнав о наших страданиях, опечаленные стамбульцы допускали сразу два варианта. Может быть, мы живы, а может, умерли. Может быть, мы еще дышим, а может, бездыханными валяемся на полу.
Я вообразил себя человеком, пребывающим наверху. Взглянул на себя его глазами и растерялся, почувствовав, что одновременно и жив и мертв.
Пока я замер, завороженный, словно ночной мотылек, белым электрическим светом, звуки выстрелов смолкли. Вернулась прежняя тишина. Но я продолжал стоять на одной ноге, как будто ждал, что вот-вот кто-то появится в коридоре. Чтобы не упасть, вцепился в край прорези. Закрыл уставшие от света глаза. Потом я услышал, как в глубине коридора кто-то стучит в дверь своей камеры. Раздался крик:
– Дежурный!
Кому-то в той камере понадобилась помощь.
– Дежурный!
Я прислушался, ожидая уловить шаги охранника. Сейчас он встанет со стула, выйдет в коридор и двинется по нему, впечатывая каблуки в бетонный пол. Остановится у той камеры, в которой кричали. Отодвинет засов, распахнет дверь, начнет орать. Но охранник не шел. Не вставал со стула, не впечатывал каблуки в пол. Крик из камеры в глубине коридора остался без ответа. Коридор, снова погрузившийся в безмолвие, был бездонно пуст. Я так утомился, что не мог больше стоять, – прислонился спиной к стене, медленно сполз на пол, сел, расставив ноги в стороны, и глубоко вздохнул.
Тут я заметил, что из носа у меня течет кровь. Поднял тряпку, валявшуюся на полу, вытер.
Спать не хотелось. Хотелось есть. От жажды пересохло в горле.
«Чем смотреть на стену, – подумал я, – лучше побеседую с Доктором». Достал из пустого кармана табак. Скручивая потрескавшимися пальцами цигарку, решил заглянуть к Доктору домой и поговорить с ним на его любимом балконе, откуда открывается вид на Босфор. И вот мы уже там. Я протянул Доктору толстую самокрутку, свернул себе такую же. Взял со стола зажигалку, дал прикурить Доктору, закурил сам. Задержал в легких дым, а потом выпустил его в синее-синее небо, какое редко увидишь в Стамбуле в начале зимы. Постарался выбросить из головы мысли о недавних выстрелах и стал слушать доносящиеся снизу автомобильные сигналы, гудки пароходов и крики чаек.
На столике, покрытом кружевной скатертью, стояли тарелки с аджикой, сыром и маринованными овощами. Свежая руккола, йогурт со сливками. Ломтики редьки, сбрызнутой лимонным соком. Оливки, посыпанные перцем алеппо[31]. Тонко нарезанный хлеб, несколько ломтиков поджарены. Графин, наполовину наполненный водой. Высокие узкие стаканы с ракы – туда уже бросили кубики льда, и напиток начал окрашиваться в облачно-белый цвет. Табак, зажигалка и пепельница. Кружево белой скатерти – старинное, она явно передается в семье из поколения в поколение.
День выдался теплым. Доктор выглядел спокойным и довольным. В комнате звучал записанный на магнитофон голос его жены, умершей много лет назад, но не покинувшей этот дом. «Ты – хозяин моего сердца, – говорилось в песне. – Даже когда мои волосы станут белы как снег, ты по-прежнему будешь для меня всем: моей жизнью, моей радостью». Песня стекала с балкона, словно вода, по дождевым трубам достигала земли, и ни в доме, ни в саду, ни на улице не оставалось ничего, что могло бы опечалить сердце. Кричали похожие друг на друга уличные торговцы, вращались с одинаковым шумом винты пароходов и колеса автомобилей. Череда крыш уходила вдаль, лестницей спускалась к морю. Пухлые волны вздымались и опадали в такт песне. Капитаны проходивших мимо кораблей один за другим давали гудок, словно видели, как мы пьем ракы, и слышали, как поет жена Доктора.
Доктор поднял стакан и кивнул сначала в мою сторону, а потом в сторону Босфора, улыбнулся, увидев, что я последовал его примеру, и отхлебнул ракы:
– Как хорошо, что ты пришел, дядя Кюхейлан.
– Я тоже рад, Доктор.
– Ну как, весь Стамбул осмотрел?
– У меня была вся жизнь и еще десять дней. Мне хватило.
– Отлично.
– Теперь я могу умереть спокойно. На душе такое умиротворение!
– Зачем это ты о смерти заговорил? Надо думать о хорошем. Давай выпьем за то, чтобы почаще встречаться за этим столом и пить ракы, любуясь Стамбулом, во все времена года!
– За это грех не выпить!
Мы сдвинули стаканы.
Сидели, разглядывали пустые стулья на террасе дома напротив, веревки с сохнущим бельем, черепичные крыши. Воздух был чист, никакой дымки, небо – ясное, синее-синее, только над Чамлыджей[32] плыло маленькое облачко. Можно было даже различить дома и рощи на острове Кыналы. Близился час, когда заходящее солнце начнет окрашивать небо справа от нас в оранжевый цвет.
– Скоро наступит вечер, укроет все вокруг своей волшебной шалью, – проговорил я.
– Волшебной? Разве в Стамбуле осталось хоть что-нибудь волшебное?
– Доктор, мне кажется, твои слова о надежде можно отнести и к волшебству: волшебство лучше богатства.
– Что надежды, что волшебства не хватает, чтобы уберечь красоту Стамбула. Я не каждому это говорю, но тебе скажу, дядя Кюхейлан: люди устают здесь жить, им хочется куда-нибудь уехать.
– Доктор, ты говоришь, что люди устают здесь жить. Но нам следует подумать о том, что Стамбул – город, достойный не того, чтобы просто жить в нем, а того, чтобы созидать его заново.
– Заново творить его погибшую красоту?
– Одной этой цели достаточно, чтобы решиться на завоевание.
– Завоевание… Ты до сих пор не отказался от этой мысли?
– Разумеется.
– Даже после того, что увидел за минувшие десять дней?..
– Сейчас я настроен даже еще более решительно, чем раньше.
– Думаю, за это следует выпить.
– Сегодня мы за что только не выпьем!
Мы выпили и с довольным видом откинулись на спинки кресел.
Над крышей дома справа от нас пролетел красный платок, ветер нес его к морю, то морща, то расправляя. Платок был похож на птицу с широкими крыльями. Видно было, что он не собирается опускаться на крышу, а твердо намерен долететь до моря.
– Дядя Кюхейлан, иногда мне кажется, что мы с тобой знакомы не десять дней, а с самого детства. А у тебя такого не бывает?
– Мне тоже кажется, что мы с тобой много лет гуляли по Стамбулу, обходя район за районом, беседовали и находили все больше и больше тем для разговора.
– Стареем, наверное…
– Я-то уже постарел, Доктор, а тебе еще рано об этом думать.
– Но голова твоя работает отлично, мне до тебя далеко.
– Я не забываю то, что узнал, это верно. Вот, например, книга, о которой ты говорил, – втемяшилась мне в память, уже несколько дней думаю про нее.
– Какая книга?
– «Декамерон».
– О, запомнил название!
– Да, теперь уж не забуду.
– И смешные истории оттуда не забудешь.
– Все истории из этой книги, которые ты, Доктор, нам пересказал, смешные, и это кое о чем мне напомнило. Однажды, вернувшись из Стамбула, отец рассказал нам, что сидел в подземной тюрьме. В камере он познакомился с моряком, который поведал ему о далеком острове. По обычаям острова, когда кто-то умирает, соседи, друзья и знакомые собираются у него дома и до поздней ночи вместе плачут и горюют, а потом расходятся. И тогда оставшиеся дома близкие родственники начинают веселиться, шутить, рассказывать связанные с покойным смешные истории. Каждую историю сопровождает хохот, да такой, что под конец слезы на глазах выступают. Это называется «желтый смех». Жителям острова кажется, что смеху, который заставляет забыть о смерти, подходит этот цвет. Что скажешь, Доктор? Не потому ли, чувствуя затылком дыхание смерти, персонажи «Декамерона» рассказывают веселые истории, что им необходим желтый смех?
– Может быть… – начал Доктор, но не договорил. В комнате зазвонил телефон, и он встал, чтобы снять трубку.
Смех лучше богатства. Это урок, который в числе прочих преподает нам жизнь. Оставшись один на балконе, я распространил действие афоризма на стоявшие передо мной закуски: сыр и маринованные овощи лучше богатства. А ракы и вовсе лучше всех богатств на свете! Усмехнувшись своим мыслям, я отхлебнул из стакана, поставил его на стол и отправил в рот маринованный огурец. «Как прекрасно жить в Стамбуле», – сказал я сам себе. Понаблюдал за рыбацкими катерами, что покачивались на волнах, словно спичечные коробки, там, где Золотой Рог встречается с Босфором. На западе, за минаретами и высотными домами, небо окрашивалось в красный цвет, а со стороны Островов шла дымка – вот-вот доберется до рыбацких катеров. Я взял поджаренный хлеб, намазал его аджикой.
Вернулся Доктор. Мы с ним допили то, что оставалось в стаканах, и наполнили их снова.
– Это мой сын звонил, – сказал Доктор. – Предупредил, что не сможет сегодня прийти.
– Наш молодой доктор? Жалко, что не придет. Я хотел бы его увидеть.
– Ты ему тоже интересен, дядя Кюхейлан. Он просил передать тебе привет.
– Благодарю.
– Молодежь, что поделаешь! Живут по своим правилам. Чем занимаются, непонятно. Говорит, очень важные дела у него.
– А как поживает его девушка? Мине Баде, кажется, ее зовут?
– Хорошо поживает. Я, правда, еще ее не видел. Как раз сегодня сын хотел ее привести, чтобы мы познакомились.
– Ну, не судьба, Доктор. В следующий раз…
– В следующий раз?
Доктор запнулся, словно пьяный, забывший, что хотел сказать. Посмотрел на море за крышами. Сжал стакан между ладоней, сцепил пальцы. Ссутулился и, не отрывая взгляда от притихшего к вечеру Босфора, чуть повернул голову, чтобы лучше слышать мелодию, что выводил голос его жены. Потом закрыл глаза и стал вполголоса подпевать. Голова его совсем ушла в плечи. Пел все тише и тише, наконец замолк. Глубоко вздохнул и замер. Я уже подумал, что Доктор уснул, когда он вдруг выпрямился и открыл глаза. Взгляд его был печален. Он слегка наклонился ко мне, словно не был уверен, что я – это я, а не мираж, потом откинулся на спинку стула и отхлебнул из своего стакана.
– Все хорошо, Доктор? – спросил я.
– Я хотел познакомиться с девушкой, которую любит мой сын. Как жаль, что Мине сегодня не придет!
– Если увидим вечером падающую звезду, загадаем для них что-нибудь хорошее.
– Думаю, звезд мы сегодня не увидим, дядя Кюхейлан. Твой волшебный Стамбул скоро укроется туманом.
Один за другим прогремело несколько выстрелов.
Мы не поняли, откуда они донеслись. Сначала взглянули на дома напротив, потом, перегнувшись через балконную решетку, посмотрели с высоты третьего этажа вниз, на улицу. Оживленное вечернее движение, спешащие куда-то школьники, загорающиеся один за другим фонари… Все выглядело как обычно. С соседних балконов и из окон никто не выглядывал.
– Это были выстрелы? – спросил Доктор.
– Не думаю, – ответил я, чтобы успокоить его. – Не обращай внимания. Лучше выпьем.
И я ополовинил свой стакан. Мне хотелось поскорее захмелеть. Вечернее стамбульское солнце отражалось в окнах далеких домов.
– Дядя Кюхейлан, – заговорил Доктор, – твой отец утверждал, что на небе есть мир, вроде нашего. Недавно я рассказал об этом сыну. Идея ему понравилась, но он, как всегда, стал думать не в том направлении, что я. Он сказал, что мир, подобный нашему, следует искать не вверху, а внизу. Подземелья не где-то далеко от нас, сказал он, а совсем близко. Люди там страдают, терпят боль, ищут выход. Они измождены и слабы. Поднимают головы и смотрят вверх, словно на небо. Думают о нас, взывают к нам. У каждого из нас там есть двойник. Если прислушаться, мы их услышим. Если заглянем под землю – увидим.
– Наверное, двойник моего отца в Стамбуле – твой сын. Он родился заново. Что скажешь, Доктор?
Мы одновременно рассмеялись и откинулись на спинки стульев. Мой отец умер, его сын был жив. Наш смех, желтея, тек по границе между жизнью и смертью и впадал в море, словно река. Вокруг один за другим загорались огни. Осветились дворец Топкапы и Девичья башня, а казармы Селимийе и вокзал Хайдарпаша скрывал туман. Корабли замедляли ход, их гудки звучали дольше обычного. Рыбацкие катера возвращались в гавань. Ночь и день, реальность и мечта сливались друг с другом. Все таило внутри свою противоположность: ночь несла в себе цвет грядущего дня, мечта предвозвещала новую реальность. Засыпающий крепким сном город натягивал на обнаженное тело мягкое серебристое шелковое одеяло. Но если деревня напоминает нам о детстве человечества, то город – это его зрелость, и стамбульцы по-прежнему жили в чистилище тревог, уготованном взрослым. У них не получалось смотреть на красоту так, как она заслуживает. Днем они боязливо бродили по улицам, ночью, ложась в постель, не в силах были побороть беспокойство. И забывали о том, что мечтать о красивом городе – значит мечтать о красивой жизни.
Смеясь, Доктор взмахнул рукой и едва не опрокинул графин с водой, поймал в последний момент. Вытирая мокрую руку, снова расхохотался. Желтый смех придавал всему вокруг желтоватый оттенок. Вода в графине и хлеб в корзинке пожелтели. Стулья на террасе напротив овевал желтый ветер. Чайки, возвращающиеся с моря на берег, махали крыльями в желтой пустоте. С кораблей в порту сгружали желтые грузы, опоры моста через Босфор подсвечивались желтым. Воспоминания, как всегда, были долгими, жизнь – короткой. Память Доктора переполнилась желтыми тенями. Каждый уголок города уносил его в свой уголок времени, с каждым глотком ракы оживало новое воспоминание. Ледяной цвет ракы тоже подернулся желтизной.
В дверь постучали. Мы переглянулись.
– Пришел наконец-то! – проворчал Доктор, поставил стакан на стол, не торопясь встал и отправился открывать.
Я прислушался к голосам у двери.
– Демиртай, – говорил Доктор, – где тебя носило?
– Здесь приличной рыбы не было, пришлось поехать в Кумкапы, – оправдывался Демиртай.
– А что было не так со здешней рыбой?
– Я же вам обещал, что куплю самую лучшую, помните?
– Но ведь уже шесть часов!
– Шесть? Ваши настенные часы спешат, Доктор. По моим еще без десяти.
– Хватит мне зубы заговаривать, негодник! Неси сумку на кухню.
– Для салата я тоже все купил.
– Надо тебя наказать за опоздание. Пока я жарю рыбу, будешь готовить салат.
– С большим удовольствием. Дядя Кюхейлан еще не пришел?
– Думаешь, все такие, как ты?
– Пришел? Где же он?
– На балконе.
Демиртай радостно устремился на балкон. Не дав мне встать со стула, обнял, уткнулся головой в плечо. Я услышал стук его сердца. «Как же молодым к лицу жизнь! – подумал я. – Пусть не заберет его смерть, пусть никто не придет за ним и не вырвет из моих объятий!» Я подождал, пока его сердце станет стучать помедленнее. Потом взял за руки.
– Ты хорошо выглядишь, – сказал я. – Немного поправился. Волосы отращиваешь?
– Да, хочу волосы до плеч, как у тебя.
– Когда отрастут, сфотографируемся вместе.
– Отличная идея. У нас нет ни одной совместной фотографии.
– У тебя руки холодные как лед, Демиртай.
– У меня всегда так.
– Сходи возьми у Доктора свитер. Посидим вместе на балконе, выпьем ракы. Я не хочу, чтобы ты замерз.
– Я могу даже не один, а два свитера надеть.
– И правильно.
Солнце зашло, на балконе стало холодать. На мне была шерстяная хырка, и то я немного озяб.
– Дядя Кюхейлан, я принес вам новые сплетни. Вот сядем за стол, расскажу о популярном певце, который в юности был рыбаком, а теперь, бросив музыку, вновь торгует рыбой вместе с былой возлюбленной тех времен. Из бесед рыбаков я узнал, в каком дворце хранится карта сокровищ, спрятанных под стадионом Инёню[33]. И еще я знаю, кто с кем сговорился на последних скачках. Все расскажу!
– А мы с удовольствием послушаем. Иди помоги Доктору, а то он снова будет на тебя ворчать.
– Иду!
И Демиртай действительно ушел с балкона, но тут же вернулся:
– Дядя Кюхейлан, чуть не забыл!
– Что такое?
– Когда будем сидеть за столом, я тебе еще и разгадку твоей загадки скажу.
– Ты о чем?
– О загадке про Филиз-ханым и Жан-бея. Пассажиры парохода день за днем читали о них в газетах. Филиз-ханым приходилась Жан-бею одновременно женой, дочерью и сестрой. Это мы знаем. Однако в самой последней публикации говорилось о том, что она была ему еще и тетей по матери. Вспомнил?
– Конечно.
– Я придумал, как такое может быть.
– В самом деле?
– Когда расскажу, вы очень удивитесь.
– Мне уже сейчас интересно.
– Но за вами награда.
– Какая такая награда?
– Раз уж за опоздание меня наказывают, то и за разгадку такой трудной загадки должны наградить. Разве я не прав?
– Что ж, логично. Я согласен. Надо будет еще узнать мнение Доктора.
– Пойду на кухню и постараюсь его убедить.
– Давай иди.
Демиртай ушел, оставив меня одного на балконе, и я погрузился в созерцание Стамбула – города, который каждый день порождает новую боль и печаль, новую мечту и надежду. Вот дворец Долмабахче – последнее, что видят самоубийцы, решившиеся прыгнуть с моста через Босфор, и чем восхищаются, словно видят впервые, держащиеся за руки юные влюбленные. Вот готовые укрыться белым туманом кварталы геджеконду на холмах по ту сторону Босфора. Стамбул – город, состоящий из миллиона камер, и каждая камера – маленький Стамбул. Частица в целом, целое в частице. Близкое – далеко, далекое – близко. Все одновременно бесплодно и плодородно.
Всякую физическую боль в этом городе сопровождает боль душевная. Многолюдье и одиночество гнетут в равной мере. Любовные муки соперничают с тяготами бедности. Поиск средств к существованию становится все тяжелее с приближением старости. Заразные болезни и заразные страхи идут рука об руку. Подрастают дети, уверенные, что под кожей у них не кровеносные сосуды, а провода; все больше становится стариков, у которых в кармане лежит не зеркальце, а калькулятор. Место букв занимают цифры. Люди говорят, что любовь превращается в деньги, но никакой калькулятор не поможет им понять, почему деньги не превращаются в любовь. Цифр для этого недостаточно.
С кухни донесся голос Доктора:
– Дядя Кюхейлан, мы скоро придем и избавим тебя от одиночества. Потерпи немного!
– Поторопитесь, а то все выпью, – откликнулся я, наполняя свой опустевший стакан. Разбавил ракы водой, положил несколько кубиков льда и сделал глоток. Как хорошо пить ракы в городе своей мечты, рядом с дорогими тебе людьми, глядя с высоты на Босфор!
Мой отец говорил, что Стамбул становится иным с каждой сменой времени года, что порождает новые города в темноте, в тумане и под снегом. Однажды жарким летним днем он увидел на берегу в Топхане студентов художественного училища, которые, выстроившись в ряд, писали на холстах один и тот же вид: Девичью башню, море и чаек, но среди этюдов не сыскалось бы и двух похожих. На этом море было синим, на том – желтым. Тут Девичья башня выглядела юной, а там – дряхлой. Где-то чайки летели, расправив крылья, а где-то – гибли. Холсты изображали не один и тот же город, а совершенно разные города, разделенные целыми эпохами и огромными расстояниями. Светлые и мрачные, полные радости и печальные. А тот, который видел мой отец, не походил ни на один из них. «Тогда, – сказал отец, – я понял, что город становится городом под взглядом созерцающих его людей. Если человек дурной, город портится, если хороший – хорошеет. Город меняется вместе с человеком».
Я смотрел на Стамбул, который мой отец покинул много лет назад. Саладжак скрылся из виду. Силуэт Девичьей башни растворился в тумане. Море побелело, как ракы в моем стакане. Пароходы и рыбацкие катера отдыхали у берега. Хорошо было видно сквозь пелену лишь чайку, что парила в пустоте, раскинув красные крылья. Все небо принадлежало ей, но она спускалась вниз, от моря скользила к берегу, к черепичным крышам. Когда она подлетела поближе, я понял, что это не чайка, а красный платок. Вот и его уже почти не различить в тумане. Ракы я, что ли, слишком много выпил? Который это уже стакан? Я сам себе усмехнулся.
– Доктор, доктор! – послышался снизу знакомый голос.
Я выглянул за балконную решетку. У подъезда стоял парикмахер.
– Камо!
– Дядя Кюхейлан! Рад тебя видеть!
Я помахал ему рукой:
– Поднимайся сюда!
– Потом, сейчас не могу.
– Почему?
– Мне надо встретиться в Бейоглу с моей Махизер.
– Ее тоже с собой приводи.
– Да, мы вместе придем. Она хочет с вами познакомиться.
– Поторопитесь, ужин почти готов.
– А студент пришел?
– Пришел.
– А Зине Севда?
– Она тоже скоро будет здесь.
– Ну, я пошел. Жена ждет.
– Давай иди. И возвращайся поскорее!
Камо сунул руки в карманы теплого пальто и быстрыми шагами направился прочь.
Он уже почти достиг перекрестка, когда я окликнул его:
– Камо!
Остановившись, он оглянулся. Стоял, похожий в тумане на тень, в начале пути, соединяющего бытие и небытие, на грани между медлительностью сердца и быстротечностью времени.
– Я по тебе скучал, – сказал я.
Камо улыбнулся, раскинул руки в стороны, обнимая пустоту и – издалека – меня. Потом развернулся и, широко шагая, скрылся в тумане.
Я поднял стакан:
– За тебя, Стамбул! За тебя.
Поставив стакан на стол, я заметил, что из носа у меня идет кровь. Я вытер верхнюю губу салфеткой, стал осматривать одежду – не запачкалась ли она? – и тут мне вспомнился один жаркий летний день. Я, тогда совсем еще молодой человек, скакал на коне, измученном жарой, по склону горы Хаймана. По пути мне встретился большой красивый дом, перед ним журчал источник. Молодая девушка набирала из него воду. Я подъехал ближе. Ее волосы были заплетены в косы, на лентах поблескивали желтые монеты, пальцы разрисованы хной. Невеста, ясное дело, сегодня ее свадьба. Она протянула мне чашу с прохладной водой. Я вволю напился, сбросил с себя усталость. Конь мой тоже напился из желоба. Я поехал прочь, и солнце светило мне в спину. Проезжая мимо дикой груши, я заметил, что рубашка моя вся в красных каплях. Кровь пошла из носа и забрызгала белую ткань. Тут-то я понял, что влюбился в ту девушку. Кровь – знак либо любви, либо смерти. А я был в том возрасте, когда до смерти далеко, а до любви – близко.
Я взял лист папиросной бумаги. Насыпал на него табаку, скрутил цигарку. Щелкнул зажигалкой. Глубоко, жадно затянулся, выпустил дым через нос. Дым поможет высушить кровь. Я откинулся на спинку стула и прислушался к песне, доносящейся из комнаты. Но вскоре откуда-то с улицы послышались выстрелы.
Браунинг, беретта, вальтер, смит-вессон. С одной стороны, мне хотелось обо всем забыть, с другой – эти звуки рождали во мне надежду. Выстрелы звучали все ближе, и я стал гадать, что они мне сулят: жизнь или смерть? Я поднял голову, посмотрел на парящую в непроглядно-темной вышине птицу времени. Она раскинула свои широкие крылья, накрыла ими всю землю. Устав от ветров прошлого, застыла в пустоте настоящего. На одном ее крыле была боль, на другом – красота. Если я поднимусь на ноги, смогу ли до нее дотянуться? Если встану на цыпочки и вытяну пальцы, сумею ли дотронуться до черных перьев птицы времени?
Когда выстрелы загремели совсем близко, а потом стихли перед железной дверью, мне захотелось, чтобы толстая самокрутка навсегда осталась зажатой в моих губах. Не хотелось ни жизни, ни смерти, ни боли – только ощущать вкус табачного дыма. Хотелось думать о кружевах белой скатерти, о цвете подрумяненного хлеба, о запахе ракы со льдом. Хотелось думать о том, как летит без всякой цели несомый ветром красный платок, хотелось пройтись босыми ногами по ковру с длинным мягким ворсом. Хотелось есть хлеб и маринованные овощи. Хотелось включить музыку на полную громкость, чтобы все слышали, сидеть на балконе и махать рукой проходящим мимо кораблям. Не вышло. Выстрелы стихли, но заскрипела железная дверь. Ее голос, похожий на скрежет ржавой пилы, заполнил весь коридор.
Я ждал, не двигаясь с места. Потер рукой ноющую шею. Покрутил головой. Посмотрел на свои отросшие ногти. Пригладил всклокоченные волосы. Вытер запекшуюся кровь со лба. Поправил разорванный воротник рубашки, расправил плечи. Прикоснулся к стене, провел пальцами по шероховатому бетону. От пальцев по руке и дальше, по всему телу, пробежал холодный ветерок. В воздухе пахло влагой и морской травой. Горло горело. Звенело в ушах. В голове кружился водоворот. Птица времени, раскинув широкие крылья, парила в темноте; всю пустоту объял скрежет железной двери.
Я поднял голову и в последний раз посмотрел на туман, идущий с моря. Какой он красивый, этот желтый туман! Туман, укрывший своей пеленой Стамбул и его время, таящий в себе и жизнь, и смерть. Очень красивый.
Ад не там, где мы страдаем. Ад – это то место, где никто не замечает наших страданий.
Мансур аль-ХалладжПримечания
1
Больница Святого Георгия – известна также как Австрийская больница, была основана в 1872 году монахинями из Австрии. Функционирует по сей день. – Здесь и далее примеч. перев.
(обратно)2
Каракёй, а также упоминаемые далее в тексте Саматья, Ортакёй, Лалели, Бейоглу, Кумкапы, Джанкуртаран, Хисарустю, Бейазыт, Эминоню, Топхане – районы европейской части Стамбула.
(обратно)3
Церковь Святого Антония Падуанского – католическая церковь в Стамбуле на проспекте Истикляль.
(обратно)4
Галатская башня – крепостная башня, построенная в XIV веке генуэзцами.
(обратно)5
Девичья башня – сооружение на острове вблизи азиатского берега Босфора.
(обратно)6
Ходжа – принятое в Турции вежливое обращение к учителю.
(обратно)7
«Цветы зла» – сборник стихотворений французского поэта-символиста Шарля Бодлера (1821–1867), выходивший с 1857 по 1868 год в трех редакциях.
(обратно)8
Мейхане – питейное заведение.
(обратно)9
Ракы – турецкий алкогольный напиток, анисовая водка.
(обратно)10
Имеются в виду Принцевы острова, по административному делению – один из районов Стамбула. Турки называют их Стамбульскими островами или просто Островами.
(обратно)11
Рагип-паша (Коджа Мехмед Рагип-паша, 1698–1763) – государственный деятель Османской империи (в 1757–1763 годах – великий визирь), поэт, переводчик. Основанная им библиотека функционировала до 1999 года, после чего была закрыта на реставрацию.
(обратно)12
Хырка — разновидность плаща или накидки, которая обычно ассоциируется с образом дервиша.
(обратно)13
Имеется в виду стена Феодосия, построенная еще византийцами в V веке и протянувшаяся от залива Золотой Рог до Мраморного моря. В наши дни значительная ее часть пребывает в небрежении и полуразрушенном состоянии.
(обратно)14
Карапынар в переводе с турецкого означает «черный источник».
(обратно)15
Пери – сказочное существо, подобие феи.
(обратно)16
Меджнун – персонаж популярной на Ближнем Востоке легенды о Лейле (Лейли) и Меджнуне, сюжет которой использовали многие поэты, в частности Низами Гянджеви и Физули.
(обратно)17
Мансур аль-Халладж (858–922) – персидский богослов и мистик.
(обратно)18
Абдул-Хамид II (1842–1918) – султан Османской империи в 1876–1909 годах.
(обратно)19
Шейх-уль-ислам – высшее духовное лицо у мусульман Османской империи.
(обратно)20
Геджеконду – самовольно построенное жилище, как правило нищая лачуга.
(обратно)21
Цитата из стихотворения Шарля Бодлера «Человек и море» (перев. В. И. Иванова).
(обратно)22
Цитата из стихотворения Шарля Бодлера «Часы» (перев. Э. Г. Линецкой).
(обратно)23
Яшар Кемаль (настоящее имя Кемаль Гёкчели, 1923–2015) – всемирно известный турецкий писатель курдского происхождения. Роман «Тощий Мемед» (1955), рассказывающий о неравной борьбе крестьян Анатолии за свои права, переведен более чем на 40 языков мира.
(обратно)24
Пьер Лоти (настоящее имя Луи Вио, 1850–1923) – французский офицер флота и писатель, известный «колониальными» романами, действие которых происходит в экзотических странах. Холм, где он любил бывать, расположен в районе Эйюп. Отсюда открывается живописный вид на Золотой Рог и Стамбул.
(обратно)25
Медицинский факультет Стамбульского университета (как и известная стамбульская больница) носит имя Джеррах-паши (?–1604), османского политического деятеля, занимавшего, в частности, пост великого визиря.
(обратно)26
Белградский лес – большой лесопарк на северо-западной окраине Стамбула.
(обратно)27
Перечислены районы Стамбула, расположенные на азиатском берегу Босфора.
(обратно)28
Барбунья – фасоль, тушенная с морковью в томате. Хайдари – соус-закуска из натурального йогурта с рассольным сыром. Сарма – голубцы из виноградных листьев. Аджика – в турецкой кухне острая овощная закуска из перца и помидоров.
(обратно)29
Балык-экмек – сэндвич со свежевыловленной жареной рыбой и луком. Такими сэндвичами традиционно торгуют на пристани в Эминоню рядом с Галатским мостом.
(обратно)30
Слова турецкой народной песни.
(обратно)31
Перец алеппо – приправа из умеренно острого сладкого перца, высушенного и перетертого с оливковым маслом.
(обратно)32
Чамлыджа – высокий холм на азиатском берегу Босфора.
(обратно)33
Этот стадион в европейской части Стамбула назван в честь Исмета Инёню (1884–1973), турецкого военачальника и государственного деятеля, второго президента Турецкой республики.
(обратно)

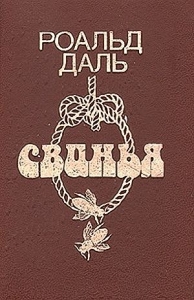








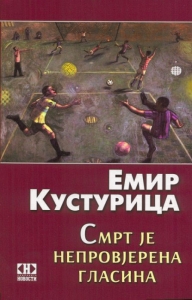
Комментарии к книге «Стамбул Стамбул», Бурхан Сёнмез
Всего 0 комментариев