Стелла Прюдон Дедейме
© Прюдон С., текст, 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2019
* * *
Часть первая
1
Ее разбудил сон, смысла которого она не понимала. Мать с отцом кружатся в дагестанском танце, потом отец, увидев ее, кричит музыкантам: «Лезгинку давайте! Сейчас Шекер покажет, как она танцует». Когда Шекер вышла танцевать, вокруг танцплощадки столпилось очень много людей. Все смотрели на нее и смеялись, и вдруг кто-то бросил: «Она голая, она голая!» Оглянувшись, Шекер поняла, что на ней и вправду нет одежды. Отец как будто не замечал ее наготы и требовал, чтобы она продолжала танцевать. Зато мать стала возмущаться: «Почему ты голая? Как тебе не стыдно!»
Шекер вскрикнула и проснулась. Было еще очень рано, поэтому она какое-то время лежала в постели с открытыми глазами, рассматривая затейливые узоры на обоях, а потом встала и подошла к зеркалу. Они приедут через восемь часов, а если повезет – раньше! Тогда и решится вся ее жизнь. От мысли об этом у нее колотилось сердце. Как долго она их не видела! Сказать, что она соскучилась, все равно что ничего не сказать. Но в своей тоске она не могла признаться никому. Ханна вспыхивала от одного только намека («сколько волка ни корми, все равно в лес тянется»), а Натан в угоду жене называл ее неблагодарной свиньей.
Много лет она скрывала свои чувства. Это была тайна, разъедающая изнутри. Ее нельзя было выпускать на свободу, но она не могла просто взять и забыть о ней. Слишком пленительной была надежда, слишком больно было ее убивать. Шекер затаилась и никак не проявляла своих чаяний. Но наедине с собой она каждый день мысленно разговаривала с ними: рассказывала, объясняла, доказывала и умоляла до тех пор, пока они наконец ее не поймут. В фантазиях они то понимали ее с полуслова, соглашались, заключали в объятия и уводили в новую жизнь, то грубо пресекали разговор и отворачивались. Шекер не понимала еще со всей ясностью, как они отреагируют, поэтому не решалась заговорить. Но две недели назад она приняла решение открыться, и будь что будет – терять ей больше нечего. Критически посмотрела на себя в зеркало, увидела выскочивший на носу жирный прыщ и с ненавистью его выдавила.
Шекер себе не нравилась: пухлые щеки, маленькие глаза, пористый нос, узкий прыщавый лоб, полноватые короткие ноги. И только волосами, роскошными русыми волосами, доставшимися по наследству от мамы, она гордилась. На солнце они были нежно-золотые, а в тени – цвета молодого каштана; распущенные – доходили до бедер, а заплетенные в косу – до пояса. Шекер очень любила расчесываться, и это было больше, чем приведение себя в порядок.
Она расплела косу и посмотрела в зеркало: а может, оставить распущенными к их приходу? Может, не стоит заплетать? Тогда у них просто не останется выбора: они не смогут не полюбить ее.
– Зачем косу распустила?
От внезапности Шекер вздрогнула. Она не слышала, как мать подошла к ее комнате.
– Я расчесываюсь, – ответила она, покраснев.
– Давай быстрее. Заплетай косу и иди Цыгана загоняй. Работы много, некогда прохлаждаться.
В обязанности Шекер входило вставать раньше всех и загонять Цыгана после ночного дежурства в вольер. Цыган – любимая собака отца: на его счету четыре пойманных грабителя. В их богатом доме воры были частыми гостями: достаток семьи хоть и не афишировался, но был известен всему городу. Постарев и потеряв остроту слуха и зрения, Цыган «вышел на пенсию»: переселился на задний двор, перестал нести службу и стал просто любимым псом. Ему заказали теплый вольер с деревянным полом и будкой, и Натан сам лично кормил старую овчарку. На место Цыгана в центральном вольере, стоящем прямо перед домом, поселился его сын – двухлетний Мухтар, предварительно пройдя годичную подготовку у тренера сторожевых собак.
Выйдя на крыльцо, Шекер зажмурилась от яркого света и закрыла глаза рукой. Во дворе громоздились деревянные столы и лавки, вынесенные накануне из сарая. Сегодня их ровной шеренгой поставят под навесом, помоют, накроют скатертями, разложат приборы и посчитают количество посадочных мест. Отцу исполняется семьдесят, и поздравить его приедут не меньше ста человек.
Шекер сняла с ограды крыльца собачий ошейник и прошла мимо сооружений из столов и лавок. Проходя по асфальтовой дорожке в глубь сада, она увидела, что в нескольких местах земля перерыта и клочья земли разбросаны по асфальту. Она сразу поняла, в чем дело.
– Мухтар! – закричала Шекер и услышала шуршание гравия. Это, высунув язык, бежал Мухтар. – Ты зачем это делаешь, глупый пес? – спросила она строго и слегка шлепнула его рукой по шее. – Если будешь закапывать кости в саду, я посажу тебя на цепь! Иди на место! – Мухтар послушно побежал в свой вольер.
Вдоль высоких трехметровых ворот с облупленной голубой краской росла малина. Летом ее было много, и многочисленные внуки Натана и Ханны совершали ежедневные набеги на кусты. Но даже после этого ягод хватало на варенье. Чуть поодаль от малины, обвивая металлическую сетку, вился виноград. Его выращивали не столько ради плодов, их было не очень много, сколько ради листьев для долмы. Во втором и третьем рядах была посажена черная смородина, несколько грушевых и яблоневых деревьев, помидоры, огурцы, морковь и зелень.
Обогнув дом и обойдя весь сад, Шекер почувствовала неладное. В последнее время найти Цыгана становилось все сложнее, он перестал отзываться на свое имя. Шекер считала, что не стоит выпускать его на ночь. Пес, хоть и выходил из вольера, после нескольких ленивых шагов искал убежища где-нибудь в тихом углу двора, под деревом или вдоль забора в кустах винограда. Но Натан не хотел менять привычного распорядка, и она не могла ослушаться. Шекер подошла к вольеру Цыгана: миска с едой стояла нетронутой. Заглянув в будку, она побледнела.
– Цыган… – имя пса повисло в пустоте.
Когда Шекер вернулась из сада, дом уже проснулся. Она прошла мимо машин к вольеру Мухтара и закрыла его на щеколду. По ее щекам текли слезы.
Ханна стояла на крыльце в цветастом байковом халате и повязывала платок.
– Кто умер? – спросила она, увидев слезы.
В их семье слезы были большой редкостью и неизменно пресекались строгим «хватит реветь, никто не умер!»
– Мама… Мне кажется, Цыган умер… Он лежит в будке и не шевелится…
Шекер говорила бессвязно, слезы душили ее.
– Тихо, тихо. Вессе![1] – Мать строго посмотрела. – Иди умойся и вытри слезы. У отца праздник, он не должен расстраиваться. Завтра скажем ему, сегодня не говори.
Из летней кухни вышла Эрке. Она пришла помогать самой первой, так как жила по соседству. Ханна подозвала Эрке, отвела ее в сторонку и стала ей что-то говорить. Та ахнула, а затем понимающе закивала головой («да, мама, конечно, мама»), велела своей дочери Мине помогать бабушке и куда-то ушла.
2
На кухне кипела работа. За большим дубовым столом, покрытым красно-белой в горошек клеенкой, чистила картошку Митрофановна. Вообще-то ее звали Елена Митрофановна, но все обращались к ней просто по отчеству. В семье Савиевых она жила тридцать лет. Пришла нянчить третьего сына Ханны и Натана и осталась навсегда. Теперь это была ее семья. «Ты мой самый старший духтер[2]»! – шутя говорила ей Ханна. «Ханночка, я не могу быть твоей дочерью, я же старше тебя!» – на полном серьезе отвечала Митрофановна. Все смеялись, Митрофановна не обижалась. Со временем она выучила язык и историю горских евреев и охотно делилась с детьми своими знаниями.
Митрофановна чистила картошку, Шекер и Мина нарезали ее брусьями.
– Митрофановна, а почему мы – горские евреи? – спросила Мина. – Разве есть еще лесные или пустынные евреи?
– Очень давно, – начала свой рассказ Митрофановна, – евреи были вынуждены бежать из Израиля. Некоторые из них пошли на Запад, и их языком стал идиш, а некоторые – на Восток, в Иран. Те, что пошли на Восток, стали говорить на персидском языке, на котором говорят твои бабушка и дедушка.
– А бабушка и дедушка тоже пришли из Ирана?
– Нет, они родились в Дагестане. А из Ирана пришли их далекие предки. Тысяча пятьсот лет назад иранские евреи попали в рабство и были пригнаны на Восточный Кавказ. Там они должны были строить крепость. С ними обращались очень плохо, поэтому многие бежали и прятались высоко в горах. Там у них постепенно наладилась жизнь, но горские евреи всегда держались отдельно от других народов. – Митрофановна разделила нарезанную Миной картошку на две части, маленькую и большую. – Вот это, – показала она на маленькую горку, – горские евреи. А вот эта большая гора – другие народы. Горские евреи должны были очень сильно постараться, чтобы не смешаться с остальными, строго соблюдать обычаи. Лишь при советской власти евреи начали спускаться на равнину. Но их по-прежнему называют горскими евреями.
Митрофановна так увлеклась рассказом, что не заметила, как подошла Ханна и сгребла всю картошку в миску.
– Еще десять картошек почисть, дети тоже будут завтракать, – попросила Ханна. Всем было понятно, что, говоря «дети», женщина имела в виду только сыновей, потому что дочерям не готовили завтрак. Дочери тоже придут, но сидеть за столом с мужчинами не будут, им полагалось вместе с другими женщинами работать на кухне.
– Кто будет завтракать? – пытаясь выглядеть равнодушной, спросила Шекер. Ханна перебирала сковороды в поисках самой большой и сделала вид, что из-за грохота не услышала Шекер. Она прекрасно понимала, чей приход интересовал ее больше всего, и едва заметно переглянулась с Митрофановной.
– Мама, кто придет? – переспросила Шекер.
– Тевриз будет, духтер Туре, чуду делать. А, вот и она! Пришла? Чу хабери? [3]
В кухню зашла толстая Туре, которая всю жизнь работала кухаркой на горско-еврейских праздниках. Ее мастерство в выпечке чуду и приготовлении блюд дагестанской кухни славилось по всему Пятигорску. Но она старела и больше не могла работать так много, как прежде, поэтому все чаще ходила со своей дочерью Тевриз, которой передавала все рецепты и кулинарные навыки.
– Как дела? – переспросила Ханна.
– Какие могут быть дела в моем возрасте? Старые мы с тобой стали, Ханна, здоровья ни на что не хватает.
– Не говори так, мама! Вы еще сто лет проживете, правнуков и их детей нянчить будете!
– Да какие сто лет! Это Ханна сто лет проживет, а я старая уже совсем. У нее, – Туре показала на Ханну, – кожа вон какая гладкая, а она семерых не родила?!
– Девятерых! – поправила Ханна, показывая две руки с загнутым большим пальцем. Девять детей у меня родилось – двое умерли маленькими – такими. – Ханна протянула руки вниз и вытянула ладонь, чтобы показать, какими маленькими были ее дети, когда их не стало.
– Эри-эри[4], – поспешила согласиться Туре, – девять детей было, а кожа какая!
Ханна удивленно потрогала лицо.
– Косметика есть же. Ни грамм не был на мой лицо! Утром встану, водой помою – и все. Не пользуюсь я ничем, как молодые: все моют чем-то, мажут химией. Зачем это все? Только кожу портит.
– Я тоже касметик-масметик не пользую, – сказала Туре. – Но кожа, видишь, какая у меня – вся в морщинах. Это не в кремах дело, это все генетик, он у тебя хороший!
– Да, отец у меня был хороший, не пил, не курил, отец меня любил очень, – подтверждая слова Туре, ответила Ханна. – Потом ушел к Мане, потому что мать моя сына ему родить не могла. Надо было дома сидеть, а она ходила туда-сюда, на базаре торговала за копейки, зелень продавала, сына потеряла одного, брата моего старшего. Потом я родилась. Зачем, говорит, девочек мне рожаешь? – Ханна засмеялась. – Борух, отец мой, наследника хотел, через три месяца она опять забеременела – мальчиком, я точно знаю, люди говорили, живот у нее был овальный, а не круглый, как на девочек. Опять по базарам на мороз ходила, зря ходила, застудилась и выкинула. Больше не могла беременеть. Год, два детей нет, и все. Тогда мать сама сказала Боруху: возьми, говорит, молодую жену, пусть сыновей тебе родит. Он и взял Маню, она ему пятерых сыновей не родила?! А у матери я одна была. Но отец меня любил очень, подарки дарил. Когда я его от тюрьмы перед самой смертью спасла, он мне сказал, я никогда этого не забуду: «Ханна, – говорит, а сам еле дышит, – у меня пятеро сыновей, но все они не стоят одного твоего ногтя». Вот так мне отец сказал. – Женщина взяла в руку последнюю луковицу и стала ее нарезать. Смочив фартуком глаза и высморкавшись, она продолжила: – А когда Шекер, дедейме[5], умерла, я сначала горевала, а на следующий день у Довида, старшего моего, девочка родилась. Я ее как увидела, сразу сказала: «Вот мать моя!» А Довиду говорю: эту девочку я тебе не отдам, себе на воспитание возьму, она будет носить имя матери моей. А ты себе еще десять детей родишь.
– А Зина что, так и согласилась?
– А-а-а, – Ханна махнула рукой. – Зинка сначала не хотела, первенец мой, говорит, а потом Довид сказал ей: слово матери – закон, как мать скажет, так и будет. Ну она и замолчала и девочку отдала. А чем плохо? Я что, плохо ее воспитала? Не курит, не пьет, не гуляет! Хорошо воспитала и, дай бог, замуж выдам за приличного парня, не бедняка.
– Да, да, правильно сделала, что забрала и воспитываешь. Что правда, то правда: молодежь сейчас неправильно воспитывают! – Туре вздохнула и продолжила: – Ты слышала, что об Анжеле, дочери Натена, говорят? Не слышала? Вай, там что творится?! – обрадовавшись шансу первой рассказать новость, которая уже обошла весь город, но почему-то не дошла до ушей Ханны, Туре причмокнула языком и начала:
– Есть же гулящие девки на свете, вот она такая. Нашку неделю назад на машине с базара ехал, видит – она идет. Как ты думаешь, волосы рыжими не сделала-а-а?! Мини-юбка, сиськи из кофты вываливаются, идет в обнимку с русским парнем. Он что, думаешь, жениться на ней собирается? Да никогда Натен дочь за русского не даст! Значит, не девочка она уже давно, раз с русским парнем в обнимку ходит! Гулящая она стала совсем! Не то что твоя Шекер.
От чувства благодарности к Шекер – за то, что бережет честь, не гуляет, а скромно ждет своего часа, как и полагается порядочным девочкам, Туре вскочила со стула, вытерла измазанные в тесте руки о фартук и стала трепать Шекер за обе щеки. – Хорошая девочка она, не худышка, в собственном соку девочка. Мы ей хорошего жениха найдем, вот увидишь! Самого лучшего! Вон она какая чистая у тебя!
3
Приход помощниц наполнил кухню разговорами и ароматом домашней выпечки. Если до этого все было обыденно – женщины готовили завтрак мужчинам, то теперь стало понятно, что в доме будет торжество. Большая часть заготовок была сделана накануне: приходил молодой раввин, который, читая молитву, зарезал десять кур и одного барана, а затем женщины ощипали птицу, освежевали барана и замариновали мясо. Из кур должны были получиться пышные чуду-керги и наваристый бульон для хинкала, а из баранины – долма и ароматный плов. Меню застолий не менялось из года в год и зависело только от сезона. Летом подавали больше свежих овощей, которые зимой заменялись консервированными. А сегодня гостям готовили, кроме обычных блюд, летние деликатесы – тара[6] и чебурки с листьями крапивы.
Вдали послышался лай Мухтара – это Залмон, третий сын Натана и Ханны, пришел с базара и принес продукты к завтраку. Ханна принялась вынимать из корзины покупки: белоснежную мягкую брынзу, телесного цвета сливки, золотое домашнее масло, зернистый творог, копченую индюшку и бастурму, лаваш, овощи. Ханна раскладывала еду по тарелкам, а Мина относила их на стол.
– О, теплый хлеб! – дядя Сави отломил кусочек от лаваша и прищелкнул языком.
– А на ходу есть нельзя, – сказала Мина.
– Иди-иди, неси остальное, – ответил дядя Сави, – смотри, ножи-вилки не забудь.
Пока Мина ходила туда-сюда с тарелками продуктов и раскладывала все на столе, Шекер с Митрофановной справились с картошкой, и Ханна, отрезав полпачки сливочного масла в сковороду, отрегулировала под ней огонь. Когда картошка подрумянилась, в нее были вбиты десять крупных свежих яиц. Осталось отнести чай на мужской стол. Мина подала нарезанный тонкими ломтиками лимон, Ханна – большую сковороду с яичницей и с картошкой, а Митрофановна с Шекер – чай.
Пока женщины готовили еду, отец семейства играл в нарды со вторым сыном, круглым и усатым Борисом, а другие мужчины, кто стоя, кто сидя, наблюдали за партией. Завидев приближающихся с чаем женщин, мужчины – отец, трое сыновей и зять – отложили нарды и расселись по своим местам. Не хватало только старшего сына Довида.
На кухне уже собралось много народу. Две другие дочери Ханны, Рая и Зоя, резали мясо и крутили фарш, а невестки (обеих звали Галями и для удобства их пронумеровали: жену Бориса называли Галей номер один, или «Галей большой» за ее высокий рост, а жену Залмона – Галей номер два, или «Галей маленькой») делали курзе[7]. Взяв еще один стакан чая, Шекер вернулась к мужскому столу. Мужчины вовсю работали вилками.
– А сахара не бывает? – жуя кусок индейки, спросил Борис.
– Папа, а Довид когда придет? – спросил кто-то еще.
– Сейчас принесу сахар, – ответила Шекер, пытаясь задержаться, чтобы услышать ответ отца на мучивший ее вопрос.
Довид был первенцем Натана и Ханны, самым успешным и талантливым из сыновей, но и самым строптивым. Он требовал особого отношения со стороны родителей, не желая мириться с тем, что они могут отдать предпочтение в каком бы то ни было вопросе другому сыну. Год назад он ушел, демонстративно хлопнув дверью, потому что не согласился с решением матери. Имя «Ханна» должно было перейти в семью одного из сыновей, Довида или Бориса, по решению матери. Мать делала намеки то Довиду, то Борису о том, что отдаст имя именно ему, но долго не определялась в предпочтениях. Каждый был уверен в том, что именно он сможет назвать внучку именем матери – Ханна.
На прошлый Новый год братья подвыпили. Тогда Довид, позвав Шекер к себе и приобняв, сказал:
– Когда замуж выйдешь, смотри, первой девочку чтобы родила, поняла? Первой у тебя должна быть Ханна!
Борис отреагировал незамедлительно.
– А почему ты решил, что имя матери будет у тебя? – спросил он. – У Аркаши родится дочь, мы ее и назовем Ханна. Все должно быть по справедливости. Тебе дали имя бабушки, а мне полагается Ханна! Так, мама? – Борис посмотрел на мать в надежде на поддержку.
– Почему это Аркаша?! Он же еще маленький, под стол ходит. А Шекер уже вон, девушка, скоро замуж будем отдавать!
Ханна пыталась урезонить братьев, но пожар было не потушить. Спор разыгрался нешуточный. Начав со словесной перепалки, они, мигом растеряв братские чувства и позабыв все слова о дружбе, внушаемые родителями с ранних лет, затеяли драку. Разнимали всей семьей. Каждый боролся за имя матери для еще не родившегося дитя, как будто речь шла о жизни и смерти. Это было больше, чем имя. Тот, кто получал право назвать ребенка именем родителя, пользовался особым расположением. Своей тактикой двойной дипломатии мать обнадежила обоих братьев, но в тот день вопрос принял неприятный и неожиданный оборот. И Ханна решила поставить точку в этом вопросе. Злясь на Довида за затеянный спор, она сказала:
– Довид, хватит! У тебя уже есть Шекер, Ханна будет у Бори!
Эти слова прозвучали для Довида приговором, и он ушел, шарахнув дверью так, что посыпалась побелка. Шекер осталась стоять в растерянности. Она почувствовала такое щемящее одиночество, как никогда прежде. Довид ушел, даже не взглянув на нее. Это она во всем виновата! Зачем она подошла, зачем мелькала перед глазами? Сидела бы на кухне с другими детьми, ничего бы не произошло. Шекер хотелось бежать, бежать без остановки. Плакать было нельзя, и она застыла со стеклянными глазами.
– Ты чего с такой кислой миной стоишь? – заметив ее, сказал отец. – Иди, догоняй, убирайся с глаз моих, чтобы я тебя больше не видел! Весь праздник испортила.
Тетя Эрке тогда отвела ее подальше с глаз Натана, прижала к себе и сказала три слова: «Все будет хорошо», – а потом добавила: «Они обязательно помирятся». Но Шекер это не успокоило, она-то знала, что ссора может длиться годами.
И действительно, примирение наступило не скоро. Целый год она не видела Довида. О нем в семье не упоминали, как будто его никогда и не было. Все неожиданно изменилось две недели назад. Шекер уже засыпала, когда ее разбудили мужские голоса, доносившиеся откуда-то с улицы. Отодвинув занавеску, она увидела, что в саду стоят Натан с Довидом и спорят.
Она не слышала их разговора, но по жестам поняла, что Довид о чем-то просил отца, пытался обнять, а тот отталкивал его и показывал на калитку. Внезапно Довид тяжелым камнем упал перед отцом на колени. Отец сказал что-то, похлопал Довида по плечу и жестом велел ему встать. Довид послушно встал. Мужчины прошли к выходу из сада мимо ее окон. Она задернула занавеску и уткнулась лицом в подушку. Ее потряс образ стоящего перед отцом, как перед Господом Богом, Довида. Картинка не выходила из головы, в ту ночь она так и не смогла уснуть. Наутро, едва заслышав шум, она вышла из своей комнаты, надеясь, что мать прояснит ситуацию. По лицу Ханны было видно, что и она практически не сомкнула глаз.
– Мама, у тебя усталый вид, – начала Шекер издалека.
– Да, не спала совсем. Дети мои разве дадут мне спать?
– Что-то случилось?
– Заходил вчера Довид, с отцом говорил. На день рождения его хочет прийти.
– Придет? – не сдерживая любопытства спросила Шекер.
– Все будет, как бог того пожелает.
4
Шекер знала – он придет. Эта новость стала для нее подарком. Она была уверена, что Довид решил помириться ради нее, своей старшей дочери. Наверняка и он по ней скучал. А может быть, это Зина попросила его пойти к отцу? Они ее любят, любят! И может быть, даже больше остальных своих детей! Ну а как может быть иначе – она же их первенец, их старшая дочь. Они не могут ее не любить. Как она, глупая, могла сомневаться? Они любят ее. Она шепотом, как заклинание, произнесла «папа», «мама», представляя себе лица Довида и Зины. Именно тогда у Шекер появилась решимость сказать им о своем отчаянии и страхе, о том, что жить без родителей для нее невыносимо и что она хочет вернуться к ним, пусть и спустя пятнадцать лет, и называть их мамой и папой, а не по имени, как брата и сестру. Она хочет ходить с родителями в парк, есть сладкую вату, и капризничать, и проситься на руки, и говорить, часами говорить с мамой. Сколько таких внутренних бесед она провела и как она была бы счастлива, если все это можно было бы рассказать наяву, а не в мечтах. Скоро она снова их увидит. И поговорит. И наговорится вдоволь!
– Папа, так придет Довид или нет? – вопрос был задан еще раз.
– Может, придет, может, нет. Кто его поймет? Скорее всего, придет вечером, как чужой, в гости. Совсем мать с отцом перестал уважать, мать с отцом ему все сделали, воспитали его, а он не делает того, о чем мы просим. Думает, раз деньги есть, можно все. Самовольно жить решил, только свою жену и слушает, как последний подкаблучник. Братьям не помогает, отцу почета не делает, все какая-то политика. Зачем ему сдалась эта политика? Сидел бы себе спокойно, деньги делал. А то одна Дума на уме, в депутаты захотел! Только внимание к себе лишнее привлекать! Жили спокойно, а теперь журналисты дом караулят, жить спокойно не дают.
То, что сын стал крупным предпринимателем, радовало отца. Но его общественная деятельность, его политические амбиции не могли не пугать Натана, прошедшего через жернова советской системы и пережившего аресты и обыски. Именно обыски научили его прятать достаток от завистливых глаз соседей и знакомых. В землях сада скрывались несметные богатства – десятилитровые баллоны, полные бриллиантов, золота, облигаций и купюр. Один из таких баллонов, закопанных два года назад, так и не удалось откопать. Перерыли весь сад, но он пропал, в прямом смысле слова провалился сквозь землю. Поскольку Натан закапывал клад вместе с Шекер, подозрения пали на нее. Натан считал, что это она втихаря откопала баллон и передала золото и бриллианты Довиду, и, рассказывая о пропавших драгоценностях, смотрел на девочку искоса, приговаривая: «Я знаю вора в лицо, пусть у вора руки отсохнут!» Шекер чувствовала недоверие и даже ненависть, хотя напрямую Натан своих претензий к ней не высказывал.
– А вы знаете, что Довид участок купил для еврейского кладбища, сейчас огораживают? – спросил Гарик, муж младшей дочери Эрке.
– Слышали, конечно! – отец презрительно ухмыльнулся. – Купил кладбище, чтобы нас с матерью было где хоронить!
– Папа! – наигранно строго сказал Борис. – Ну что ты о кладбище говоришь! У тебя сегодня день рождения, или что?
Не дождавшись ответа отца, Борис ответил сам:
– День рождения! Так что же мы здесь чаевничаем, лягушек разводим? Где водка? Шекер!
Шекер прибежала к столу с сахарницей, но Борис попросил ее принести водку и рюмки. Когда водка была разлита по рюмкам, Борис громко позвал мать. Торопясь и чертыхаясь, она подошла к мужскому столу. Тогда Борис встал и начал торжественную речь:
– Папа, пока нет гостей и мы здесь все свои… В общем, тебе еще скажут очень много слов, и поэтому я, если позволишь, произнесу первый тост в твой день рождения о маме…
Мужчины дружно закивали, а Ханна, смеясь, покачала головой в знак неодобрения. Но ее и не думали слушать.
– Папа! Ты у нас главный в семье. Но есть кое-кто еще главнее. – Борис сделал паузу, и все замерли в немом любопытстве. – Этот человек – мама! Ты хоть и голова, но без шеи голова не может существовать. Так вот, шея нашей семьи – это мама! Нас еще в школе учили, что главное на свете – это мать, сразу после бога идет мать. – Борис многозначительно посмотрел на Ханну. – Если рай есть, дедейме, то он находится под твоими ногами. Ты для нас – все, для нас и для отца. Так, папа?
– Так, так, – закивал Натан.
– Да, да, – согласились остальные.
– Так вот, мама, я хочу выпить свою первую рюмку за тебя, за то, чтобы ты была всегда рядом с нашим папой и радовалась своим внукам, правнукам, праправнукам и прапраправнукам!
– Ура, товарищи! – крикнул Натан.
– Ура-а-а! – заголосили остальные, стали чокаться и обниматься.
– Позовите Мину, – крикнул отец и, велев жестом одному из сыновей принести стул, пригласил жену сесть рядом с ним.
Когда пришла Мина, Натан попросил ее рассказать любимое бабушкино стихотворение – «Мать» Расула Гамзатова. Мина встала возле дедушки и бабушки, откашлялась и торжественно начала:
По-русски «мама», по-грузински «нана», А по-аварски – ласково «баба». Из тысяч слов земли и океана У этого – особая судьба. Став первым словом в год наш колыбельный, Оно порой входило в дымный круг И на устах солдата в час смертельный Последним зовом становилось вдруг. На это слово не ложатся тени, И в тишине, наверно, потому Слова другие, преклонив колени, Желают исповедаться ему. Родник, услугу оказав кувшину, Лепечет это слово оттого, Что вспоминает горную вершину – Она прослыла матерью его. И молния прорежет тучу снова, И я услышу, за дождем следя, Как, впитываясь в землю, это слово Вызванивают капельки дождя. Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя, И, скрыв слезу при ясном свете дня: «Не беспокойся, – маме говорю я, – Все хорошо, родная, у меня». Тревожится за сына постоянно, Святой любви великая раба. По-русски «мама», по-грузински «нана» И по-аварски – ласково «баба».Девочка сделала театральную паузу, все захлопали, а Натан потребовал налить еще по рюмке водки каждому. Обняв Мину за плечо, он спросил:
– Ты кто по национальности?
– Русская, – ответила девочка.
Все засмеялись.
– Ты кем будешь, когда вырастешь?
– Президентом Ельциным!
Сидящие за столом стали смеяться, шептаться, а кто-то даже захлопал.
– Умная она очень, дочка моя младшая, не то что нынешние лоботрясы. Вырастет, в МГИМО устроим ее.
Мина, смеясь беззубым ртом, закивала и преданно, как собачка, посмотрела на папу-дедушку.
– Нос-нос-нос, – стал манить дедушка, это значило, что он будет касаться рюмкой ее носа перед тем, как выпить. – Ну все, все, иди к матери.
Мина послушно ушла на кухню. За мужским столом не осталось и следа от былой грусти. Все смеялись, шутили, хлопали друг друга по плечу. Тем временем вернулась Эрке с большой клеткой в руке – в ней сидел щенок немецкой овчарки. Она осторожно вынула его из клетки, поднесла к отцу и сказала, что этот щенок – сын Мухтара, внук Цыгана, и это подарок отцу на день рождения, и что теперь он может не бояться, если Цыгана вдруг не станет, у него есть еще один. Новый Цыган был единогласно признан таким же красивым, как и его дедушка.
После завтрака отец зашел в дом отдохнуть и переодеться, а сыновья взялись за мужскую работу – мыли из шланга двор, расставляли столы и лавки рядами, относили тазы и сумки с продуктами женщинам на кухню. Во дворе поставили магнитофон с громкой дагестанской музыкой, и женщины время от времени прерывали готовку и танцевали лезгинку, приглашая мужчин составить им пару в танце. В доме воцарилась атмосфера веселья.
5
Довид пришел около трех. О его приходе Шекер было известно еще до того, как она его увидела. Женщины зашушукались, и Ханна стрелой вылетела из кухни. Поцеловав сына, она пошла звать мужа. Довид зашел на кухню с двумя солидными мужчинами в дорогих костюмах и, бросив «всем привет», стал рассказывать гостям, кто есть кто: вот мои сестры, жены моих братьев, повар… О Шекер ни слова, как будто она – тоже кто-то из перечисленных, сестра, невестка, повариха… Шекер смотрела на Довида и не могла отвести глаз. Но он даже не взглянул на нее. Впрочем, его взгляд не задерживался ни на ком дольше секунды, а будто охватывал всех целиком. Возможно, он просто не успел рассмотреть каждого по отдельности, потому что его сразу позвал отец. Натан уже успел одеться и побриться к празднику, и от него пахло одеколоном. Довид представил отцу своих спутников – это были известные политики из Москвы. Гостям накрыли чайный стол: урбеч[8], пахлаву, айвовое варенье, сухофрукты и вазу с импортными конфетами.
– Ну что, как там Москва поживает? – спросил отец гостей. Повисла пауза и, не дождавшись ответа, Натан продолжил: – Как там Ельцин? Скажу вам честно, я его не одобряю. Раньше одобрял, а теперь – нет. Мы ничего хорошего за два года его пьяного правления не увидели. Непонятно, что творится, раньше был один хозяин, а теперь их десятки и сотни. Вот я, к примеру. При советской власти я был директором универмага, директором с большой буквы, начальником! Никто мне не указывал, что делать и как. Меня могли посадить, но это другой вопрос. А теперь – можно все, но ничего нельзя. Универмаг купили какие-то бандиты и делают там что хотят. И я у них бобик на побегушках! Товара полно, а толку – ноль. Денег все равно ни у кого нет.
– Папа, ну что же ты молчал?! – с пафосом спросил Довид. – Если бы я знал, что у тебя проблемы, я бы уже давно купил этот универмаг с потрохами. Завтра же займусь…
От этого обещания Натан повеселел. Он уже давно хотел попросить Довида уладить его вопросы на работе – договориться с новыми хозяевами магазина, но нельзя же просить о чем-то сына, с которым находишься в ссоре.
– Да, сейчас сложные времена, – согласился сидевший справа коренастый мужчина в белом льняном костюме. – Реформы всегда сложно даются…
– Реформы! Да на что нам эти реформы сдались? Демократия, бог знает что. Во что мы превратились? Раньше Карпова с Каспаровым хоть по телевизору показывали, а теперь – одних голых девок. Я за Ельцина болел, думал, он сделает лучше, а стало только хуже. Сейчас вообще непонятно, что творится. России нужна твердая рука, Сталин бы такого не потерпел!
Мужчины переглянулись, а Довид, поняв, что отец подвыпил, предложил сменить тему и сыграть в нарды. Все закивали. Играть с Натаном вызвался самый старший из гостей – седовласый Владимир Николаевич. Оставив отца, Довид направился на кухню. Он хотел узнать у матери, сколько человек будет на празднике и придут ли музыканты, но первой на глаза ему попалась Шекер. «Как же она стала похожа на мать!» – подумал Довид, поздоровался с дочерью и обнял ее.
– Как ты, родная? – спросил он.
– Хорошо, – ответила Шекер, опустив голову, – а ты… а вы?
– Неплохо…
Шекер дрожала, и у нее колотилось сердце. Она так долго ждала этой встречи, и вот отец стоит перед ней и она не знает, что сказать. После небольшой паузы Шекер спросила:
– А вы одни? Киры не будет?
Шекер очень хотела узнать, будет ли Зина, ее мать, но не знала, как назвать ее правильно – Зина или мама, – поэтому решила узнать, будет ли на празднике ее родная сестра Кира, вторая дочь Довида и Зины. «Если будет Кира, будет и мама», – подумала она.
– Кира… да… – начал Довид, – они, не знаю…
Тут их разговор был прерван. Подошла Ханна и, тяжело взглянув на Шекер, увела Довида.
– Ну что, не придет Зинка помогать, нет? – спросила Галя номер один, не расслышавшая, придет ли жена Довида.
– Придет, наверное, как и все гости, часам к пяти, – ответила ей Галя номер два.
– Вот белоручка! Мы с утра вкалываем, а она придет, вся расфуфыренная, – пить, есть, танцевать. Никакой совести нет! – стала возмущаться Галя номер один.
– Я за нее здесь работаю, разве этого недостаточно? – ответила невесткам Шекер и, поняв, что тон ее высказывания оказался неожиданно грубым, поспешила исправить положение, добавив: – Нас же и так здесь много, больше людей на кухне не поместится.
Но было поздно. Невестки переглянулись и сжали губы. А когда пришла Ханна, пожаловались ей на грубость Шекер: слишком много себе позволяет, если так пойдет и дальше, ничего хорошего из нее не вырастет!
6
Ханна ревностно следила за поведением Шекер, внушала ей страх перед взрослыми и считала, что лишь повиновение сделает из нее человека. Нагрубить старшему было преступлением, на грубость и злость было наложено строжайшее табу. Грубость означала своеволие, а это может привести к тому, что Шекер в любой момент возьмет и уйдет из дома – от нее всего можно ожидать. А сегодня Шекер не просто нагрубила, а сделала это для того, чтобы защитить Зину. Это намного хуже. Страх Ханны, что Шекер, не будучи ее родной дочерью, не сможет сдержаться и сбежит к Довиду и Зине, возрастал с каждым днем. Чем старше становилась девочка, тем отчетливее понимала Ханна – что-то не так. Ее опасения подтвердила Митрофановна, брякнувшая, что девочку нельзя держать на цепи, как собаку, она рано или поздно уйдет. Митрофановна считала, что это нормально: любовь к родителям неподвластна логике. И хоть Шекер никогда о них не говорит, она, Митрофановна, знает точно, что она их любит и очень по ним тоскует.
Этот разговор напугал и озадачил Ханну. Она считала, что сделала все для счастья девочки, даже больше, чем делала для собственных детей: покупала ей лучшую одежду, ни в чем не отказывала, отправила в музыкальную школу, хорошо платила врачам, когда та болела… И, несмотря на все это, она хочет к родителям?
Да, Шекер в последнее время замкнулась в себе и практически не разговаривала. Ханна считала это признаком хорошего воспитания: девочка выросла скромной. Ведь молодой особе на выданье не полагается много болтать, она должна быть покладистой, мягкой, послушной. Уважать родителей и не перечить им, а потом, когда выйдет замуж, подчиняться воле мужа. Она хорошо воспитала Шекер и не могла допустить и мысли о том, что у внучки могут быть мысли о побеге, желания, которые она, Ханна, не может контролировать. Но что можно сделать теперь, когда известно, что Шекер не так проста, как кажется? Запретить ей видеться с родителями? Для этого пришлось бы навсегда закрыть двери дома для Довида, ее любимого старшего сына. Этого она не сделает никогда. Поэтому, раз ничего другого не оставалось, она решила по максимуму ограничить их общение, держа под контролем Шекер.
Пришли музыканты, расставили инструменты на импровизированной сцене. Зазвучали первые аккорды лезгинки, женщины поспешили в дом приводить себя в порядок и переодеваться в праздничные одежды. Шекер решила надеть свой любимый наряд – красное атласное платье длиной чуть ниже колена с белым бантом в области сердца. Встала у зеркала, разделась, распустила косу – решила, что с распущенными волосами все-таки лучше. Открыла шкаф и ахнула. Как такое возможно? Она точно помнила, что еще утром платье было здесь! Обыскала всю комнату, заглянула даже под кровать – но платье не нашлось. Не было и белых туфель, которые она всегда надевала к этому платью. Собрав волосы в хвост, она облачилась в свой старенький халат, в котором помогала на кухне, и выбежала во двор. Надо найти Ханну или Митрофановну – может, это они забрали ее платье? Может быть, не знали, что именно его она хотела надеть?
Двор начал заполняться людьми. Мужчины, женщины и дети в нарядных одеждах рассаживались за накрытыми столами. Шекер было стыдно и неловко ходить среди нарядных людей в халате, она боялась, что Ханна ее отругает, если увидит в таком неподобающем виде. Она судорожно искала глазами Митрофановну, но той нигде не было. Втянув голову в плечи, Шекер побежала на кухню. Ханна, давая указания кухаркам, жестом позвала девочку. Спеша оправдаться, Шекер опередила бабушку:
– Мама, я не могу найти платье, но точно помню, что оно утром висело в шкафу. Ты не видела Митрофановну, может, она решила там что-то подшить?
– Ты зачем грубишь? – неожиданно спросила Ханна.
– Я не грублю, – Шекер побледнела. Неприятное предчувствие закололо в груди.
– А что ты сказала Галям?
– Я сказала… Они сказали… – от страха Шекер не смогла пересказать свой недавний диалог с невестками.
– Они сказали, что ты жаловалась, что тебя заставляют слишком много работать!
– Нет, нет, я не жаловалась!
– А что тогда ты сказала?
– Ничего.
– Ну, раз ты не жаловалась и ничего не сказала, значит, будешь весь вечер сегодня помогать на кухне. И забудь про платье, оно тебе сегодня не понадобится!
Глаза Шекер остекленели. Они стекленели каждый раз, когда ей хотелось плакать, но слезы не выпускались наружу, а застывали в глазах.
– И косу заплети! – добавила Ханна.
7
Машинально Шекер заплела косу и встала возле раковины, в которой уже было несколько тарелок и кастрюль. Намылив губку, она принялась мыть посуду. Ей хотелось спрятаться, и лучшего места нельзя было придумать. Она может стоять здесь весь вечер, и никто ее не заметит, никто не найдет. Она даже может поплакать. Она есть, но ее нет, человек-невидимка. Кто обратит внимание на тихую девочку в старом халате, сшитом Митрофановной из лоскутков, оставшихся от разных отрезов ткани? Никто! И она сама – ничто, пустое место, она есть, вот она стоит, моет посуду, вытирает ее полотенцем. Чистую посуду забирают, грязную кладут в мойку, а ее не замечают. Значит – ее нет. А посуду моет агрегат, робот, машина. Да, она – автомат. Во всяком случае, она хотела бы стать роботом, таким роботом, который не может чувствовать, сомневаться, страдать, а может только исполнять приказы. Нажал на кнопочку – он работает. Нажал еще раз – перестал работать.
Вся ее жизнь запрограммирована наперед: она родилась, чтобы быть утехой стареющим бабушке и дедушке, которых должна называть мамой и папой, чтобы не чувствовали себя стариками, – раз у них юная дочь, значит, они – молодые родители. Она должна быть преданной и послушной, а когда придет время – выйти замуж за того, кого выберут Натан и Ханна. А уж они-то плохого не пожелают, выберут самого перспективного зятя. А потом она будет рожать детей.
Нет, только не детей! Она не хочет, чтобы и у нее забрали ребенка! Свекровь может сказать, что она еще слишком мала, чтобы его хорошо воспитать. Потом она родит еще, и лет до сорока будет рожать – ребенка за ребенком, пока не выдохнется и не станет толстой и беззубой. Муж больше не будет к ней прикасаться, они начнут спать раздельно, он найдет себе молодую любовницу. Но и разводиться они не будут, ведь она – мать его детей. Ее будут демонстративно уважать, о ней будут петь песни и сочинять стихи.
Заиграла грустная мелодия, но во дворе все зашевелилось: сыновья хватали своих матерей за руки и тащили на танцплощадку. Грузные восточные женщины делали вид, что сопротивляются, но все равно шли. Полноватый певец в белом сценическом костюме стер пот со лба – до этого была энергичная веселая попса, и он пел, приплясывая. Войдя в образ лирического героя, он схватил себя за лацканы пиджака. Его голос вибрировал, и казалось, что сейчас он заплачет. Он пел песню про маму:
Ой, мама, любимая мама, Ты счастье, ты радость и покой. Моя ты хорошая мама, родная, Нигде не найти мне такой. Счастье тому, у кого есть мама – Мама дитя всегда обогреет. И от глаз врагов защищала нас мама, Не давая в обиду детей. Ой, мама, любимая мама, Любимых волос седина. Хорошая, мама родная, Ты любимому сыну верна.Шекер слушала песню и думала о своем. В последнее время Ханне почти каждый день приносили фотографии парней, и она оставляла их как бы случайно на столе, ни о чем не спрашивая Шекер. Ее фотографии Ханна тоже отдавала, без спроса, разным незнакомым женщинам, которые оказывались знакомыми знакомых или родственников, пришедшими поговорить на деликатную тему. Часто это были гости из других городов, несколько раз приезжали из-за границы – они увидели Шекер на видеозаписи чьей-то свадьбы и «сразу в нее влюбились».
Когда приходили «посмотреть Шекер», девушка должна была медленно и неспешно накрывать чайный стол. Чаще всего чай и угощение оставались нетронутыми – это был знак того, что Шекер понравилась посетительницам. Если чай выпивался, это означало, что ждать сватовства не стоит. Но Ханна не спешила выдавать Шекер замуж, пока из предложенных кандидатур ей не нравился никто. Шекер понимала, что с гостями мать говорит о ней, о ее внешности и характере («волосы густые, и цвет красивый», «покладистая и скромная», «не худышка, в собственном соку», «знает музыку и книжки»), а также о достоинствах потенциальных кандидатов в женихи («его отец устроил в правительство», «учится на стоматолога», «хорошие деньги делает – шубы шьет»), но ни разу она еще не почувствовала радости от ощущения себя вожделенным объектом. Ей казалось, что ее – такую невзрачную – просто невозможно полюбить, и желание взять ее в жены продиктовано исключительно достатком семьи. Не было того радостного щекотания, о котором рассказывали знакомые девочки, от предчувствия влюбленности, восхищенных мужских взглядов и признаний. Другие радуются новой жизни, мечтают выйти замуж, уйти от родителей, создать семью, завести детей – а она почему-то совсем не рада. Она, наоборот, мечтает только об одном: жить всю жизнь со своими настоящими родителями. Она была бы им поддержкой и опорой на старости, ухаживала, обслуживала бы их…
Песня о матери сменилась лезгинкой, и из-за шума Шекер не услышала, как на кухню кто-то вошел.
– Шекер? – голос раздался как будто из другого измерения. – Я тебя ищу повсюду, почему ты здесь? Почему не одета? Что ты здесь делаешь?! – Кухню заполнил аромат дорогих духов, и Шекер обернулась, чтобы посмотреть, от кого он исходит. Зина, ее родная мама, стояла позади и держала за руку нарядно одетую красивую девочку. Шекер на миг показалось, что это сон, в котором она видит себя, держащую за руку маму. Таким сильным было сходство ее с сестрой, только сестра была, в отличие от нее, красивой, умной и счастливой. У сестры не было того пустого бездонного взгляда, по которому Шекер легко можно было узнать в толпе совершенно одинаковых детей.
Вопросы сыпались на Шекер, как град в середине лета. Однажды в такой град она впервые позволила себе ослушаться отца, который велел бежать накрывать машину пледом, а она побежала спасать свою любимицу – вольно гуляющую по саду курочку Рябу. Шекер привязалась к курице два года назад, когда та была еще цыпленком. Не заметив желтый комочек среди травы, она нечаянно наступила ей на лапку, а потом втайне от всех две недели выхаживала ее как родного ребеночка, пока лапка не зажила. Позавчера ее зарезали вместе с остальными курами. Тогда, во время града, она смогла спасти ее, а позавчера – нет. Именно курочки Рябы не хватало до ровного счета, и Ханна сказала, что эта курица – всего лишь мясо, она должна быть съедена до того, как состарится.
Но при чем здесь курочка Ряба? Почему Шекер думает о ней, вместо того чтобы отвечать на вопросы мамы? Вопросы. Какие были вопросы? Почему она здесь? Голос звучал укоризненно, и Шекер почувствовала себя виноватой.
– Я не знаю, – только и смогла вымолвить девочка.
Как она ждала этой встречи, мечтала броситься в объятия матери и больше никогда ее не отпускать! Но сейчас ей совсем этого не хотелось, ее интересовала только Кира. Вид сестры – такой сияющей, яркой, нарядной и счастливой, – наполнил глаза мутной жидкостью, не слезами, нет, эта жидкость застилала глаза и не приносила облегчения. Ударить Киру, бить ее долго, до крови, и приговаривать: «Отдай мне мое. Это мое, мои родители, мое платье, мои серьги, мой дом. Отдай мне жизнь, которую ты украла у меня! Ты не имеешь права, это мое, мое». Она не осознавала, как взяла в руки только что вымытую тяжелую чугунную сковородку и замахнулась.
Когда она очнулась, было очень тихо. Она лежала в комнате, освещенной маленьким светильником. Ее внимание привлекли обои – их можно было разглядывать часами и видеть все новые и новые картинки. Так, сейчас она видела седовласого бородача с длинным колпаком. Он стоял в профиль и исполнял желания. Шекер казалось, что лицо у него доброе, и она его не боялась. Она прикоснулась к холодным обоям и погладила выступы, делающие из бесформенных рисунков человечка. Ей даже захотелось обвести своего бородача фломастером, но не было сил. Она повернулась на спину и посмотрела в потолок. Квадратный светильник отбрасывал мерцающий узор – прямоугольник грязно-белого цвета, который вдруг стал похожим на гробик. Шекер представила себя в этом гробике: спящая красавица в красном атласном платье. Никто не плачет, у всех деловой вид. Ханна суетится насчет поминальной трапезы – надо успеть зарезать кур, накрыть столы, пригласить музыкантов… Нет, музыкантов не будет, вместо них будут плакальщицы. Все вокруг будут плакать, потому что так положено. Только Зина не будет плакать. Шекер не хотелось бы, чтобы ее мама плакала о ней под этот вой. Пока все воют, Ханна подходит к тете Эрке и говорит, что комната Шекер теперь свободна и что Мина, дочь Эрке и любимица Натана и Ханны, теперь будет жить у них и станет их дочерью. Тетя Эрке радуется, а Шекер чувствует, как ее сердце заживо вынимают из груди, – и проваливается в сон.
– Шекер, Шекер, просыпайся! Просыпайся же! – Кто-то настойчиво выталкивал ее из забытья. Она открыла глаза и увидела перед собой Натана. Он был одет и побрит, водитель ждал его в машине, чтобы отвезти на работу.
– Шекер, что с тобой вчера случилось? Что это за обмороки такие? Не ешь, что ли? Люди подумают, что мы тебя не кормим, смеяться будут! Завтра весь город об этом узнает: богатая семья, а дочка в голодные обмороки падает. – Натан хотел успеть отчитать Шекер еще до отъезда на работу, по просьбе Ханны.
– Извини, папа. – Шекер вскочила с постели и зашаталась. – Я ничего не помню.
– Ну ладно, ты спи, вечером поговорим. Я сегодня сам загоню Цыгана.
И тут она все вспомнила.
Часть вторая
1
Эрке дремала, как вдруг почувствовала толчок в бок. Она не сразу поняла, в чем дело, и отмахнулась – очень хотелось спать. Казалось, она только уснула. Накануне был день рождения отца, и она руководила уборкой. Отправив родителей отдыхать, братья и сестры подметали, собирали еду со столов и мыли посуду. Когда они управились, уже начало светать. Но несмотря на усталость, Эрке еще долго не могла уснуть и лежала с открытыми глазами, прокручивая в голове события прошедшего дня.
Заголосил петух. Эрке повернулась на другой бок, сон не шел к ней. И чем это Рая так возмущена? Подошла вчера, бордовая от злости, и начала ей выговаривать:
– Почему мать с отцом всем без исключения братьям подарили по машине, а нам, дочерям, нет? Мы что, не заслуживаем машины? Чем мы хуже? Почему им все, а нам ничего? Довиду, например, не нужна эта «Волга», у него денег куры не клюют, а ему все равно подарили! Залмону и Боре – по «Ниве», Сави – «девятку»! Да я бы на «шестерку» согласилась, у меня денег на машину нет. Почему нас не любят?
Эрке не понравился тон сестры. Она считала, что мать сама решает, что и когда делать, кого любить и баловать, а кого отдалять и лишать подарков. Эрке боготворила мать и не подвергала сомнению ее решения.
– Нас любят, – ответила она. – Мать всех любит и дарит подарки тем, кому считает нужным. Ты не можешь требовать от нее подарка, если она не хочет его дарить.
– Нет, не могу. Но это несправедливо: она только сыновей и любит. Мы, дочери, обделены. Нам достаются одни отбросы! Почему мать нам дарит только старые ковры, просроченные духи и съеденные молью шубы, а им – Рая кивнула в сторону – машины, дачи, телевизоры и золото с бриллиантами?
– Я с тобой не согласна.
Эрке не хотелось продолжать разговор. Она не переставала надеяться, она сочла бы за величайшее счастье когда-нибудь услышать от матери те слова, которые сама Ханна услышала когда-то от своего отца Боруха: «Все мои сыновья не стоят твоего ногтя». Она хотела стать для матери и сыном, и дочерью, и помощницей в делах и верной подругой, которая никогда не бросит, не предаст, не оставит. Мать всегда была и всегда останется самым важным человеком в ее жизни. Она чувствовала, что мать нуждается в ней и по-своему любит. Но она знала, что нельзя требовать от матери большего, чем та может дать.
– Ну конечно… – Рая искоса посмотрела на сестру, – тебе легко говорить, ты же у матери на особом положении… Любимица… Может, и тебе все дарят, а ты, тихоня, никому ни о чем не рассказываешь.
Рая фыркнула и ушла, потому что Эрке ей не ответила, делая вид, что сосредоточенно подметает пол. Она не хотела обсуждать поступки матери с сестрой.
Вечер прошел удачно, но Эрке видела, что мать в плохом настроении: что-то тяготило ее. Несмотря на улыбку, смех и танцы, Эрке читала в ее глазах грусть. Она знала, что если маме грустно, глаза превращаются в потухшие угольки, замирают в одном положении, больше обращены внутрь, чем наружу, сверля какую-то сложную проблему, сосредотачивая на ней все внимание. Эрке очень хотела подойти к матери и узнать, что за проблема ее гложет, предложить помощь. Но она знала, что матери нельзя предлагать помощь, если ей будет что-то нужно, она сама попросит.
– Твоя мать пришла! – муж настойчиво толкал Эрке в бок, пытаясь разбудить. – Ни свет ни заря будит весь дом! Иди, успокой ее. Она ведь не уйдет, пока всех не поднимет.
Эрке вскочила с постели как ужаленная, сдернув халат с колыбели, бросила взгляд на спящую в ней дочку, их с Гариком второго ребенка, и побежала открывать матери: мимо шкафа с книгами, трогать которые было запрещено, потому что Гарик сам лично утрамбовывал их в шкаф строго по высоте и цвету корешка (он их не читал, но педантично следил, чтобы все книги находились на своих местах); мимо детской, из которой слышалось посапывание старшей дочери и сына; мимо большой гостиной, где вышитые на дербентском ковре родители неизменно провожали ее строгим взглядом.
– Эрке! Эрке! – услышала она надрывающийся голос матери.
Ханна стояла у крыльца, переминаясь с ноги на ногу. Летом дверь в доме оставляли открытой и ветер поддувал белую занавеску, которая резвилась и трепетала, ударяясь о закрытую решетку. Крыльцо обвивали чайные розы. Еще мгновение, и решетка была открыта, а из-за занавески выглянула заспанная и взлохмаченная Эрке, поспешно застегивающая пуговицы на халате.
– Ну наконец! – недовольно буркнула Ханна. – А то зову-зову, а никто не идет. Мне с тобой говорить надо.
Эрке и Ханна прошли на террасу. Из сада доносились ароматы роз, пионов и нарциссов. Летом терраса превращалась в центр жизни: здесь ели, пили чай, играли в нарды и разговаривали.
Пол под навесом был устлан художественной мозаикой, которую сделали по эскизам Эрке. Она старалась создать вокруг себя красоту, и ее дом и двор напоминали музей, поэтому братья частенько приводили своих знакомых показать мозаику и заводили их в дом – там были лепные потолки. Эрке не возражала и даже гордилась. Она всегда стремилась к художественному творчеству. Но родители решили, что она станет юристом, и на этом вопрос о ее профессии был закрыт.
– Мама, ты выглядишь уставшей! – Эрке внимательно посмотрела на мать. – Как ты себя чувствуешь?
– Плохо чувствую.
– Что-то случилось? Я знала!
– А-а-а-а, – Ханна махнула рукой. – Весь ночь спать не могла, все думала, думала. Весь ночь думала о Шекер.
– Да? – удивилась Эрке. – А что случилось? Что с ней?
– Э-э-э! Это горе на мою голову! Наказание! – Ханна вздохнула. – Вчера что сказала Галям? Те только спросили, придет Зинка или нет? Что она им ответила? Скажу – не поверишь!
– Что она им ответила? – с нетерпением спросила Эрке.
– Вы, говорит, мою маму Зину не трогайте. Она, говорит, лучше всех вас, и не вашего ума дело, придет она или не придет. Занимайтесь, говорит, своими делами и в чужие дела нос свой не суйте!
– О-ё, так и сказала? – раскрыв рот от удивления, спросила Эрке.
– Папамну[9], я же врать не буду! – Ханна отломила кусочек от лежащего в ее тарелке лаваша и, поцеловав его, произнесла: – Клянусь хлебом, так и сказала! Слов в слов мне передали Гали, бог видит, не соврали.
– А дальше?
– Потом что было! Вой эри ме[10]. – Ханна вздохнула и продолжила шепотом, опасаясь, что ее могут услышать. – Я ей запретила платье одевать и к людям выходить. Наказывать ей хотела. Оставайся, говорю, на кухне, помогай, говорю, девочкам работать. Так она специально, когда Зинка на кухню вошла, перед ней в обморок упала! Чтобы та подумала, что мы ее не кормим, и чтобы к себе забрала! Какая тварь неблагодарная! Не кормим мы ее! Придумала мне тоже!
Ханна обхватила голову руками и стала ритмично водить ей из стороны в сторону, вперед и назад.
– Какое наказание мне бог послал! Чем я это заслужила? Она меня в могилу сведет, стакан чая мне не подаст на старости лет!
– Мама, а она тебе разве говорила, что хочет уйти к Зинке? – остановила ее причитания Эрке.
– Доченька, – Ханна сделала глубокий вдох, – ты что думаешь, я не вижу? Я уже много лет на этот свет живу. Мне ничего не надо говорить, у меня свой глаза же есть.
Ханна поправила выцветшую косынку и затянула ее в тугой узел на затылке.
Эрке закивала, как бы признавая свою ошибку.
– Ну давай я с ней поговорю! – предложила она.
– Если сможешь, узнай, кто ее настроил против меня? Рая? Я знаю, она меня не любит, злая она. Она гадюка, не знаю, как я могла такую гадюку родить? Могла сказать ей обо мне гадостей. – Ханна сделала паузу, ожидая реакции Эрке. Но та промолчала, поэтому Ханна продолжила:
– Поговори с Шекер по-своему, скажи, что мать умрет, если она себя так вести будет. Пусть она мать-отец слушается. Не та мать, что родила, а та, что воспитала. Скажи ей потихоньку, чтобы она не знала, что я тебя просила. У меня сердце болит, ночи спать не могу. – Ханна стала трясти халат в районе левой груди.
– Мама, ты только не нервничай, – заволновалась Эрке. – Ты таблетки сегодня принимала?
– А-а-а, – Ханна раздраженно махнула рукой, – мне что сейчас, до таблеток твоих? Мне сейчас проблемы надо решать, а не ерундой… – Ханна резко замолчала и приложила палец к губам, потому что за ними внезапно, как из ниоткуда, появился Гарик. Он стоял в белой майке прямо за Эрке и чесал живот.
– Доброе утро! – отчеканил Гарик. – Что тута за проблемы?
Ханна промолчала. Гарик вопросительно взглянул на Эрке. Он хотел быть в курсе всего, не пропустить ни одной, даже самой незначительной, новости. Но обе женщины знали, что ему ни за что нельзя доверять важных тайн, если только не хочешь, чтобы они стали достоянием всего города. Ханна поймала взгляд Эрке, а потом посмотрела на Гарика и засмеялась.
– Какие проблемы у меня, старой женщины? Пришла вот к дочери поговорить, потому что Натан ругался утром. – Ханна вздохнула.
– Да? – с интересом спросил Гарик. – А что такое, почему ругался?
– Цыган умер вчера, а мы ему не сказали. Закопали дети сами. А он узнал сегодня и ругал меня. Я сам, говорит, хотел его похоронить. Зачем вы, говорит, без меня такие вопросы решаете. Злой ушел, даже чай не допил!
– Правильно говорит! – Гарик достал сигарету из пачки. – Его собака, он сам хотел ее похоронить, а вы взяли и решили все за него тама.
Эрке знала, что матери неприятно присутствие Гарика и что та рассказала про Цыгана только для того, чтобы Гарик не искал в ее раннем визите других причин, и в который раз удивлялась и восхищалась ее дипломатическим способностям.
– Если бы он вчера узнал, он бы злой был весь день. Люди приходят к нему поздравлять, а он сидит злой. Какой был бы праздник? Лучше пусть сегодня злится.
Гарик зажег сигарету и затянулся.
– Я закурю, можно? – спросил он.
– Я кто такой, чтобы запрещать? – Ханна стала искать ногами скинутые тапочки. – Ну ладно, я пойду, не буду мешать.
Она встала.
– Мама, ты куда? – Эрке удерживала Ханну за руку.
Та помахала перед лицом, как бы изображая веер.
– Накурено, – сухо ответила она.
– Гарик! Ты зачем куришь при матери! Она же не выносит сигаретного дыма.
– А что, я спросил, она сказала – можно, – ответил Гарик, делая затяжку. – Сейчас потушу.
Он с усилием прижал тлеющий окурок к дну пепельницы и плюнул за изгородь в сад. Ханна сделала над собой усилие и улыбнулась. Эрке знала, что мать терпит Гарика только ради нее, чтобы не создавать дочери дополнительных проблем, и была ей за это очень благодарна.
– Эрке, где мои носки? – Гарик с хрюканьем втянул носом воздух. – И рубашка мне нужна, мне ехать надо! Неси давай быстрее и что-нибудь покушать мне тута сделай.
Эрке исчезла в доме, а Ханна пошла с тарелками снеди на летнюю кухню – отдельное кирпичное строение, изначально служившее гаражом. После того как во дворе появился навес из шифера, машины стали ставить на улице, а гараж переоборудовали под кухню: поставили плиту, кран, два больших стола, диван и телевизор. Именно здесь летом собирались женщины, и, взяв по шпильке, вынимали из белой черешни косточки и варили варенье. А зимой лепили пирожки и вели долгие, никогда не надоедающие разговоры.
– Чуй мисохи?[11] – Гарик вошел на кухню вслед за Ханной.
– Яичница какой делать? – спросила Ханна. – С помидорами или с картошка?
Гарик прищурил глаза, погладил густые черные усы, постоял несколько секунд в раздумьях, всматриваясь в лежащие на тарелке продукты, и только после этого ответил:
– С помидорами.
Ханна вздохнула с облегчением, когда он вышел из кухни, и принялась готовить и накрывать на стол. Она не любила Гарика и старалась по возможности избегать его присутствия. Перед ним она чувствовала скованность и не могла открыто говорить с Эрке. Если бы не людская молва, она никогда не выдала бы Эрке за него замуж. Ханна не хотела, чтобы люди сплетничали об их семье, и после развода Эрке с Симоном сделала все, чтобы у дочери как можно быстрее появился новый муж. Но выбирать не приходилось, мало кто из молодых мужчин согласился бы взять в жены разведенную женщину с ребенком. Ханне пришлось задействовать свои связи, чтобы найти дочери нового мужа.
2
Когда Ханна узнала, что у дальней родственницы, торговки коврами в Дербенте, есть неженатый сын подходящего возраста, она отправилась к ней. Преодолев сотни километров – машину вел Гаджи, опытный, проверенный водитель – на «Волге» с полным баком бензина и несколькими запасными канистрами, они очутились на пыльной проселочной дороге. Машина тряслась и подпрыгивала, лавируя между колдобинами, трещинами и засыпанными гравием глубокими ямами. Ехали трудно и медленно. Ханна то опускала окно машины, жадно глотая воздух, то закрывала его. Морщины забились пылью, а платок был уже мокрый от пота.
Справа и слева теснились глиняные хибары вперемешку с большими, из красного кирпича, помпезными домами за высокими заборами. Ореховые и тутовые деревья давали густую тень. Дети постарше забирались на деревья и трясли ветки, а маленькие ходили и собирали плоды в ведра. Сидящие на лавочках женщины провожали машину взглядом.
– Уже почти приехали! – Гаджи посмотрел на Ханну и сверкнул золотыми зубами. Он был из этих мест и говорил, кроме родного азербайджанского, на русском, даргинском и лезгинском языках. То и дело машина резко тормозила, он вылезал половиной туловища из окна, жал руки, обнимался и перебрасывался парой фраз со стоящими вдоль дороги мужчинами.
Доехав до перекрестка, Гаджи высунул голову из окна и стал осматриваться по сторонам в поисках нужного дома. Точного адреса у них не было – единственным ориентиром служила «зеленая калитка». Но зеленых калиток здесь было много, и Гаджи судорожно бегал глазами.
У дороги стояла женщина в черном платье и торговала персиками.
– Что ищешь, парень? – спросила она.
– Розы, дочери Руфата, где дом найти, не знаешь? – ответил Гаджи по-даргински.
– Знаю-знаю. Ковры торгует которая? Джуури? [12] – Женщина засмеялась. – Доедете до следующего перекрестка, там дорога будет асфальтированная, третий дом справа, зеленая такая калитка еще. Не местные? – Женщина внимательно посмотрела на Ханну. – Откуда?
– Пятигорск есть же. Оттуда, – ответил Гаджи по-русски.
– Пятигорск! Ой как далеко! Берите сочные персики. Дешево дам, если все возьмете! В Пятигорск таких персиков не найдете!
Ханна вышла из машины, взяла один персик из ведра, обтерла его о халат и надкусила.
– Почем даешь?
– По двадцать, если оба ведра возьмете.
Ханна вытащила тридцать рублей и отдала женщине.
– Оба за тридцать.
Женщина взяла деньги, подула на них, почитала молитву на родном языке и спрятала в бюстгальтер. Гаджи высыпал персики в багажник, отдал женщине ведра, и они поехали дальше.
После перекрестка действительно был асфальт, но, не проехав и десяти метров, пришлось остановиться. Дорога была перерыта, из земли торчали трубы. «Это не к добру», – подумала Ханна. Лежащие на обочине куски асфальта обрамляли яму и напоминали кружевной воротник вокруг шеи немолодой уже полной женщины. Гаджи вышел и принялся осматривать яму. Вернувшись в машину, он развел руками:
– Нам здесь не проехать. Лучше пешком идти. Дом уже видно – вон там. – Он показал куда-то вдаль. Там действительно виднелась зеленая калитка. Ханна вышла из машины.
Дойдя до дома, Ханна остановилась в нерешительности. Ветхий забор, как будто сделанный наспех из потрескавшихся и торчащих в разные стороны досок, едва скрывал старую глиняную хибару. Сквозь щели виднелись заросли крапивы, лопуха и амброзии. Ханна чихнула и направилась было обратно к машине, но тут калитка открылась и из нее вышла ярко нарумяненная девушка лет двадцати с густыми черными бровями и пирамидой обесцвеченных волос. На ней висел облепленный шелухой от семечек халат, из-под него сверкали черные лаковые лодочки на шпильке. Прикусив губу, девушка проковыляла несколько метров вдоль забора, а потом вернулась к калитке и лениво облокотилась о проем, всматриваясь куда-то в даль. И тут она заметила Ханну.
– Что хотели? – грубо спросила девушка.
Ханна была уверена, что девушка ей не поможет, но на всякий случай спросила:
– Роза где живет, не знаешь?
Девушка повернула голову в сторону двора и крикнула:
– Мама, тута к тебе!
– Ки оморэй? [13] – услышала Ханна надрывный женский голос.
– Женщина какая-то! Неместная!
Постояв еще минуту, Ханна услышала шарканье. Из калитки высунулась голова, а потом и туловище маленькой и полной, но как будто высохшей изнутри женщины. Она была похожа на помидор, долго пролежавший под палящим южным солнцем. Длинный крючковатый нос, хищный, цепкий взгляд, тонкие губы, два слоя висящей под подбородком кожи – ее внешний вид скорее отталкивал.
– Чу дыгъини ту? Джуури? [14]
Ханна кивнула. Ей было неприятно, что ее держат у ворот и даже не приглашают в дом. Она не привыкла к такому приему.
– Савиевых знаешь? – Ханна сделала непроницаемое лицо.
– Конечно, знаю! Все их знают. Очень хорошие люди, богатые. Они мне тоже не чужие, родственники же мы! Я тама когда бываю, всегда к ним хожу!
Ханна ухмыльнулась. Женщина внимательно на нее посмотрела и спросила:
– Нум ту чамай? [15]
– Ханна, духтер Борух[16].
Женщина раскрыла глаза, потом подняла руки кверху и бросила их на грудь.
– Вой эри мэ! [17] Горе мне, что я тебя не узнала! Хошомори! Хошомори! [18]
Роза затрясла стоящую рядом дочь за плечо:
– Тома! Ты не узнала Ханну, дочь Боруха? Как не знаешь? Это же наши родственники! – И, повернувшись к Ханне, запричитала: – Вот молодежь пошла, родства не помнят, себя не помнят, непонятно о чем думают!
Как будто опомнившись, освободила проход для Ханны:
– Диро, диро! [19]
– Я к тебе по делу. Мне сказали, что ты торгуешь коврами. Хотела два-три ковра купить.
– У меня как раз ковры хорошие тама есть. Чу хуб бисто ту омори! [20]Давай сначала чай, а ковры подождут, ничего с ними не станет. Подожди, сейчас дочь стол накроет. Тома!
Отдав распоряжения дочери, Роза пригласила Ханну сесть за стол во дворе. Над липкой от арбуза клеенкой резвились в хаотичном танце пчелы.
– Тома! Иди стол тута протри, да! – Роза повернулась к Ханне. – Пятеро детей у меня, эта последняя. А у тебя детей сколько?
– Семеро, четыре сына и три дочери, – с гордостью сказала Ханна.
– Все женаты?
– Только один сын не женат. И дочь младшая – была замужем, но я ее развела.
– Сыну сколько лет? – Лицо Розы загорелось.
– Двадцать три.
– А моей Томочке – девятнадцать! – женщина посмотрела на дочь, несущую на подносе чай, ореховое варенье и урбеч. – Ты не смотри, что она просто одета, мы гостей не ждали, а когда она прихорошится – писаная красавица, глаз не отвести! Ты на свадьбе у Хачой завтра будешь? Нет? А я Томочку поведу, платье такое ей купили! Все в золоте, в драгоценных камнях. Хаи раче! [21] – Роза закатила глаза, не находя слов, чтобы передать красоту платья. – И туфли итальянские есть же, достала ей, завтра тама, как лебедь, в них танцевать будет. Большей красавицы, чем моя Томочка, нигде не найдете, папамну! [22]
– Я сына пока женить не собираюсь, – сухо ответила Ханна. – Рано еще. Пусть на ноги встанет, потом женю.
– Жалко, – разочарованно произнесла Роза. – А дочь почему разведена?
– Не повезло ей, бывает же. Я их развела. Муж ее – предатель! – с ненавистью прошипела Ханна. – Все простить можно, любые налево-направо простить можно, а когда семью, самое святое, предают – это простить нельзя. Семья – это кулак. Если все пальцы вместе, все хорошо. А когда врозь – плохо.
Роза положила в стакан чая сахар и тщательно его перемешала.
– Да, – понимающе сказала Роза, – правильно сделала, что развела.
– Дочь у меня хорошая. Замуж только надо выдать. – Ханна вздохнула. – Я ей все сделаю, моя любимая дочь. Дом ей дам, мужа на работу устроим, деньгами поможем. В нашу семью кто попадает – никто не жалуется, всем только хорошее делаем.
Роза сосредоточенно слушала и не перебивала. Когда Ханна допила чай, Роза пригласила ее в дом. Первое, что бросилось в глаза, были дешевые ковры. Они висели на стенах и лежали на полу, заполняя все пространство. На румынской стенке толстым слоем лежала пыль. Роза подошла к витрине и достала из шкафа несколько фотографий.
– Раньше мы все – я, муж и пятеро детей – теснились в трех комнатах. А сейчас нам с Томой тута раздолье. Хорошо, если изредка сын приедет. Переночует одну ночь и уедет. Или в Буйнакск, – Роза махнула в сторону двери, – тама у него дружки, или в Ленинград. – Роза рукавом стерла с фотографии пыль и показала ее Ханне. – Вот он, мой Гарик.
Ханна всмотрелась. С фотографии на нее смотрел долговязый парень. От матери он унаследовал только длинный нос крючком.
– Худой что такой? Что, не кормят его? – Ханна засмеялась.
Роза закивала головой.
– Не ест ничего, бывает же. Большой вымахал, а головы на плечах так и не появилось.
Роза перебирала фотографии, пока не нашла нужной.
– Вот, смотри. Это – его дочь. Красивая девочка!
– Так он женат? – огорчилась Ханна.
– Нет, он никогда не был женат. Как уехал в Ленинград работать – он у меня таксист, – знаешь как разбирается в машинах, все улицы тама знает. Что думаешь, не связался по молодости с русской бабой?! Красивая, но что мне от ее красоты! Я ему говорю: «Тебе надо на еврейке жениться!» – а он все кивает. «Да-да, мама», – и все равно делает по-своему. И ребенок теперь страдает: мать – не еврейка, значит, и внучка моя тоже – не еврейка. – Женщина покачала головой. – Надо его отвязать от этой женщины, чтобы за ум взялся, работа ему хорошая нужна, жена. Такая, чтобы держала его в ежовых рукавицах.
Роза положила фотографии на шкаф и махнула рукой:
– Ну все, хватит о грустном! Давай, я лучше ковры покажу. Вот этот – отличный, настоящий текинский. Нигде таких больше нет, только у меня остались.
Ханна из вежливости погладила два ковра, спросила цену и, не торгуясь, купила их. Она знала, что ковры не стоят этих денег, но не хотела показаться скупой.
Когда они вышли из дома, увидели Тому: она стояла у калитки и с кем-то кокетничала, звонко смеясь и переминаясь с ноги на ногу.
– Тома! – строго сказала Роза. – Ты с кем тама разговариваешь?
– Мама, тута водитель Гаджи пришел, ждет тетю Ханну.
Роза позвала дочь. Когда та подошла, Роза шепотом ее отчитала:
– Ты чего это с ним кокетничаешь! Тебе что, мусульманин нужен? Иди тогда сразу паранджу надевай и в мечеть ходи. Если еще раз увижу, на ключ запру!
Тома покраснела, а Ханна позвала Гаджи и велела отнести ковры в машину.
– Сейчас поедем… – Она повернулась к Розе, чтобы попрощаться, но та исчезла в доме. Через несколько мгновений вернулась, держа в обеих руках фотографию. С нее на Ханну смотрел улыбающийся Гарик.
– Вот, возьми, покажи дочери своей. Как ее зовут? А у тебя ее фотографии, случайно, нет тута?
– Эрке мою дочь зовут, – твердым голосом сказала Ханна. Достав из кармана маленькую черно-белую фотографию дочери, она протянула ее Розе.
3
Эрке была последним ребенком Натана и Ханны. К моменту ее рождения Ханне было сорок лет, и сил на младшую дочь уже не хватало. К маленьким сыновьям, четырехлетнему Залмону и двухлетнему Сави, были приставлены няни, а Эрке отправили жить к кормилице. Когда потребность в грудном молоке отпала, она вернулась домой и кое-как выросла среди братьев. Они не особенно церемонились с младшей сестрой, били и таскали ее за волосы за малейшую провинность, а чтобы она не пожаловалась матери, задаривали леденцами.
Летом Ханна, взяв в охапку младших детей, уезжала в Махачкалу – там у семьи был дом. Каждый день ездили на море, а вечером братья усаживались в темном дворе и, потешаясь над маленькой впечатлительной девочкой, рассказывали страшилки про людоедов и потусторонние силы. Маленькая Эрке, наслушавшись таких историй, долго не могла уснуть, а просыпалась в мокрой постели. Так продолжалось несколько дней, пока Ханна не заметила и не приняла мер.
Изгонять испуг была приглашена старая, тощая, похожая на Бабу-ягу знахарка. Посадив девочку на стул, она долго ходила вокруг нее с тарелками, читая что-то себе под нос. Внезапно женщина с силой бросала тарелки на пол, они разбивались об асфальт и осколки разлетались по сторонам. Эрке похолодела от ужаса. Женщина продолжала, пока не разбила все до последней тарелки. Потом она взяла два стакана и кокнула в один из них яйцо. Переливая его из одного стакана в другой, она что-то нашептывала себе под нос, а потом потребовала от Эрке это выпить. В завершение женщина взяла веник и собрала осколки в пакет, которые вручила Эрке со словами: «Это твой страхы. Закапай в сад и нычево нэ бойся». Эрке закивала. Один вид старухи вызывал ужас, и она готова была сделать все, что та пожелает, лишь бы больше ее не видеть. Ночами Эрке спала очень тревожно, потому что боялась ненароком намочить простыню. В полудреме брела в туалет: не хотелось встречаться со старухой во второй раз.
Поскольку ее сестры были намного старше ее, росла она в основном среди мальчиков, отчего и сделалась почти что мальчиком. Она была в восторге, когда ей, тринадцатилетнему подростку, один из друзей старшего брата позволил покататься на мопеде. И когда ее пятка попала в колеса мопеда, она ни разу не заплакала, а стойко вынесла боль. Братья тайком повели ее к врачу, чтобы тот зашил ей пятку. Родители о том инциденте ничего не узнали, а братья зауважали младшую сестру и, когда у них появилась машина, они время от времени возили ее на безлюдную дорогу и позволяли ей сесть за руль.
Когда Эрке исполнилось пятнадцать, Ханна решила показать дочь. И действительно, было на что посмотреть: статная, с пышными формами, с длинными и черными, как смола, волосами, с огоньком в глазах. Ханна собрала гостей, и к ней весь вечер вереницей тянулись сваты, предлагая своего кандидата в женихи.
– Молоко и мед девочка! – сидящая рядом с Ханной женщина, ее родная тетя Мина, поднесла к губам собранные вместе подушечки пальцев и звонко их поцеловала. – Наша порода, савиевская.
Ханна закивала.
– Наша порода!
– Свое надо держать при себе, а не отдавать в чужие руки. Надо оставить Эрке в семье. Что даешь за девочку? – деловито спросила Мина.
– Дом даю, драгоценности даю, – Ханна задумалась на несколько мгновений, а потом продолжила: – Все, что полагается, – белье-мебель-одежда – все даю. Без этого как? Она у меня с хорошим приданым замуж выйдет! – с гордостью произнесла Ханна.
– Хубе-хубе[23]. Ты – хорошая мать, и я хорошая мать. Все мы хотим счастья своим детям. Ты помнишь моего Симона? – Мина показала куда-то в сторону. У Мины было восемь сыновей, очень похожих друг на друга. Ханна стала искать глазами, но Мина уже махала рукой кому-то. Вскоре перед ними вырос невысокий и смуглый молодой человек. Ханна воскликнула:
– Да, помню, как не помнить? Хороший парень у тебя!
Симон поцеловал Ханну, а через минуту Мина жестом отослала сына: «Ну все, иди, иди, нам надо пошушукаться».
– Хороший у меня мальчик – младший сын мой, – сказала она Ханна. – Двадцать шесть ему уже, жениться пора.
Ханна закивала: да, в двадцать шесть лет парню пора жениться.
– Не хочу кого попало брать. На своей хочу женить.
Всю следующую неделю Мина ежедневно приходила к Ханне вместе с Симоном и несла подарки: корзины с фруктами, духи, платки, вино, халву.
Эрке прислуживала за столом, накрывала на стол, разносила чай, но они ничего не ели и не пили. Симон так впивался взглядом в Эрке, что та краснела, у нее подкашивались ноги, и она торопилась уйти в дом, чтобы отдышаться и успокоиться. На исходе первой недели Ханна спросила дочь, нравится ли ей Симон. Получив утвердительный ответ, Ханна обсудила с Миной формальности. Обручить молодых решили в самое ближайшее время.
После обручения Симон регулярно – раз в месяц – приезжал из Махачкалы в Пятигорск повидать невесту. Его приезд всегда обставлялся с пышностью и торжественностью. Эрке наряжалась, приглашались люди, а стол ломился от яств. Казалось, для жениха эти приезды были пыткой, надо было в присутствии дюжины гостей вести непринужденную беседу с Эрке, а он не знал, о чем говорить с пятнадцатилетней девочкой, поэтому больше молчал. Натан однажды не выдержал:
– Сидит, молчит! Как рыба! Воды в рот набрал, что ли? – сказал он куда-то в сторону, но всем было понятно, что эти слова относились к Симону.
– Оставь его! – Ханна подошла к мужскому столу и бросилась на защиту родственника. – Стесняется он.
– А я почему не стеснялся, когда приходил к тебе? Я разве сидел, как молчун, все время?
Ханна засмеялась.
– Ты когда приходил, тебя нельзя было заставить молчать. Все говорил, говорил. Мать мне на ухо шепчет: «Пусть уже уходит, я спать хочу», а ты все сидишь и что-то говоришь, рассказываешь.
– А что папа тебе рассказывал? – оживился сидящий за столом старший сын Довид.
– Все рассказывал. Всю свою жизнь рассказывал. – Ханна обняла мужа за шею. – Как он сиротой остался, как от дяди ушел… все рассказывал. Не умею я сказать, как он. Он пусть лучше сам расскажет. Ханна пододвинула стул и села рядом с мужем.
– Нищий был! – начал свой рассказ Натан. – Когда родители мои умерли, мне десять лет было. Мы в Самарканде жили. Я без копейки денег, в лохмотьях, пришел к дяде. Говорю: некуда мне идти, можно, я у тебя, дядя, жить буду? Дядя мне отвечает: если работать будешь как следует, хлеб-соль для тебя найдем. Так я остался у дяди. У него своих детей – десять человек, на меня еды не хватало, объедками кормили. То, что собаке выкидывали, я ел. Работал как проклятый, в школу не ходил, три класса окончил, писать-читать умел – и хватит. Это сейчас все умники развелись, халам-балам устраивают, а дел от них не дождешься, а тогда не об этом думать надо было. Когда мне тринадцать исполнилось, дядя говорит: хватит, большой уже, иди сам деньги зарабатывай. Я пошел искать работу, там-сям копейку заработаю. Себе на хлеб зарабатывал, а больше не получается. Дядя на мне все зло вымещал, из дому выгонял. Я несколько раз на улице спал, тощий был, как вот этот палец. – При этих словах Натан поднял вверх мизинец и затряс рукой.
– Папа, ну давай ближе к делу, как ты с мамой познакомился? – шутливо потребовал Довид. – Как ее добился?
– Слушай, да не перебивай! – Натан взял бутылку водки и наполнил рюмку до краев. – Мне когда восемнадцать исполнилось, я на фронт пошел, до конца войны меня не было. Когда вернулся, дядя решил меня женить на какой-то родственнице. А я решил посмотреть издалека на нее, вдруг она мне не понравится! Пошел в сторону их дома. На полпути остановился, потому что там из калитки выходит расфуфыренная красотка. Она мне очень понравилась, такая вся из себя важная и надменная.
– Мама, это ты была? Ты? – с нетерпением спросил младший сын Сави.
Ханна улыбнулась и приложила палец к губам – не перебивай и слушай отца!
– Вот нетерпеливые у меня дети! – Натан погрозил пальцем Сави и продолжил:
– Я разузнал, что она богатая, подумал, что она даже не посмотрит на меня. Стал караулить дом, чтобы получше ее рассмотреть. Она выходила, модница такая, платье, туфли, сумка. Я влюбился! Но как быть, не знаю! Я гол как сокол, конфеты-духи купить не на что, пригласить в кафе не могу. Стал много работать, все, что можно было заработать, зарабатывал. Вагоны разгружал, на рынке торговал. Когда какие-то деньги появились, попросил жену дяди пойти к ним, разузнать, что и как. Она вернулась, бывает же, печальная вся. У нее жених, говорит, без вести пропавший. А она его все равно ждет, любит. Я сначала расстроился, а потом прямо к отцу ее – раби Боруху – пошел и все рассказал. Люблю, говорю, вашу дочь. Что мне делать, говорю. А он кричать начал: «Я свою единственную дочь за кого попало не дам! Ты кто такой вообще?» Я отвечаю: «Сирота я, у дяди воспитывался, но деньги на жизнь всегда заработать смогу». При этих словах он смягчился и говорит: «Приходи через неделю, там увидим». Я обнадежился и всю неделю пахал как проклятый, чтобы еще больше денег заработать. Я убить готов был, украсть, все что угодно, лишь бы красавица на меня посмотрела. Каждый день караулил у ее дома, а она выходит с подружками, а в мою сторону даже не смотрит.
– Мама, а ну-ка поцелуй папу! – перебил отца Борис. – Он такие вещи о тебе говорит! Какой у нас папа красавчик!
Ханна замахала руками, а Натан подставил щеку и потребовал: «Целуй давай!» Ханна обняла мужа за голову и поцеловала в щеку. Натан продолжил: – Прихожу к раби через неделю, а он мне говорит: «Это ты каждый день ее у ворот караулишь?» – «Да, – отвечаю, – очень хочу вашу дочь видеть, не могу ее не видеть». И тут он мне говорит: «Ты знаешь, что у нее жених пропал без вести? Уже два года вестей от него нет, а она его все ждет?» Знаю, отвечаю. Но я не могу, говорю, от нее отказаться. Тогда, говорит, иди и скажи ей это. Я разрешаю.
Я вышел счастливый, подарков накупил, духи, сладости, фрукты, цветы. Иду к тете, прошу еще раз пойти к ним, попросить разрешения мне прийти. На колени встал, она не хотела ни в какую, бывает же. Сказал я, что отец ее, раби Борух, разрешил нам встретиться. Она пошла, значит. Возвращается радостная: Шекер согласилась нас принять. Жара невыносимая на дворе, а я костюм новый надел, хотел хорошее впечатление произвести. Каков я был, а? Отвечай, жена!
Ханна засмеялась.
– Красавец был!
– А сейчас он что, не красавец? Сейчас еще больше красавец! – возразил Борис.
– Натан как вошел в дом, я сразу его узнала. Он меня неделями у ворот караулил. Но тогда он был в оборванных штанах, а тут пришел весь такой – я по-русски правильно сказать не умею – нафуфыренный. Нельзя было не влюбиться. А я как раз на днях один разговор подслушала. Мильке, мать Шамая, жениха моего, другой женщине говорит: «Когда Шамай вернется, я его на твоей дочери женю». Мне так обидно стало, что я его жду, а его на другой женить собираются. Так бы ни за что не согласилась встречаться с Натаном. Он был очень худой, одни кости торчали.
– Потом я стал работать много. Такая невеста – это вам не халва по рубль двадцать, много денег надо иметь, – продолжил Натан, – в кафе ее приглашаю, а она не хочет, чтобы я за нее платил. У меня, говорит, свой ридикюль, я сама за себя платить буду. – При этих словах сидящие за столом радостно засмеялись.
– Помнит все! Все помнит! Я думала, он уже забыл! – Ханна встала и еще раз поцеловала мужа. – Жалела тебя. Откуда у тебя деньги были на кафе?
– Нечего жалеть! Я мужчина и должен платить! Если нет денег, бог ум дал. У меня хватило ума заработать все это! Я всего сам добился, вот этими вот руками, – Натан поднял руки ладонями вверх, – все сам заработал! И детям моим, дай бог, не придется горбатиться, как мне тогда. Всех сыновей устроил в институты, образование дал, работой обеспечил. Дочерям приданое хорошее, Эрке тоже не обижу. – Натан посмотрел на Симона. – Все, что нужно, у вас будет: дом, машина, деньги. Работа тоже будет, если голова на плечах есть.
Натан поднял рюмку и все присутствующие тоже подняли свои рюмки.
– Давайте выпьем за отца! – вскочил Борис. – Не было бы отца, ничего бы не было. Не было бы нас!
– Эри, эри! [24] Отец у нас самый лучший, – подхватил Довид. – Золотой у нас отец.
– Не золотой, а платиновый! Нет, бриллиантовый! – возразил Борис.
– Бриллиантовый! Бриллиантовый! – подтвердили присутствующие.
– Ну хватит-хватит чепуху молоть. Поехали! Азохен вей, бедный еб-рррей! Зай гезунд!
4
Когда подошел день свадьбы, с Эрке случился женский недуг, делающий невозможной брачную ночь. Свадьба была пышной, гости желали молодым счастья и много детей. Эрке весь день не находила себе места. Что скажут люди, если Симон не вынесет платок, подтверждающий, что замуж она вышла невинной? Это будет позор! Она не знала, что делать, и, когда молодых стали провожать в их новый дом, отвела мать в сторону и расплакалась, рассказывая ей про свою беду: у нее месячные, а значит, не будет брачной ночи! И не будет платка! Ханна велела ей успокоиться и взять себя в руки, она все устроит.
Когда молодые вошли в спальню, вместе с ними вошла и мать Симона, Мина. Эрке разделась и легла в кровать, а Мина подержала белый платок между ногами молодой и вышла, вручив его сыну. Эрке легла на живот и обхватила подушку руками. Вдруг она вздрогнула: под подушкой был какой-то металлический предмет. Она достала ножницы и показала Симону.
– Что это? Зачем мне под подушку положили ножницы?
Симон хмыкнул.
– Ножницы кладут под подушку, чтобы у нас родился мальчик. Ты что, не знала?
– Не-ет, – удивленно ответила Эрке.
– Маленькая ты еще, глупенькая, – почти нежно сказал Симон. Затем он отвернулся и посмотрел в окно. На улице возле дома стояло несколько машин. Жестикулируя, словно в танце, мужчины громко разговаривали, смеялись и курили. Все ждали, когда Симон вынесет платок.
Эрке отвернулась к стенке: она стыдилась своего невежества. Молодожены не проронили больше ни слова, а когда в дверь постучались, Симон опомнился и вышел с измазанным кровью клочком белой ткани в руке.
– Маладээц! Красссавчик! – мужчины стали хлопать Симона по плечу и поздравлять. Откуда-то появились музыканты, и тихий двор заполнился танцующими лезгинку мужчинами. Они танцевали с трофеем и подбрасывали новоиспеченного мужа в воздух. Потом все уехали, и Эрке осталась одна. Она знала, что мужчины отправились к остальным гостям: танцевать с платком, который потом «выкупят» ее родственники как подтверждение того, что их дочь была чистой, когда пришла в новую семью.
Эрке и не подозревала, что одиночество станет ее спутником на все ближайшие годы. Она надеялась, что муж будет любить ее, а его скованность приписывала нежеланию выражать чувства на людях, необходимости соблюдения приличий. Но она и представить себе не могла, что так будет всегда. На следующий день после свадьбы муж уехал по делам в Махачкалу. Казалось, что жизнь раскололась на две части: до и после. Она вдруг стала замужней женщиной, хотя ничего в ней не изменилось. Она больше не могла оставаться ночевать в родительском доме, потому что родители неизменно отправляли ее домой со словами: «Твой дом там. Ну и что, что мужа нет. А если он вдруг внезапно вернется, а тебя нет дома, что он подумает?» Она ненавидела свой новый дом, эти предательски шуршащие обои, странные шумы за окном. Она включала свет во всех комнатах, чтобы не бояться, но по-прежнему вздрагивала от каждого шороха. Когда же Симон вернется? Может быть, он обиделся на нее за что-то?
Муж вернулся через две недели. Эрке очень обрадовалась и, не желая показывать, что боялась (она не маленькая!), стала расспрашивать его о делах.
– Успешно прошла поездка?
– Да, нормально все. Через неделю опять поеду.
– Как? – Эрке не смогла скрыть удивления и разочарования. – Как опять поедешь? А я? Я останусь одна?
– Ну да. Я же тебе не нянька, чтобы тебя развлекать. Если скучно, иди к родителям, а я должен работать.
Вскоре Эрке узнала, что муж жил с другой женщиной. Однажды она взяла пиджак мужа, чтобы почистить, и, словно в плохом романе, увидела во внутреннем кармане пиджака письмо, подписанное «твоя Н.». Оно было адресовано ее мужу! Когда она показала письмо Симону, он толкнул ее, отобрал письмо и велел не «совать нос не в свои дела». Эрке поделилась своей бедой с матерью, самым близким ей человеком, но та отослала ее обратно со словами: «Стерпится – слюбится. Все мужчины ходят налево».
Эрке поняла, что ей придется смириться с одиночеством, и даже начала находить в этом плюсы. Она все реже ходила к родителям и все чаще оставалась дома одна. Иногда ее навещали сестры. Когда через год после свадьбы Эрке так и не забеременела, Ханна заволновалась: может быть, дочь стоит повести к врачу?
– Нет, мама, – ответила Эрке, – все хорошо.
– Что – хорошо? – не понимала Ханна. – Уже год живете, а ты не беременна еще.
– Мы не живем… – Эрке запнулась. Она не хотела огорчать мать, но не видела другого выхода. – Мы еще ни разу не были вместе.
– Что? Как это? Почему? – Ханна не могла скрыть удивления.
– Симон редко бывает дома, а когда приезжает, всегда уставший и ложится в другой комнате.
Ханна неодобрительно покачала головой: «Ну и дела».
Эрке поняла по решительному тону матери, что она этого так не оставит. И действительно, Ханна сразу же позвонила своей тетке и попросила повлиять на сына. Когда через неделю Симон вернулся, он первым делом отругал Эрке:
– Зачем ты без умолку болтаешь о том, какой я плохой муж?
– Я не болтала! – пыталась защититься Эрке. – Мать спрашивала, почему у нас до сих пор нет ребенка. Я ей сказала правду.
– Нечего посторонних в наши дела впутывать!
– Я не впутываю. Мама – не посторонний.
– Ну тогда иди и живи со своей матерью!
Эрке молча ушла в спальню и стала собирать вещи. Через несколько минут в комнату вошел Симон и потребовал перестать заниматься ерундой, раздеться и лечь в кровать. Через девять месяцев у Эрке и Симона родилась дочь, которую назвали в честь матери Симона – Миной.
Но даже рождение дочери не могло спасти брак.
5
Когда Эрке вернулась с носками и с отглаженной рубашкой, стол был уже накрыт, а Гарик одной рукой переключал каналы на пульте, а в другой держал кусок хлеба и, обмакивая его в масло, ел яичницу прямо со сковороды.
– А где мама? – спросила Эрке.
– Тама, – Гарик резко вытянул шею в сторону калитки, отделяющей их двор от родительского. Эрке протянула Гарику носки и повесила рубашку на дверную ручку.
– Я скоро вернусь! – сказала она и быстро, чтобы Гарик не успел одуматься, направилась вслед за матерью.
Она догнала Ханну, когда та подходила к калитке.
– Гарик тебя напрягает? Извини, мама, не уходи. Он сейчас уйдет.
– Я не поэтому иду, – ответила Ханна. – Что-то собака лает, хочу посмотреть, кто пришел.
И действительно, Эрке услышала надрывный лай.
– Кини у? [25]Кто пришел? – спросила Ханна бегущую навстречу Митрофановну. За грудой столов и стульев, за высокими елями, растущими в центре двора, не было видно калитки. Подойдя чуть ближе, они увидели маленького Цыгана, который прыгал и извивался, словно воздушный шарик, а Мухтар рычал на него, лаял и бил лапой об решетку, пытаясь достать щенка.
– А насчет Гарика – горбатого только могила исправит, – продолжила Ханна прерванный разговор, – взрослого человека не изменить уже. Что поделать, доченька, судьба у тебя такая.
– Да… – Эрке посмотрела на мать с благодарностью.
– Митрофановна! Ты зачем собаку отпустила? – Ханна многозначительно посмотрела на Эрке и кивнула в сторону дома, что означало: «Иди пока поговори с Шекер, а я отвлеку Митрофановну, чтобы не мешала».
Эрке вошла в дом, села на стул и закрыла глаза. Перед ней все расплывалось. После яркого утреннего солнца темнота прихожей действовала ослепляюще. Но она и так знала обстановку наизусть. Небольшая прихожая была главным помещением в огромном двухэтажном доме родителей. Первое, что видели входящие в дом – портрет восточной красавицы: ясные черные глаза, ровный нос, румянец на щеках, белоснежные зубы и аккуратно уложенные волосы. Те, кто впервые видел этот портрет, были уверены, что на нем изображена не Ханна, а Эрке. Она была очень похожа на мать не только внешне, она чувствовала ее, как саму себя, и понимала потребности Ханны еще до того, как те были высказаны. Но как могло случиться, что мать так сильно изменилась и постарела настолько, что сейчас многие уже и представить себе не могли, что Ханна когда-то была красавицей?
Эрке знала, что мать давно несчастлива в браке. Жизнь с отцом была обязанностью, долгом, который она выполняла. Натан не скрывал, что Ханна не интересует его как женщина, и до нее то и дело доходили слухи о бесконечной череде любовниц мужа. Одной из них, она годилась ему во внучки, он подарил квартиру. Поначалу Ханна плакала и устраивала скандалы, но Натан грубо пресекал ее причитания. Не опровергая и не подтверждая слухов о любовницах, он бросал ей: «Это не твоего ума дела!» – и переставал с ней разговаривать, переставал давать деньги на расходы.
Ханна поначалу хотела уйти от мужа, но дети воспротивились и уговорили остаться, не делать глупостей и забыть. Ханна покорилась, но с тех пор вообще перестала следить за собой, оплыла, сбросила туфли и навсегда переобулась в старые тапочки. Все платья стали ей малы, а новых она не заказывала. Ее постоянной одеждой был халат, а из-под косынки выбивались седые кудри, которые она не считала нужным закрашивать.
Когда Эрке только пошла в школу, Ханна стала бабушкой: у старшего сына, Довида, родилась дочь. Забрав Шекер к себе на воспитание, Ханна опять стала «молодой матерью». Правда, на ее внешности это никак не отразилось.
Раз в неделю Эрке купала Ханну: поставив в ванную табурет, намыливала ее тело мочалкой. «Хор-хор», – просила Ханна, еще потри. Тело Ханны чесалось и зудело, и Эрке со всей самоотдачей пыталась сделать матери приятное. Но она не могла заменить ей любящего мужа. Эрке пыталась уговорить мать одеваться лучше, несколько раз приносила ей сделанные на заказ просторные туфли 42-го размера и красивые, но неброские бархатные, шерстяные и ситцевые платья. Ханна, казалось, была рада этим подаркам. Но убрав их в дальнюю комнату, она больше никогда к ним не прикасалась. Однажды Эрке провела в доме родителей генеральную уборку и увидела, что платья съедены молью, а обувь сжалась и потускнела от сырости. Больше Эрке не делала попыток сделать маму красивой.
Справа от входа был мужской стол, за которым каждый вечер ужинал и принимал гостей отец. Сейчас на нем стоял термос и недопитый отцом чай. Слева от входа был низкий – чтобы не мешать мужчинам смотреть телевизор – женский стол. Кровать отца стояла здесь же, в прихожей, и заслоняла собой запертую на замок дверь на второй этаж. Из двенадцати комнат в доме использовались только три, остальные были заперты и пустовали. На второй этаж ходить строго-настрого запрещалось, но иногда матери требовалось взять что-нибудь оттуда и она отправляла Эрке, потому что самой подняться ей было не под силу. В шести шикарных комнатах все было покрыто пылью, будто законсервирована роскошная жизнь, которой могли бы наслаждаться Ханна и Натан, если бы захотели. Лепнина на потолках, мебель из красного дерева, дорогие кинжалы и ковры ручной работы, все в золоте, серебре. В сервантах – коллекционный импортный коньяк и дорогие вина. В ванной – дорогая сантехника. Это был совсем другой мир, не тот, в котором родители привыкли жить. Они никогда не пользовались этой роскошью, а предпочитали довольствоваться малым.
Эрке пересекла прихожую и прошла по коридору. В маленьком закутке под лестницей, между кухней и туалетом, стояла кровать матери – прямо у входа в большой зал, где проводились зимние праздники.
– Дорогие женщины! – поднимал бокал сидящий во главе длинного прямоугольного стола Натан. – Вам огромный спасибо, что вы поздравили нас, мужчин, в честь наш праздник Красной армии и морского флота. Накануне будет ваша праздник. Мы в тройном размере вас поздравим. Сегодняшний вечер вы огромный дело сделали для нас. Поздравили нас, веселите нас. Вот большая Галя, маленькая Галя, Рая, Зоя, Эрке. Танцуют, нас приглашают на танцы. Это прелесть… это сверхпрелесть!
– Небывалая, – вставил слово Борис.
– Небывалая прелесть, – подтвердил Натан. – Спасибо вам!
– Папа этим тостом сказал, что то, что стол накрыли женщины – это прекрасно. Но папа говорит, что мы на Восьмое марта сами будем стоять у плиты, сами будем готовить обеды и сами будем накрывать столы! – добавил Борис.
– И сами будем кушать, – вставил слово Гарик.
– Наши внуки, дети! Дай бог им здоровья, чтобы мы видели их определены, или, как по-русски, я не могу сказать. Чтобы мы их определили, чтобы они жили, здравствовали, по стопам – как мы вели себя, так чтобы и они по стопам нашим вели себя. У нас в семье курящих нет, пьющих нет, любящих… Любить – это надо, без любви нельзя жить. Правильно я говорю? – Натан посмотрел на присутствующих. Все закивали: «Да, правильно!» – Вот. А в остальном плохой поведений у моей семьи, у моей породы нет. У меня пятьдесят-шестьдесят человек в семье и все они хороший семьянины, мои дети. Дай бог, чтобы они шли по такой традиций, по такой путь и жили-здравствовали.
Едва Натан произнес эти слова, как комнату наполнила музыка. Кто-то включил магнитофон, и дети хором запели:
Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом! Как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, – Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим.6
Эрке на цыпочках пересекла зал и подошла к комнате Шекер, которая примыкала к нему с другой стороны. Дверь была приоткрыта, но не было слышно никакого движения. Очевидно, Шекер еще спит. Эрке заглянула в щелку: Шекер лежала на кровати с открытыми глазами и смотрела в потолок, по ее щекам текли слезы. Когда Эрке открыла дверь, девочка вздрогнула.
– Ну что, соня, спишь еще? – Эрке села на краешек кровати. – Мама не хотела, чтобы ты знала, но это она попросила меня с тобой поговорить. Ты не представляешь себе, как она за тебя переживает! Пришла утром рано, всю ночь не спала, на ней лица нет. Круги черные под глазами. А ты знаешь, что ей нельзя нервничать?
– Да… – прошептала Шекер.
– Тогда почему расстраиваешь? Если ты не любишь нашу маму, то это не значит, что ты можешь ее обижать. Я! Я, – Эрке энергично ударила кулаком в грудь, – я ее люблю и не хочу, чтобы ты доводила ее до инфаркта! У нас мама одна, а не две и не три. Родителей надо любить и почитать. Нельзя расстраивать мать. Она у нас одна. Мать – самое дорогое, что у нас есть. Если ее не будет, тебе будет легче? Ты же знаешь, что у нее уже был микроинсульт, ты хочешь, чтобы был еще один?
Шекер замотала головой. Она никак не ожидала услышать таких слов от Эрке, единственного человека, которому доверяла. Эрке хоть и приходилась ей тетей, но разница в возрасте между ними составляла всего семь лет, и Шекер было легче относиться к ней как к сестре, чем как к тете, в отличие от старших теток – Раи и Зои. Но на этот раз Эрке говорила с ней как с чужой. Шекер затряслась от рыданий.
– Ты думаешь, я не замечаю, а я все замечаю. И мама замечает. Мама все замечает! Еще до того, как ты скажешь слово, мы уже знаем, что ты скажешь. – Эрке сделала паузу. Из глаз Шекер ручьем текли слезы. – Ну все, все. Перестань плакать, вытри лицо.
Шекер потерла лицо рукавом ночной рубашки, но ее тело продолжало трястись.
– Ну все, все, не плачь. Никто же не умер? Что за трагедия? Что с тобой случилось? Что с тобой происходит?
– Я… хочу… к маме… – тихо, еле слышно, сказала Шекер. Было видно, что ей трудно достались эти слова.
– К маме? – переспросила Эрке. – Мама во дворе, вставай и иди к маме, что за проблема?
– Нет, – прошептала Шекер слабым голосом. – Я хочу… к… маме.
Эрке сжала губы и побледнела. Ее лицо стало непроницаемым.
– Ах, вот оно что… – Эрке встала и подошла к окну. – Я от тебя такого не ожидала. Что угодно ожидала, но такого – никогда. – Сделав паузу, она продолжила: – Это Зинка тебя подговорила, да? Это Зинка тебя настроила против мамы? Или это Рая? Кто тебя настроил против мамы, говори!
– Нет, нет, меня никто не настраивал! Я сама! Сама!
– Понятно… Ты ведешь себя как предатель! Ты – вор и предатель! Ты украла у нас маму, а теперь ее предаешь! Но даже у самого худшего вора и предателя есть совесть, а у тебя совести нет! Как можно так поступать, как ты поступаешь?! Ты что думаешь, у Зинки прямо рай тебе будет? Что она прибежит, заберет тебя, и все будет прекрасно? Ну что ж, иди… к маме, – при этих словах Эрке сморщилась, – как ты ее называешь. Никто тебя не держит! Но учти, обратно тебя никто не возьмет. А если ты думаешь, что Зинка будет тебе рада, ты очень, очень глубоко заблуждаешься! – Эрке не заметила, как перешла на крик. Только увидев испуганное и потерянное лицо Шекер, она понизила голос. – Ты знаешь, что Зинка, мать твоя так называемая, на самом деле не любит тебя? Она не любит никого, кроме себя! Ты знаешь, что она расстроилась, когда ты родилась, потому что не хотела дочь, а хотела сына? Она даже не притронулась к тебе ни разу, не кормила тебя. Это потом уже, когда мать приехала и увидела, что ты худая как скелет, она испугалась и забрала тебя к себе. Она не хотела, чтобы ты там умирала с голоду.
Глаза Шекер расширились, было видно, что она потрясена. Эрке продолжила:
– Наша мама – самый добрый, самый лучший человек на свете. Ты думаешь, ей надо было возиться с еще одним ребенком после того, как она семерых воспитала? Ей на меня уже сил не хватало, а она тебя взяла! Она не из эгоизма тебя забрала от Зинки, а от жалости к тебе, от доброты. И отца уговорила, он не хотел еще одного ребенка, который плачет по ночам. Выкормила тебя, наняла кормилицу, которая дома жила у нас. Для меня она этого не сделала – я жила два года у кормилицы, – а для тебя сделала! Ты не знала? Зато я знала! Скольких сил маме стоило тебя вырастить! О нас, своих детях, она не заботилась так, как о тебе. Она тебя как драгоценность берегла, никому не разрешала на тебя голоса повышать, никогда нам не было столько заботы и внимания, сколько тебе, спроси кого хочешь, спроси Раю, Зою спроси, Сави, Борю спроси. – Эрке вздохнула. Было видно, что ей не легко давались эти слова. Ее голос стал хриплым. – А Зинка очень злая и с детьми своими обращается жестоко. Нарядит дочь в дорогие шмотки, на люди выводит, а дома бьет ее, кричит на нее. За каждую мелочь ее избивает. А на людях улыбаться заставляет. Я сама видела, как она это делает! Это на людях она добрая, а в душе она очень жестокая. Более жестокого человека я не видела. И ты должна благодарить бога, что тебе досталась такая мать, как Ханна. – Эрке сложила ладони, словно в молитве. – И если ты такая неблагодарная, хочешь уйти… Ну что ж, иди, скатертью дорожка! Никто тебя не держит! Но мама не вынесет, если ты возьмешь и уйдешь. Но тебе-то что! Тебе наплевать на маму, тебе на всех наплевать!
– Мне не наплевать! – Шекер замотала головой. – Просто мне иногда кажется, что мама меня не любит.
– С чего ты взяла, что мама тебя не любит? Мама любит тебя, ты носишь имя ее матери, Шекер! Ты думаешь, это просто так? Это не просто так, это большая честь – носить имя бабушки. Мама тебя больше всех детей любит! И не делает разницы, она тебя родила или не она. Наоборот, она тебя любит больше остальных детей, потому что ты дочь ее любимого сына, дочь Довида!
– Но почему… почему тогда она такая строгая со мной?
– Что? С тобой строгая? – Эрке театрально засмеялась. – Это со мной она была строгая, а с тобой она совсем не строгая, уж поверь мне! И то я не жалуюсь. Хотя раньше и мне казалось, что мама слишком строгая. Сейчас понимаю, что она во всем была права. Во всем она была права!
Эрке подошла к окну. По саду бегал, виляя хвостом, маленький Цыган. Остановившись у куста малины, он пытался поймать лапой бабочку. Подул ветер, и с яблони посыпались зрелые плоды. Эрке повернулась к Шекер и, увидев, что та больше не плачет, а внимательно слушает, продолжила:
– Я раньше думала, что мама слишком строга ко мне, что она несправедлива ко мне. Мне даже казалось, что она меня не любит. Когда Симон натворил делов на заводе – Довид тогда был министром торговли Карачаево-Черкесии и устроил его ради мамы директором завода, он, когда пришла проверка на завод, подставил и себя, и Довида, рассказав то, что не надо было рассказывать. Я все, говорит, делал по указанию Довида. Вот их обоих и посадили, и Довида, и Симона. Родители были в ярости. Я плакала, потому что мама не пускала меня к мужу в тюрьму. Забеременеешь, говорит, не дай бог. Она уже тогда поняла, что за человек Симон, и решила нас развести. Дом наш продали, а я переехала к родителям жить. Я его еще любила, надеялась, что он исправится, когда выйдет из тюрьмы, что жизнь его научит, что он перестанет изменять мне, станет другим. Но мать с отцом даже слушать об этом не хотели. Возненавидели они его тогда всей душой. Зачем, говорят, этот выродок сына нашего под срок подвел? Предателем его называли, трусом. Ни о нем, ни о Мине, дочери нашей, слышать не хотели. Ей годик тогда был. Девочка, говорят, копия Симон. Отец, помню, шипел на нее, кричал на меня, если она плакала. Уходи, говорит, куда хочешь и убери дочь этого урода с моих глаз. Никаких грубых слов они не жалели ни для него, ни для Мины моей. Знаешь, как я тогда страдала, сухого места не было вокруг, все промокло от слез. Мать однажды подошла ко мне – я тогда Мину грудью кормила – и говорит: «Пора от груди отлучать девочку». «Почему?» – спрашиваю я. «Через неделю Боря поедет в Новороссийск, отвезет ее в детский санаторий для туберкулезников. Я договорилась с нянькой, она будет за ней присматривать, подержит ее там, сколько надо. Я ей денег отправлю. Пусть там поживет, пока все не наладится. Ты же видишь, как отец злится!» Я тогда ничего не ответила, знала, что мамино слово – закон, что у меня заберут ребенка, хочу я этого или нет. У меня сердце разрывалось от мысли, что этот комочек, – Эрке сложила руки, как бы укачивая ребенка, – будет жить далеко, в каком-то санатории, под присмотром няньки. Я так переживала и плакала, что молоко, которое я Мине давала, стало соленым совсем. Она морщилась и не ела, а от голода еще больше кричала. Отец меня с ней на улицу выгонял, мать тогда как меж двух огней была, боялась, что отец ребенку что-то плохое сделает. А через два дня молоко у меня совсем исчезло, даже грудь перевязывать не понадобилось. Забрали у меня тогда Мину, и как будто не было никогда ребенка. Так тихо стало дома, спокойно, как на кладбище. Я заболела тогда сильно, но маме ничего не сказали. Еле выкарабкалась. Врач сказал, что если бы еще немного, не было бы меня. Мать с отцом бросили все свои связи на то, чтобы Довида и Симона освободили раньше. Им дали по восемь лет, а освободили через два года. Симон, как освободился, пришел за мной, но мать с отцом его на порог не пустили, потребовали развода. Он не хотел, но они пригрозили ему новым сроком, и он согласился. Потом мать нашла Гарика и выдала меня за него замуж. Я сначала не хотела, не понравился он мне совсем, а потом согласилась. Мама меня уговорила, она мудрая очень, наша мать, и все сделала правильно. Она знала, что если я сразу замуж не выйду, навсегда без мужа останусь. Люди начнут судачить, а потом и семью уважать перестанут. Пожили мы с Гариком год, я за это время несколько раз к родителям вернуться хотела, так он мне был противен! А мать меня все время назад отправляла. Стерпится, говорит, слюбится. До сих пор помню ее слова: «Разведенная дочь – позор, а разведенная дважды – позор вдвойне». А потом у нас с Гариком сын родился, я счастлива была и поняла, что мать права была во всем! И тогда мать отправила кого-то в Новороссийск за Миной. Она приехала, не признает никого, плачет. Ей пять лет уже было, она меня не помнила, никого не помнила. Плакала, к маме просилась. Думала, что Таисия Федоровна – няня, ее мама! Но теперь, как видишь, все хорошо. А если бы мама меня тогда с Симоном не развела и за Гарика не выдала, что было бы? Ничего хорошего не было бы, это я точно знаю! Наша мама – мудрейший человек на свете. И ты не представляешь себе, как я была счастлива, когда мама захотела, чтобы Мина называла ее «мамой», а меня – «сестричкой Эрке»! Это огромная честь для меня, а не горе. И если мать скажет: пусть Мина живет у меня постоянно, я сразу соглашусь. И если она скажет: роди ребенка и отдай мне на воспитание, я так и сделаю. Нет большей чести для меня, чем быть дочерью моей матери. И ты до сих пор считаешь, что мама тебя не любит, даже несмотря на то что она выделяет тебя из тридцати внуков, дала тебе имя своей матери? Ты до сих пор так считаешь?
– Нет… – Шекер замотала головой. – Я не знала… Я больше не буду…
За дверями послышался шум. Эрке обняла Шекер и сказала:
– Ну вот и хорошо, тогда вставай, одевайся и иди поиграй на пианино.
Эрке вышла из комнаты. Дойдя до кухни, она остановилась. За столом стояла Ханна и срезала гниль с помидоров. Увидев Эрке, она вытянула шею и закачала головой вниз-вверх, как бы спрашивая: «Поговорила? Что? Как?» Эрке сделала рукой круговое движение, имитирующее глаженье ребенка по голове, и шепотом сказала:
– Все хорошо.
В кухню вошла Шекер. Несмотря на опухшие глаза, лицо ее было спокойным.
– Выспалась? – спросила Ханна.
– Да, – Шекер улыбнулась.
Ханна подмигнула Эрке.
– Ты не видела нигде сумку коричневую? Я от отца прятала, не найду теперь.
Шекер знала, что Ханна всегда прятала от Натана запасы – сэкономленные деньги и драгоценности для личных нужд, и то, что часто она забывала свои тайники. Однажды она послала водителя на рынок и дала ему сумку, в кармане которой была большая сумма. К счастью, водитель оказался порядочным и вернул ей деньги. С тех пор она предпочитала делать тайники вместе с Шекер.
– Мама, не эта сумка? – Шекер достала из-под узкой щели под кроватью Ханны старый, пропахший сыростью кожаный ридикюль и протянула его Ханне.
– Эта, эта! Сох боши, духтерлейме! [26] – Ханна открыла сумку и вывалила содержимое на стол. Чего там только не было: бриллианты, золотые цепи, кулоны, браслеты, часы с разноцветными камнями. Из горки с драгоценностями Ханна выудила массивные серьги: огромные, размером с фасолину, изумруды в обрамлении дюжины горошин-бриллиантов. Словно генералы в окружении солдат, они искрились и сверкали, заигрывая с солнцем. Ханна несколько раз подбросила серьги, будто взвешивая, а потом протянула их Шекер.
– Хочешь такие серьги?
Шекер замялась, но в глазах вспыхнул огонек. Эрке взяла из рук матери серьги и поднесла их к ушам Шекер.
– Ты только посмотри, эти серьги как будто сделаны для тебя! – Эрке взяла Шекер за руку, подвела к зеркалу и еще раз приложила серьги.
– Изумруд – это твой камень! Очень хорошо сочетается с твоими волосами. Зеленый и каштановый, лучше не бывает! – И шепотом, на ухо, добавила: – Мать редко кому такие серьги дарит, бери, пока не передумала.
Шекер кивнула. Эрке осторожно вдела серьги в уши Шекер.
– Чуй раче духтер! [27] Копия – моя мама. – Ханна поцеловала девочку. – Нравится?
– Очень! Спасибо, мама! – ответила Шекер.
– Мой младший доченька! – Ханна еще раз поцеловала девочку.
7
Неприятное чувство тяготило Эрке, когда она вышла от матери. Проблема решена, мать довольна, Шекер вновь стала любимой младшей дочерью, и все это благодаря ей, Эрке. Это она убедила Шекер смириться с обстоятельствами, полюбить маму. Но почему же теперь ей так плохо? Эрке пошла по направлению к своему дому, но перед калиткой остановилась. Прямо на дорожке лежала кучка. Эрке позвала: «Цыган!», но на ее зов никто не откликнулся, поэтому она пошла искать щенка в сад.
Мама редко называет ее духтерлейме[28], хотя это она, а не Шекер – младшая дочь. Мать никогда не дарит ей таких дорогих серег. Если их продать, хватит на две машины. Зачем девочке такие дорогие серьги? Она их может потерять, их могут украсть! Да еще и перед зеркалом теперь будет крутиться часами. Пустышка! Мама назвала ее раче духтер[29], сказала, что она похожа на бабушку Шекер. Ничего она не похожа на бабушку, она на свою мать похожа, больше ни на кого! А то, что она, Эрке, как две капли воды похожа на мать, никого никогда не интересовало, ее никогда не называли красавицей. Все-таки противная она, эта Шекер, все время прибедняется. Бедная родственница, все ей должны, а она ничего никому не должна. Нашлась мне, обиженная. На обиженных воду носят, нечего с ней церемониться. На месте мамы следовало бы указать ей место. Разбаловала ее совсем.
Эрке нашла Цыгана, когда тот облаивал дерево, на которое вскарабкалась взъерошенная кошка. Эрке схватила щенка за холку и потащила к дорожке. Уткнув его носом в кучку, она несколько раз шлепнула по боку:
– Это ты зачем делаешь? Это ты сам есть будешь?
Пес жалобно заскулил, ей пришлось отпустить его. Отряхнув руки, она пошла за веником и совком.
Надо выдать Шекер замуж поскорее. Почему мать считает, что рано? Столько хороших женихов приходит, а она всем отказывает. Говорит, я до 18 лет девочку не отдаю. Меня же выдали в 15 лет, а ее почему нельзя? Чем она лучше? Нашлась мне, неженка. Я бы уже давно выдала замуж и избавилась от этой обузы. Она только кровь материну сосет, а толку от нее никакого. Даже на пианино играть не может. Говорю ей, играй громче, чтобы всем было слышно. А она мне – мол, громче нельзя. Плохому танцору – пол кривой. Если громче нельзя, зачем вообще играть на пианино? Зачем ей преподавателей наняли, деньги им платят? Все на ветер, все мамины деньги – на ветер. С Миной я так церемониться не буду, выдам замуж рано. Строго с ней надо, взяла манеру спорить со мной. Думает, если мать ее защищает, она может себе позволить мне перечить. Надо ее приструнить, пока совсем не выбилась из рук.
Эрке поставила совок с веником на место, налила полное ведро воды и стала тщательно отмывать дорожку.
– А Миша мне опять палку в ухо совал, когда я спала. – Мина появилась неожиданно и испугала Эрке, отчего та вздрогнула. В одной руке девочка держала горстку тыквенных семечек, а другой бросала их в рот и, хрустя, ела прямо с кожурой. – Мне было больно! – Мина повернулась к матери боком, чтобы та увидела царапину в ухе. – Вот!
– Тебе кто разрешал тыквенные семечки брать?
– Они лежали на столе. Я думала, можно… – ответила Мина.
– Ах, ты думала! Ты, я тут посмотрю, слишком много думаешь, да все что-то не то и не так, как надо. Тебе сколько раз уже говорили – пока не спросишь, ничего не трогай!
– А Миша взял, я думала, можно, – пыталась оправдаться девочка.
– Миша маленький! Ему три года всего, ему можно! А ты – дылда уже, а простых вещей не понимаешь! Кюду! [30] Устала я от тебя, от этих твоих «Миша это, Миша то». Постоянно жалуешься, постоянно чем-то недовольна! Миша ей мешает. Убей его тогда, зарежь. – Эрке вся пылала от гнева и не заметила, как перешла на крик. Из дому выбежала Ханна.
– Что случилось?
– Миша ей мешает жить, видите ли, жаловаться пришла!
Ханна покачала головой и снисходительно посмотрела на Мину.
– Мина, духтерлейме, зачем ты Мишу обижаешь?
– Это не я его обижаю, а он меня! – пыталась оправдаться Мина.
– Он же маленький, а ты уже большая! Вы должны быть дружными! – возразила Ханна. – Вы же брат и сестра.
– Он каждый день у меня палкой в ухе ковыряет!
– Он же мальчик! – привела решающий довод Ханна. – На него нельзя обижаться! Ты должна его любить, он твой брат. Ты должна о нем заботиться, а не обижать. Ты не будешь больше его обижать?
Мина не нашла, что возразить бабушке, и отрицательно покачала головой.
– Ну все, поцелуй меня и сходи за булочками в магазин. Пять булочек купи, вот, возьми деньги.
Мина поцеловала бабушку, взяла из ее рук купюру и убежала.
– Хороший девочка Мина, сладкий, – Ханна засмеялась. – Дочь мой младший!
– Хорошая-то хорошая, но только слишком много на себя берет! – возразила Эрке. Она хотела воспитывать дочь в строгости, но Ханна сводила на нет все ее усилия, в открытую защищая и балуя.
Ханна чувствовала свою ответственность перед Миной. Ведь это она отправила внучку в далекий Новороссийск, опасаясь гнева Натана. Она хотела обезопасить внучку и навсегда разорвать связь своей дочери с Симоном, выдав Эрке замуж повторно. Это было бы сложно, если бы у Эрке была маленькая Мина на руках. А вот через пару лет, когда у них с Гариком будет общий ребенок, Мина сможет вернуться домой. Так она планировала.
Ханна, однако, не ожидала, что при виде маленькой худышки с торчащими во все стороны непослушными жесткими волосами, грустными глазами и впалыми щеками ее сердце так сожмется от жалости. Она полюбила внучку всей душой и мечтала о том, чтобы и Мина любила ее больше всех. Но добиться взаимности удалось не сразу. Мина не хотела оставаться на ночь у бабушки. Та громко храпела, и Мине было страшно. Однажды Мина прибежала от бабушки вся взлохмаченная. Эрке пошла к матери. Ханна была в скверном расположении духа, не разговаривала, а шипела сквозь зубы. По ее виду Эрке поняла, что что-то не так, и, возможно, это она, Эрке, сделала что-то плохое. На ее вопросы мать не отвечала. Хоть такое бывало не раз, Эрке всегда испытывала мучения, когда Ханна ее игнорировала. Когда мать обижалась, ни одна складка на ее лице не двигалась, оно становилось восковым и неподвижным, ледяным и колючим. Причина недовольства выяснилась быстро. Виновницей была Мина. Она нагрубила бабушке, и та отказалась приходить к Эрке. «Это ты ее настраиваешь против меня!» – прошипела сквозь зубы Ханна. Эрке послала за девочкой. Когда Мина пришла, ей устроили допрос:
– Ты что сказала маме?
Девочка опустила голову и нахмурилась.
– Я тебя спрашиваю – что ты сказала маме? – Эрке толкнула Мину в плечо.
– Я сказала, что она – Баба-яга, – еле слышно шепнула Мина.
После этих слов Эрке грубо схватила Мину и стала бить большой и крепкой ладонью по спине, лицу, голове, приговаривая:
– Будешь знать, как говорить маме гадости!
– Хватит, хватит! Не надо! – сказала Ханна.
Но Эрке уже было не остановить. Она била и била девочку, ее лицо и руки стали алыми, а Мина захлебывалась от слез.
– Проси прощения у мамы! – потребовала Эрке.
Мина встала на колени и сложила руки в молитве.
– Мама, прости меня пожалуйста, я больше никогда так не буду!
– Ладно, ладно, – Ханна пыталась улыбнуться.
– Иди умойся! – строго произнесла Эрке.
Мина встала и направилась к выходу.
– Умойся и сиди в своей комнате. Без моего разрешения чтобы не выходила, тебе понятно?
– Да, – еле слышно произнесла девочка.
Когда она ушла, Ханна сказала:
– Зачем поругала? Я же об этом не просила!
– Ты не просила! Это мне, мне не нравится, что она слишком много на себя берет. Грубит старшим, плохо себя ведет. Научилась непонятно чему непонятно где. Это все гены плохие, отцовские. Здесь ничего не поделаешь, приходится воспитывать.
– Да, это все гены, – согласилась Ханна.
8
Когда женщины дошли до летней террасы, Гарика уже не было дома.
– А что, Симон не объявлялся больше? – спросила Ханна.
– Приезжал, через Натена спрашивал, может ли он повидаться с дочерью. Я сказала, что нет. Как он еще не побоялся приехать! И это после того, как Гарик его месяц назад, когда он к нам сюда заявился, с топором в руках выгнал. Зарезать хотел.
– Нехорошо это, – Ханна покачала головой. – Отец же все-таки, мой брат двоюродный. Нехорошо. Мне тете в глаза стыдно посмотреть теперь. Я и так с ней уже восемь лет не разговариваю, хотела помириться, фрукты посылала, а она все отсылает, не хочет меня знать. Вы, говорит, моего сына уничтожили, раздавили. Единственная моя тетя, мамина сестра, после матери самый близкий для меня человек. Я помириться с ней хочу. Не выгоняй Симона в следующий раз, когда придет. А я скажу Натену, чтобы ему передали, что можно прийти дочь повидать. Отец все-таки родной, не чужой. Родственник наш близкий. Отца надо уважать, я своего отца любила, несмотря ни на что!
– Мама… – хотела возразить Эрке, но не успела, потому что на веранду вбежала Мина. Обеими руками она держала целлофановый пакет с улыбающейся ватными зубами женщиной.
Ханна засмеялась и заглянула в пакет: он был доверху заполнен булочками и рогаликами.
– Зачем так много? – Эрке строго посмотрела на дочь.
– Я на все деньги купила, что мне мама Ханна дала. – Мина еще не отдышалась после пробежки и говорила, быстро вдыхая и выдыхая воздух, от чего ее монолог был похож на вещание забарахлившего радиоприемника. – Я думала, надо на все купить. На меня все в очереди так наругались, потому что я последние булки забрала. А я все равно взяла. Думала, нужно на все брать.
Эрке покраснела от ярости, собираясь поругать Мину, но Ханна махнула рукой, призывая внимание Эрке, и ударила себя по губам, как бы прося дочь ничего не говорить.
– Мы же пойдем с Миной цыплят кормить. Они булки любят. Иди ко мне, я тебя поцелую. – Ханна притянула Мину к себе и звонко поцеловала ее в щеку. – Расскажи еще раз, что тебе в очереди сказали.
– Я пришла, уже было много народу, – начала свой рассказ Мина, – стала в очередь, ждала, как все. Меня одна женщина даже похвалила, что я родителям помогаю, улыбалась мне все время. Когда пришла моя очередь, оставалось десять булочек и семь рогаликов. Я отдала все деньги и сказала: «Мне на все деньги булочек и рогаликов!» Продавщица удивленно так спрашивает: «На все?» А женщина, которая меня хвалила, начала на меня кричать: «Девочка! Ты совсем совесть потеряла! Все булочки забираешь! Зачем тебе столько!»
Мина гримасничала и кривлялась, пытаясь передать бабушке возмущение покупательницы, ее голос стал писклявым. От смеха у Ханны выступили слезы на глазах. Мина продолжила:
– Мужчина там еще был, тоже начал кричать. – Имитируя мужчину, Мина сделала ржавый голос: – «Так это жиды черномазые, семьи у них большие, русскому человеку уже хлеба не достается!» – А продавщица мне говорит: «Здесь сдача». Я ей отвечаю, дайте мне на сдачу жвачку «Дональд Дак». Она мне дала целый блок.
Мина посмотрела на бабушку, ожидая, как та отреагирует на последнюю реплику.
– Так ты все деньги потратила? – возмутилась Эрке. – Вот негодница! Еще и жвачки на мамины деньги купила! Тебе что сказали: пять булочек! А ты что купила?
– Вессе! [31] – Ханна просяще взглянула на Эрке. – Ребенок зачем ругать?
Эрке выхватила из рук Мины пакет и ушла на кухню. Ханна, обращаясь к Мине, спросила:
– А жвачка где? Покажи.
Мина быстро достала изо рта розовый комок изжеванной резинки, потом положила его в рот и стала надувать из жвачки шар. Ханна крепко ее обняла.
– Ты мой самый младший дочь!
Мина поцеловала бабушку.
– Ты кого больше всех на свете любишь? – спросила Ханна.
– Мою мамочку Ханну! – ни минуты не думая, ответила Мина.
– Сделаешь для меня одно дело?
Мина закивала.
– Пойди потихоньку домой, посмотри, что Шекер делает. И прибеги мне скажи. А если увидит тебя, скажи, чтобы кушать шла.
Шекер перестала играть на пианино и прислушалась: из коридора доносился странный шорох. Вдобавок к тому не покидало ощущение, что на нее смотрят. Она встала и подошла к двери: никого. Вдруг раздался оглушительный крик:
– Бу-у-у!
Шекер отпрянула в испуге.
– Мина! Ты что, совсем рехнулась? Зачем меня так пугаешь? У меня сердце чуть не выскочило, нельзя же так!
Мина затряслась от смеха, Шекер заплакала.
Мина поняла, что перестаралась, и стала обнимать ее и целовать.
– Ну прости меня, прости. Я не хотела тебя пугать. Я думала, ты не испугаешься.
– Глупая ты! Говоришь, что думала, а на самом деле не думаешь ни минуты! Разве можно так?
Шекер кричала, отчего раскраснелась. Ее руки тряслись.
– Ты зачем пришла? Пугать меня? А если я тебя так пугать буду?
Мина опустила голову и смотрела на свои ноги.
– Мама сказала, чтоб ты шла кушать.
– Ладно, пойдем.
Шекер недолюбливала Мину. С тех пор, как она появилась, свалилась как снег на голову три года назад, жизнь Шекер кардинально изменилась. Ханна требовала, чтобы она разучивала с Миной стихи и делилась с ней всем, что у нее есть. Когда Мина оставалась на ночь, то, хоть и спала вместе с Ханной, до вечера сидела в ее, Шекер, комнате, трогала ее вещи, брала ее карандаши и фломастеры. А в последнее время эта девчонка еще и платья ее мерить вздумала!
– Ой, какие у тебя сережечки красивые! Откуда у тебя такие красивые сережечки? Вчера не было, а сегодня есть. Откуда они у тебя? – заголосила Мина, вдруг заметив в ушах Шекер новые серьги.
– Мама подарила, – сухо ответила Шекер. Они уже вошли во двор Эрке и подходили к веранде. Мина вихрем ворвалась на кухню и заголосила:
– Мама! Я тоже хочу такие же сережечки, как у Шекер! Я тоже такие хочу!
– Мина, перестань сейчас же! – за стальным голосом Эрке скрывался гнев. – Перестань сейчас же этот цирк, или я тебя накажу!
– А что я сделала? Я только сказала, что тоже хочу такие сережечки! – дерзко ответила матери Мина.
– Что ты сделала? Так, ну все, с меня хватит. Я тебе не подружка, чтобы так со мной разговаривать!
Эрке взяла Мину за ухо и потащила в дом.
– Сейчас я тебе расскажу, что ты сделала, гадина! Сейчас узнаешь, змея подколодная! Будешь знать, как завидовать! Будешь знать, как старшим перечить! – Эрке время от времени больно шлепала Мину по заднему месту. Потом завела ее в комнату, заперла дверь на ключ.
– Сиди здесь, пока не исправишься!
– Сестричка Эрке, за что? За что? Я больше не буду! Прости меня, прости! Я обещаю, что больше так не буду… – кричала она в закрытую дверь. Ответа не последовало. Эрке ушла.
В кармане халата завалялось несколько тыквенных семечек. Выложив их на кровать, Мина брала по одной и тщательно разжевывала. Когда все семечки были съедены, она открыла окно и стала качаться из стороны в сторону. Она вспоминала, как в санатории ее сажали в изолятор, и ей стало страшно. Она больше не хотела сидеть в изоляторе, не хотела быть плохой.
– Сестричка Эрке, я больше так не буду, – закричала она в окно.
Тишина. Она закричала еще раз:
– Я больше так не буду, сестричка Эрке! Не буду, не буду! Я больше так не буду, не буду, не буду!
Ей нестерпимо хотелось есть, но еще больше хотелось в туалет. Если она не выдержит и намочит штаны, ей опять достанется. Она вся сжалась и обхватила колени руками, пытаясь втолкнуть в себя выливающуюся из нее жидкость. Под кроватью стояла банка, в которой она хранила скопленные монеты. Она уже высыпала монеты на кровать и сняла штаны, как услышала, что кто-то скребется о дверь. Испугавшись, она быстро натянула штаны.
– Там бабуська ругает маму и узе идет сюда, стоби тибя свободить, – Миша торопился и шепелявил.
Хруст открывающегося замка – вошла бабушка. Мина бросилась в ее объятия. Ханна нежно поцеловала девочку в макушку.
– Я сказала твоей матери, что если она будет себя так вести с тобой, я заберу тебя навсегда! А это что? Чуни у? [32]
Ханна потрогала штаны Мины – они были мокрыми.
– Давай быстрее – поменяем штаны, пока мать не увидела, а то опять будет кричать.
Мина заплакала.
– Я не хочу сидеть в изоляторе! – отрывисто произнесла девочка.
Ханна открыла шкаф, достала оттуда чистые штаны, а затем молча и деловито переодела Мину.
Когда Ханна с Миной вышли из дома, Эрке уже заводила мотор своей старенькой красной «шестерки». Надо было повозить мать по делам, она никогда ей в этом не отказывала, даже если плохо себя чувствовала. Она хорошо помнила, как мать не разговаривала с ней три дня, после того как Эрке отказалась съездить на базар за лимоном. «Мне больше ничего от тебя не надо!» – сказала Ханна и закрыла калитку на долгие три дня. На четвертый день пришла Шекер: у матери резко поднялось давление, и она не знает что делать. Когда Эрке прибежала к Ханне, та лежала в кровати, повернувшись лицом к стене. Послушно, не говоря ни слова, она делала все, о чем просила дочь: давала руку для измерения давления, принимала лекарство. К вечеру ей стало лучше.
– Мне завтра надо к Жене-Цыганский-дом съездить, ты меня отвезешь или попросить кого-то другого? – спросила Ханна.
– Нет-нет, не проси. Я отвезу!
Эрке была счастлива, что мать снова с ней заговорила. Она не выдерживала материнской обиды и всегда старалась загладить свою вину, задабривая Ханну и оказывая ей особые знаки внимания.
Ханна часто обижалась на детей. Она, как ей казалось, требовала малого, но дети почему-то постоянно ее расстраивали. А если она обижалась на одного ребенка – доставалось всем. Когда ее младший сын Сави решил уехать в Израиль, она устроила бойкот, ничего не ела и несколько дней молчала. Так случилось, что конфликт произошел накануне ее дня рождения. Когда приходили дети и приносили подарки, она сидела на полу и только твердила:
– Иголки мне от вас не нужно. Ничего мне от вас не нужно. Я вас воспитала, всю жизнь старалась вам все сделать, все дать, а вы бросаете мать как ненужную вещь. Не нужны мне такие дети!
Только когда братьям и сестрам удалось повлиять на Сави и тот отказался от переезда, мать смягчилась.
Ханна села в машину, бросила сумку на заднее сиденье.
– Шура-толстячка есть же, мне к ней надо. Халаты хочу у ней заказать и еще один дело есть. Потом поедем к Гине-бриллианты, а потом на базар, – рассказала о своих планах Ханна.
– А зачем тебе к Гине? – поинтересовалась Эрке.
Ханна залезла рукой в бюстгальтер и стала там что-то искать. Потом вытащила старый носовой платок и развернула его. В нем лежало кольцо с таким большим бриллиантом, что Эрке ахнула. Таких огромных камней она еще не видела. Он ослеплял.
– Продать хочу! – сказала Ханна. – Гиня говорила, что купит у меня его в любое время.
– А зачем тебе столько денег? – спросила Эрке.
– Много будешь знать – скоро состаришься! – Ханна засмеялась.
– Мина! Открой ворота! – закричала Эрке.
Ханна спешно завернула кольцо и положила его в бюстгальтер. Мина стояла у раскрытых ворот и махала бабушке рукой.
– Закрой как следует! – строго сказала Эрке.
– Я закрою как следует, сестричка Эрке! – пообещала Мина.
– Сестричка, сестричка… – эхом повторила Эрке.
Часть третья
Поселок Горячеводский, проселочная дорога, небольшие глиняные и кирпичные дома. Возле одного из таких домов стоит усатый раздолбай Изя. Ему слегка за тридцать, но голова усеяна проплешинами, в висках голубится седина.
– Базара нет, я отвечаю! Ты же меня знаешь! – говорит он в приоткрытое окно «девятки». За тонированными стеклами не видно лица его собеседника, но, судя по взволнованному и испуганному лицу Изика, оно вселяет страх.
– Я-то тебя знаю. – Собеседник засмеялся, а Изя рукавом стер пот со лба. – И ты меня знаешь. Со мной разговор короткий, я два раза не повторяю.
– Все будет по-мужски, – ответил Изя отъезжающему собеседнику. – Как у людей все будет.
Изя поднял руку, чтобы махнуть вслед, но тут же опустил, потому что к воротам его дома подъехала другая машина. В ней сидели две женщины: старая и молодая. Ему нравилась молодая, даже несмотря на большие затемненные очки. «Без очков было бы лучше, но и с очками ничего: фигура офигенная», – подумал Изя. Хорошую, пышную фигуру Изя ценил в женщинах больше всего. Он подбежал к машине, открыл дверь и подал руку пожилой пассажирке.
– Тетя Ханна, здрав-ствуй-те! – растягивая слова, произнес Изя. – Как жизнь молодая? Как здоровье? Как дети? Как дядя Натан?
– Хубе, хубе, куклейме[33]. Мать дома?
– Да, конечно! Она всегда дома сидит, никуда не выходит, вас ждет.
– Нас ждет? – удивилась Эрке.
– Ну да, она постоянно говорит: «Никуда не поеду, вдруг Ханна приедет».
Эрке с неприязнью посмотрела на Изика. Ей не нравился этот человек. Он казался ей клоуном.
– Мы в цирке? – строго спросила Эрке.
Изик замялся.
– Лучше давай помоги из багажника отрезы вытащить. – Эрке перебросила ему ключи от машины и прошла за матерью, которая уже скрылась за калиткой.
Когда Ханна и Эрке вошли в дом, они услышали из динамика:
– Изаура! Ничто не может помешать нам пожениться.
– Альваро, если ты узнаешь, кто я на самом деле, ты никогда не простишь себе, что полюбил меня…
За столом сидела женщина и смотрела телевизор.
– Шура! – окликнула Ханна.
– О, мои сладкие, я не слышала, как вы вошли! Вот Изик, паразит, не мог предупредить! – Она подскочила к женщинам и засуетилась. На ее щеках блестела сериальная слеза. – Чу хабери? [34] Сейчас я чай сделаю! Хурде хостени? [35]
– Нет! – отказалась Ханна.
– Мы только что завтракали! – пояснила Эрке.
– А я тут кассету с Изаурой смотрю. Вы не смотрели? Какой фильм сильный! Какой фильм! Жизнь у них настоящая, не то, что у нас! – Шуре было нелегко выйти из реалий рабовладельческой Бразилии и снова оказаться в мире провинциального кавказского городка. – Этот негодяй Леонсио же есть, он ее преследует, свободу ей не дает. – Шура подняла, а потом бросила руки и смахнула рукавом слезу.
В комнату вошел Изя с отрезами ткани.
– Куда положить? – он неспешно обвел взглядом всех присутствующих, включая бесшумно говорящую что-то с экрана Изауру, и остановился на матери.
Шура указала ему на высокий стол для выкроек.
– Ханна, ну почему ты не хочешь, чтобы я тебе сшила одно красивое платье? Тебе вай как хорошо буде-е-ет! – Последнее слово Шура произнесла нараспев и подмигнула Эрке.
– Не хочет, да, она платье носить! Я тысячу раз ее не упрашивала, платья не приносила? – Эрке пожала плечами. – Мама не хочет, ей удобно в халате.
– Ну ладно. – Шура подошла к отрезам и стала разворачивать ткань, чтобы увидеть рисунок. – Халаты так халаты. Из всех, как всегда? – Шура знала размеры Ханны наизусть и ей не требовалось обмерять женщину.
Ханна кивнула.
– Мам, я уйду ненадолго, приду через час-полтора с кентами, – сказал Изя. – Ты нам покушать организуй: хинкал, чуду, как положено.
– Мозги, да, не делай. Иди давай.
Изя вышел, а Шура продолжала говорить ему вслед:
– Нашелся мне, деловой! Придет он! Знаю я его дружков! Все якшается не с теми, с кем надо. Завел бы уже нормальных друзей…
– Сына почему не женишь? – вдруг спросила Ханна.
Шура оторвала глаза от ткани, подошла к окну и, приоткрыв занавеску, посмотрела во двор. Убедившись, что Изик вышел и закрыл за собой калитку, Шура сказала:
– Да хочу женить, но не получается. Спутался он с одной Катькой, у нее пузо до ушей уже. Я к ее матери ходила, ругалась: пусть, говорю, моего Изю в покое оставит. Он, говорю, не последний фрайер, чтобы чужих детей воспитывать. А она мне что, как ты думаешь? Скажу – не поверишь! Мы, говорит, твоего Изю силком не держим, захочет, говорит, сам уйдет. Это она мне такое говорит! Не держат они, конечно, знаю я таких. Нагуляла где-то ребенка, теперь Изю заарканить хочет. Я дверью хлопнула и ушла, а Изе сказала, что, если он еще порог ее дома переступит, домой пусть не приходит. Так и сказала, папамну! [36]
– А он что, слушается?
– Да вроде пока слушается, но надолго ли? Мужики они все – как дети. Пальцем помани, они и побегут вприпрыжку. Да еще и связался с какими-то зверьками, чеченцами этими, они же дикие, с гор спустились. Какие-то делишки замышляет с ними. Как я с ним намучилась. Был бы отец, он бы из него человека сделал. А так я одна, очень тяжело одной сына воспитать! Это меня все бог так наказывает за то, что от наших традиций отошла и за ненашего замуж вышла.
– Да, от традиций нельзя отходить, – подтвердила Ханна. – Если мы от традиций отходить не будем, все у нас хорошо будет!
– Как только еще молодежь в этом убедить? – задумчиво произнесла Шура. – Они все как с цепи сорвались, дальше своего носа не думают.
– А давай я ему хорошую невесту посватаю! У меня есть одна девочка на примете, из хорошей семьи девочка. Бахшиевых знаешь? Вот у них Гуля есть же, старшая, для Изи как раз лучше не найдешь. Очень хорошая девочка, духтер-хуне[37], все делает, убирает, стирает, готовит.
– Гуля? – Шура задумалась. – Сколько ей лет? Она ведь старая уже?
– Какой старая! Двадцать два года есть, больше нет. Мне тоже было двадцать два, когда я за Натана замуж вышла.
– Ну ты – это совсем другое дело. Тогда война была. А она в Краснодаре училась, что делала там, только Всевышнему известно. Может, на занятия ходила, а может, и не на занятия, а на танцы-шманцы, с парнями шуры-муры водила.
– Да какие шуры-муры, она серьезная девочка, скромная, а не халам-балам какой-то. Из мухи слон зачем раздувать? Рашид, отец ее, жалеет теперь, что отправил ее учиться в Краснодар. Он на ее уговоры пошел, всем женихам отказывал. Она ему сказала, что сама себе лучшего мужа на свете найдет. Училась-училась, а уму-разуму так и не научилась. Приехала домой ни с чем, замуж так и не вышла. Теперь отец локти кусает, меня просит, умоляет. Найди, говорит, Ханна, моей Гуле хорошего мужа. А я сразу о твоем Изике и подумала. И приданое хорошее Рашид дает! Дом дает, на работу мужа устроит. Все сделает. А ты что, от той девки Изю отвадить не хочешь? К нашим традициям приобщить не хочешь?
– Хочу, бог видит… А ты слышала, что с Феликсом, Бениным сыном случилось? – Шура сделала паузу. – Не знаешь? Вай, что случилось! Он же ведь женился недавно. Услышал, что за Эллу, дочь Арона, хорошее приданое дают, дом-машину – все дела дают, пошел свататься. Пришел, значит, а невеста – страшная, как ночь. А когда уже засватал девочку, выяснилось, что дом давали за другую Эллу, дочь Арона. Их на Теплосерной две! Две Эллы! И обе – дочери Аронов. Какой скандал был! Но он все равно женился. Слово дал, стыдно перед людьми, если они подумают, что он только из-за денег жениться хотел. А он теперь жену ненавидит, с русской бабой живет, а домой даже не приходит.
Шура хотела сказать что-то еще, но Ханна ее перебила:
– Нет, Рашид точно поможет, все сделает. Он мне обещал, я бы так за него не просила. Я тоже помогу чем могу. Свадьбу сыграем, женим твоего сына как полагается. Ты мне тоже не чужая же, Изик мне как племянник. Я деньги дам, как надо, с достоинством чтобы свадьба была.
В подтверждение своих слов Ханна вытащила из бюстгальтера кольцо, которое она недавно показывала Эрке, и предъявила его Шуре.
– Вот, кольцо продам, свадьбу отметим твоему сыну. Я сначала хотела на эти деньги купить моей Эрке хорошую машину, «мерседес-шмерседес», вместо той развалюхи, на которой она ездит. Но теперь передумала. У Эрке уже есть машина, а Изя неприкаянный у тебя. Надо его устроить. Я не права? – Ханна посмотрела на дочь. Эрке покраснела, но быстро справилась со своим смущением, откашлялась и сказала:
– Да, мама, делай, как ты считаешь правильным. Я же даже не знала, что ты мне машину купить хотела. Одно то, что ты хотела, для меня счастье.
– Хотела, папамну! [38] Не веришь? – повысила голос Ханна и повернулась к Шуре: – Я детей своих в строгости воспитывала, лишнего им не позволяла, не целовала, не обнимала, не сюсюкалась. И если я сейчас чужим детям что-нибудь хорошее сделаю, это все равно, что я своим детям хорошее делаю. А тогда мне до этого разве было? Тогда столько проблем было – не до сюсюканья. Я все, что могла, дала им. Любви особой тоже не было у меня. Родила и бросила: кого соседке, кого няньке. Эрке у меня самая младшая, меньше всех ее любила, зато теперь вон какая хорошая. Никогда матери слово поперек не скажет. Я ей машину не покупаю, она не злится, а благодарит только за то, что я хотела купить! Такая дочь должна быть! Рая или Зоя уже давно бы яд свой выпустили, а она у меня добрая. Да, доченька?
– Золотая у тебя доченька! – подтвердила Шура. – Таких дочерей еще поискать надо! Вот бы мне такую невестку, как твоя Эрке, больше ничего в жизни не надо! Я бы такую, как Эрке, с руками и ногами выхватила для Изика!
– Ну мы пойдем, завтра приезжайте ко мне, поедем девочку смотреть. И пусть оденется хорошо, солидно чтобы выглядел, костюм же есть, туфли.
– Все сделаем, как надо! Я на «Людмилу»[39] поеду, подарки девочке куплю. Сох боши![40] Век тебя не забуду, если поможешь сына женить!
Шура проводила гостей до калитки и еще долго стояла у ворот, всматриваясь в даль, как будто ожидая, когда осядет облако пыли, оставленное отъехавшим автомобилем.
Сноски
1
Хватит! (Здесь и далее – перевод с горско-еврейского.)
(обратно)2
Девочка, дочь.
(обратно)3
Как дела? Как поживаешь?
(обратно)4
Да, да.
(обратно)5
Моя мама.
(обратно)6
Кавказское блюдо из зелени тара – конского щавеля – и бараньего фарша. Иногда зелень тары заменяется молодыми свекольными листьями.
(обратно)7
Дагестанские пельмени.
(обратно)8
Паста из измельченных семян конопли.
(обратно)9
Клянусь отцом.
(обратно)10
Горе мне!
(обратно)11
Что делаете?
(обратно)12
Горская еврейка?
(обратно)13
Кто пришел?
(обратно)14
Ты откуда? Еврейка?
(обратно)15
Тебя как зовут?
(обратно)16
Ханна, дочь Боруха.
(обратно)17
Горе мне!
(обратно)18
Добро пожаловать! Добро пожаловать!
(обратно)19
Проходи, проходи!
(обратно)20
Как хорошо, что ты пришла!
(обратно)21
Очень красивое!
(обратно)22
Клянусь отцом.
(обратно)23
Хорошо-хорошо.
(обратно)24
Да, да!
(обратно)25
Кто там?
(обратно)26
Спасибо, доченька!
(обратно)27
Какая красивая девочка!
(обратно)28
моя дочурочка.
(обратно)29
Красавицей.
(обратно)30
Тыквенная голова!
(обратно)31
Хватит!
(обратно)32
Что такое?
(обратно)33
Хорошо, хорошо, мальчик мой.
(обратно)34
Как дела?
(обратно)35
Кушать будете?
(обратно)36
Клянусь отцом!
(обратно)37
домашняя девочка.
(обратно)38
Клянусь отцом.
(обратно)39
Вещевой рынок в Пятигорске.
(обратно)40
Спасибо!
(обратно)


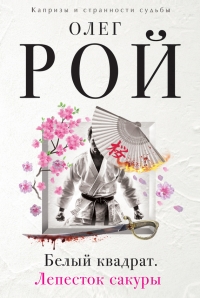
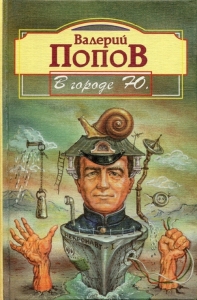


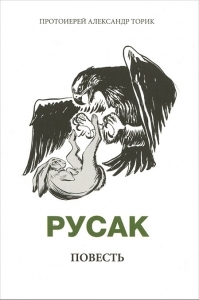
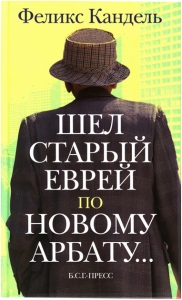



Комментарии к книге «Дедейме», Стелла Прюдон
Всего 0 комментариев