Рэй Брэдбери Маски (сборник)
Ray Bradbury
MASKS
Masks © 2008 by Ray Bradbury
Introduction © 2008 by William F. Touponce
The Masks Beneath Mask Beneath the Mask © 2008 by Jon Eller
Fragment Groups © 2008 by Jon Eller
All rights reserved
© А. Оганян, перевод на русский язык, 2015
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015
* * *
Посвящается Дону Конгдону
На память о годах начальной поры.
С любовью, РэйЯ особо признателен профессору Джонатану Эллеру за доведение текста «Масок» до ума.
Введение Мехико, осень 1945 года
Я скупал маски по всей Мексике. Куда бы я ни заезжал, я всюду приобретал маски. Я покупал их в Пацукаро у сеньора Серды, потому что они были невообразимо хороши. Они отличались от масок, попадавшихся мне во всех остальных уголках Мексики, по дороге из Мехико-Сити в Пацукаро. Он вырезал маски из очень хрупкого бальзового дерева, но с изысканной резьбой. И они волновали воображение и отличались от всего, что мне приходилось видеть. Поэтому я накупил несколько десятков малых масок, к которым прибавились три-четыре бальзовых маски покрупнее — увеличенные подобия тех, что поменьше. Я не стал раздаривать малые маски. А большие маски, на которые был нанесен «шеллак», я преподнес в дар Музею Лос-Анджелеса.
Я и помыслить не мог, что буду так очарован масками. Но их чары одурманили меня, и дело приняло серьезный оборот. Точно так же и Мексика — вдруг как нагрянет, да как ошеломит! Когда едешь по знойному Техасу, вокруг желтизна и серебристая белизна. Короче, ничего особенного. Затем подъезжаешь к мексиканской границе, и начинаются джунгли, все зеленеет. Проезжаешь по всяким городишкам, и раз — оранжевые стены, желтые, синие, красные, белые, опять желтые. И вот уже все цвета радуги хлынули на тебя со стен и домов. Так цвет входит в твою жизнь и воображение. Потом люди с обочин, продающие всякие безделушки или маски. Так сливаются цвета и кружатся маски.
У каждой мексиканской провинции свои маски. Где-то вам попадаются «конкистадоры», «негры-рабы» и «простой люд». Если вы у побережья — вот вам Конкистадор. Дальше от моря, в глубинке, где джунгли встречаются — маски Негра, а может, Индейца. Что же подвигнуло меня написать книгу о масках? Сами же маски. Да, именно они!
Рэй БрэдбериПредисловие
Рассказы, вошедшие в настоящее собрание, пронизаны интересом к психологии межличностных отношений. Еще за десятилетие до того, как Р. Д. Ленг опубликовал свои знаменитые труды по экзистенциональной психотерапии, Брэдбери исследовал, как человек на потребу окружающим — и так, и эдак — мастерит себе подложное лицо и как в результате возникает раздвоение личности. Как всегда, изыскания Брэдбери облечены в язык метафор под личиной масок, но, как ни странно, он зачастую обращается к женской психологии, ставя себя на место той, которая живет (если это слово здесь уместно) опустошенной унизительной жизнью. Как, например, в рассказе «Лик Натали», где главная героиня уродует свое лицо под ножом хирурга, дабы досадить своему равнодушному мужу, который давно бросил ее и канул в джунгли Южной Америки:
«Поцелует ли он тебя в шею как когда-то, и если да, расшевелится ли в ячейках и сотах твоего изможденного и выморочного естества последний скуластый муравей выцветшей любви? Где даже после его ухода годами неистово кишели термиты, выедая всю ее, вплоть до белой ломкой скорлупы, подчистую».
Эта поразительная муравьиная метафора отнюдь не дань декоративным фигурам речи. Напротив, Брэдбери использует динамизм образов и ритмичную пульсацию пространных фраз, дабы воссоздать атмосферу неуемного гнева, разъедающего живую материю любви и дать почувствовать, каково приходится тому, в ком все отмерло. Взять хотя бы рассказ «Этюд в бронзе»[1] и сопряженный с ним рассказ «Дротлдо» о белой женщине из среднего класса, у которой внезапно темнеет кожа и она становится уязвимой ко всем расистским унижениям, которым подвергаются цветные в послевоенной Америке. Этот рассказ и впрямь изучает молчаливое отчуждение женщины от собственного тела. В рассказе «Галлахер Великий» женщина превращается в одеревенелый манекен, чтобы справиться со своим провалом на балетном поприще. Не все рассказы посвящены женским умонастроениям и женской психике. В двух из них главные персонажи — мужчины, нисколько не испытывающие угрызений совести, пока они не попадаются на глаза стороннему наблюдателю. В рассказе «Их ничто не возмущало» одинокий мужчина развлекается в своей квартире эротическими фантазиями о податливых женщинах, пока его не разоблачает хозяин дома. Любопытным приемом в рассказе является то, что читатель не знает, но может заподозрить, что эти женщины — плод чьего-то воображения, чем создается неловкое ощущение соучастия с главным героем. В более длинном из этих двух рассказов анализируется, как некоторые люди заставляют нас испытывать чувство вины. Рассказ «В глазах созерцателя» кажется позаимствованным у Жан-Поль Сартра из его трактата «Бытие и Ничто», в котором в главе «Взгляд» выстраивается экзистенциальный феномен угрызений совести на примере сцены, где человека застают врасплох за подслушиванием под дверью и подглядыванием в замочную скважину. Точно такая же ситуация у Брэдбери.
Большинство рассказов не сулят счастливого конца, но в результате обретения цельности восстанавливается и самооценка героя. В рассказе «Бродяга в ночи» герой не догадывается о своих подсознательных желаниях, пока не реализует их во время сомнамбулических похождений. Полагаю, это и есть решение его проблем. Но один из выходов из психологической жесткости и тупика — это принятие «глупой» мудрости карнавала с факирами и провальными бурлескными артистами, которые еще не утратили способности переиначивать реальность. Восстановить хоть какую-то целостность и позволить подлинному «я» осуществиться в условиях социального отчуждения — вот, кажется, цель «Галлахера Великого» — единственного реального героя в этом сборнике Брэдбери.
Заглавный рассказ сборника демонстрирует прозу Брэдбери высшей пробы, восходящую к истокам его творческого пути в первые послевоенные годы, основанного на межличностных отношениях. «Маски» датированы 1946–1949 годами. Работа продвигалась мучительно медленно. Вне сомнения, однако, что автор считал жанр романа «престижным» и общепринятым делом, потому что в октябре 1949 года подал заявку на стипендию имени Гуггенхайма, правда, безуспешно. После получения отказа он работал над рукописью от случая к случаю до начала 1950 года, после чего окончательно забросил ее. Латтинг из «Масок» может считаться экзистенциальным героем, ищущим свое истинное «я», подобно некоторым персонажам из более коротких рассказов, но в итоге его повесть внушает гораздо меньше оптимизма. В более широком смысле, однако, «Маски» очень важны для понимания межличностной тематики во всем творчестве Брэдбери. Во-первых, хотя, очевидно, с эстетической точки зрения это был для него тупик — чересчур неуютный и болезненный путь к авторству, — он осознал, что его дело — сочинять циклы жизнеутверждающих рассказов и романы, например, «Марсианские хроники» (1950), но тематика масок осталась в центре его социальной критики. Во-вторых, маски формируют всю психологическую тематику Дня Всех Святых (Хеллоуина) в таких романах, как «Надвигается беда» и «Канун всех святых». В «Масках» Брэдбери хочет, чтобы маски Латтинга подвергали «благополучных» друзей и чужаков иронии, презрению и насмешкам, из-за чего Латтинг попадает в беду, отстраняется от жизни (утратив романтические иллюзии), вместо того чтобы получить желаемый терапевтический эффект высвобождения и углубленного понимания, как надо вылепить личность в угоду требованиям окружающих. Это горестный карнавал разочарований. Процесс, который Латтинг надеется разыграть напяливанием масок, имеет примечательное сходство с экзистенциальной психотерапией, в которой «подлинное» лицо может быть обретено только после долгих поисков среди множества «ложных» ролей.
В любом случае в «Марсианских хрониках» — признанном шедевре Брэдбери — маски играют важную роль и функционируют как на психологическом уровне, так и на уровне социальной критики. Если присмотреться к развитию этой тематики в тексте «Марсианских хроник», то обнаружится, что маскировка марсиан введена автором в качестве дополнительного тематического слоя в ходе сложного процесса переработки книги. В массовых изданиях «Марсианских хроник» Брэдбери почти не упоминает о ношении марсианами масок за исключением «Мертвого сезона», где марсиане, умирающие от человеческой болезни, спускаются с холмов, чтобы оформить дарственную на обширные марсианские угодья в пользу одного из колонистов. Я не могу перечислить здесь все примеры дополнительных слоев; они в основном встречаются в начале книги, но Брэдбери придал маскам новый смысл. В отличие от землян, вторгшихся на планету, марсиане, хоть и обладают телепатией и подвержены душевным расстройствам, психологически вполне здоровы для ношения масок, если им это заблагорассудится, и эмоционально достаточно уравновешены, чтобы не уподобляться своим маскам, а носить их просто ради забавы.
Они усвоили дионисийскую «радостную мудрость» о природе эго/личности и могут обустраивать свою жизнь:
«Городок кишел людьми, которые то и дело сновали, входя и выходя, приветствуя друг друга, нацепив на себя маску — кто золотистую, кто синюю, а кто для разнообразия пунцовую, кто — с серебристыми губами, кто — с бронзовыми бровями, кто-то — насмешливую, а кто-то — нахмуренную, смотря по настроению владельца» («Земляне»).
Этот мотив, использованный иначе, чем в ранней рукописи «Масок», создает контраст, служащий важным ключом к пониманию «Марсианских хроник» как произведения социальной критики. По мере разработки темы марсиан в масках в отдельных рассказах 1948–1949 годов и по мере привнесения мотива масок в контекст «Хроник» летом‑осенью 1949 года Брэдбери вышел за рамки романтического разочарования навстречу осознанному утверждению личности как фикции. По ходу он переиначивает роль носителя масок, превращая последнего из одинокого изгоя общества в буквально каждого встречного-поперечного (пусть даже он инопланетянин). После осуществления этой метаморфозы стремление к публикации «Масок» как своего первого романа стало неактуальным для Брэдбери.
«Маски» также очень важны для понимания сдвига в акцентах в творчестве Брэдбери относительно экзистенциальных тем в его последующих романах; эта тема слишком сложна, чтобы ее рассматривать в данном предисловии. Достаточно сказать, что посредством литературных масок, выведенных из карнавальных персонажей, особенно Плута, Шута и Клоуна, Брэдбери нашел источник непрерывного перевоплощения, надевая маски, но оставаясь при этом в неразрывной связи с жизнью, как в своих истинных романах «Надвигается беда» и «Кладбище для безумцев», в которых он крепит узы с окружающими и с бытием.
Уильям Ф. ТупонсМаски
Предисловие Маска под маской, а там еще маска
Папка, озаглавленная «Маски — короткий роман», где Брэдбери сохранил отрывки и отработанный материал, свидетельствует о том, что он приступил к работе в конце 1945 года или начале 1946 года. В это время он жил с родителями в городке Венис-бич и работал в отгороженном углу отдельно стоящего семейного гаража. Дом (по адресу бульвар Венис, 670) стоял близ кирпичного здания подстанции Калифорнийской электрической компании имени Эдисона, в которой работал его отец, и Брэдбери, стуча на своей машинке, мог слышать и видеть, как прямо за гаражным окном, глядевшим на запад, работают турбины. Динамо-машины, творившие мистерии, словно в кафедральном соборе, возбуждали в нем творческую энергию, и некоторые из его лучших ранних рассказов в жанре научной фантастики и фэнтези были созданы в одно время с «Масками».
Это была пора великого преображения двадцатипятилетнего писателя: за лето-осень 1945 года его рассказы начали появляться в престижных журналах и известные литагенты стали предлагать ему свои услуги и литературные связи. В 1946 году он встретил свою будущую жену Маргарет Мак-Клюр и наладил дружескую переписку с Доном Конгдоном, молодым редактором, который недавно перешел из журнала «Кольерс» на работу в издательство «Саймон и Шустер». Бывшие коллеги Конгдона по журналу «Кольерс» отзывались о Брэдбери как о новом многообещающем таланте, и вот спустя несколько месяцев после свадьбы Брэдбери и Мэгги Конгдон стал агентом Брэдбери. И те и другие взаимоотношения продлились целую жизнь.
Вступительные страницы и краткое изложение романа объемом 50 000 слов, вероятно, приходятся на ранний этап работы. Судя по контексту, произведение вскоре разрослось в тридцатистраничный, более или менее последовательный отрывок повествования, впервые публикуемый в настоящем сборнике издательства «Гонтлит». Брэдбери отослал этот фрагмент повествования Дону Конгдону с припиской: «это мой второй роман, незавершенный, но в кратком изложении». Он также выслал Конгдону свой первый незаконченный роман, ставший впоследствии «Вином из одуванчиков», и «Лето, прощай». Этот очень зачаточный «второй роман», уже озаглавленный «Маски», рукой Брэдбери, наискосок титульного листа, адресован «Дону Конгдону, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, «Саймон и Шустер». Но затем Брэдбери вычеркивает издательство «Саймон и Шустер» и вписывает «Агентство Харольда Мэтсона» — новое место работы Конгдона. Эти записи позволяют датировать основное повествование не позднее конца августа 1947 года, когда Конгдон покинул издательство «Саймон и Шустер» и стал штатным литературным агентом в «Агентстве Харольда Мэтсона».
В этой ранней форме повествование сохраняет начальный образ Латтинга, повелителя масок, переезжающего из своих роскошных апартаментов в захудалый пансион, где он занимается разоблачением внутренней жизни многих своих друзей, приятелей и незнакомцев. Он также изводит их масками, выставляющими напоказ их наихудшие страхи и страсти. Большинство первых десяти «отрывков» — в сжатом повествовании, но некоторые из них были развернуты, переработаны и даже объединены в эпизоды. Например, Брэдбери объединил девятый и десятый отрывки для создания любовного романа с Лизабетой Симмс. Но он также добавил персонаж — Ральфа Смита, который на протяжении нескольких эпизодов изучает «метод» Латтинга и даже пытается спасти его от углубляющегося психоза с помощью маски, сработанной из старой фотографии юного Латтинга. Брэдбери добавил совершенно новый и примечательный раздел о сеньоре Серде, мексиканском мастере-ремесленнике, который формует маски Латтинга в своей маленькой мастерской в далеком Пацукаро. Брэдбери действительно покупал маски в реально существовавшем магазине Серды в начале ноября 1945 года, во время своих двухмесячных странствий по Мексике со своим другом Грантом Бичем.
Очарование богатым разнообразием масок, обнаруженных автором в Мексике, высекло творческую искру для замысла «Масок». Первоначальная работа над материалом началась не ранее конца ноября 1945 года, по возвращении в Лос-Анджелес после долгого пребывания в Мексике. Имя Уильям Латтинг, производное от имени управляющего книжным магазином, в котором работала Мэгги Мак-Клюр, появилось в повествовании не ранее весны‑лета 1946 года, когда Брэдбери встречался и обручился с Мэгги. Следовательно, вероятно, что предварительные страницы, краткое изложение и сохранившиеся 30 страниц текста были сочинены между весной 1946 и летом 1947 годов.
Нет указаний на то, что Брэдбери следовал своему плану для раскрытия образов из широкого круга профессий и личностей. План состоит всего из 41 отрывка со множеством стереотипных характеров. Само повествование содержит лишь пятнадцать отчетливых эпизодов, но последние девять из них содержались только в плане повествования — на тот момент, когда Брэдбери выслал машинописный экземпляр Конгдону. На этом этапе работы, в заключительном эпизоде, Латтинг сталкивается лицом к лицу с маской, изображающей его самого в молодости, и осознает, что растерял свои человеческие качества. Он сломлен, он кончает с собой.
Незаконченный сжатый «План работы», возможно, датируется 1948–1949 годами, когда Брэдбери ненадолго вернулся к работе над «Масками»; но независимо от даты сочинения в сжатом плане у Брэдбери просматривается твердый замысел «Масок». В нем есть место как для раннего плана, так и восстановленного тридцатистраничного повествования, которое является единственной дошедшей до нас цельной частью произведения. Некоторые неубедительные признаки указывают на то, что Брэдбери, возможно, завершил полный черновой вариант, но единственное, что от него уцелело — это разрозненные страницы из эпизодов, следующих за основным отрывком повествования в данном томе. Каждая группа фрагментов сопровождена редакторским примечанием, описывающим, насколько я могу судить, композиционные взаимоотношения между уцелевшими страницами «Масок».
Джонатан Эллер Центр исследований творчества Рэя Брэдбери Университет Индианы, факультет гуманитарных наук У времени есть поважней дела, Чем вслушиваться в шепоты и вздохи. Крадутся годы с ношей масок и учтиво Украшают ими наши лица. Маска из железа дана, чтоб остудить гуляку. Из бронзы маска — высмеять героя. А большинство — так просто глины ком, Которому черты ленивого раба придали. «Золотой труп», сонет V Стивен Винсент БенеМы — все до единого подобны луковице.
Отслоите одну оболочку, под ней другая. Отлущите ее, найдете новую. Оторвите и эту, а там еще и еще.
И так до бесконечности.
Так — слой за слоем — сложена наша личность словно луковица. Мы постоянно обременены кипой масок. Кого мы встречаем на улице? Миловидную даму? Подайте мне маску Алчущего сластолюбца! Даме не по нутру неприкрытый интерес? Быстро мне интеллектуальную оболочку и красок для изображения утонченной скуки на физиономии! Мимо протопал ребенок. Детскую маску! Снизойти, опустить взор, заговорить и завязать беседу. А вот пожилой человек. Детскую маску не снимать. Старики и дети — суть две стороны одной медали. Заговорить, опустить взор, ниже, ниже!
И пошло-поехало! Наши лики и кожи сбрасывают свою скорлупу и крошатся.
Маска под маской, а там еще маска
План работы
Мой роман «МАСКИ» посвящен жизни и судьбе человека, который пользуется большим арсеналом масок, купленных, сработанных или вырезанных им самим, чтобы выворачивать наизнанку внутреннюю жизнь своих ближайших друзей. Сталкивая людей на улице, на работе или у себя в гостиной с их собственными отображениями, он раскрывает перед ними роли, которые они играют в жизни. Посредством своих масок он исследует процесс формирования личности не по собственному сокровенному желанию человека, а в угоду ожиданиям друзей, требованиям бизнеса и общества. С помощью масок он надеется доказать, что каждая личность в действительности являет собой множество личностей, принимая самые удобные и выгодные для выживания личины. Он доказывает, что жизнь — это репетиция, примерка, смена ролей. Кому-то маска впору — и он счастлив, а кому-то — удушающая обуза; и только благодаря изворотливости и притворству Человека и Его Масок люди могут обрести свое истинное лицо.
Любимый одной женщиной, он доказывает, что ее любовь столь же переменчива, как носимая им маска. Простой заменой одной маски на другую он заставляет ее потерять к нему всякий интерес.
Любимый другой женщиной, он обнаруживает, что она никогда прежде не влюблялась, уходя от одного мужчины к другому, так и не получив удовлетворения. Но наконец она нашла того, кто сойдет за всех и каждого, за Человека с Масками, Человека-Варьете. Он заставляет ее разочароваться в самом себе с помощью простой уловки: он все время носит одну и ту же маску, навсегда становясь одним человеком. И тогда их роману приходит конец.
Привлеченный к суду за нарушение общественного порядка, он надевает простую маску, покрытую слоем податливой глины. Как только обвинитель выступает против него, Латтинг молниеносной рукой вылепливает нос. Нос обвинителя. Глаз. Глаз обвинителя. Подбородок. Подбородок обвинителя. Косой взгляд. Гримасу. Самодовольную ухмылку. Все, что свойственно обвинителю. Вмешивается судья. И опять проворная рука Латтинга тянется к маске. Новый нос, новый рот, новый глаз и подбородок. Ни дать ни взять — судья во всей своей преглупой красе! Зал покатывается с хохоту. Но и зрителям нет спасения от Маски. Она мгновенно преображается то в одного, то в другого из присутствующих в аудитории. За несколько минут судебного заседания он доказывает, что ни одну из трех сторон не интересует правосудие: судья озабочен своей судейской осанкой, адвокат мечтает выиграть дело и вписать еще одну победу в свой послужной список, публика, снедаемая безудержным садизмом, жаждет поглазеть на крючкотворский балаган. Суд заканчивается всеобщим переполохом и негодованием. Все возненавидели Латтинга. Когда он дурачил судью и выводил из себя обвинителя, это принималось на ура, но измываться над самой Толпой — непростительно! Он приговорен за неуважение к суду, но вопреки указаниям своего подзащитного, адвокат выступает с заявлением о его невменяемости, и обвиняемого передают под надзор психиатра.
Роман объемом 50 000 слов.
Краткое изложение
Каждый номер соответствует одной сцене и отрывку объемом в 1000 слов.
1. Саквояжи уложены. Человек в маске уезжает. Поиски нового места жительства.
2. Въезд на новую квартиру. Хозяйка дома.
3. Исследование съемной квартиры.
4. Дети.
5. Старые друзья вторгаются в его частную жизнь.
6. Пари на хозяйку.
7. Полиция устанавливает за ним слежку.
8. Первый роман. Девушка влюбляется в него, потому что он — подобие ее отца.
9. Второй роман. Проститутка влюбляется в него, потому что он похож на всех и каждого. Чтобы избавиться от нее, он снимает маску и становится просто-напросто одним и тем же человеком.
10. Влюбляется в женщину, заполучает ее, жестоко высмеивая ее кавалеров.
11. Убийство.
12. Полиция.
13. Адвокат.
14. Его мать и отец.
15. Новый адвокат.
16. Суд.
17. Оправдательный приговор.
18. Психиатр.
19. Доктор.
20. Мужеподобный.
21. Женоподобный.
22. Политик.
23. Либерал.
24. Авангардист.
25. Реакционер.
26. Художник.
27. Писатель.
28. Актер.
29. Уголовник.
30. Режиссер.
31. Продюсер.
32. Авиатор.
33. Поджигатель войны.
34. Промышленник.
35. Бэббитт.
36. Богач из маленького города (Клод).
37. Отрочество.
38. Военнослужащий.
39. Критик.
40. Йог.
Маски
Мистер Уильям Латтинг въехал в новую квартиру около семи вечера, и все тут же наперебой засудачили о его лице.
— Оно каменное, — говорили они.
— Оно ледяное, — твердили они.
— Оно очень необычное, — удивлялись они.
Каковым оно, вне сомнения, и являлось.
Ибо оно было вовсе не лицом, а маской.
Если бы вы присмотрелись к нему, то приметили бы тоненькие медные проволочки, которыми маска крепилась за ушами. В вас вперялся холодный оценивающий взгляд широких серых глаз. И губы оставались недвижными, когда он принимал ключ от хозяйки, выслушивал ее наставления об отоплении квартиры, о том, что вентили горячей и холодной воды в ванной комнате барахлят, что одно окно туго открывается, и требуется приложение усилий, чтобы его поднять. Он молча ее выслушал, подчеркнуто, с легким поклоном кивнул и поднялся по лестнице в сопровождении ватаги друзей, обремененных бутылками шампанского.
Хозяйка была не в восторге от того, что ее постоялец, едва вселившись, в первый же вечер закатил пирушку. Но что она могла поделать? Его подпись просыхала на заверенном контракте, и была внесена часть арендной платы — зелененькими купюрами, хрустевшими в ее цыплячьих пальчиках.
Дом был старый и шаткий, населенный вздохами, пылью и пауками. Тараканы выползали побродить по кухонному линолеуму.
Наверху в комнате Уильяма Латтинга горел свет и раздавался топот ног от ходьбы взад-вперед, и временами — грохот опрокинутой бутылки или всплески разговоров и смеха, когда распахивалась дверь.
Остальные жильцы всю ночь не спали из-за чрезмерного жара и освещения в верхней комнате. Иногда в доме воцарялась тишина, и доносился чей-то высокий голос.
— Это он, наш новый постоялец, мистер Латтинг, — говорили нижние соседи. — Он вещает, а они внимают. Все слушают. Не проронив ни звука. А он говорит. Ну и дела!
Голос не умолкал.
С десяти часов на задний двор подкатывали лимузины. Мужчины в вечерних костюмах, белых шелковых шарфах и цилиндрах сопровождали дам в мерцающих, расшитых блестками одеждах по черной лестнице. Они переговаривались и держались словно экскурсанты.
Подъехал фургон для перевозки мебели, и двое дюжих грузчиков внесли в вестибюль большой стенд, обтянутый синим бархатом, и подняли по лестнице наверх. Хозяйка выглянула и заметила пятьдесят две маски, пришитые к стенду медной проволокой; все они отличались цветом, размерами и очертаниями. Она захлопнула дверь и прижалась к ней спиной, приложив руку к сердцу и прислушиваясь к его биению.
Вечеринка началась шесть бутылок назад. Уильям Латтинг восседал в центре комнаты, как обычно. Иногда он по полчаса молчал, но его серые глаза были всегда настороже. Гостям в комнате казалось, они не могут и шагу ступить, не подвергаясь его мысленному осуждению. В третий раз за четверть часа в дверь постучались и вошли носильщики с очередным бархатным стендом, увешанным масками. Уильям Латтинг остановил их на выходе из своей комнаты:
— Здорово сработано, черт побери!
— Да ты никак шутить с нами вздумал! — воскликнул один из них.
Работяги уставились на своего работодателя. Он был не в той маске, что прежде, а напялил новую, большую, заскорузлую и с виду глуповатую.
— Вот вам пятерка за труды! — сказал он, бесцеремонно припечатывая купюру к ладони грузчика. — Горло промочить!
Грузчик сначала уставился на банкноту, потом на маску.
— Годится! — Его лицо медленно расползлось в улыбке. — А как же без этого, мистер Латтинг!
Выйдя за порог, они переглянулись:
— Вот чудила!
Латтинг помахал рукой собравшимся в комнате и сорвал глупую маску. Под ней оказалась гладкая, бесстрастная серая маска из папье-маше. Сценка, разыгранная с носильщиками, вызвала одобрительный смех. Не проронив ни слова, он занял свое место на стуле. На столике, который доставал до его колен, лежали три стопки — по полдюжины масок в каждой, впрессованных одна в другую. Весь вечер его наманикюренные пальцы проворно перебирали эти маски, сортировали, меняли, то натягивали, то сбрасывали.
В первом часу ночи раздался стук в дверь.
Латтинг даже не обернулся.
— Войдите! — гаркнул он, силясь перекричать стоявший гвалт.
Вошла съеженная хозяйка, ошеломленная переполохом и огоньками, мерцавшими в поднятых бокалах. Теребя пальцы, она окинула всех взглядом.
— Я ищу мистера Латтинга! — закричала она.
Латтинг уставился в потолок.
— Дражайшая мадам, вы не одиноки. Я ищу его уже многие годы!
— Но где же он? — Она посмотрела на Латтинга. — Это вы — мистер Латтинг?
Она сделала несколько неуверенных шажков. Потом она узнала бриллиантовый перстень на его левой руке.
— Так это вы и есть!
— Как знать, — рявкнул Латтинг. — Если вы ищете того джентльмена с розовым бесстрастным лицом, каштановыми бровями и ямочкой на щеке, мадам, то вряд ли вы его найдете. Мы не бываем совершенно одинаковы. Вернуться назад невозможно. И вам не советую. Все переменчиво. Вот он я. Чем могу служить?
— Вечеринка, — прошептала хозяйка, чтобы не смутить гостей упреком, — от нее ужасный шум.
— Неужели? — прошептал мистер Латтинг, склоняясь к ней, и в этот самый миг его правая рука плавно, неслышно, украдкой, исподтишка сменила прежнее лицо на новое — устремленное вперед лицо подозрительной сплетницы с блеском в глазах, которая шушукается, гримасничает, язвит; лицо прачки, умудренное годами, падкое на грехи.
Хозяйка, казалось, ничего даже не заметила, а если и заметила, то было так привычно видеть подобное пылающее злобой лицо, что она поделилась с ним своей ужасной тайной. Она предостерегла мистера Латтинга цыплячьими пальчиками:
— Ужасный шум. Нашим постояльцам приходится вставать в пять утра, рыть канавы, заливать цемент. У вас тут очень шумно!
— Шумно, это точ-чно! — прошипел мистер Латтинг из-под кляузной маски. — Что за бесцеремонные люди!
— Вот и я про то же! — воскликнула хозяйка, доверительно кивая.
— Ужасно бесцеремонные! Никогда не подумают о нас, обездоленных! — вскричал мистер Латтинг вполголоса, ломаясь, из-под заостренной куриной женской маски. — Никогда! Эти никогда не подумают! Чтоб они сгинули со своими брильянтами, шикарными машинами и…
— И шампанским! — вскричала хозяйка.
— И своим чертовым шампанским, благодарю, — прошептал мистер Латтинг, всплеснув руками.
Он уставился на потолок, словно вечеринка бушевала на крыше.
— Чтоб им пусто было с их пьянками-гулянками! А нам с вами куда деваться? Я вас спрашиваю? А? — Он моргнул с отсутствующим взглядом. — Некуда! Они еще, чего доброго, до трех-четырех утра будут топтаться, хамло неотесанное!
— У-у, хамло! — хозяйка уставилась в потолок.
Вечеринка притихла. Бокалы зависли в воздухе. Сцена прямо-таки потрясла гостей до глубины души.
— А теперь послушайте меня, моя дорогая, — очень доверительно прошипел мистер Латтинг, прижав палец к орлиному носу. — Вам следует спуститься к себе и забраться в постель. А я замолвлю пару-тройку словечек этим скользким богатеям. Вы позволите мне позаботиться об этом? А?
— А вы справитесь? — изумилась хозяйка.
— Не извольте беспокоиться, милейшая! Еще как справлюсь! Вы только топайте к себе! А я их зонтиком по макушкам, зонтичком!
Хозяйка потянулась, чтобы взять своего благодетеля за руку.
— Спасибо вам. Мы все так устали. Я так устала. Спасибо!
Она обернулась и обнаружила себя в окружении гуляк.
— Что такое! — завизжала она.
В отчаянии она смерила их с головы до пят, узрела бокалы в руках. И заморгала в недоумении, не понимая, что происходит. Она глянула на мистера Латтинга на его стуле, сгорбленного, с трясущимися заскорузлыми руками в женской маске, и с воплем пулей вылетела за порог, грохнув дверью.
Взрыв хохота. Все разинули рты и загоготали. Принялись пить. Комната задребезжала.
— Прекратить! — приказал Уильям Латтинг.
Все прекратилось так же внезапно, как началось.
Латтинг вскочил, гневно потрясая зонтом и тыча им в гостей.
— Вы слышали, что она сказала! — заверещал он надтреснутым голосом. Старушечья маска осыпала их всех обвинениями:
— Угомонитесь! Прочь! Вон!
Он показал на дверь.
— Поздно. Порядочным людям давно пора в постель. Мне утром вставать, стирку делать, за детьми присматривать, мужа на работу провожать!
В голосе сквозило безудержное негодование и раздражение. Он стукнул зонтом по столу, сметая с него бокалы, заковыляв старушечьей походкой.
Гости так и застыли в изумлении.
— Браво! — сказал кто-то, поднимая бокал за Латтинга.
— Убирайтесь! — взвизгнул Латтинг.
— Послушайте, мы и часу тут не пробыли! — пожаловался кто-то из угла.
— С глаз долой!
Он распахнул дверь и встал, раскачиваясь из стороны в сторону, в проеме:
— Порядочные люди, порядочные женщины вроде меня, у которых годами не бывало мужчины, не могут уснуть! А мы вспоминаем все вечеринки нашей юности, когда мы были пышными да сочными — и прямо плакать хочется!
Из его глаз брызнули слезы.
— А теперь проваливайте!
Гости слушали и верили. Вот что невероятно — они поверили! Кем бы он ни был, ему до́лжно было верить безоговорочно, без сомнений и споров.
— Это моя квартира, и меня содержит Управление общественных работ, — голосил Латтинг старушечьим голосом. — У меня никого нет, муж пьет, не просыхая, дети бросили школу, а мой удел — холодная постель. Так что катитесь отсюда к чертям собачьим и дайте мне поспать!
Гости оставили свои бокалы и взяли свои меха.
— Изысканное гостеприимство.
— Спокойной ночи, Латтинг.
Они выходили по-одному — волна духов за волной никотина, а за ними — волны белых шарфов и норковых шубок.
— Убирайтесь! — верещал мистер Латтинг. — Скатертью дорога!
И грохнул дверью.
Десяток мужчин и десяток женщин на ощупь пробирались в темноте по нескончаемым ступенькам, читая сдавленным шепотком имена обитателей крошечных комнатушек-гробиков:
— Гачичелли. Моран. Смит. Бледсо. Келли. Лопес. O’Тул. Аракелян.
За какой-то дверью стрекотала пишущая машинка.
— Держу пари, это Сароян! — воскликнул один мужчина.
— Что за Сароян? — не поняла какая-то женщина.
— Замнем для ясности, — поморщился мужчина. — Ну и вечеринка! Так это и есть великий Латтинг? Он каждый раз так выпроваживает гостей?
— Да.
— И друзья спускают ему это с рук?
— Да.
Он раскурил сигару, не сводя с нее глаз.
— Гм. Да. Черт возьми!
Уильям Латтинг затворил дверь и обернулся, не оглядываясь по сторонам. Он приблизился к стулу и плюхнулся на него, не меняя обличья. Минут через пять после того, как он отдышался в тишине, сквозь глазные прорези маски Латтинг заприметил молодого человека в кресле в дальнем углу.
— Кто вы?! — потребовал он ответа, холодея.
Молодой человек не шелохнулся. Казалось, он не знал, как пошевелить руками, ногами или губами. Наконец он перестал пялиться, хлопнул себя по коленям и выпалил:
— Невероятно! Потрясающе! Глэдис говорила мне, что вы неподражаемы, я сказал ей, быть такого не может, он просто невменяем, дурачится со своими игрушками. Вот что я сказал Глэдис, а она посмотрела на меня как на дитя малое и говорит, ты просто не знаешь Уильяма Латтинга. Но теперь-то я знаю!
Казалось, он пытается дотянуться до Латтинга с большого расстояния.
— Вы — актер!
Это определение его не удовлетворило.
— Нет, вы — нечто гораздо большее. Большинство актеров недоумки. Им бы только подражать да руками размахивать. Мало кто из них обременен интеллектом. Вы же заставили меня поверить. Я даже не испытываю чувства неловкости. Я думал, все будет непристойно, и меня стошнит при виде кого-то, кто занимается дуракавалянием.
— Прекратите, — велел Латтинг. — А то сейчас стошнит меня.
— Шутки в сторону. Я вполне серьезно.
Смит был на грани срыва, потому что не мог выразить словами свои чувства.
— Вы великолепны, неотразимы. Я счастлив, что пришел!
— Я же велел всем уйти, — сказал Латтинг, помолчав.
— Я был не в силах уйти. И пока не собираюсь.
— Я мог бы заставить вас уйти, — холодно процедил Латтинг.
В его словах сквозило нечто вполне конкретное. Достаточно ему надеть определенную маску, промолвить определенное слово — и этот юноша вскочит как ошпаренный и без оглядки исчезнет в темных недрах дома.
— Могли бы, но не станете, — уверенно сказал юноша. — Я Ральф Смит. Помните, Глэдис познакомила нас в начале вечеринки?
Латтинг шевельнул рукой. На его лицо мгновенно легла тонкая хрупкая маска женщины. Она была очень бледна, и глаза были обведены тончайшими синими линиями. Тонкие прямые губы были обведены розовым, а брови очерчены черным. Латтинг заговорил пронзительно визгливым голосом:
— Мистер Латтинг, позвольте представить вам мистера Смита, он очаровательный мальчик и писатель к тому же. Вам следует ценить знакомство с ним, он хороший собеседник, такой же, как вы! Умненький мальчик, а какой прехорошенький!
Смит залился краской.
— Какая же Глэдис дура! Я думал, провалюсь со стыда под пол.
— Так значит, я дура! — закричала Глэдис. — Вот твоя благодарность за то, что я тебя сюда привела на встречу с великим Латтингом. Так значит, да? Ну, Смит, чтоб я еще раз связалась с тобой!
Рот у Смита задергался. В глазах появилась мольба. Руки вытянулись вперед и задвигались в воздухе. Ноги сдвинулись с места. Он оказался в беспомощном положении. Один раз он чуть не произнес имя «Глэдис», но вовремя осекся. Бессердечная, язвительная, обличительная речь в адрес этого глупого юнца Смита продолжалась. По ее окончании Смит рассыпался в извинениях, обливаясь потом, и совершенно одурел.
— Ладно, — Латтинг сбросил маску. — Вам не мешает чего-нибудь выпить.
Он налил себе и ему, не глядя на мистера Смита.
— Вы явились в логово льва подергать его за гриву?
Он закупорил бутылку.
— Не вы первый… Я уже привык к тому, что люди приходят поглазеть и вынести приговор. Это единственная радость в моей жизни.
— Слова человека, который потерпел неудачу в любви.
— Ничуть. Скорее, потерпел неудачу в жизни. Моя первая ошибка — то, что я родился. Вторая ошибка — то, что я не ушел после того, как обнаружил первую ошибку.
Он протянул Смиту выпивку.
— Я уже вижу, чем это кончится. Мы проговорим до рассвета. Вы попытаетесь меня разговорить, как вам покажется, до бесконечности. Вы будете рассказывать об этой ночи своим друзьям или впоследствии опишете ее в книге.
— Видел ли кто-нибудь ваше лицо?
— С тех пор, как мне минуло восемнадцать, — никто.
— А до этого?
— Я иногда и сам сомневаюсь, было ли у меня когда-нибудь лицо.
— Могу ли я когда-нибудь увидеть ваше лицо?
— Нет.
— Почему нет?
— Для этого есть веские основания личного характера.
— Вы все время в маске?
— Даже во сне.
— А когда вы влюблены?
— На этот случай тоже есть маска. Ироничная.
— Где вы раздобыли эти маски?
— В Индии, в Перу, в Мексике, в Боливии и в Зоне Панамского канала. На Гаити и в Суахили-ленде. Некоторые я заказал резчикам с хорошо развитым чувством ненависти, которые носили маски в долгие периоды великого гнева и негодования. Их пот въелся в маску и тем самым придал ей подлинности.
— Вы же не хотите сказать, что от пота маски становятся лучше?
— Во всяком случае, уже хорошо, что он там наличествует, даже если не веришь в такие вещи. Хотя бы об одной переменной величине не нужно заботиться.
Смит прикурил сигарету, медленно оборачиваясь, чтобы получше разглядеть комнату. Она была переполнена. Со всех четырех стен на него дико таращились сто, двести резных образин, поблескивающих в тусклом освещении и готовых ринуться на него при малейшем мановении Латтинга. В такой комнате одиночество тебе не грозит. Так и чувствуешь себя зажатым среди толпы людей в тесной комнатушке. Он обернулся и пристально посмотрел на стройную фигуру того, кто застыл в кресле, напялив серую маску, и сжимал тонкими длинными пальцами подлокотники, наставив на Смита серые глаза.
— Что за обшарпанная комната, — сказал Смит. — Чего ради вас занесло под самую крышу этакого заведения? Захотелось пестроты или пафоса? Это выше моего понимания.
Латтинг не двигался. Лишь слегка зашевелились его губы под выемкой рта холодной маски.
— Умеете выглядывать из окон?
Смит удивленно поднял брови.
— Разумеется. А что такое?
— Выключите свет, подойдите к тому окну, приподнимите самую малость жалюзи и посмотрите вниз.
— Раз уж вы так просите.
Смит нехотя выключил свет. Послышался звук осторожного перемещения по пустой комнате. Мгновение спустя зашуршали и приподнялись жалюзи. Расплывчатый профиль его лица возник в свете уличных фонарей.
— Ну, — нетерпеливо спросил Латтинг. — Что же вы видите?
— Фонарный столб, тротуар четырьмя этажами ниже, запертую на ночь бакалейную лавку и человека в сером на нижней ступеньке каменного фасада.
— Долго же вы к нему подбирались.
Лицо Смита запечатлелось в просвете жалюзи. Рука держалась за подоконник, напряженный корпус подался вперед.
— Он следит за вами?
— Да.
В затемненной комнате Латтинг представлял собой не больше, чем тень, отсвет, расплывчатый силуэт.
— Зачем?
— Затем, что меня подозревают в убийстве.
Жалюзи хлестко захлопнулось. Лицо Смита исчезло в темноте. Было слышно его дыхание. Он не двигался.
— Можете включить свет, — тихо сказал Латтинг. — Вам все еще хочется провести здесь за разговорами всю ночь?
Наутро, около девяти часов, хозяйка, поднимаясь раз за разом на ступеньку, думала, какая же это тяжкая ноша. Не успела хозяйка прикоснуться к двери, как та распахнулась, и на нее зыркнул дикий мордоворот, и голос из-под маски завопил:
— Полагаю, вы явились за остальной суммой?
— Да, — ответила хозяйка, — действительно.
— Подите прочь!
Дверь захлопнулась — ее заперли изнутри.
Она принялась колотить в дверь.
— Гоните арендную плату!
— Неряха! — крикнул он. — Грязнуля!
Он высунул маску наружу, чтобы она могла на нее полюбоваться. Резьба на маске изображала красные гримасы, алые нахмуренные брови и скрежещущие зубы.
Она с воем побежала вниз по лестнице.
У себя в комнате мистер Уильям Латтинг выложил деньги на стол.
— Итак, — медленно проговорил он, — ставлю двадцать пять долларов, мой милый Смит, что через час я спущусь вниз и обнимусь с моей квартирной хозяйкой миссис Флаерти как ее старый возлюбленный, и все будет хорошо.
Смит достал свои деньги.
— Даю десятку сверху.
Уильям Латтинг молча покачал головой:
— Вы наивны. Вы плохо меня знаете. Считайте, плакали ваши денежки.
В десять утра в дверь миссис Флаерти постучали как никогда нежно и ласково. И когда она отворила ее, перед ней возникла деревянная личина с вырезанной на ней лучезарной улыбкой и развеселыми глазами.
— Ах, миссис Флаерти!
— Кто это?
Она прижала ладонь к губам.
— Это ты?
— Ну вот, пришел и напугал милую женщину, — сказала жизнерадостная маска.
— Мистер Латтинг, — сказала она.
— Вы ведь впустите этого скверного человека, не правда ли? — спросил он.
— Что такое?
— Я глубоко опечален и раздосадован. О, примите мои извинения, прошу вас о прощении, а не то я умру.
— Но вы были такой странный, — сказала она, стоя в дверях.
— Чудовище, дикарь, варвар, подлец, подонок.
— Не всё сразу, — сказала она.
— А еще болван, жулик, трусишка и чей-то там сын…
— Умоляю!
Она взглянула на обманчиво сияющее лицо. Он сцепил пальцы, словно поклонялся ей. Схватил ее за руку и облобызал губами теплой маски.
— Снисхождения! Вы — леди, а я — неотесанный мужлан!
— Ну я бы не сказала.
В ее глазах читалась неуверенность.
— Вы были так любезны, что поднялись ко мне по всем этим ступенькам, с ноющей спиной…
— Как вы узнали?
— Спины всегда побаливают, мадам, а боль в вашей спине — перл среди всех болей! Я виноват. Возьмите деньги. И вот еще доллар в придачу. Угостите всех дам шоколадным мороженым и расскажите, как этот гадкий мистер Л. обращался с вами и как он потом вынужден был платить отступного, чтобы ему это сошло с рук.
— Теперь вы ведете себя очень даже благопристойно, — сказала она.
— О, как отрадно слышать это от вас. Я весь в горячечном возбуждении. Во мне все бурлит!
— А я как раз затеяла чаепитие, — сказала она. — Зайдете на чашечку?
— Вы завариваете только лучший чай. Сочту за удовольствие.
— Вот бы вы всегда так себя вели.
Она отправилась за сервизом.
— Но ведь артисты такие нервные и своеобразные.
— Желудок.
Он взял у нее розовую чашку.
— Знаете ли, у меня с желудком неладно.
— Ах, бедненький. Кусочек сахару или два?
В двенадцать пополудни мистер Латтинг похлопал Смита по груди.
— Гоните деньги, — сказал он.
— Какие деньги? — спросил Смит.
— Смотрите, — сказал Латтинг.
Он постучал в окно и помахал миссис Флаерти, которая вывешивала свежее белье на веревку на залитом солнцем заднем дворике.
Она помахала ему в ответ и захихикала.
— Черт побери! — и мистер Смит выудил из кармана деньги расплатиться за проигранное пари.
Маленькая девочка играла желтым мячиком, когда мистер Уильям Латтинг спустился во двор глотнуть свежего полуденного воздуха.
— Привет!
Латтинг посмотрел на нее сверху вниз. Она показалась ему очень нежной, теплой как молоко, очень вежливой и заинтересованной им. Она сначала отвела глаза, а потом снова посмотрела на его умеренную, простую бесстрастную маску.
— Я — Анна Монтгомери, — сказала она. — Я живу на втором этаже в конце коридора. А вы — мистер Латтинг.
— И тебе хочется узнать, почему я ношу эту маску, — сказал он.
— Да.
— И зачем я переехал в этот район из очень престижного района у реки, при том, что у меня есть роскошная машина. Вот что тебе хочется знать. Так?
Она ненадолго задумалась, а затем кивнула.
— Ну, — сказал он очень тихо, присаживаясь рядом. — Я ношу эту маску, чтобы меня спрашивали, зачем я ее ношу.
— А!!! Ха-ха-ха!!! — рассмеялась она.
— Нет, вполне серьезно! В самом деле! Никаких других причин. Если хочешь, назови это экспериментом.
— А что под ней? — поинтересовалась она, глядя на его неподвижный рот.
— Тоска зеленая, — ответил он.
Ветер трепал ее мягкие локоны. Она крепко сжимала резиновый мяч.
— Нет, я хочу сказать, что у вас под маской?
— Лицо.
— Тогда почему вы им не пользуетесь?
— Я не умею ходить с каким-то одним выражением на лице. Милая мадемуазель, в наши времена невозможно хранить на лице одно-единственное выражение. Если я улыбаюсь, то получается лицемерно. Прости, я хочу сказать, я не чувствую, что у меня на лице улыбка, это просто игра. Если я улыбаюсь, моя улыбка вырождается в печаль. Как бы это объяснить? Я лишен переживаний. Я — Пустотелый Человек. Один из величайших пустопорожних человеков нашего времени. Я совершенно полый.
— У вас есть сердце, легкие, желудок и печень.
— В этом нас уверяют ученые, причем чеканным и безапелляционным тоном.
Девочка призадумалась и повернулась к нему, когда ей пришел в голову новый вопрос:
— Вы ходите в церковь?
— На этот случай у меня тоже припасена изумительной работы маска, бледная, словно чистейший костяной фарфор, и высокохудожественная. Ей-богу, она совершенно бесстрастна: из нее вытравлены, выпарены последние остатки чувств и эмоций. Ее глаза возведены только и только к небесам. Из золотистого венчика на макушке постоянно струится слабый аромат ладана. Могу как-нибудь дать тебе поносить. Она хранится у меня наверху в футляре.
— А вы забавный, — сказала она и убежала играть.
Некий сеньор Серда, что живет в приозерном городе Пацукаро, в захолустной мексиканской глубинке, получил от него инструкции по изготовлению маски к определенному сроку. И сеньор Серда трудился ночами напролет при свете коптилки, а порой — при свете доброй, почти тропической луны, плавающей среди слоистых облаков и десяти миллиардов звезд. В Соединенных Штатах ничего подобного не увидишь.
Многие годы жил да был в Соединенных Штатах жестковатый мистер Уильям Латтинг при своих обедах и винах. За коктейлем, бывало, его одолевали сомнения, и он задумывался: «Вот в этот самый момент сеньор Серда работает на меня. В трех тысячах милях отсюда, на мощеном дворике, под плеск фонтана, в компании птицы, что прыгает и скребется в клетке на столбе — вот он сеньор Серда с ножом и древесиной. Мы, двое, вдалеке друг от друга, заняты одним делом. Он отвечает за внешний облик, а я — за его костяк и мышцы. Я отвечаю за разум, который оживит и одушевит эту заготовку. Это еще вопрос, кто и что для кого готовит? Может, это я — вдохновитель? Нет, не всегда. Но в данном случае — да».
Например, однажды в мае он пишет сеньору Серде пространное подробное послание:
«Сеньор Серда, во мне бродят силы, которые созреют к 1 августа или около того. Я умоляю Вас, нет, поскольку я щедро плачу Вам, то я требую от Вас; нет, так тоже не годится; так как Вы мой добрый друг, я прошу Вас, будьте добры, вырежьте, изготовьте и доставьте мне к этому сроку маску следующей формы и содержания!»
После чего стремительными росчерками грифельного карандаша он наносил лицо, его размеры и какие чувства и настроения следует на нем изваять.
«Сеньор Серда, маска, безусловно, должна быть у меня к 1 августа. Прошу не подведите меня, ибо в противном случае Вы даже не представляете, что со мной станет. Я окажусь в крайней опасности, а Вы наверняка не желаете причинить мне вред или подвергнуть меня опасности. Приступайте к работе без промедления, но, как всегда, прилежно. Это должно быть само совершенство».
Так проходил июнь, и время от времени Латтинг невольно ощущал, как это новое чувство в нем росло, разрасталось, норовило выйти наружу, проявиться, искало выхода и не находило, загнанное внутрь ширилось, возрождалось, преумножалось, выплескиваясь через край. Июнь прошел в ужинах и восхитительных мимолетных вечеринках для горстки приглашенных. Он призывал гостей явиться, не мешкая.
— Алло, Роби? Заходите сегодня ко мне с Эльмой. Договорились? Ты настоящий друг!
И они заходили. Кто бы посмел отказаться: сам Латтинг приглашает! Виделись с ним изредка, а когда виделись — гадали, в каком обличье он предстанет на этот раз? Он мог войти в любой образ, явиться в доселе неведомом облике. Они приходили готовые к тому, что через полчаса их выдворят. Он похлопывал их по плечу, пожимал руки, прикасался к дамским подбородкам, раскланивался и удалялся. Его слуга разносил прощальные бокалы, а затем принимался выключать свет до тех пор, пока не становилось так темно, что компании приходилось на ощупь выбираться наружу и под фонарным столбом в очередной раз твердить: до чего же странный фрукт этот Латтинг! Бывало, он мог продержать их лишний час, а иногда — оставить на весь вечер, если они умели подыграть ему, когда он был расположен к игре, и находился кто-нибудь, способный подобрать нужную приманку для его «эго». Он вещал, а они сидели, даже не пригубив бокалы, осознавая, что на других вечеринках, в иных местах они жили бы одной выпивкой, но здесь питие только отвлекало, притупляя мысль, вместо того чтобы сохранять остроту и свежесть ума при беседе с господином в маске.
Во время одного июньского застолья при свечах он задумался среди теней, пляшущих по комнате, о темном мексиканском дворике, где работал его друг. Он поднял глаза, блики играли на его маске, и промолвил:
— Серда.
— Что? — приятели взглянули на него.
— Серда. Мой друг, моя опора. Интересно, как он там?
— Кто такой Серда?
— Не важно. Он — это я. Вот кто.
И он задумывался: спорится ли работа у Серды? И будет ли маска впору? «Чепуха, его маски всегда были мне впору. И теперь будут».
Он думал о Серде весь июнь и весь июль; в последнюю неделю июля его мысли кипели в голове шипучими пузырьками. Он доходил до кондиции. Следил за своей почтой. Нервничал до исступления. Никого не принимал. Заперся в комнате и ждал прибытия того, чему суждено было прибыть. Он и маска должны подойти друг другу как две части головоломки, как Инь и Ян, с невиданной точностью, впритирку, чтобы между половинками не протиснулось бы и лезвие ножа. Он объяснил Серде, чего он хочет; резец работал. Он пытался представить, какую часть он вырезает сейчас, какие эмоции запечатлеваются на маске. Уже 15 июля. Маска ДОЛЖНА быть готова. Вот ее в оберточной бумаге укладывают в коробку. Лак просушен. Засыпают опилками, причудливо завитыми бумажными спиральками. Теперь — на станцию. В долгое путешествие по синим горам, под кремовыми облаками, сквозь раскаленную пустыню. А если, боже упаси, она потеряется в пути!
И так каждый день, всякий раз с новой маской от Серды — та же история. Вот маска готова. Лак высох. Коробка. Поезд. Наступил конец июля и его обуяла непреодолимая страсть — заполучить лицо, новое мощное творение!
А вдруг Серда умер? Он представил себе длинную похоронную процессию на кладбищенском холме. Ваятелю суждено было попасть под резцы несметного множества резчиков-насекомых в земле Пацукаро. Он слышал высокий глухой перезвон, который бывает, когда язык-скалка разминает бронзовые бедра колоколам. Он видел, как на распростертого Серду сыплются комья земли.
Последний день ожидания. Первое августа. Непрерывное курение. Безудержные возлияния. Затворничество. Он совершенствуется…
И тут.
Звонок в дверь. Дверь распахивается.
Коробка прибыла.
Непринужденно вскрывается коробка, словно это обычное дело. Стакан и сигарета отложены в сторону. Он смотрит на слугу, кивком приглашая его выйти. Затем поддевается крышка ящика, рассыпаются безумные конфетти, папиросная бумага, опилки…
Явление новой маски!
Иногда провозвестником новой маски становился сам сеньор Серда. Бывало, с изысканным испанским наклоном он писал: «Сеньор Американец! Я задумал и изготавливаю новую маску, о которой Вы и помыслить бы не могли. Сие Вам неведомо. Настанет день, и я ее Вам пришлю. Ждите!»
Уильям Латтинг разражался хохотом и выпивал за здоровье Серды. Старый добрый Серда! Он качал головой и гадал: какой же будет маска? На удивление вдохновляющая! Добротная, аккуратная. Приятно получить новую маску вот так — вдруг, ниоткуда. Перед ним открывались новые горизонты. Восхитительно! Никакой нервозности. Одно чистое ликование. Никакой напряженности, никаких ожиданий или треволнений. Все будет прекрасно, по-новому. Он получит новую пищу для ума. Он будет ждать прибытия новой бесподобной маски от сеньора Серды, словно старинного вина, в предвкушении приятного события. Он заранее обзвонит друзей и обо всем расскажет:
— Ждите же ждите! И узреете!
Его свободный ум отплясывал под музыку Серды, а не наоборот. Он должен был подлаживаться к маске. Вот прекрасный вызов, ни разу не оставленный без внимания, ни разу не оставшийся безответным! В противном случае маской должен был быть он собственной персоной! Когда он извлекал из коробки заранее задуманную маску, он впадал в эротический экстаз, и как только маска касалась его лица, его щеки заливались краской и возгорались. Он, прерывисто дыша, туго-натуго натягивал маску, его глаза вспыхивали в прорезях. Ротовое отверстие спирало дыхание, а из ноздрей сквозь носовые отдушины сыпались искры! Маска и Латтинг дышали, сочетанные, пригнанные друг к другу, сцепленные, впечатанные, неразрывные!
Но с масками-сюрпризами от Серды все было иначе.
Маски-сюрпризы обдавали холодом, как инструмент — флейта, труба, на которой предстояло сыграть, испытать на разные лады голоса, жесты, настроения, отношения и оттенки. Они дразнили, доставляли наслаждение, изумление, подобно зажженной в темноте спичке перед зеркалом, лицу, новому потрясению. Они были холодны, холодны. Требовалась смекалка, чтобы раскусить их загадку. Он со смехом вскрывал коробку, сгорая от любопытства и радуясь тому, что беспроблемная жизнь подбросила ему какую-то новую проблему, дабы подвергнуть его испытаниям хоть ненадолго.
— A, мистер Латтинг, добрый вечер!
— И везде-то вас знают, — заметил Смит по пути к столику в уголке затемненного ночного клуба.
Певица исполняла душещипательный романс.
— Да, знают.
Латтинг присел и положил на столик небольшой сверток.
— Что это? — поинтересовался Смит.
— Моя персона. Заметьте, моя маска гладкая, серая, почти лишена черт и бесстрастна.
— Да.
Смит протянул руку к свертку, развернул, и кончик его пальца в чем-то увяз. Он поднес палец к глазам.
— Это же, черт возьми, модельная глина!
— Терпение, мой друг.
Латтинг взглянул на соседний столик. Под прорезями маски незаметно ходили его горящие глаза. Мимо словно павы проплывали официантки в белом, с превеликим почтением разглядывая мистера Латтинга. За столиком в окружении трех мужчин непринужденно восседала женщина. Казалось, ей ужасно льстит находиться в центре внимания этой троицы. В ответ она озаряла их своим сиянием. И тут она заприметила глазевшего на нее Латтинга. Его маска не дрогнула, не шевельнулась и никоим образом не выдала его интереса.
— Кто она? — вполголоса полюбопытствовал Латтинг.
Смит поднял глаза:
— А! Эта? Вы не могли о ней не слышать. Лизабета Симмс. Ну вы же знаете ее. Каждую ночь — новый мужчина, по воскресеньям — двое. Вы ведь слышали о ней! Только не говорите, что нет!
— Та, что ни разу не выходила замуж?
— Ей тридцать четыре. Шикарна, не правда ли? Наверняка каждый миллионер в городе делал ей предложение остепениться. Но Лизабета так своеобразно устроена, что ставит силки на всю дичь разом. От нее нет спасения никому, кто носит брюки. Говорят, электрики, приходящие к ней на квартиру чинить вентилятор, сильно рискуют.
— Так вот, значит, как обстоит дело, — проговорил Латтинг.
Певица закончила унылое песнопение; играла только музыка. От сигареты в руке Латтинга струился дымок. Иногда Латтинг застывал на полчаса, не пошевелив даже пальцем. Вот он вперил свой взгляд в белоснежную женщину с изящными руками, тонкой шеей и темными очами. Все мужчины говорили ей что-то наперебой, но она не смотрела на них и не слышала их. Ее очарованный взор был прикован к маске напротив.
— Что происходит?
Смит немного нервничал.
— Как знать, — отрешенно пробормотал Латтинг.
— Только не говорите мне, что она вас заинтересовала.
— Некоторые женщины таят в себе вызов. А она — настоящий, неподдельный, откровенный вызов.
— Какой еще вызов, — фыркнул Смит, — мне достаточно подойти и договориться с ней о встрече на моей квартире, вот и все свидание. Завтра она будет с кем-нибудь другим.
— Нет, нет, вы не так поняли, — медленно проговорил Латтинг.
Его горящие глаза не мигали.
— Она сама есть вызов. Вопрос в том, чтобы заполучить ее не на одну ночь, а на всю жизнь. Вот в чем вызов.
— Какой же для этого должен быть мужчина? У нее вечно пропадает интерес. Из такого уж она теста. С таким вызовом не справиться.
— Значит, нет?
Латтинг размял пальцами кубики глины в коробочке, вытянул наружу и мягкими ваятельными движениями размазал по маске. Розоватая глина отбрасывала на свету блики. Он то прикладывал, то отрывал руку, прикасался, разглаживал, колдуя над маской. И при этом не сводил с женщины глаз. Она же в свою очередь отвечала на его интерес не менее внимательным взглядом.
Израсходовав всю глину, он большим и указательным пальцами вылепил на чистой маске брови, настроил рот на режим улыбки, одним нажатием и касанием заострил нос. Затем молниеносно поднял руку и поприветствовал женщину.
— Боже мой! — вырвалось у Смита.
Лизабете Симмс оказывал знаки внимания некий белобрысый субъект с ямочкой, сияющей розовой улыбчивой физиономией и остреньким носом.
Маска Латтинга превратилась в подобие этого розового юноши.
Розоволицый, склонившись к Лизабете, что-то ей нашептывал, силясь в чем-то ее убедить. По ту сторону зала Латтинг умоляюще заламывал руки, дабы убедить ее в чем-то похожем. Латтинг следил за каждым его жестом и спустя миг повторял:
— Что за чертовщина! Точно по образу и подобию! — изумился Смит.
Лизабета Симмс безудержно расхохоталась.
— Вот, — молвил в сторону Латтинг, — и первая победа. Послушайте, Смит, а не прогуляться бы вам к бару на пару минут. Она скоро ко мне подойдет, но если вы будете здесь, ничего не получится.
— А как же ее свита?
— Она от них избавится. Я знаю. Одного отошлет за аспирином, другого — позвонить по телефону, третьего — за сигаретами. Внимание!
Троица отправлялась исполнять свои задания прямо у них на глазах. Нехотя.
Смит вздохнул.
— Я скоро.
Встал и зашагал прочь.
— Не спешите возвращаться, — посоветовал Латтинг.
Он сидел, с отсутствующим видом созерцая ее. Время от времени он месил глину и перелицовывал свое лицо. Для начала он превратился в Смита, который только что удалился, затем — в сидевшего по ее правую руку угрюмого футболиста. После чего он вылепил нос, брови и впалые щеки метрдотеля и поцеловал свою руку, словно это была ее ручка. Счастливая, она чинно сидела во время всего представления. Наконец одну половину лица он уподобил белобрысому, а вторую — Смиту: стоило ему повернуть к ней одну половину, как менялась жестикуляция, а с ней и личность. Он подмигнул ей.
Оркестр заиграл новую мелодию. Посетители вышли потанцевать. Лизабета Симмс была среди них одна. Она тихо встала и, не отрывая взгляда от Латтинга, направилась к нему. Остановилась у его столика, ничего не говоря. Потом сказала:
— Добрый вечер.
— Добрый вечер, — сказал он.
— Меня зовут Лизабета Симмс, — представилась она.
— Очень приятно, — сказал он, — присядете?
Роман Латтинга с Лизабетой Симмс длился месяц. Она вполне искренне и не на шутку влюбилась в него. По ее собственному меткому признанию:
— Он олицетворяет всех и каждого. Пройдет час, и он уже другой человек. Он один стоит тысячи мужчин. Уж я-то в них разбираюсь. Их у меня было видимо-невидимо. Я не знала счастья, не могла ни на ком остановиться, пока не встретила Уильяма Латтинга. Все осталось по-прежнему, ей-богу, я, можно сказать, сплю со всеми подряд, но теперь у меня один мужчина — воплощение всех мужчин. Вот почему я влюблена в него. Я, может, даже выйду за него замуж и угомонюсь. Даже не верится!
Только Латтинга это не устраивало. Как только он понял, что эксперимент с Лизабетой превзошел все ожидания и при желании он может держать ее при себе хоть до скончания дней своих, то сразу же потерял к ней всякий интерес.
Он стал все время носить простую синюю маску, вырезанную в Греции, которая была у него несколько лет. Он не снимал ее ни утром, ни днем, ни ночью.
— О боже! — стенала Лизабета. — Все та же маска! Тот же характер!
Он носил синюю греческую маску ежедневно целых три недели.
— Неужели ты не можешь надеть какую-нибудь другую? — умоляла она.
— Нет, — отвечал он, вполне осознавая последствия.
Он носил греческую маску каждый день.
В конце третьей недели Лизабета съехала от него. Больше он ее не видел. Только тогда он снял греческую маску.
— Пришлось повозиться, — признался он. — Но она ушла. Не вынесла сожительства с одним-единственным мужчиной. Соскучилась по всем остальным мужчинам, которые жили во мне. Прощай, Лизабета!
Греческую маску он сжег.
Вскоре после разрыва с Лизабетой у него начались неприятности с полицией. То тут, то там в городе он оказывался возмутителем спокойствия и предстал перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Шеф полиции кричал, что ношение маски в общественных местах создает нездоровую атмосферу. Латтинг тут же выкрутился, заявив, что он ветеран войны, с изуродованным лицом под маской. Но так как он не унимался, непрерывно донимая добрых людей своими масками, то его снова привлекли к суду, где он потребовал правосудия. На суде, по словам адвоката, а может, судьи, он принялся передразнивать всех и вся, и в итоге на него наложили огромный штраф за неуважение к суду.
Полиция продолжает дознание на основании слухов, согласно которым Латтинг замышляет убийство. Латтинг говорит, что на протяжении нескольких лет он кого-то медленно убивает. Читатель догадается, что Латтинг на самом деле замышляет самоубийство, и он убивает нечто в самом себе, а маски служат орудием убийства его души и веры. До полиции это не доходит; там считают, что он готовит реальное, а не символическое убийство.
Квартирная хозяйка опасается, что под маской Латтинга таится нечто ужасное. Она делится своими соображениями с дочерью. Они пытаются всяческими уловками выманить его из квартиры. Он умиротворяет их, представ перед дочерью в маске человека, в которого она мечтала бы влюбиться, а его описание он выпытал у нее однажды ночью. Перед матерью он предстает в маске ее давно умершего отца. Он приходит и сидит у нее в гостиной. Разговаривает с ней так, как некогда разговаривал ее покойный отец. Так Латтинг находит выход из очередной затруднительной ситуации.
Его любовные похождения продолжаются. С помощью своих масок он крутит четыре романа одновременно. А когда женщины начинают его ревновать к другим, он просто отвечает:
— Как вы можете ревновать ко мне? Вы ведь любите эту маску и то, как я в ней себя веду. Когда я надеваю другую маску, я уже не тот, кого вы любите, а другой. К новой женщине я иду в новой маске. Разве можно ревновать к другому человеку? Нельзя. Это нелогично и глупо. Ради всего святого, прекратите ревновать. Я люблю вас, вы — меня. Так чего же вам еще надо?
Одну из влюбленных в него женщин зовут Аннетт.
— Ты любишь меня? — спрашивает он ее.
— О, да, да, я люблю тебя.
— Ты любишь мое лицо, — говорит он, — и ничего больше. Ты из тех женщин, кто выходит замуж за внешний облик.
— Нет, нет, это ребячество, — возмущается она. — Я люблю тебя всего без остатка.
— А если бы у меня было другое лицо.
— Я бы все равно тебя любила, — отвечает она.
Он снимает одну маску и надевает другую.
— О-о, — говорит она, встает и уходит.
— Я так и думал, — торжествует он. — Лизабета любила меня за то, что я был сразу сотней мужчин зараз. А эта любила меня за то, что я был одним-единственным. Ох уж эти разные, все поглощающие женщины!
К Латтингу обращались за советом. Он встречает посетителей в маске, изображающей их самих, выпячивая присущие им пороки и недостатки, к досаде одних или радости других. Большинство друзей отворачивается от его едких пародий на них самих и предпочитает вести тот же бессмысленный образ жизни, что и раньше. Некоторые даже пытаются убить его за то, что он беспощадно обнажает их слабости, а некоторые, напротив, набираются ума.
К нему приходит молодая женщина с подарочной коробкой.
— Откройте, — обращается она к нему.
Она долгие годы была влюблена в своего отца, но поскольку общество, в котором она живет, осуждает подобное поведение, то все ее чувства подавлены, загнаны внутрь.
Латтинг открывает коробку и обнаруживает маску. Она заказала ее в качестве особого подарка.
— Это маска моего отца, — говорит она.
— Вот оно что! — удивляется Латтинг.
— Наденьте ее, — просит она.
Он надевает маску.
— Теперь, — говорит она, присаживаясь рядом, — можете взять меня за руку.
Латтингу все хуже и хуже от череды любовных похождений и разоблачений пустопорожней любви с помощью масок. Его эксперименты с представителями общества, церкви и искусства только усугубляют его состояние. Он понимает, по какому тонкому льду катится наша цивилизация со своей жестикуляцией и кривлянием, лишь бы скрыть свою внутреннюю порочность. Он впадает в глубокую депрессию.
Чтобы спасти Латтинга от самого себя, Смит разыскивает, находит и пускает в ход фотографию семнадцатилетнего Латтинга. Смит заказывает маску, в точности повторяющую черты Латтинга в этом возрасте, пятнадцать лет назад.
И дарит эту маску Латтингу.
Латтинг в ужасе смотрит на маску и понимает, что потерял все — юность, чистоту, веру, доверие, порядочность. Он сломлен ею. Эксперимент окончен. Латтинг совершает самоубийство.
Когда с мертвого Латтинга снимают маску, открывается лицо безупречного цвета и очертаний. У него не было никаких физических изъянов, чтобы прятаться под маской.
Смит добивается, чтобы Латтинг был кремирован вместе с масками.
Человек под маской (факсимильные фрагменты)
МАСКИ
Изысканные маски лежали на столе рядом с креслом мистера Йовара, откуда он мог, не мешкая, дотянуться до них в случае надобности.
— Они нужны мне постоянно, — объяснил он, натягивая одну из них на лицо. — Паралич, знаете ли, разбил меня в одиннадцать лет. С тех пор на моем старческом лице не движется ни один мускул.
— Понимаю, — сказал его собеседник помоложе по имени Сиарди.
— Вы хотите сказать, что сомневаетесь, — сказал старик.
— Напротив, — возразил Сиарди. — Эта идея меня взволновала.
Маска, смотрящая на Сиарди, мерно излучала приязнь.
I группа фрагментов — истоки
Стопка черновых листов из папки с «Масками» проливает свет на то, как Брэдбери экспериментировал с различными приемами повествования и голосами в начальных сценах. Одна из самых коротких сцен представляется нам вступительным кадром к вариантам короткого рассказа на тему «Масок» с неким мистером Йоваром, показывающим своему другу Сиарди, как с детства маски помогают ему скрывать лицевой паралич. В этой паре строк Брэдбери готовится исследовать, как череда тщательно подобранных масок может сымитировать полноценную последовательность человеческих эмоций.
Два других вступительных варианта описывают предысторию главного героя задуманного романа, который собирается оставить свое имущество и внушительное собрание масок на попечение своего адвоката Стивенсона. В этих вариантах главного героя зовут Чарльз Смит, а не Латтинг, но в них больше внимания уделяется стилю и мастерству, чем именам. В тексте первого варианта повествование ведется от третьего лица, главным образом в форме диалога между Смитом и Стивенсоном. Во втором варианте Брэдбери экспериментирует с повествованием от первого лица — от имени Чарльза Смита. Ни тот, ни другой эксперимент не занимает более двух страниц.
Третье вступление более субъективно и опосредовано, оно ведется, более или менее, от второго лица, которое описывает впечатление от, собственно, масок. Имя главного героя не упоминается; нам только известно, что разновидности масок, разложенных на его столе, задают тон предстоящему разговору. Иногда маски настроены на приятную беседу, а порой они угрожающе враждебны. В любом случае маски предопределяют исход всего, чему суждено произойти. Три последних отрывка — эксперименты с взаимодействием персонажей. В этих фрагментах Брэдбери изучает, как маски обостряют восприятие, а временами усиливают способность их носителя читать мысли тех, с кем сталкивается хозяин маски (и даже оказывать на них воздействие).
ЧЕЛОВЕК ПОД МАСКОЙ
— Это вы серьезно?
— Серьезнее не бывает.
— Все бросить, покинуть город, скрываться?
— Именно.
— И начать экспериментировать с масками?
— Чую, настало время.
— Да будет мне позволено сказать, вы — сбрендили!
— Я знал, что вы так отреагируете, — парировал Смит.
— Что вы надеетесь этим доказать?
— Что лица — это всего лишь лица, а маски — маски, и следует быть осмотрительным, под какой маской или с каким лицом нам выходить на большой Бал или в Жизнь, если вам угодно.
— Вас бросят за решетку. Вы растеряете всех своих друзей.
— Я рискну.
Он закончил укладывать вещи в свой единственный чемодан. Он стоял в обширной, освещенной огнем комнате. Очаг отбрасывал тусклые отсветы на стены, увешанные тысячей то злобных, то дружелюбных масок. Он задержал на них взгляд, затем протянул руку своему другу.
— Ну, Стив…
— Что бы мне такого вам сказать, чтобы вы отказались от своей дурацкой затеи? — спросил Стивенсон.
— Нет, спасибо, — ухмыльнулся Смит.
— Тогда можете хоть скатиться с горы и расшибиться в лепешку. Мне безразлично.
— Значит, вам придется присматривать после меня за домом.
— Да я его дотла спалю.
— В свое время я сообщу вам о своем местонахождении.
— Позаботились бы лучше о себе и своей машине.
Смит повернулся и вышел, хлопнув дверью. Оставшись в одиночестве, Стивенсон уставился на камин. Он взял медную подставку для дров и переворошил ею уголья. Пламя вспыхнуло.
Все маски на высоких затененных стенах заулыбались, словно кто-то собирался сделать групповое фото.
Я уже не припомню, когда именно меня озарила идея использовать маски. Такие замыслы приходят в голову постепенно; они словно тени, листва или пелена колышутся на ветрах жизни. И вдруг решение назрело. Время действовать.
Однажды, после полудня 11 февраля 1952 года, я подкрепил свое решение энергичным укладыванием чемоданчика, приготовляясь покинуть свой дом. У меня за спиной стоял мой болтавший без умолку добрый друг Стивенсон. Он по большей части спорил, теоретизировал и увещевал. Но в ответ на все его доводы я только качал головой и улыбался.
— Нет, нет, — я запер чемодан. — Дай же мне перевести дух.
— Но, Чарльз, взгляни же…!
— Именно этого я и хочу, чтобы весь мир взглянул — сюда! — и я прикоснулся к своему лицу.
— Это безумная затея! Как можно разгуливать по свету в масках!
— А я попробую, — сказал я.
— Все скажут, что ты свихнулся, и я не стану их разубеждать.
— Назовем это психологическим экспериментом, — предложил я, пожимая ему руку.
— Ну и отлично, — сказал он раздраженно, — прыгай со скалы. Мне безразлично!
— Я знаю, что тебе это небезразлично, но в данный момент… — я пожал плечами. — Когда я обустроюсь, дам знать.
— В Африке? В Индии? Во Франции?
— Где-нибудь в Соединенных Штатах. Вот увидишь. Ну… вот моя рука.
— Мне следовало бы не жать тебе руку, а огреть дубинкой и связать по рукам и ногам!
— Но ты не станешь этого делать. И на том спасибо. Прощай.
— А как же все эти маски на стенах? — спросил он.
— Они пусть пока побудут здесь. Я пришлю за ними, когда понадобятся. Позаботься о них и о моих деньгах, хорошо, Стиви? Вот это, я понимаю, хороший адвокат и добрый друг!
Его глаза взглянули на меня. За его спиной на стенах смеялась и гримасничала тыща масок. Под их пристальными взглядами я повернулся, подхватил чемоданчик, распахнул дверь — и хлопнул ею от всей души!
Я отправился в путь.
Пользование масками было его непременной потребностью. Особенно если вы с ним находились в одной комнате. Голос — единственное, что в нем оставалось живого; остальное, кроме руки, отмерло; но его речь — многоголосая и зычная — производила впечатление общения с сотней людей, тогда как перед вами сидел один-единственный человек. Голос легко и непринужденно владел нескончаемой гаммой оттенков ‑ от высокого до низкого; мог звучать то женственно, то — не успеешь глазом моргнуть — грубо по-мужски, то по-доброму, то неумолимо жестоко, не успеешь кашлянуть. Его голос был под стать маске. Он искусно подбирал маску из тех, что лежали перед ним. А маски были разложены согласно плану. Можно было наверняка узнать, какой вечер вам уготован, если войдя вы пересчитывали маски, отмечая про себя их малочисленность или замысловатость, торжественность или беззаботность.
Если вы заходили и на столе лежали всего две маски — одна улыбчивая, другая в меру серьезная, то вы могли быть уверены, что вам предстоит приятное времяпрепровождение за беседой о гибкости музыки Прокофьева, по сравнению с музыкой, скажем, Стравинского, или о короткой прозе Генри Джеймса и о романах Конрада.
Но, боже упаси, если рядком были разложены три ужасающие маски. Для начала — строгая серая, темно-коричневая посередине, а напоследок — черная, гримасничающая маска страшного гнева. Тут уж вы попадали в головомойку и даже выпуклости и гладкости жестких деревянных масок корчились и дымились от невыносимой энергичности и реальности. Голос, исходивший от масок, заставлял вас вытянуться на стуле и почувствовать жутковатый холодок в животе. Оставалось только уповать на Божью помощь.
Он вообразил себя хрустальной ретортой, в которую вдохнули волны сладостных благовоний и праведного умиротворения. То была священная праведность, затмевавшая математику, превращавшая каждое движение в скольжение, вальс, мечту. Он парил в двух дюймах от пола. Он был недосягаем для смерти, не нуждаясь ни в еде, ни в питье. Его разум — это заключенная в сферу черепа тончайшая пурпурная материя, в которой содержалось все его знание, отмытое, очищенное, облагороженное. И теперь извне этот глупец резвился, насмехаясь над ним.
Однажды вечером он пошел в театр; в вестибюле толпилась стайка школьников и школьниц из Ассоциации молодых христиан, источавших аромат гардений. Слышались взрывы отрепетированного хохота, непрерывные остроты; лица сияли. Он потихоньку приблизился к ним, чтобы удобнее было наблюдать за их поведением.
— Я говорю тебе — то и это, и кое-что в придачу, — сказал один из мальчиков.
— Ха, — ответила одна девочка и мгновение спустя перестала улыбаться.
— А потом еще и еще, — сказал другой мальчик.
— Интересно, — сказала девочка, теряя интерес.
— И много-много другого, — сказал мальчик.
Все захохотали. Через минуту их изменчивые сверкающие глазенки забегали под мигающими веками, рыская в поисках новых стимулов и реакций в ответ на свои же вездесущие стимулы. Все занимались разбрасыванием камушков. Все, как лужицы, получали эти камушки, вызывавшие рябь на поверхности воды, и погружались в самодовольное самолюбование.
— Посмотри на себя, — сказал тот, что постарше.
Молодой человек напрягся, но сохранял спокойствие. Согнутые пальцы разогнулись и незаметно обрели изящество. Когда молодой человек повернулся и сказал, что эта маска непостижимо прекрасна, старик разразился хохотом.
— Если бы ты мог себя видеть! Десять секунд, и ты — новый человек. Твоя поза, боже мой, твои руки! Какая женственность! Твои глаза в глазных щелях — преданные, верные, благоговейные, как устрицы в сумерках.
— Великолепная маска.
— А твой голос! Напыщенно праведный. В твоих глазах я сейчас разнесчастный, заблудший, жалкий боббит. Ты попытаешься меня утешить, поддержать, наставить на путь истинный, указать на мои прегрешения. Еще час в этой маске — и у тебя завелась бы часовня, паства, братство, и пошло-поехало! Чувствуешь ли ты в себе золотые всплески великого умиротворения? Увлажняются ли твои очи от сострадания, когда ты видишь мое вопиющее невежество и пропащую душу, струящуюся из уголков моего тела?
Молодой человек снова подошел к зеркалу и посмотрелся в него.
Человек увидел свое же лицо с противоположного конца комнаты и, присмотревшись, возопил:
— Это я? Я? Неужели в кресле сидел я?
Кристофер кивнул.
— Благодарю вас, благодарю!
Он чуть было не облобызал Кристоферу руки.
— Вы оказали мне великую услугу!
— Что еще я могу для вас сделать? — поинтересовался Кристофер.
Но всякий раз, когда этот человек встречался с Кристофером на вечеринках, он отворачивался от него. Однажды Кристофер прикоснулся к его плечу и спросил:
— Вы снова сбились с пути? Оказались во тьме? Заблудились? Ваша возлюбленная сковала вас по рукам и ногам? Позабыли о своих дерзновенных намерениях? Вы — все еще марионетка, передвигаетесь как на ходулях. Не можете сменить походку? Или превратились в зацикленного субъекта с эгоистичными замашками?
— Если вы не отстанете, я двину вас в челюсть, — сказал молодой человек и удалился, разминая турецкую сигарету на серебряном портсигаре.
— Присаживайся, Дэвид, — сказал он, и Дэвид присел.
— Что тебя гложет, сынок?
— Я очень несчастен. Я такой несуразный!
— Сынок, такое бывает в жизни сплошь и рядом. В один прекрасный день обнаруживается, что другие выглядят привлекательнее, чем мы. Это вызывает кучу неприятных ощущений. Уж я-то знаю.
— Вот что я тебе скажу, Дэвид. Я дам тебе поносить одну из моих масок.
— Неужели?
— Надевай!
Дрожащими руками Дэвид надел маску.
— Как ты теперь себя чувствуешь?
— О боже, замечательно, великолепно!
II группа фрагментов — дочери
Вторая стопка черновых отрывков посвящена отношениям дочерей и родителей. Дочери неизменно встречаются с незнакомцем в маске в потенциально романтических ситуациях, которые определяют содержание каждой сценки. В двух из четырех недоработанных сценах незнакомца в маске зовут мистер Крис или мистер Кристофер, но на других страницах у него нет имени.
Вступительная встреча, разворачивающаяся на двух страницах, представляет собой разговор матери и дочери о постояльце в маске. Когда дочь признается, что постоялец предложил ей открыть свое истинное лицо, мать закатывает дочери грубый и почти истеричный допрос. Это самый пространный отрывок из четырех, представленных здесь, и в последних абзацах мать пересказывает некий фильм, испугавший ее в детстве. Она сосредотачивается на одном эпизоде, в котором монстр в маске открывает свою личину молодой девушке — героине фильма. Судя по подробному описанию, мы можем легко догадаться, что речь идет о шедевре немого кино — «Призраке оперы», в котором играл Лон Чени. Теперь ясно, почему она с таким пристрастием допрашивает дочь. Мать ужасается от одной мысли о том, что дочери предстоит пережить ту же кошмарную сцену с постояльцем в маске.
Третий отрывок посвящен мечтаниям простодушной дочери об облике идеального возлюбленного. Однако четвертый заключительный отрывок — самый тревожный, ибо, благодаря эффекту замещения маски, молодая женщина позволяет себе совершить психологическое деяние, запрещенное в любом культурном контексте. Она влюблена в своего отца, и маска, сработанная по его образу и подобию, позволяет ей вступить в связь с незнакомцем, который носит эту маску: «Теперь вы можете взять меня за руку». Сцена почти совпадает с событием, происходящим в начальном повествовании «Масок», но здесь она подана в виде рассказа словами владельца масок, скорее всего, безымянного Латтинга, живописующего свои разнообразные приключения своему приятелю Смиту. Это короткая сценка и остаток «подвальной» части страницы зарисован рукой Брэдбери карнавальными персонажами. Эти карикатуры — еще один способ выражения подавленных страхов и запретных страстей, но они также высвечивают игривое облачение в маски и снятие масок, которые возникают в более поздней прозе Брэдбери (всестороннее обсуждение рисунков см. в Eller, Touponce, Ray Bradbury: The Life of Fiction, с. 32–34).
— Интересно, что же приключилось с мистером Крисом? Дуэль? Говорят, он немец, и у него на лице шрамы, которыми они изукрашивают друг друга в Германии.
— Попадаются любопытные шрамы.
— Ни разу не видела любопытных шрамов, — сказала мать.
— Но некоторые и вправду интересные.
— А может, у него родимое пятно?
— Как знать. Жуткое, наверное.
— Однажды он мне пригрозил.
— Правда? Да как он посмел!
Она бросила свое шитье и возмущенно уставилась на дочь.
— Что он сказал?
— Он пригрозил, что снимет маску в моем присутствии.
— Что он сделал?
— Так и сказал: если я это сделаю, тебе не поздоровится. Вот что он сказал.
— Он угрожал?
— Тебе будет плохо, потому что от этого нет спасенья. Так он сказал.
— Это у меня-то в доме! Наверху! В МОЕМ жилище! Да я его с полицией отсюда вышвырну! Вызову полицию! Чтоб с глаз долой!
— Мама, сядь на место.
— Но он тебе сказал… — мать задыхалась.
— Но он этого не сделал.
Хватая ртом воздух, она потянулась за телефоном.
— Я вызову полицию.
— Мама, послушай, он не снимал маску. Все в порядке. Я просто раньше не говорила тебе. К тому же он завтра съезжает. Навсегда.
— Лучше уж навсегда…
Она сняла трубку и уже собиралась прокричать что-то оператору, как бросила трубку.
— Он сказал завтра?
— Да, мама.
— Навсегда?
МАСКИ
— Ну, — мать плюхнулась в кресло и выдохнула, — ну…
— Мама, не волнуйся.
— Он бы лучше, он бы лучше… А если бы он снял маску. Что, если бы он при тебе снял маску?
— Не знаю, — ответила дочь, не зная, что сказать.
— Ты могла бы сойти с ума, вот что! — воскликнула мать, раздувая ноздри и губы.
— Но завтра он съезжает, и навсегда.
— Пусть катится, или я сама его выставлю.
— Мама, ничего страшного.
— У него под маской может оказаться нечто ужасное, как в том кино.
— В немом фильме?
— Там во время представления человек разбивает люстру и она падает на головы зрителям. У него за зеркалом маска, женщина-певица, и он проходит сквозь зеркало, и уводит ее, играет на органе, и она… Теперь вспомнила?
— Я была очень маленькая, — сказала дочь, — кажется, вспомнила.
— …и он играет на органе в маске, а певица снимает ее и видит весь этот кошмар и чуть не сходит с ума.
— Помню.
— Черт бы его побрал с его маской. Пусть убирается из моего дома в своей маске. Наверное, у него страшное-престрашное лицо, — сказала миссис Мастерсон.
— Наверное, — согласилась дочь. — А то с какой стати его скрывать?
— Не хотелось бы его видеть, — сказала мать.
— Мне тоже, — согласилась дочь.
— Мне было бы страшно.
— Я бы тоже испугалась.
— Оно, наверное, такое жуткое, дальше некуда.
— Наверняка.
Мать воткнула иглу в свое шитье.
— Интересно, что с ним приключилось? Пожар? Как ты думаешь?
— Какой ужас!
— Действительно. Да, от пожара бывают жуткие вещи.
— Никогда бы не вышла замуж за человека с обожженным лицом. Ни за что.
— Помнишь мистера Уильямса? Он обгорел на пожаре десять лет назад. И какое сейчас у него лицо. Никто не захотел выходить за него замуж.
— Он никуда не годится.
— Конечно, не годится. Какая женщина за него пойдет?
— Говорили про одну. Как там ее звали? Да ты ее знаешь.
— Кого?
— Знаешь, знаешь. Помнишь девушку из Зеленой бухты?
— Кэрол Стюарт.
— Она сейчас с ним встречается.
— Значит, и она ни на что не годна.
— Мужчины какого типа вам нравятся, мисс Таркинс? — поинтересовался он.
Она отвернулась.
— Опять вы со своими шуточками, — сказала она.
— Ну что вы, — принялся он ее умасливать. — Я серьезно. Какой масти — блондины, брюнеты, рыжие? Скажите же, умоляю!
— Ах, — вырвалось у нее.
Но он проявил настойчивость, и она наконец призналась:
— У него должны быть голубые глаза и волевой подбородок, темные волосы и прямой отточенный нос, красивые налитые губы, чтобы… чтобы…
— Целоваться?
— Чтобы красоваться! — вскричала она, заливаясь краской.
— Ах да, конечно, именно это я и хотел сказать. Красоваться!
На следующий день он спустился по лестнице в маске с волевым подбородком и черными бровями, прямым отточенным носом и крупными налитыми губами.
— Доброе утро, мисс Таркинс!
— Мамочка! Я люблю его! — воскликнула она.
Обращаясь к каждой из своих женщин, Кристофер говорил:
— Разве вы вправе ревновать? Да ни в коем случае. Только если я день-деньской буду любить всех женщин в одной и той же маске. Вы любите эту маску. Когда я надеваю другую маску, я уже не тот, кого вы любите. Это уже кто-то другой с другой женщиной в другой комнате. Тогда к чему вся эта зеленоглазая ревность. Я люблю вас. Вы любите меня. Чего же вам еще?
Ко мне ходит одна молодая женщина. Сказать зачем? Это кошмар, извращение! Я содрогаюсь при одной только мысли об этом, но это правда. И я поделюсь ею с вами: она всегда была влюблена в своего отца. Но общество это запрещает. И вот она пришла ко мне. Да, ко мне. Принесла в подарок коробочку, обернутую в папиросную бумагу. Вручила мне и говорит:
— Вы знаете моего отца, Уильяма Сандерса?
Я ответил:
— Да.
Тогда она сказала:
— Откройте футляр.
Я открыл, а там — маска ее отца.
— Наденьте, — попросила она.
Я надел.
— А теперь, — сказала она, присаживаясь. — Можете взять меня за руку.
И это только одна из многих женщин!
III группа фрагментов — влюбленные женщины
В этой восстановленной группе отрывков женщины более зрелого возраста, чем в предыдущих фрагментах, и их встречи с масками отныне не отягчены присутствием материнских или отцовских персонажей. В первом двухстраничном отрывке жена учится приспосабливаться к мужниной страсти к маскам. И вот однажды вечером он заявляется домой в маске смерти, которая как бы дает право отнимать чужие жизни одним только щелчком пальцев. По-брэдбериански уникально описывается дом, населенный масками, которые слышат, видят и даже вроде бы говорят, когда комнаты продуваются порывами сквозняка. К сожалению, сцена резко обрывается чуть ниже середины второй страницы и нет никаких признаков того, что Брэдбери ее закончил.
Второй фрагмент представляет собой краткую разработку диалога с собеседником в маске, изначально описанного в сжатом изложении на самой первой странице сохранившегося пространного повествования 1946–1947 годов:
«Любимый одной женщиной, он доказывает, что ее любовь так же изменчива, как маски, которые он носит. Простой подменой масок он заставляет ее потерять всякий интерес к нему». В конце новой версии десятистрочного диалога Брэдбери наскоро записал: «Он меняет лицо, и она уходит от него восвояси». Вопреки намеченному развитию сюжета, дальнейшие вариации на тему масок и любви отсутствуют.
Заключительный (и самый продолжительный) фрагмент в этой группе посвящен более тяжким последствиям ношения масок. Но здесь все перевернуто с ног на голову, и уже «мистера Субботу» преследует проститутка, которая заявляет, что ей известна его истинная личность — «мистер Встречный-Поперечный».
Быстро проявляется женоненавистничество мистера Субботы: «Ты — Самка, Цирцея, которая превращает мужчин в свиней», но она неожиданно парирует: «Дело женщины — превращать свиней [sic] в мужчин».
Он готовится лишить ее преимущества, превратившись для нее в «одного человека», но фрагмент скомкан в пятистрочном изложении, в котором сказано только, что в конце концов она совершит самоубийство. Но в последних двух строках изложения Брэдбери указывает, что это столкновение едва ли не так же губительно для мистера Субботы, ибо он чуть не лишился своего свойства воспроизводить тысячу своих лиц. Как и изначальное пространное повествование, концовка этого фрагмента предполагает, что носитель маски может погибнуть, если ему придется слишком долго находиться лицом к лицу со своей собственной персоной. Заключительная страница представляет собой рукописное примечание Брэдбери, где он увязывает имя реального резчика масок из Мексики — «сеньор Серда» с Цирцеей, превращающей мужчин в свиней (по-испански «cerda» как раз означает «свинья»). Брэдбери непрерывно играет словами, что наводит на мысль о том, что он намеревался сделать каламбур Серда/Цирцея сквозным по всему тексту «Масок».
Джонатан ЭллерОна растапливала камин, и маски вырисовывались из темноты, словно только что здесь очутились. Сперва — заостренный нос, круглый черный выпученный глаз, широченный дразнящий рот. Она встала и выпрямилась, протягивая руки к огню, но ей все равно было зябко, а маски на стенах мерцали и поблескивали. Они всецело принадлежали ее супругу, но никак не ей. Дом кишмя кишел ими. Жизнь в нем напоминала Центральный вокзал в момент замерзания мира. Ей казалось, что она бредет в одиночестве мимо мешанины неодушевленных образин жадности, ужаса, алчности и ликования. Стены имели не только уши, но и глаза; глубокой ночью резные уста говорили с помощью ветра, который явно отличался сообразительностью. Ветер всегда наведывался к ним и редко уходил из дома, который раскинулся на холме. А еще по ночам хлопающие ставни били по барабанам, висевшим на стене, и заставляли вскакивать в постели.
Она стояла, растирая худые белые локти, чтобы подавить озноб. Шесть часов. Пора бы Хэнку возвращаться. Она прислушалась и с облегчением услышала, как машина заезжает в гараж. Через мгновение донеслись шаги перед парадным входом, раздался звонок в дверь. Это не Хэнк! С какой стати он будет звонить?
Она отворила дверь.
Перед ней стоял человек в маске смерти.
— Хэнк!
— Нравится? — поинтересовался он.
— Ужас! Заходи.
Он не двигался. Она повторила свое требование.
— Нет, — сказал он.
— Не дури. Холодно же, — сказала она.
Нехотя он вошел внутрь.
— Где ты ее раздобыл?
Она потянулась к нему, чтобы снять маску.
— Нет.
Он схватил ее за запястья.
— Мне нужно с тобой поговорить.
— Но сначала сними этот кошмар.
— Нет. Я должен поговорить с тобой в маске. Может, ты поможешь мне разобраться.
— Что за странные речи!
Ей стало очень холодно, и она отступила к огню.
— Что-то случилось по дороге домой?
— Да. Я сидел в трамвае, и вдруг мне в голову пришла потешная мысль — напялить эту маску. Что я и сделал. И только я ее надел…
Он сжал маску руками с обоих боков.
— Произошла престранная штука: у меня заледенело лицо. Я почувствовал, как маска примерзла к лицу, и я не смог ее сорвать. Мне не захотелось. И внезапно мне в голову пришла странная мысль о том, что я всемогущ. Я почувствовал, что стоит мне щелкнуть кого-нибудь пальцами, как этот кто-нибудь грохнется замертво.
— Будет достаточно и одного взгляда на маску, — засмеялась она.
— Ты любишь меня? — спросил он.
— О, да, да, я люблю тебя, — сказала она.
— Ты любишь мое лицо, — сказал он.
— О нет, я люблю твой голос, все, что в тебе есть.
— Ты уверена, что дело не в лице?
— Да, отчасти и в лице. Важно всё, но главное, ты в совокупности.
— А если бы у меня было другое лицо?
— Теперь ты надо мной подтруниваешь, а я этого не люблю.
Каждый вечер в шесть часов она приходила к двери.
— Скажите ей, пусть убирается, — велел мистер Суббота.
— Кто она? — спросил Раздражительный.
— Откуда мне знать? Какая-то женщина. Не та, так эта.
— Но она не уходит.
— Так позовите полицию.
— Кажется, у вас и так хватает проблем с полицией.
— Тогда бросьте ей баранье ребрышко, будьте добры.
— Вы, однако, изощренно жестоки.
— Это я-то изощренно жесток? Жизнь есть процесс экспансии, а женщина норовит подвергнуть его сжатию.
— Она тоже?
— Она занимается экспансией всю дорогу. Она проститутка, до ужаса экспансивна и наслаждается жизнью. А теперь она нашла меня и собирается взять меня в оборот.
Раздражительный прикрыл рот рукой.
Мистер С. откинулся на спинку стула, положив нож и вилку.
— Очень смешно?
— То, что проститутка готова ради вас покончить со своим ремеслом — и впрямь забавно. Даже очень. И печально.
— Попридержите свои эмоции. Просто скажите ей, чтобы убиралась. Женщина подобна морскому существу наутилусу, которое отыскивает новую раковину и перебирается из одной раковины в другую, довольная своим обиталищем. Женщина — подобна улитке. Она обладает свойством протискиваться в самую непролазную щель между створками раковины (мужчины) и выгрызать всю плоть между створками. Скажите, что я не хочу провести всю оставшуюся жизнь лишь с ней, с ней и опять с ней. Скажите же ей.
Раздражительный вышел, и из-за двери донеслись звуки потасовки. На мгновение в поле зрения ворвалась молодая женщина, которую догонял Раздражительный.
— Вот ты где, — вопила она, подбегая к нему, но остановилась, завидев маску. — Ты меня не проведешь! Маска другая, а ты тот же самый!
— Это неслыханное оскорбление! — закричал он. — Но раз уж ты высказалась, позволь мне продолжить прием пищи.
— Я сяду и буду раскуривать для тебя сигареты, — сказала она.
— Раздражительный, — позвал мистер С.
Раздражительный шагнул вперед.
— Я люблю тебя, — сказала она.
— Держи себя в рамках приличий в присутствии посторонних. Здесь же Раздражительный.
— Мне безразлично, — сказала она. — Я знаю твою тайну, и мы так похожи, и только тебя я люблю.
— О, ради всего святого! Сейчас моя маска раскалится. Наверное, я очень зол и обескуражен. Раздражительный, выйди ненадолго, потом возвращайся. Я попытаюсь вразумить эту неразумную женщину, а потом мы перекинемся в картишки.
Раздражительный вышел.
— Итак, — сказал мистер С. и посмотрел на женщину, которая взглянула на него своими блестящими смышлеными глазами.
— Ну? — сказал он.
Она молчала.
— Садись, — сказал он отрывисто, тыкая вилкой. — Не люблю, когда стоят.
Она села.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Никак, — ответила она, усмехаясь, — сама прихожу.
— Это точно.
— Я знаю, кто ты, — сказала она.
— Кто же я?
— Мистер Встречный-Поперечный.
— А я знаю тебя, — сказал он.
— Кто я?
— Ты — САМКА, ты Цирцея, которая превращает мужчин в свиней.
— Которыми они и являются поначалу. Дело женщины возвращать их из свинского состояния в человеческое.
— Твои амбиции такие же большие, как…
— Как твои, — закончила она за него.
— А! — Он аккуратно вытер салфеткой пальцы. Развернул свой стул, чтобы видеть ее. — Тебе повезло, что я в маске, а то я устроил бы тебе головомойку.
— Я так напугана, — сказала она.
— Еще бы.
— В самом деле.
— Как тебя зовут?
— Тебя это наконец заинтересовало?
— Откровенно говоря, да.
— И ты не отошлешь меня через час-другой?
— Можешь переночевать.
— Быстро же ты управляешься.
— Итак, имя?
— Я же сказала — Никак.
Он взглянул на нее, положив руки на колени. Под глазными прорезями маски его взгляд был настороженным и встревоженным. Наконец, после долгой паузы, с его губ сорвался тихий смех.
Он выставил ее, став на время одним-единственным человеком.
Она покончила с собой.
Затем он, запутавшись в собственной персоне, сражается за то, чтобы стать единым в тысяче лиц, каким он некогда был и едва не терпит поражение.
IV группа фрагментов — нисходящая спираль
Первоначальный конспект и пространное повествование Брэдбери указывают на то, что нарастающий разлад Латтинга с обществом в конце концов приведет к осложнениям с полицией, судебным разбирательствам и психологической экспертизе. Два восстановленных из папки с «Масками» фрагмента намечают первый этап его пути к самоуничтожению.
В обоих отрывочных эпизодах незнакомец в маске позаимствован из первоначального повествования, в котором «раскрывается внутренняя жизнь его ближайших друзей». Как предопределяет Брэдбери в плане романа, главный герой теперь сталкивает незнакомцев «на улице, на работе или в своей гостиной с их собственными образами и подобиями», преследуя более углубленную культурную цель: «он открывает им глаза на роль, которую они играют в мире». Эта игра представляет собой большую опасность, и ее последствия (тюрьма или психлечебница) навсегда лишат его тысячи лиц.
В первом фрагменте он вызывает негодование полиции, выдавая себя за «прокалывателя воздушных шариков» и «подрывателя мыльных пузырей», дабы развеять культурные иллюзии, которые делают жизнь в данном обществе более или менее переносимой. Затем он преднамеренно вызывает раздражение женщины в автобусе, отказывая ей в пустяковой беседе, которую она надеется завязать с потенциальным воздыхателем. Он высмеивает ее невежество в вопросах искусства и литературы, вплоть до того места, где фрагмент обрывается в конце третьей страницы. Но его слово в защиту великих писателей, композиторов и философов неубедительно и лишено вдохновения, так как он знает, что эти сокровища уже ускользнули из общественного сознания.
Во втором фрагменте встречается аналогичный эксперимент с нонконформизмом. Человек в маске снова арестован за нарушение общественного порядка посредством ношения маски в общественном месте. Он призывает полицию к ответу за отказ признать, что все сильные мира сего тоже ходят в масках, только менее осязаемого характера; тогда начальник смены заключает его под стражу для проведения психиатрической экспертизы. Владелец масок быстро надевает маску, вызывающую жалость и сострадание, и показывает, что еще не забыл «правила игры», вводя в заблуждение психиатра, после чего тот его отпускает.
Оба фрагмента отличаются тональностью и замыслом, позволяющими датировать их 1947–1948 годами, когда Брэдбери сочинял рассказы, вершиной которых стал роман «451 градус по Фаренгейту». В этих фрагментах «Масок» общество зачитывается лишь бульварной литературой да рекламой, а его культура вынуждает человека формировать личность, «наиболее приспособленную к извлечению выгоды».
МАСКИ
Полицейский оказался весьма обходительным.
— Вам следует немедленно удалиться, — сказал он.
— Я попытаюсь.
— Вам придется приложить побольше усилий.
— Я же сказал, попытаюсь.
— Ладно, я подожду.
— Задержать его, — велел полисмен.
— С какой стати? — полюбопытствовал я.
— Вы возмутитель спокойствия, — ответствовал полисмен.
— Чье же это спокойствие я возмутил? — говорю я. — У меня есть адвокат; я вас засужу. Вам придется меня отпустить — нету такого закона, на основании которого вы можете меня задержать.
— Вы недоумок — это уже достаточное основание! — возопил капитан.
— Докажите! — потребовал я. — Вы должны доказать, что я опасен, чего на самом деле нет и в помине; вы должны привести опекуна — родственника или супругу, чтобы поместить меня в лечебницу, а у меня нет ни жен, ни опекунов. Откровенно говоря, капитан, вы мне отвратительны, и люди мне отвратительны! И я не знаю, что вы можете сделать, чтобы избавить меня от отвращения.
— Род занятий?! — гаркнул капитан, приготовившись марать бумагу на законном основании.
— Прокалыватель воздушных шариков, — ответил я.
— Настоящий род занятий! — не унимался полисмен.
— Подрыватель мыльных пузырей, — сказал я.
— В последний раз спрашиваю — род занятий! — Его лицо раскалилось докрасна.
— Угрызатель совести, — сказал я и кивнул.
— Тоже мне умник выискался, — сказал он.
— I.Q. 120, — сказал я, — неплохо, но и не блестяще.
— Убирайтесь отсюда! — выпалил он.
— Убираюсь сей же час, — пообещал я. — Bon soir.
На побережье он сел в поезд и устроился возле миниатюрной женщины, которая источала грошовое благоухание, своим происхождением обязанное синему флакончику с пластмассовой крышечкой.
— Вы не подскажете, где находится Виндвард-авеню? — спросил он наконец, спустя многие мили путешествия и раскачивания из стороны в сторону.
— Я покажу вам, — ответила она. — Я там выхожу.
— Я еду туда на вечеринку, — сказал он.
— Я так и подумала, глядя на вашу маску, — сказала она.
— Вы тоже на вечеринку? — полюбопытствовал он.
— Нет, просто домой.
— Устали после работы? — спросил он.
— Целый день в «Вестерн юнион», — ответила она.
— Да, это утомительно, — согласился он.
Поезд описывал дугу.
— Подъезжаем к Виндвард-авеню, — сказала она. — Приехали.
Она встала; он последовал за ней, и они вышли на платформу, где остановились под одним-единственным фонарем.
— А где будет вечеринка? — спросила она.
Он порылся в кармане в поисках записки и ничего не нашел.
— Потерял, — сказал он. — Черт, как же я теперь туда попаду?
— А телефон? — спросила она.
— Все закусочные и заправочные закрыты, — сказал он.
— В моей гостинице есть телефон.
Она показала ему дорогу, а он ее поблагодарил.
— Вам нравится Томас Вульф? — спросил он.
— Кто это? — спросила она.
— А Эдмунд Вильсон?
— Не знаю такого, — сказала она.
— Вы читали Сомерсета Моэма? — спросил он.
— А, так вы про писателей спрашиваете! — засмеялась она. — Нет, я никогда не читала Моггимма. Как его имя?
— Сомерсет.
— Сомерсет. Странное имечко! Это он написал «Бремя страстей человеческих»?
— Да. А вы вообще книги читаете?
— Странные вопросы! — сказала она раздраженно.
— Ну вот, я вызвал ваше раздражение, — сказал он. — Из-за того, что спросил, читаете ли вы, и эта мысль вызвала в вашей памяти «Тайну исповеди», и вам стало совестно, отсюда и ваша враждебность. А если я продолжу свои речи, мне даже не придется подниматься с вами, потому что наверняка в вестибюле гостиницы никакого телефона нет и в помине, а телефон окажется в вашем номере, и как ЭТО могло случиться, наверное, телефон из вестибюля куда-то утащили, вот так-то.
— Что вы сказали?
Она не расслышала и половины сказанного, потому что он пробормотал это себе под нос, разговаривая с самим собой.
— Как жаль, — сказал он, — что нельзя читать «Тайну исповеди» и гордиться этим. Но пока есть люди, читающие Платона и слушающие Сибелиуса, читатели «Тайны исповеди» ведут напряженную и нервную жизнь. Я вас напугал?
— Чудной вы какой-то, — рассмеялась она. — Расскажите еще что-нибудь.
— Я раздражаю вас, — сказал он, — сначала спросив, что вы читаете, потом предположив, что вы читаете, и затем высмеяв то, что вы читаете. Это убийственно для романтических отношений.
— Спокойной ночи, — сказала она, повернулась и зашагала прочь.
Он нагнал ее.
— Извините, — сказал он.
Он повернул к ней свое лицо так, чтобы оно привлекательнее выглядело в свете уличных фонарей.
— Ох уж мне эти шутники, — сказала она со вздохом.
— Когда начинаешь говорить, женщины приходят в замешательство, — говорил он проплывающим мимо неосвещенным окнам. — Тревога и смятение возникли, когда человек заговорил. Где я это читал? Запамятовал. До этого всё сводилось к действиям. По сути своей женщины устроены примитивно: им нравится быть деятельными, они любят действовать. Но когда перестаешь действовать и начинаешь говорить о действии, или говоришь о разговорах, или думаешь о действиях, примитивная женщина думает — тут не обошлось без бога или дьявола, и удирает прочь.
— Вот моя гостиница. Вы пьяны. Уходите, — сказала она.
— Вы прекрасны, — сказал он.
Она остановилась. Она посмотрела на него. Его маска выражала серьезность.
— Послушайте, — сказала она, — вы будете звонить или нет? Если да, так звоните.
— Наверное, вы правы, — сказал он. — Делай же что-нибудь. Действуй, а не думу думай. Все удовольствие в действии. Но вы даже меня не знаете, и я не знаю вас. И как жаль, что я не говорю так, как выгляжу. Как жаль, что я не могу солгать вам и сказать, что вы мне нравитесь, но вы мне не нравитесь, или что вы красавица, каковой вы не являетесь, потому что я никогда вас прежде не встречал, а вы не встречали меня. Это все равно что послушать Бетховена в первый и последний раз: это ничего бы не значило, стало бы очередной бессмыслицей, переживанием, воспоминанием и забвением. Нужно жить с Бетховеном и продолжать свою жизнь. По нему нельзя пробежаться галопом, ему нельзя солгать, себе нельзя солгать, а потом выбросить в окно. Вам нравится мое лицо. Вам достаточно этого? Или я уже испортил его для вас? Разве вы не знаете, что вещи являются тем, как они выглядят?
Она отвесила ему пощечину.
— Убирайтесь к черту или я вызову полицию! — завизжала она.
И набросилась на него с кулаками:
— Убирайтесь!
— Вы очень уродливы. Поищите себе мужчину, умеющего врать, — сказал он вполголоса и ушел.
МАСКИ
— Почему вы носите маски?
— Потому что я не доверяю своему лицу. А так я могу надеть улыбающуюся маску, а под ней строить рожи. Это все равно что проживать в замке за прочной стеной и наблюдать за врагом сквозь опускную решетку ворот. Я могу размышлять в мире и спокойствии. За таким щитом я могу собраться с мыслями и разобраться в своих мотивах.
— А как же Лизабета?
— Она? Я увижусь с ней завтра. На четверг у меня повестка в суд.
— В суд?
— Да. Разве вы не знаете? Я совершил убийство. За это меня посадили на скамью подсудимых. И повесят, если смогут.
— Кого вы убили?
— Они и сами толком не знают.
— Тогда как же они могут вас привлечь к ответственности?
— Этого они тоже не знают. Но я под подозрением.
— Почему?
— Из-за масок.
— При чем тут маски?
— Я носил маску на оживленной улице. Неслыханное дело! Не на Хеллоуин, заметьте, не на Марди гра, не на Новый год! Кому придет в голову носить маску в будни? Просто мечта, а не подозреваемый! Меня остановил полицейский:
— Куда вы направляетесь?
Да вот, говорю, прогуливаюсь.
— На маскарад.
— Я уже на маскараде, — сказал я.
— Вы перепугаете всех детей, — сказал он.
— К черту детей, — сказал я.
— Разве можно так говорить! — возмутился он.
— А судьи кто? — спросил я.
— Следуйте за мной, — велел он. — Или снимите маску.
— Сперва снимите свою, — возразил я.
— Вы что, остряк? — предположил он.
— Не совсем, — ответил я.
Тогда он отвел меня в участок. Там за столом сидел капитан, который взглянул на меня и изумился:
— Это еще что такое?
— Ничего особенного, — отвечаю я.
— Так уж и ничего, — говорит он. — Что за маска?
— Моя, — говорю я.
— Снимите ее, когда разговариваете со мной! — приказывает капитан.
— По какому праву? — возражаю я.
— Ты за что его сюда привел? — спрашивает капитан у полисмена, который меня задержал.
— Он разгуливал по улице в маске. Я подумал, что он — малость того, — объяснил полисмен.
— Я нормальный, — сказал я.
— Это мы еще посмотрим, — заметил капитан.
— Просто мне нравится носить маски, — объяснил я. — Все честно.
— Честно? — в один голос спросили полицейские. — Это как же понимать — честно?
— Маска, которую я ношу, — предупреждение людям. Все по правилам. Гораздо этичнее, чем у вас, ребята.
— У нас? — переспросил капитан. — Разве мы напяливаем маски, черт бы их побрал?
— Так уж и не напяливаете? — хохотнул я.
— Нет! — гаркнул капитан.
— Ладно, — сказал я, — давайте без эмоций. Будь по-вашему. Но я все равно считаю, что предупреждать людей справедливо. Чтобы они остерегались.
— Остерегались! — возопил капитан. — Чего им остерегаться?
— Того, что под маской, — сказал я. — Вот это несправедливо.
— А ну-ка, снимай эту чертовщину! — гневно приказал капитан.
— Я отказываюсь, — ответил я.
— Ничего, разберемся, — сказал он.
— Освободите меня, — заявил я. — Вы не имеете права меня задерживать. Я могу носить маску, сколько мне заблагорассудится. Я никому не причиняю вреда и не провоцирую беспорядков. На каком основании я здесь нахожусь?
Капитан полиции призадумался.
— На каком? — допытывался я. — Что? Дара речи лишились?
— Вам придется поговорить с нашим полицейским психиатром, — торжественно изрек капитан. — Потом можете идти.
— Я сам поговорю с ребенком, — сказал я. — Приведите его ко мне.
— Это вы к нему пойдете, — вскричал капитан, — наверх!
«Что ж, наверх так наверх», — посмеивался я под своей изысканной серой маской. Дверь отворилась как раз в тот момент, когда психиатр вешал трубку, и мы расселись по своим местам. Это был полицейский психиатр. Вы понимаете, ЧТО это означает. Потрепанный самодовольный горлопан-недоучка, вышибленный из колледжа, все образование которого сводилось к чтению Фрейда в популярном изложении. А все остальное он почерпнул из грошовых синеньких книжечек и вычитал из «Эсквайра».
— Минуточку внимания, — сказал я.
Психиатр и полисмен напряглись.
Я пошарил в своей коробочке, извлек оттуда свеженькую розовую маску с улыбочкой, сбросил серую маску и надел новую.
— Вот так-то лучше, — заверил я.
Психиатр опешил.
— Итак, — начал он.
— Это ужасное недоразумение, ошибка, — сказал я. — Мне просто нравится носить маски, и никто, кажется, этого не понимает. Но вы-то, конечно, понимаете? Я не опасен. Можете установить за мной наблюдение, если хотите, но я не опасен. Я воевал, и с моим лицом случилось страшное происшествие. Вы-то понимаете? Я попросту не могу открыто смотреть на окружающий мир.
— Понимаю, — подтвердил психиатр.
— Вот я ношу эту маску, а этот полисмен меня задержал. Он, сдается мне, не понимает…
Полисмен изумился.
— Я ничего не знал о вашем лице… — промямлил он.
— А вам следовало бы догадаться, что тут что-то не так, иначе с какой стати мне понадобилось носить фальшивую личину, — сказал я, улыбаясь им обоим приклеенной чудесной и лучезарной улыбкой. Я видел, как маска освещает и заливает их физиономии невероятным свечением, словно фонарик. Очаровательно сверкали зубы, горели глаза, чувственно вздувались ноздри, вырисовывались брови, розовая кожа излучала здоровье, жизненную силу и дружелюбие. Я заметил, как дернулись мышцы на щеке у психиатра, и он наконец заулыбался.
— Понимаю, — проговорил он.
— Позднее, — заметил я, — я смогу избавиться от масок, но сейчас, во время реабилитации, я просто не могу без них обойтись. Я отец шестерых детей. У меня замечательная жена, которая души во мне не чает, и я не могу позволить, чтобы она видела мое лицо — все в язвах, шрамах и рубцах.
Психиатр поморщился. На него падал свет маски; полицейский перестал ерзать и сидел подавленный и обескураженный.
Я знал, что дело сделано. Он откинулся с облегчением на спинку стула и сказал:
— Но нам хотелось бы увидеть ваше лицо.
— Даже не просите, — промолвил я, запинаясь.
— Извините, — он сжимал пальцы и удивленно моргал от собственных неудачно подобранных слов.
— Можете идти, — скомандовал он.
— О, благодарю вас, — ответил я.
И вышел.
V группа фрагментов — паранойя
В заключительных страницах пространного текста, датированного 1946–1947 годами, Брэдбери описывает, как Латтинг впадает в депрессию и психоз: «Он осознает, по какому тонкому льду мы все катимся с нашей цивилизацией, ее жестикуляцией и кривлянием, лишь бы скрыть нашу необъятную внутреннюю порочность».
Два очень коротких одностраничных отрывка дают иное представление о том, как мог бы реагировать хозяин масок на попытку внешних сил отобрать у него все маски. В первом отрывке выдуманный автором Птах представляет собой более домашнюю и начитанную разновидность Латтинга. Он способен лишь пассивно реагировать, задавая косвенные вопросы, когда домохозяин или кто-то из постояльцев приходят, чтобы отобрать у него маски. Он спрашивает: «А ты что, разбираешься в масках?» Это не имеет значения. Все остальные, ничего не понимающие в красоте и назначении масок, хотят одного — чтобы эти пугающие штуковины исчезли. Птах защищается только тем, что заставляет незваного гостя говорить без умолку, пока этот фрагмент вдруг не обрывается.
Тот же принцип лежит в основе второго фрагмента. Но в этом варианте Роби представляет собой более динамичный вариант Латтинга, чем Птах: он едва заметно угрожает незваному гостю. Роби дает понять, что он станет куда опаснее для окружающих, если последние будут иметь с ним дело без маски, в его будничном образе и подобии. Намек на то, что разнообразные маски Роби служат подсказкой и предупреждением о его настроениях. «Отныне я вернусь в ваше общество как обычно, без деревянной маски, но уже со своим истинным лицом, и у вас не будет защиты». Этот вариант напоминает о социальной паранойе, характерной для раннего периода «холодной войны». Попытки Брэдбери обрушить этот страх на саму толпу сполна реализованы в его лучших рассказах 1950-х годов.
Джонатан ЭллерМАСКИ
В комнату с молчаливой дерзостью вошел человек и, оставив дверь распахнутой, уставился мрачным решительным взглядом на Птаха.
— Я пришел за твоими масками, — сказал он.
— Кто ты? — спросил Птах с неподдельным интересом.
— Мистер Жерар, торговец коврами.
— А ты что, разбираешься в масках?
— В этих — да.
— Каким образом?
— Что такое?
Вопрос оказался сложноват для мистера Жерара.
— Я хочу сказать, с чего вдруг ты стал специалистом по маскам и каким образом ты собираешься их у меня забрать?
— Потому что ты всем отравляешь в доме жизнь — всем и каждому. Всех пугаешь, всем досаждаешь, особенно Жозефине и мне. Ты мне не нравишься.
Птах многозначительно закивал, но даже не пошевельнул ни своими тонкими бледными руками, ни птичьей грудной клеткой. Его глаза, как всегда, выражали снисходительное любопытство.
— Не молчи. Скажи еще что-нибудь, — попросил он.
— Ты плохо себя ведешь, — сказал Жерар. — Ну же, давай их сюда. Все до единой!
— Я пришел забрать у тебя маски, — сказал Эдвард.
— О-о! Вот зачем ты пожаловал! Ты вошел не как смелый и решительный человек.
— Я не хочу их у тебя отбирать, но мне велели лишить тебя этих масок, так что для меня это просто работа.
— Но разве ты не понимаешь: как только ты отберешь их у меня, то окажешься в моей власти, Эдвард?
— В твоей власти? Вот умора! А ты — парень не промах, надо признать.
— Ты не веришь, когда я говорю тебе, что я бесконечно порочен?
— Нет.
— Поэтому я тебе и сказал. Чтобы ты мне не поверил. Это хитроумный способ проворачивать дела.
— Ладно, я забираю маски.
— Вижу.
— Ты даже не собираешься их отстаивать?
— А что толку?
— Жаль, что приходится так поступать, Роби.
— И мне жаль. Отныне я вернусь в ваше общество, как обычно, без деревянной маски, но уже со своим истинным лицом, и у вас не будет защиты.
— Мы — друзья. Это достаточная защита.
VI группа фрагментов — заключительная
Первоначальное тридцатистраничное повествование завершается несколькими параграфами, которые в сжатом виде рассказывают о том, что эксперимент с масками неизбежно приводит к гибели их владельца. Отголосок этого изложения сохранился во фрагменте на странице с чернильными набросками масок, сделанных рукой Брэдбери — лицо и исчезающее тело. Эта страница воспроизведена здесь в качестве вступления к восстановленной группе из трех финальных сценариев, но только два из них заканчиваются смертью владельца масок.
В первой концовке Брэдбери использует безымянного рассказчика для повествования о судьбе Роби, который является той же разновидностью Латтинга, что и в отрывках о паранойе. В этом финале Роби кончает жизнь самоубийством, оставив распоряжение о дарении своих масок музею — та же судьба была уготована множеству масок, которые Брэдбери в свое время привез из Мексики. Лицо Роби предстояло кремировать вместе с его туловищем.
Третья концовка совпадает с кремацией Роби, причем здесь он назван своим полным именем — Роби Кристофер. Упоминание полного имени позволяет нам отследить Роби в отрывках о паранойе и о дочерях, где Брэдбери называет его просто «мистер Крис» или «мистер Кристофер». В этом варианте первой концовки, однако, сами же маски названы истинными убийцами Роби Кристофера. В момент похорон Роби каждая маска в гробу на своей шелковой подушечке утверждает, что именно она является его истинным лицом.
Вторая концовка, пожалуй, представляет наибольшую ценность для читателей, желающих прояснить таинственную судьбу «Масок». Данный вариант созвучен экспериментальному повествованию, которое отклоняется от первоначальной сюжетной линии Латтинга. В одном из вступлений к фрагменту Брэдбери начинает рассказ от имени Чарльза Смита, который оставляет свое состояние своему верному другу Стивенсону, а сам отправляется в странствие по Соединенным Штатам с целью проведения «психологического эксперимента». Маски должны быть высланы ему, как только он устроится на новом месте. В этой версии концовки Смит возвращается на Центральный вокзал, где его встречает Стивенсон, дабы помочь другу вернуться к нормальной жизни.
Оба вспоминают прошедшие месяцы как «потрясающую осень», намекая на то, что Брэдбери создал эксперимент с масками, аналогичный тому, что мы находим на первой странице сжатого изложения: «Посредством своих масок он исследует, как люди формируют свою личность не по своему сокровенному желанию, а в угоду ожиданиям своих друзей и требованиям бизнеса и общества… только с помощью изворотливости и притворства Человека и Его Масок люди могут обрести свое истинное лицо».
Эта более позитивная и обнадеживающая концовка, возможно, отражает окончательное решение самого Брэдбери в отношении всего романа. В верхней части страницы имеется интригующее примечание в две строки: «рекомендуемая концовка романа «МАСКИ», страница 250». Даже если полная черновая рукопись романа когда-либо существовала, кроме этой одной заключительной страницы текста, до нас не дошло никаких тому свидетельств.
Джонатан ЭллерМАСКИ
Друг Человека в маске отправляется в Мексику либо планирует путешествие с целью прислать Человеку в маске изысканную, прекрасную маску, воссоздающую его внешний облик, каким он некогда был… От чего Человек в маске лишается рассудка и кончает с собой.
Бездыханное тело Роби обнаружили в его гостиничных апартаментах в субботу утром сидящим на стуле, перед ним были разбросаны маски. Полагаю, он принял яд.
С него сняли маску и взглянули на его лицо.
Он был весьма недурен собой, красив, богоподобен. У него был правильной формы нос, волевой подбородок и добродушный рот, глубоко посаженные темно-синие глаза и горделивое чело.
Так зачем же было носить маску? — спросите вы.
Пусть Роби сам ответит вам. Вот его прощальная записка:
«Дорогой Липп!
Отнесите все деревянные маски в музей… последнюю же маску мою из плоти сожгите, кремируйте, а пепел развейте… и продолжайте жить… РОБИ…»
КОНЕЦ
Рекомендуемая концовка романа «МАСКИ».
Страница 250:
Я вышел из-под затененной прохладной аркады на Центральный вокзал, где меня дожидался Стивенсон. Он поспешил мне навстречу с печальной улыбкой.
— Стиви, — сказал я.
— Значит, ты приехал домой. — Он крепко и долго сжимал мне руку и плечо.
— Да, — сказал я. — Вот он я.
— Где твои маски?
— Я раздал людям, нуждающимся в них, — ответил я.
— Ты остановишься в городе?
— И надолго. На той неделе приезжает Элен.
— Вот и отлично. Как я рад тебя видеть! Потрясающая выдалась осень, не правда ли?
— Да, — признал я. — Действительно потрясающая.
Мы протиснулись сквозь толпу и оказались на улице. Тысяча масок промелькнула мимо в одном направлении, две тысячи масок пронеслись в противоположном. Не шевельнув пальцем, не пытаясь дотянуться до них или остановить, я смотрел, как они снуют взад-вперед.
А они, казалось, не замечали меня.
«Так всем только лучше», — подумал я.
— Хочу есть! — объявил я во всеуслышание.
На ужин у нас был омар «термидор» с добрым вином, за трапезой мы много говорили и смеялись.
КОНЕЦ
Состоялись похороны.
Проповедь читать не стали. Звучала какая-то музыка, принесли какие-то цветы. В большом гробу на шелковых подушечках возлежали двадцать самых узнаваемых масок Роби Кристофера.
— Это я — Роби, — заявила одна маска.
— Нет, вот Роби, — возразила ей другая маска.
— Прошу прощения! — возопила третья. — Я хорошо знала Роби! Самая правильная — пятая маска!
Такие вот похороны: понесшие утрату пришли оплакать два десятка убийц, деревянно лежавших в гробу на синеньких подушечках, а прекрасный человек, ими убитый, со свистом вылетел в трубу крематория, всего в нескольких милях отсюда, загубленный и не оплаканный этой избалованной почестями двадцаткой…
VII группа фрагментов — драматические версии
Девять разрозненных черновых листов из сценария для радиопостановки «Масок» являются последней значимой стопкой фрагментов этого проекта. Подобно фрагментам и черновикам романа, радиопостановка сохранилась, как нам представляется, только в этих отрывочных текстах. Хотя они не являются цельным текстом, черновики радиосценария сохраняют некую последовательность. На дошедших до нас страницах мы видим прибытие носящего маску мистера Ворта в пансион, его переговоры с домохозяйкой (также — Хозяйкой или миссис Лантри) насчет комнаты, пересуды постояльцев о его таинственном внешнем виде и происхождении, их жалобы и слежку за мистером Вортом. Нагнетание обстановки разрешается на последней странице, где полисмен и домохозяйка возвышаются над мертвым мистером Вортом. Когда полисмен снимает с него маску, перед ним открывается красивое лицо мистера Ворта. Как говорит мистер Ворт в начале пьесы, он не был физически искалечен на войне, а пострадал от самой жизни — «Великой войны за выживание, которая идет повсюду втихомолку».
На титульном листе Брэдбери указывает, что данный вариант «Масок» является «пьесой для программы передач «Кузница мира и безопасности»». В рамках этой программы 2 января 1947 года Американская радиовещательная компания (Эй-би-си) транслировала одноактную радиопьесу Брэдбери «Луг», удостоенную премии и адаптированную автором по одноименному, тогда еще неопубликованному рассказу. Вероятно, он адаптировал «Маски» для радиопостановки в тот же период. Эти фрагменты несут в себе ту же «глубинную идейную нагрузку», что и «Луг», и источником вдохновения обоих сценариев в некоторой степени послужили радиопьесы Нормана Корвина с «далеко идущими замыслами», по словам Брэдбери. И действительно, на исходе того года Корвин и Брэдбери подружились. Но даже то ограниченное время, которое Брэдбери смог выкроить из сочинения коротких рассказов, было вскоре поглощено переговорами с Си-би-эс и Эн-би-си на предмет адаптации его опубликованных рассказов для радио. Хотя эти сценарии писал не он, маловероятно, что его адаптация «Масок» была настолько разработана, чтобы предложить ее в качестве самостоятельной радиодрамы.
Хотя Брэдбери восстановил первоначальную идею своего романа для заявки, поданной в Фонд Гуггенхайма в 1948–1949 годах, сохранилось очень мало свидетельств того, что он продолжал работать над «Масками» в каком-либо значимом формате. Сам Брэдбери мало что помнит, кроме того, что творческое вдохновение пришло к нему, благодаря его любимым мексиканским маскам. Два или три его плана работ на будущее содержат заголовок «Маски», но с середины 1950-х годов из планов исчезает и этот заголовок. В конце концов, роман «451 градус по Фаренгейту» оказался более жизнеутверждающим лекарством от модернистского кризиса ценностей, и не приходится удивляться, что «Маски», подобно его неоконченному произведению «Слепые рати рубятся в ночи», так и затерялись среди мрачных воспоминаний начала «холодной войны».
Джонатан ЭллерРэй Брэдбери
«МАСКИ»
Пьеса для программы передач «Кузница мира и безопасности»
ГОЛОС: Поздняя ночь.
Пансион спит.
Но вот по темной улице шагает человек с двумя большущими чемоданами.
ЗВУКИ: ШАГИ ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ К ДВЕРИ.
ЗВУКИ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ЗВОНКИ В ДВЕРЬ, СНОВА И СНОВА, ЦЕЛЫХ ПЯТНАДЦАТЬ СЕКУНД.
ХОЗЯЙКА: (ИЗДАЛЕКА) Иду! Иду!
ЗВУКИ: ЗВОНКИ В ДВЕРЬ, СНОВА И СНОВА.
ХОЗЯЙКА: (ВХОДИТ) Ну, ради всего святого! Неужели нельзя подождать? Мне же надо одеться!
ЗВУКИ: ЕЩЕ ОДИН ЗВОНОК В ДВЕРЬ.
ХОЗЯЙКА: Да здесь я, здесь!
ЗВУКИ: ДВЕРЬ РАСПАХИВАЕТСЯ НАСТЕЖЬ.
ХОЗЯЙКА: Слушаю вас, сэр?
ВОРТ: Добрый вечер.
ХОЗЯЙКА: Уже почти полночь. Не мешало бы вам знать, что порядочные люди уже давно спят и…
ВОРТ: Я насчет комнаты. У вас сдается комната?
ХОЗЯЙКА: В такой-то безбожный час…
ВОРТ: Обещаю быть примерным постояльцем. Плачу за три месяца вперед. Сколько стоит комната?
ХОЗЯЙКА: Тридцать в месяц, но…
ВОРТ: Пожалуйста. (ПЕРЕЗВОН ДЕНЕГ) А теперь вы мне покажете комнату?
ХОЗЯЙКА: Послушайте, молодой человек…
ВОРТ: Холоду напустите в дом. Закройте дверь. Мы можем поговорить и по дороге наверх. Ведь комната наверху, не так ли?
ХОЗЯЙКА: Минуточку. Что это у вас на лице?
ВОРТ: Это? Всего лишь маска.
ХОЗЯЙКА: Я знаю. Вы что, с вечеринки?
ВОРТ: Моя дражайшая хозяйка, все мы находимся на вечеринке. Всю жизнь.
ХОЗЯЙКА: Да вы пьяны!
ВОРТ: Хотите, дыхну?
ХОЗЯЙКА: Зачем вы носите маску?
ВОРТ: Поймите меня правильно, мадам. Я ветеран.
ХОЗЯЙКА: Войны? У вас изуродовано лицо? Так вот почему…
ВОРТ:…я ношу маску? Ну, не совсем так, но что-то в этом роде. Скажем иначе: я ветеран Великой войны за выживание, которая идет повсюду втихомолку.
ХОЗЯЙКА:
ХОЗЯЙКА: Во-первых, что это у вас на лице?
ВОРТ: Это? Маска.
ХОЗЯЙКА: Я знаю. Вы что, с вечеринки?
ВОРТ: Моя дражайшая хозяйка, все мы находимся на вечеринке. Всю жизнь.
ХОЗЯЙКА: Да вы пьяны!
ВОРТ: Хотите, дыхну?
ХОЗЯЙКА: Зачем вы носите маску?
ВОРТ: Поймите меня правильно, мадам. Я ветеран.
ХОЗЯЙКА: Войны? У вас изуродовано лицо? И теперь вы носите пластмассовое лицо?
ВОРТ: Ну, не совсем, но что-то в этом роде. Скажем так: я ветеран Великой войны за выживание, которая идет повсюду втихомолку.
ХОЗЯЙКА: Я передумала. А ну-ка, дыхните!
ВОРТ: Дыхание душистое, как мед.
ХОЗЯЙКА: От вас и от вашей маски несет потом. А что там, под маской?
ВОРТ: О, да вы не стесняетесь в выражениях!
ХОЗЯЙКА: Извините, но мне нужно заботиться и об остальных постояльцах. Так что там под маской?
ВОРТ: То же, что у вас, моя дорогая леди. Страхи, подозрения, изумление.
ХОЗЯЙКА: Если бы мне не нужны были деньги, я бы…
ВОРТ: И все же я нравлюсь вам, несмотря на мои речи, я вам нравлюсь. Разве это плохая маска? Напротив, даже симпатичная, а?
ХОЗЯЙКА: Нужно признать, они неплохо поработали над вами. Если обещаете не снимать ее и не пугать людей, то можете оставаться.
ВОРТ: Честное-благородное слово.
ХОЗЯЙКА: Ладно, заходите.
ХОЗЯЙКА: Мистер Ворт!
СТУК В ДВЕРЬ!
ХОЗЯЙКА: Мистер Ворт, вы дома? Мистер Ворт!
СТУК В ДВЕРЬ!
МЕДЛЕННЫЕ ШАГИ К ДВЕРИ. ДВЕРЬ ОТВОРЯЕТСЯ.
ХОЗЯЙКА: Мистер Ворт, я пришла, чтобы… (У НЕЕ ПЕРЕХВАТЫВАЕТ ДЫХАНИЕ.) Э, да вы не… вы не мистер Ворт… а где же он? Он там, внутри? Скажите, чтобы выходил. Я хочу его видеть. Пусть выйдет сию же минуту.
ВОРТ: Минуточку. (ПЕРЕБИВАЯ ЕЕ) Минуточку. Я и есть мистер Ворт.
ХОЗЯЙКА: Скажите, чтобы выходил… Что такое?
ВОРТ: Может, зайдете?
ХОЗЯЙКА: Ну вот что, если он прячется, его ждет кое-что другое. От него в доме куча неприятностей!
ВОРТ: Я стою перед вами, дражайшая леди.
ХОЗЯЙКА: Вы — не тот обходительный молодой человек, который снял эту комнату!
ВОРТ: Тот самый.
ХОЗЯЙКА: Встаньте поближе к свету, мистер Не-знаю-как-вас-там. (ПАУЗА.) Э, да вы тоже в маске. Не нравится мне это.
ВОРТ: А что за неприятности?
ХОЗЯЙКА: Вы — мистер Ворт. (ПОТРЯСЕНА.)
ВОРТ: Я же говорил.
ХОЗЯЙКА: Сколько… сколько у вас этих масок?
ВОРТ: Несколько. Я устаю от одного и того же выражения лица. Вы-то меня поймете.
ХОЗЯЙКА: Я ни черта не понимаю, кроме того, что вы снуете вверх-вниз по лестницам и причиняете массу беспокойства.
ВОРТ: Я именно на это и рассчитывал.
ЖЕНЩИНА: Слыхали про верхнего постояльца из номера 38? Он въехал вчера. Я видела его сегодня утром. Пожилой такой. Скрюченный. Смугловатый. Наверняка итальянец. Я собираюсь сказать хозяйке, послушайте, миссис Лантри, я не в восторге от таких вещей. Как бы вы ни смотрели на такие вещи, мне странно, что вы впустили к себе этакого субъекта. Мы все тут порядочные, чистоплотные люди, а вы вселили сюда кого-то, кто на нас не похож. Откуда вы знаете, какого сорта он человек, я спрашиваю? Вы же не знаете! Очень надеюсь, что он не задержится здесь больше недели. Конечно, у него есть права и все такое, но все же, знаете ли, мы живем в добропорядочном обществе и давайте не будем его поганить. Вот что я ей скажу.
НАРАСТАЮЩИЙ ШУМ СПОРЯЩИХ ГОЛОСОВ.
ХОЗЯЙКА: Успокойтесь. В чем дело? Угомонитесь же!
ГОЛОСА УМОЛКАЮТ.
ХОЗЯЙКА: Ничего не скажешь, хорошенький у вас тут ужин! Что с вами стряслось?
КЕЛЛИ: Это все из-за вашего нового жильца, миссис Лантри.
ЖЕНЩИНА: Мы спорим.
ХОЗЯЙКА: Да уж, слышала.
ДЖОНС: Эти трое утверждают, что он — одно лицо, а я уверен, что не одно. Они все с ума посходили.
ЖЕНЩИНА: С ума посходили, черта с два! Это ты — слепой как крот.
КЕЛЛИ: Вы все не правы. Все слепы.
НИБЛИ: (СТАРУШКА.) Могу дать вам его описание из первых рук, и чтобы никто не перебивал.
ШУМ СПОРОВ
ХОЗЯЙКА: Помолчите! Помолчите! Что за шум?
КЕЛЛИ: (Осторожно.) Видите ли, миссис Лантри, дело обстоит вот каким образом. Я утверждаю, что этот джентльмен — немец. Я слышал его речь. Он сказал мне «доброе утро». Он шатается по коридору со спущенными подтяжками, и у него отвислые усы…
ЖЕНЩИНА: Боже мой, до чего же вы невежественны, Билл Келли. Он русский. Говорю же вам, он коммунист. У него черные волосы, исхудалое лицо. Скуластое, типично русское лицо. Я проходила мимо него по лестнице…
НИБЛИ: Молодая леди, как ни прискорбно, это вы невежественны. Я видела его. Он англичанин. Я что, англичан не видела? У него характерный акцент и водянистые глаза.
ДЖОНС: Умора. Он китаец, не будь я Джонс!
ХОЗЯЙКА: Довольно. Помолчите. Вы что, все выпили?
КЕЛЛИ: Сегодня ни капли.
ХОЗЯЙКА: Он ветеран. Он так мне сказал. У него располневшее розоватое лицо, ему лет сорок…
ВСЕ ВМЕСТЕ: У-у! (С ОТВРАЩЕНИЕМ.)
ХОЗЯЙКА: В чем дело?
КЕЛЛИ: Вы ошибаетесь.
ХОЗЯЙКА: Я-то?
ДЖОНС: Келли прав. В этом мы согласны. Ваше описание не совпадает.
ХОЗЯЙКА: Я же сдавала ему комнату. Уж я-то знаю.
КЕЛЛИ: Минуточку. А что, если он вселился с целой оравой родственников, друзей и знакомых?
ХОЗЯЙКА: Если так, я до него доберусь. Я поднимаюсь наверх. Пусть платит дополнительно за каждого!
ДЖЕЙМС: Миссис Лантри!
ЛАНТРИ: Да?
ДЖЕЙМС: Наверх! Быстро!
ЛАНТРИ: Что такое?
ДЖЕЙМС: Я заглянул в комнату мистера Ворта. Он там сидит. Это Черчилль.
ЛАНТРИ: Какой еще Черчилль?
ДЖЕЙМС: Уинстон Черчилль! Уинстон Черчилль, кто же еще!
ЛАНТРИ: Да вы сбрендили!
ДЖЕЙМС: Ничего подобного. Я заглянул…
ЛАНТРИ: Опять подглядывали в замочную скважину!
ДЖЕЙМС: Я ничего не мог с собой поделать. Я слышал его голос.
ЛАНТРИ: Не одобряю.
ДЖЕЙМС: Да посмотрите сами!
ЛАНТРИ: Уинстон Черчилль, так я и поверила.
ДЖЕЙМС Сидел с сигарой во рту как обычно, разговаривал с мистером Вортом.
ЛАНТРИ: Там был мистер Ворт?
ДЖЕЙМС: Должен был быть. Я его не видел. Наверное, он был вне поля зрения. Мистер Черчилль с ним разговаривал или некто, похожий на Черчилля.
ШАГИ.
ДЕВОЧКА: Мама, мама!
ДЖЕЙМС: Что такое, милая?
ДЕВОЧКА: (ПОДБЕГАЕТ.) Я только что видела, как президент Трумэн поднимается наверх! Он стоял в коридоре, и когда он увидел меня, он поздоровался и пошел дальше по коридору!
ЛАНТРИ: Шутите? Вы, двое…
ПОЛИСМЕН: (НАГИБАЯСЬ.) Теперь снимем маску.
ХОЗЯЙКА: Не надо! Я не хочу смотреть! Он, наверное, страшный!
ПОЛИСМЕН: Тогда не смотрите. Снимаю.
ТОЛПА: РАЗЕВАЕТ РТЫ
ДЕВОЧКА: Смотрите, смотрите! Его лицо!
МУЖЧИНА: Наконец-то! Вот, значит, как оно выглядит!
ПОЛИСМЕН: Чтоб… я… сдох… (МЕДЛЕННО.)
ХОЗЯЙКА: Он… Он… симпатичный молодой человек.
ПОЛИСМЕН: Да.
ХОЗЯЙКА: Лицо без малейшего изъяна. Красивое, благородное, славное.
ПОЛИСМЕН: Ему не нужно было носить маску. Зачем он это делал?
ХОЗЯЙКА: Я знаю зачем. Я… знаю… зачем…
ПОЛИСМЕН: Расскажите нам, сделайте одолжение.
ХОЗЯЙКА: Он боялся!
Бланк заявки в фонд Гуггенхайма подана 13 октября 1949 года
(Перевод документа со стр. 158–159)
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ДЖОНА САЙМОНА ГУГГЕНХАЙМА
ПЯТАЯ АВЕНЮ, 551
НЬЮ-ЙОРК, штат НЬЮ-ЙОРК
КАК ОФОРМЛЯТЬ ЗАЯВКУ
Данный бланк предназначен для того, чтобы дать заявителям представление о том, какая именно информация нас интересует, дабы у каждого была возможность полноценно представить свою заявку на получение стипендии. Вы можете на свое усмотрение воспользоваться или не воспользоваться настоящим бланком. Нам нужны сведения по двум направлениям: (1) Каковы ваши достижения? (2) Какое произведение вы предлагаете создать?
Бланк заявки предназначен для изложения фактов по заявке ученых-гуманитариев; в приведенной ниже памятке говорится о том, что вместе с этим свою заявку могут подавать творческие работники. В обоих случаях по сути необходимая нам информация принадлежит к одной и той же категории.
ПАМЯТКА ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ КАНДИДАТОВ — СОЧИНИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ
При заполнении рубрики ДОСТИЖЕНИЯ, пункт 3 «Представьте исчерпывающее описание созданных произведений ________» заявитель должен представить свой послужной список за всю творческую карьеру в качестве исследователя и сочинителя музыки. (Пожалуйста, в двух экземплярах.)
При заполнении рубрики ДОСТИЖЕНИЯ, пункт 4 «Представьте перечень _______» заявитель должен составить перечень своих опубликованных произведений с разбивкой по пунктам, с указанием издателей и даты сочинения. Под этой рубрикой заявитель также должен представить перечень исполнений произведения с разбивкой по пунктам, с указанием названия произведения, оркестра, исполнившего произведение, имени дирижера, места и даты исполнения. (Пожалуйста, в двух экземплярах.)
При заполнении рубрики ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ заявитель должен изложить свои композиторские планы с той степенью определенности, в какой это возможно, в творческой работе, на период которой испрашивается грант у Фонда. (Пожалуйста, пусть ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ будет на один экземпляр больше, чем рекомендаций.)
Если и когда потребуются образцы произведений, заявитель будет об этом извещен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ГРАНТ — ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ
При заполнении рубрики ДОСТИЖЕНИЯ, пункт 3 «Представьте исчерпывающее описание созданных произведений _____» заявитель должен представить свой послужной список за всю творческую карьеру в качестве искусствоведа и творческого работника в своей сфере, например, живописи, офорта, скульптуры и т. д. (Пожалуйста, в двух экземплярах.)
При заполнении рубрики ДОСТИЖЕНИЯ, пункт 4 «Представьте перечень ________» заявитель должен составить перечень своих публичных выставок с разбивкой по пунктам, с указанием произведений, дат и мест проведения выставок. Под этой рубрикой заявитель также должен представить перечень премий и наград, присужденных его произведениям, значительных приобретений его произведений и т. д. (Пожалуйста, в двух экземплярах.)
При заполнении рубрики ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ заявитель должен изложить свои творческие планы с той степенью определенности, в какой это возможно, в творческой работе, на период которой испрашивается грант у Фонда. (Пожалуйста, пусть ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ будет на один экземпляр больше, чем рекомендаций.)
Если и когда потребуются образцы произведений, заявитель будет об этом извещен.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
ДЛЯ КАНДИДАТОВ НА ГРАНТ — ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
При заполнении рубрики ДОСТИЖЕНИЯ, пункт 3 «Представьте исчерпывающее описание созданных произведений ________» заявитель должен представить свой послужной список за всю творческую карьеру в качестве писателя. (Пожалуйста, в двух экземплярах.)
При заполнении рубрики ДОСТИЖЕНИЯ, пункт 4 «Представьте перечень ________» заявитель должен составить перечень своих опубликованных произведений с указанием издателей и даты публикации. (Пожалуйста, в двух экземплярах.)
При заполнении рубрики ТВОРЧЕСКИЕ ПЛАНЫ заявитель должен изложить свои творческие планы с той степенью определенности, в какой это возможно, в творческой работе, на период которой испрашивается грант у Фонда. (Пожалуйста, пусть ТВОРЧЕСКИХ ПЛАНОВ будет на один экземпляр больше, чем рекомендаций.)
Если и когда потребуются образцы произведений, заявитель будет об этом извещен.
Генри Аллен Мо, Генеральный секретарьРЭЙ БРЭДБЕРИ
Заявка на получение гранта
МЕМОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ИМЕНИ ДЖОНА САЙМОНА ГУГГЕНХАЙМА
ПЯТАЯ АВЕНЮ, 551
НЬЮ-ЙОРК
Область знаний, к которой принадлежит ваш проект?
Художественная литература
Краткое изложение проекта:
Завершение работы над романом «МАСКИ», который является психологическим исследованием лиц и личности, изучением типов и человеческого духа, сатирой на индивидуализм и лицемерие, разоблачением человека под личиной. Роман есть исследование людей, избирающих самые удобные или выгодные роли в жизни. Это изучение процесса, посредством которого люди формируют свою личность, дабы подстраиваться к ожиданиям своих друзей и деловых партнеров. Анализируя одного человека, который примеряет тысячу масок, его друзья, недруги и бесчисленные незнакомцы узнают себя, и чего они стоят в этой жизни.
АВТОБИОГРАФИЯ:
Полное имя:
Рэй Брэдбери
Нынешний адрес:
Бульвар Венис, 33, Венис, штат Калифорния
Телефон:
нет
Постоянный адрес:
Агентство Гарольда Мэтсона
Рокфеллер-плаза, 30
Нью-Йорк 20,
штат Нью-Йорк
Нынешний род занятий:
Автор романов и коротких рассказов
Место рождения:
Уокиган, штат Иллинойс
Дата рождения:
22 августа 1920 года
Семейное положение:
Женат
Имя, адрес жены:
Маргарет M. Брэдбери
Бульвар Венис, 33, Венис, штат Калифорния
Дети:
нет
Страдаете ли вы каким-либо врожденным заболеванием или физической инвалидностью:
нет
РЭЙ БРЭДБЕРИ
ОБРАЗОВАНИЕ:
1. Краткое описание: окончил среднюю школу в Лос-Анджелесе летом 1938 года. В дальнейшем образования в высших, технических, профессиональных, музыкальных либо художественных учебных заведениях не получал.
2. Стипендии: не получал.
3. Какие иностранные языки изучали: не изучал.
______________________________________________________
ДОСТИЖЕНИЯ
1. Занимаемые должности (профессиональные и проч.): не занимал.
2. Членами каких научных или профессиональных обществ либо творческих союзов являетесь: никаких.
(продолжение)
Достижения, пункт 3
Мои ранние рассказы появились в 1941‑1944 годах в популярных журналах, где я на первых порах готовил себя к деятельности на литературном поприще. Я не посещал ни колледжа, ни университета. Мой литературный дебют состоялся в июньском номере журнала «Американ меркюри» в 1945 году. Рассказ, посвященный расовой нетерпимости, назывался «Большая игра между черными и белыми». Он был отобран и опубликован Мартой Фоли в сборнике «Лучшие короткие рассказы Америки 1946 года».
В 1945 году журнал «Мадемуазель» напечатал рассказ «Мальчик-Невидимка», включенный Мартой Фоли в «Перечень выдающихся американских коротких рассказов» за этот год. В 1946 году М. Фоли включила в этот «Перечень» мой рассказ «Чудеса Джейми», напечатанный в журнале «Шарм».
Рассказ «Возвращение», напечатанный журналом «Мадемуазель» в 1946 году, был включен Хершелем Брикелем в сборник «Любимые рассказы 1947 года». Этот же рассказ вошел в «Перечень выдающихся американских коротких рассказов» Марты Фоли.
В 1947 году мой рассказ «Водосток» из журнала «Мадемуазель» тоже был включен Мартой Фоли в ее «Перечень».
В марте 1947 года журнал «Харперс» опубликовал мой рассказ «Постоялец с верхнего этажа». М. Фоли включила этот рассказ в «Перечень».
В июне 1947 года издательство «Аркам-хаус» напечатало мой первый сборник коротких рассказов «Темный карнавал» (редактор Август Дерлет). Рецензенты единогласно признали его превосходным.
В 1947 году мой рассказ «В ожидании» был напечатан в журнале Корнельского университета «Ипок». В 1947 году мой рассказ «El Dia De Muerte» («День усопших») был напечатан в журнале «Тачстоун» и включен Мартой Фоли в «Перечень выдающихся американских коротких рассказов».
Журнал «Нью-Йоркер» опубликовал мой рассказ «Я никогда вас не увижу», перепечатанный в сборнике «Лучшие короткие рассказы Америки 1948 года».
Хершель Брикель выдвинул мой рассказ «Электростанция» из мартовского номера журнала «Шарм» за 1948 год на соискание III премии имени О’Генри за этот же год.
В марте 1949 года журнал «Шарм» опубликовал мой рассказ «Молчаливые города».
В декабре 1948 года моя книга «Темный карнавал» была опубликована в Великобритании издательством «Хамиш Гамильтон» в Лондоне. Рассказы из этого сборника регулярно публикуются британским журналом «Аргоси», а также в Швеции, Мексике и ЮАР.
Мои рассказы были адаптированы для постановки на радио вещательными станциями Эй-би-си, Си-би-эс и Эн-би-си. Главное место среди них занимает пьеса «Луг» — призыв к единению во всем мире — для программы передач «Кузница мира и безопасности», которая транслировалась 2 января 1947 года и была удостоена Премии общенационального драматургического конкурса и напечатана в сборнике «Лучшие одноактные пьесы 1947–1948 годов».
Мой роман «Марсианские хроники» будет опубликован издательством «Даблдей» в начале 1950 года.
Мой второй роман «Лед и пламя» будет опубликован издательством «Даблдей» в начале 1951 года.
За последние три года мои рассказы перепечатывались в более чем 10 антологиях.
(Полный перечень см. в разделе «Достижения», пункт 4)
______________________________________________________
Книги, написанные Рэем Брэдбери:
«Темный карнавал», 27 рассказов, издательство «Аркам-хаус» (редактор Август Дерлет), Саук-сити, штат Висконсин, 1947.
«Темный карнавал», британское издание, «Хамиш Гамильтон», Лондон, 1948.
Роман «Марсианские хроники» будет опубликован издательством «Даблдей» в начале 1950 года.
Второй роман «Лед и пламя» будет опубликован издательством «Даблдей» в конце 1950 или в начале 1951 года.
______________________________________________________
В настоящее время у меня имеется 30 страниц готового текста и сжатое изложение данного романа, помимо 40 страниц разрозненных черновых набросков. Я приступил к работе над романом два года назад и медленно, но верно систематизировал свои идеи. Обдумывание замысла романа по большей части уже завершено. Теперь мне только остается написать роман целиком, на что должно уйти около 12 месяцев, в результате чего получится роман на 70 000 слов. Если мне будет присуждена стипендия, то я буду работать над романом в городе Венис, штат Калифорния. По всей вероятности, издательство «Даблдей», которое опубликовало первые два моих романа, будет более чем заинтересовано в готовом романе «Маски». Моя сверхзадача как романиста, при завершении работы над данной книгой, заключается в том, чтобы читатель обнаружил в себе и в других некие моральные устои, дабы уметь распознавать в других людях актерство, лицемерие, притворство и посредством этого распознавания привить читателю терпимость, терпение, любовь и добрую волю. Я также хотел бы навести читателя на мысль о том, что кое-что в нашем мире следует изменить — нужны перемены в самой личности, в межличностных и международных отношениях, в методах совместной работы, надо стать истинно товарищеской и единой семьей народов, друзей, городов, государств. Если мы научимся распознавать Маски и Роли, исполняемые людьми в этом мире, то мы встанем на правильный и вдумчивый путь облегчения нашей участи.
Посредством своих масок он смеется и глумится над людьми, которые силятся вылепить себе жизнь в подражание фильмам, книгам, журналам, или вырезанным из картона персонажам своей мечты. Пожилой женщине он открывает глаза на то, что она имитирует стандартный тип ворчливой старой больной женщины. Перед водителем грузовика он предстает в образе изрыгающего проклятия, бушующего и злобного шоферюги.
Он поигрывает с уютными личностями друзей и чужаков, навлекая на себя неприятности, угрозы, покушения на жизнь и наконец судебное преследование за нарушение общественного порядка; он разыгрывает сцену в зале суда, разоблачая своими масками напыщенность прокурора, глупость судьи и садистические наклонности аудитории.
Переданный под надзор психиатра, он сам превращается в психиатра и, вызвав замешательство у последнего, выходит на свободу, когда признается, что смысл его жизни в масках заключается в том, чтобы открывать глаза людей на самих себя, делая людей подлинными, а не фальшивыми, чтобы человек задавался вопросом: «Неужели это я? Веду ли я себя как подобает или же так, как от меня ожидают окружающие?»
Своим романом я надеюсь сделать нечто стоящее на поприще социальной сатиры. Я надеюсь изучить столько профессий, сколько встретит мой персонаж с масками. Я надеюсь высветить острым лучом прожектора нашу цивилизацию: где она находится и куда идет? Я надеюсь анатомировать глупость, гордыню и пошлость человека, дабы сделать его просвещеннее, а значит, лучше.
(Перевод документа со стр. 179)
ОБЪЕДИНЕННЫЕ НАЦИИ NATIONS UNIES
ЛЕЙК САКСЕСС, НЬЮ-ЙОРК
ТЕЛЕФОН: ФИЛДСТОУН 7-1100
ТЕЛЕГРАФНЫЙ АДРЕС UNATIONS NEWYORK • ADRESSE TELEGRAPHIQUE
13 сентября 1949 года
Мистеру Рэю Брэдбери
Бульвар Венис, 33, Венис,
штат Калифорния
Уважаемый Рэй!
Я, разумеется, сочту за честь быть в числе Ваших рекомендателей, однако с единственной оговоркой: за последние десять лет я давал рекомендации доброму десятку кандидатов и ни одному из них ни разу не был присужден грант. Некоторые представленные на грант проекты были гораздо достойнее тех, которые эти гранты получили.
Меня терзают смутные сомнения, а не помешает ли мое имя Вашей заявке? Может статься, в наши времена мерзкого страха и шкурничества один или более членов жюри сочтут меня изгоем и в силу этого отнесутся к Вам с предубеждением. Может, все это мои фантазии, но на моей памяти Гуггенхаймский комитет отказал слишком уж многим достойным людям, поэтому я не могу считать его политику беспристрастной. Если же, вопреки моим опасениям, Вы по-прежнему хотите видеть мою фамилию в списке рекомендателей, то могу Вас заверить, что сердечно и с превеликим удовольствием подпишу рекомендацию для Вас.
С любовью к Мэгги и к Вам, с нетерпением ждем новостей о Вашем документальном фильме «Саша».
Искренне Ваш, Норман Корвин11/18/49 — Фонду имени Гуггенхайма.
Копия, возврату не подлежит.
Уровень творческих достижений Рэя Брэдбери до сего дня не вызывает никаких сомнений. Я знаком практически со всеми его произведениями и несколько лет назад опубликовал его первый сборник коротких рассказов «Темный карнавал». Я по-прежнему нахожусь под впечатлением от этой книги, как одной из жемчужин в послужном списке издательства «Аркам-хаус». Очевидно, в перспективе сочинения Брэдбери дадут ему право числиться в первых рядах авторов художественной литературы. Обширная перепечатка рассказов Брэдбери в антологиях говорит о том, что мое мнение разделяет большинство критиков, пишущих рецензии на его произведения.
Внимательное рассмотрение всего спектра публикаций Брэдбери на сегодняшний день свидетельствует о безграничности его возможностей. Разумеется, было бы вопиющей ошибкой предполагать, будто изобилие незаурядных произведений, созданных им в готическом жанре, хоть в какой-то степени налагает ограничения на творчество Брэдбери. Его рассказы, напечатанные в журналах «Американ меркюри», «Кольерс», «Мадемуазель», «Харперс» и проч., несомненно доказывают, что он в равной степени самобытен и убедителен не только в жанре «готики», но и в художественной прозе.
Скорее всего, именно самобытность Брэдбери бросается в глаза в первую очередь. Вкупе со сдержанным, лишенным многословия стилем, эта самобытность делает его рассказы пронзительными и незабываемыми, ставя его гораздо выше среднего уровня даже среди профессиональных американских писателей нашего времени. В жанре короткого рассказа, который, по моему убеждению, требует приложения больших усилий, Брэдбери занимает передовые позиции в рядах лучших сочинителей современного короткого рассказа.
Что касается проектного предложения, поданного в Фонд Гуггенхайма, я могу сказать только, что едва ли оно будет объемистым и наверняка никого не оставит равнодушным. Достигнет ли проект поставленных целей, не мне судить, но на основании прежних достижений осмелюсь предположить, что достигнет.
Воскресенье
ул. Тамалпаис, 68
Беркли 8, штат Калифорния
Уважаемый мистер Брэдбери!
Я знаю Ваши произведения и восхищаюсь некоторыми из них, но не всеми. Тем не менее Вы можете, на Ваше усмотрение, сослаться на мою фамилию в Фонде Гуггенхайма, и я с удовольствием напишу для Вас рекомендацию. Однако опыт прошлых лет подсказывает мне, что мои рекомендации вовсе не гарантируют успеха, о чем я считаю своим долгом Вам сообщить. Тот, кого я всячески расхваливал в прошлом году, ничего не добился, и с каждым годом стипендии на художественную литературу, разумеется, урезаются, так что конкуренция будет нешуточная. Но желаю Вам удачи.
Искренне Ваш,
Марк Шерер
(Перевод документа со стр. 158–159)
E. Дж. Сантиэстеван & Сын
ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
МАШИНЫ, МЕХАНИЗМЫ, ПОДЪЕМНИКИ, ЭЛЕКТРОМОТОРЫ, КРАСКИ
КОРПУС «САН-ФЕРНАНДО»
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ
Teл.: MA 6-1214
Корпус «Сан-Фернандо»,
Лос-Анджелес, 13,
штат Калифорния, США
Мистеру Рэю Брэдбери,
Бульвар Венис, 33, Венис,
штат Калифорния
Уважаемый мистер Брэдбери!
Наконец-то мне удалось получить весточку от синьорины Серды насчет масок, и я рад приложить к настоящему письму высланную ею фотографию. Также прилагаю ее письмо, и на случай, если Вы не владеете испанским, ниже приводится его изложение:
На оборотной стороне открытки вы найдете описание. В данный момент у нее нет масок искомого размера, но она приводит перечень того, что имеется в наличии, а именно:
4 × 2½ дюйма по $2,00 за шт., 6 × 3½ дюйма по $2,00 за шт.
Это подлинные танцевальные маски, изготовленные из высококачественной древесины; называются «Hayle».
10 × 8½ дюйма по $6,00 за шт., из сосны, не местного происхождения (на фото в первом ряду, слева направо).
Распятия см. на краю фото, а те, что из тарасканской деревни Укумичо, стоят по $60,00 за шт.
Они изготовлены аналогично тем, что выставлены в музее, из древесины, которая называется «Hayle».
Синьорина Серда просит вернуть ей фото, так что прошу Вас выслать мне и фото, и письмо.
Памятуя об удовольствии, с которым я читаю Ваши рассказы, я сочту за честь оказать Вам эту услугу, и если Вы пожелаете приобрести какие-либо из этих масок, я с радостью Вам в этом помогу.
Искреннее Ваш, E. Дж. СантиэстеванПоскольку синьорина Серда не упоминает слово «доллары», то я полагаю, ее цены указаны в мексиканской валюте.
Заключительные материалы к «Маскам»
Есть ли предел чудесам? Я завершаю раздел «Масок» удивительной находкой, сделанной писателем Грегом Миллером в подвале Рэя в середине апреля сего года. На дне замызганной картонной коробки он обнаружил конверт с заказным письмом, которое Рэй адресовал самому себе, с проштемпелеванной на почте датой «8 июля 1947». Причем невскрытый! Грег вскрыл конверт и нашел в нем приведенные ниже семь страниц текста.
Эти страницы Рэй, несомненно, отправил на свой адрес из соображений защиты авторских прав! Они проштемпелеваны незадолго до того, как Рэй выслал первые страницы романа Дону Конгдону. Первая страница, заинтриговавшая меня так давно, входит в стопку этих листов и приведена ниже в виде факсимильного изображения.
Идеальная концовка для раздела «Масок».
Донн Олбрайт«МАСКИ»… краткое изложение романа
Рэя Брэдбери 7 июня 1947 года
Он интересуется у дочери квартирной хозяйки, в какого мужчину она хотела бы влюбиться. Она отвечает ему, что мужчина должен быть такого-то роста, с такой-то шириной плеч и шевелюрой такого-то цвета.
На следующее утро он спускается именно с такой же внешностью, походкой и цветом волос.
— Мама! — восклицает дочь. — Я люблю его!
Он занимается любовью с квартирной хозяйкой под личиной ее первого мужа и ведет с ней беседы долгими вечерами.
В него влюбляется проститутка, потому что она — женщина, любящая ВСЕХ мужчин всю свою жизнь. Он и представляет собой ВСЕХ, благодаря своим маскам, следовательно, она влюбляется в него одного. Она не отходит от него ни на шаг. Чтобы избавиться от нее, он все время носит одну маску, превращаясь, таким образом, для нее во всего лишь одного человека. Ей это надоедает, и она с ним порывает.
К нему приходит другая молодая женщина. Она долгие годы была влюблена в своего отца, но инцест неприемлем для общества. Она приносит подарок Уильяму Латтингу. Это футляр, а в нем маска.
Маска с лицом ее отца.
— Наденьте ее, — просит она.
Он надевает ее.
— Теперь возьмите меня за руку, — говорит она.
Латтинг все время носит с собой небольшую маску с чистой поверхностью, на которой в случае крайней необходимости он вылепливает новое лицо из формовочной глины.
К Латтингу в гости приходят друзья. Каждый думает, что Латтинг — это другой человек. Они спорят, каков же он на самом деле? Большинство из них видели его в одиночестве. У каждого свое представление о его способностях, потому что каждый раз его видели всего лишь в одной маске. Латтинг припасает определенные маски для определенных людей, дабы выработать у них определенные представления о себе.
Он дает поносить маску некоему юноше, и тот, надев ее, превращается в почтенный степенный церковный персонаж, доказывая, таким образом, теорию Латтинга о масках.
Латтинг признается, что его подозревают в убийстве.
Полиция подвергает его приводу в участок за то, что он ходит по улицам в маске. Он требует судебного разбирательства. Его судят и оправдывают за отсутствием доказательств. Ношение масок — не преступление. Он играет на их симпатиях.
Домохозяйка и ее дочь теряются в догадках, а вдруг под маской он скрывает ужасное лицо; может, оно все в ожогах? И содрогаются от одной этой мысли.
Когда к Латтингу приходит гость, он порой надевает маску, в точности воспроизводящую лицо гостя. Он разыгрывает насмешливо-разоблачительные сценки, показывая гостям самих себя. Если они разумны, то извлекают урок из язвительной картинки. Большинство же легкомысленно пренебрегает его предостережениями и слепо продолжает вести невежественный образ жизни, не упуская случая поддеть Латтинга при встрече.
Другая женщина влюбляется в Латтинга из-за его лица.
— Ты любишь меня из-за моего лица? — спрашивает Латтинг.
— Нет, — отвечает она, — я люблю тебя всего.
— Не верю! — восклицает он.
Он сжигает эту маску и надевает другую.
— О-о, — вздохнула она и разлюбила его.
Она его бросает. Он горько хохочет.
Латтинг грозится снять маску перед домохозяйкой, чем очень ее пугает. Она велит ему съехать из ее дома.
Он говорит, что скоро совершит убийство.
Его друг Смит посылает в Мексику заказ на изготовление маски Латтинга в шестнадцатилетнем возрасте. Самого что ни на есть настоящего Латтинга!
Латтинг, получив маску, подавлен, сломлен и от угрызений совести совершает самоубийство.
Когда с него снимают маску, его лицо оказывается очень утонченным, привлекательным и вовсе не устрашающим.
На похоронах тела нет. Только маски, аккуратно уложенные в коробочки. Их сжигают, и дым вылетает в трубу.
«Это крайне опасно, и, разумеется, Вы не захотите подвергать меня опасности или увечью. Приступайте к работе, не медля, но, как всегда, прилежно. Все должно быть превосходно».
Так проходил июнь, и время от времени Латтинг невольно ощущал, как это новое чувство в нем росло, разрасталось, норовило выйти наружу, проявиться, искало выхода и не находило, загнанное внутрь, ширилось, возрождалось, преумножалось, выплескиваясь через край. Июнь прошел в ужинах и восхитительных мимолетных вечеринках для горстки приглашенных. Он призывал гостей явиться, не мешкая.
— Алло, Роби? Заходите сегодня ко мне с Элен. Договорились? Ты настоящий друг!
И они заходили. Кто бы посмел отказаться: сам Латтинг приглашает! Виделись с ним изредка, а когда виделись — гадали, в каком обличье он предстанет на сей раз. Он мог войти в любой образ, явиться в доселе неведомом обличье. Они приходили, готовые к тому, что через полчаса их выдворят. Он похлопывал их по плечу, пожимал руки, прикасался к дамским подбородкам, раскланивался и удалялся. Его слуга разносил прощальные бокалы, а затем принимался выключать свет до тех пор, пока не становилось так темно, что компании приходилось на ощупь выбираться наружу и под фонарным столбом в очередной раз повторять: до чего же странный фрукт этот Латтинг! Бывало, он мог продержать их лишний час, а иногда — оставить на весь вечер, если они умели подыграть ему, когда он был расположен к игре, и находился кто-то, способный подобрать нужную приманку для его «эго». Он вещал, а они сидели, даже не пригубив бокалы, осознавая, что на других вечеринках, в иных местах они жили одной выпивкой, но здесь выпивка только отвлекала, притупляя мысль, вместо того чтобы сохранять остроту и свежесть ума при беседе с господином в маске.
Во время одного майского застолья при свечах он задумался среди теней, пляшущих по комнате, о темном мексиканском дворике, где работал его друг. Он поднял глаза — блики играли на его маске, и он молвил:
— Серда.
— Что? — приятели взглянули на него.
— Серда. Мой друг, моя опора. Интересно, как он там?
— Кто такой Серда?
— Не важно. Он — это я. Вот кто он.
И он задумывался: насколько Серда преуспел в работе? И будет ли маска ему впору? Чепуха, его маски всегда были мне впору. И теперь будут.
Он думал о Серде весь июнь и весь июль; в последнюю неделю июля его мысли кипели шипучими пузырьками в голове. Он доходил до кондиции. Следил за своей почтой. Нервничал до исступления. Никого не принимал. Заперся в комнате и ждал прибытия того, чему суждено было прибыть. Он и маска должны прийтись друг другу впору, как две части головоломки, как Инь и Ян, с невиданной точностью, впритирку, чтобы между половинками не протиснулось бы и лезвие ножа. Он объяснил Серде, чего он хочет, и резец работал. Он пытался представить, какую часть он вырезает сейчас, какие эмоции запечатлеваются на маске. Уже 15 июля. Маска ДОЛЖНА быть готова. Вот ее в оберточной бумаге укладывают в коробку. Лак просушен. Засыпают опилками, причудливо завитыми бумажными спиральками. Потом — на станцию. В долгое путешествие по синим горам, под кремовыми облаками, сквозь раскаленную пустыню. А если, боже упаси, она потеряется в пути!
И так каждый день, всякий раз с новой маской от Серды — та же история. Вот маска готова. Лак высох. Коробка. Поезд. Наступил конец июля, и его обуяла непреодолимая страсть — заполучить лицо, новое мощное творение!
А вдруг Серда умер? Он представил длинную похоронную процессию на кладбищенском холме. Ваятелю суждено было попасть под резцы несметного множества резчиков-насекомых в земле Пацукаро. Он услышал высокий глухой перезвон, который бывает, когда язык-скалка разминает бронзовые бедра колоколам. Он увидел, как на распростертого Серду сыплются комья земли.
Последний день ожидания. Непрерывное курение. Безудержные возлияния. Затворничество. Он совершенствуется…
И тут!
Звонок в дверь. Слуга отворяет.
Коробка прибыла.
Непринужденно вскрывается коробка, словно это обычное дело. Стакан и сигарета отложены в сторону. Он смотрит на слугу, кивком приглашая его выйти. Затем поддевается крышка ящика, рассыпаются безумные конфетти, папиросная бумага, опилки…
Явление новой маски!
Иногда провозвестником новой маски становился сам сеньор Серда. Бывало, с изысканным испанским наклоном он писал: «Сеньор Американец! Я задумал и изготавливаю новую маску, о которой Вы и помыслить бы не могли. Сие Вам неведомо. Настанет день, и я ее Вам пришлю. Ждите!»
Уильям Латтинг разражался хохотом и выпивал за здоровье Серды. Старый добрый Серда! Он качал головой и гадал, какой же будет маска? На удивление вдохновляющая! Добротная, чистая. Приятно получить новую маску вот так — вдруг, ниоткуда. Перед ним открывались новые горизонты. Восхитительно! Никакой нервозности. Одно чистое ликование. Никакой напряженности, никаких ожиданий или треволнений. Все будет прекрасно, по-новому. Он получит новую пищу для ума. Он будет ждать прибытия новой бесподобной маски от сеньора Серды словно старинного вина, в предвкушении приятного события. Он заранее обзвонит друзей и обо всем расскажет:
— Ждите же, ждите! И узреете!
Его свободный ум отплясывал под музыку Серды, а не наоборот. Он должен был подлаживаться к маске. Вот прекрасный вызов, ни разу не оставленный без внимания, ни разу не оставшийся безответным! В противном случае маской должен был быть он — собственной персоной! Когда он извлекал из коробки заранее задуманную маску, он впадал в некий эротический экстаз, и как только маска касалась его лица, его щеки заливались краской и возгорались. Он прерывисто дышал и натягивал маску туго-натуго, его глаза вспыхивали в прорезях, ротовое отверстие спирало дыхание, а из ноздрей сквозь носовые отдушины сыпались искры! Маска и Латтинг дышали, сочетанные, пригнанные друг к другу, сцепленные, впечатанные, неразрывные.
Но с масками-сюрпризами от Серды все было иначе.
Маски-сюрпризы обдавали холодом, как инструмент — флейта, труба, на которой предстояло сыграть, испытать на разные лады голоса, жесты, настроения, отношения и оттенки. Они дразнили, доставляли наслаждение, изумление, подобно зажженной в темноте спичке перед зеркалом, лицу, новому потрясению. Они были холодны, холодны! Требовалась смекалка, чтобы раскусить их загадку. Он вскрывал коробку со смехом, сгорая от любопытства и радуясь тому, что беспроблемная жизнь подбросила ему хоть какую-то новую проблему, дабы на время подвергнуть его испытаниям.
Он составил инструкции этому сеньору Серде, живущему в приозерном городе Пацукаро, в захолустной мексиканской глубинке, по изготовлению маски к определенному сроку. И сеньор Серда трудился ночами напролет при свете коптилки, а порою при свете доброй, почти тропической луны, плавающей среди слоистых облаков и десятка миллиардов звезд. В Соединенных Штатах такого не увидишь.
Жил да был в Соединенных Штатах Кристофер при своих обедах и винах. За бокалом вина, бывало, его одолевали сомнения, и он задумывался: «Вот в этот самый момент сеньор Серда работает на меня. В трех тысячах милях отсюда, на мощеном дворике, под плеск фонтана, в компании птицы, что скачет и скребется в клетке на столбе — вот он сеньор Серда, с ножом и древесиной. Мы двое, находясь вдалеке друг от друга, заняты одним делом. Он отвечает за внешность, а я — за костяк и мышцы под ней. Я отвечаю за разум, который оживит и одушевит эту заготовку. Это еще вопрос, кто и что для кого готовит? Может, я — вдохновитель? Нет, не всегда. Но в данном случае — да».
Такова действительность. Однажды в мае он написал сеньору Серде пространное подробное послание:
«Сеньор Серда, во мне бродят некие силы, которые созреют к 1 августа или около того; я умоляю Вас; нет, поскольку я щедро плачу Вам, то я требую от Вас; нет, так тоже не годится; так как Вы мой добрый друг, я прошу Вас, будьте добры, вырежьте, изготовьте и доставьте мне к этому сроку маску следующей формы и содержания!»
После чего стремительными росчерками грифельного карандаша он наносил лицо, его размеры и какие чувства и настроения следует на нем изваять.
«Сеньор Серда, маска, безусловно, должна быть у меня к этому дню. Прошу, не подведите меня, ибо в противном случае Вы даже не представляете, что со мной станется!»
Маски
— Могу ли я когда-нибудь увидеть ваше лицо?
— Нет.
— Почему нет?
— Для этого есть веские основания личного характера.
— Вы все время в маске?
— Даже во сне.
— А когда вы влюблены?
— На этот случай тоже есть маска. Ироничная.
— Где вы раздобыли эти маски?
— В Индии, в Перу, в Мексике, в Боливии и в Зоне Панамского канала. На Гаити и в Суахили-ленде. Некоторые я заказал вырезать людям с хорошо развитым чувством ненависти, которые носили маски в долгие периоды великого гнева и негодования. Их пот въелся в маску и тем самым придал ей подлинности.
— Вы же не хотите сказать, что от пота маски становятся лучше?
— Во всяком случае, уже хорошо, что он там наличествует, даже если не веришь в такие вещи. Хотя бы об одной переменной величине не нужно заботиться.
Это мой второй роман, неоконченный,
но в кратком изложении…
МАСКИ
Мистер Уильям Латтинг въехал в новую квартиру около семи вечера и все сразу же наперебой засудачили о его лице.
— Оно неподвижное, — говорили они.
— Оно ледяное, — твердили они.
— Оно очень необычное, — удивлялись они.
Каковым оно, вне сомнения, и являлось.
Ибо оно было вовсе не лицом, а маской.
Если бы вы присмотрелись, то приметили бы тоненькие медные проволочки, которыми маска крепилась за ушами. На вас пялился холодный оценивающий взгляд широких серых глаз. И губы у маски оставались неподвижными, когда он принимал ключ от хозяйки, выслушивал ее наставления об отоплении квартиры, о том, что вентили горячей и холодной воды в ванной комнате барахлят и что одно окно туго открывается, и требуется усилие, чтобы его поднять. Он молча выслушал ее, выразительно, с легким поклоном кивнул и поднялся по лестнице в сопровождении ватаги друзей, обремененных бутылками шампанского.
Хозяйка была не в восторге от того, что ее постоялец, едва вселившись, в первый же вечер закатил пирушку. Но что она могла поделать? Его подпись просыхала на заверенном контракте, и часть арендной платы была внесена — зелененькими купюрами, хрустевшими в ее цыплячьих пальчиках.
Дом был старый и шаткий, населенный вздохами, пылью и пауками. Тараканы выползали побродить по кухонному линолеуму.
Наверху в комнате Уильяма Латтинга горел свет и раздавались топотание ног от ходьбы взад-вперед и временами — грохот опрокинутой бутылки или всплески…
Короткие рассказы
Примечание к коротким рассказам
В начале семидесятых Билл Нолан опубликовал книгу «The Ray Bradbury Companion» («Путеводитель по творчеству Рэя Брэдбери»). Меня очаровали факсимильные титульные листы «Масок» — типичный Брэдбери сороковых годов.
В 1977 году, во время моего первого спуска в подвал Рэя и посещения его гаража и кабинета, я нашел разрозненные страницы «Масок». За последующие два с половиной десятилетия я накопил без малого восемьдесят страниц из этого неопубликованного романа. С помощью Джонатана Эллера мы выстроили весь материал в логической последовательности.
Первые тридцать шесть страниц составляют сжатую версию неоконченного романа. Они набраны типографским шрифтом. Остальные сорок с лишним страниц представляют собой отрывки замыслов, которые Рэй обыгрывал. Они воспроизведены в факсимильном виде, Джонатан Эллер перекинул между ними мостики, дабы придать им некую связность.
Поскольку в результате получился бы весьма тонкий томик, я решил включить в него шесть ранее не публиковавшихся рассказов, написанных в тот же период, 1947–1954 годы. Все эти рассказы посвящены людям, не находящим себе места, которым живется неуютно, хочется обрести пристанище. Один или два из этих рассказов я называю «семейно-бытовыми» повестями Рэя. Лишь немногие из рассказов этого цикла опубликованы, и я всегда был склонен приписывать это обстоятельство женитьбе Рэя в 1947 году. Где-то в запасниках хранятся по меньшей мере сорок подобных рассказов.
Донн Олбрайт 2008 Вестфилд, штат Нью-ДжерсиЛик Натали
Операция прошла благополучно. Настолько благополучно, что Натали Бенджамин даже не нашла повода скорчить недовольную гримасу, глядя на себя в зеркало.
— Старею, — сказала она своему отражению. — Все это не столь важно, а важно, что Стюарт возвращается и мое лицо должно быть готово к встрече с ним.
Лицо пребывало в готовности. В такой готовности, что она не без содрогания отвернулась от зеркала. Лучше думай о чем-нибудь другом, говорила она себе. О долгих годах, проведенных Стюартом в Южной Америке, о малярии, благодаря которой он возвращается к тебе, чтобы ты заботилась о нем и лицезрела его каждое божье утро за завтраком и каждую ночь, когда выползают тени.
Помнишь, как он покусывал твой затылок и неуклюже теребил твои коротко стриженные курчавые волосы? Помнишь то время, когда он знал, как сказать тебе «люблю»? Помнишь, когда он это забыл!
Подумай, в каких местах он побывал. Монтевидео, Буэнос-Айрес. Рослый и смуглый, он, посмеиваясь, вышагивал по зеленым джунглям и пересекал широкие реки до тех пор, пока насмешливый малярийный комар не свалил его с грохотом наземь подобно гигантскому черному древу.
А теперь он отвернулся от зеленых джунглей, чтобы опять найти твои зеленые глаза, обрести утешение в эти злосчастные дни. Поцелует ли он тебя в шею как когда-то, и если да — возгорится ли в ячейках и сотах твоего изможденного и выморочного естества последний скуластый муравей выцветшей любви? Где даже после его ухода годами неистово кишели термиты, выгрызая все подчистую, вплоть до белой ломкой оболочки. Ведь одним нажатием своих сильных загорелых пальцев он мог раскрошить тебя словно яичную скорлупу!..
Вот!
По поместью едет машина — шофер и кто-то смирный на заднем сиденье. Наконец-то! Стюарт возвращается!
Натали вышла из своей комнаты, в которой она проспала десять лет в оставленной им роскоши, словно деньги могли оградить ее от яростного натиска тоски и любви. Здесь вечеринки и люди приходили и уходили как мерцающие весенние ливни, иногда яркие, а чаще, как осенний ветер — безрадостные, отвлекающие, оставляя сухие дырявые листья и тяжкие воспоминания. Она покончила с вечеринками на третий год. Солитер — вот подходящая игра. Можно сыграть десяток тысяч партий, не истрепав колоду карт.
Хлопнула дверца машины, и послышались шаги на тротуаре. Как они прозвучали? Подобно шагам десятилетней давности? Как знать. Она стояла на верхней площадке мраморной спиралевидной лестничной клетки и смотрела вниз, в прохладный простор холла, в ожидании. Ее сердце теплым тамтамом отбивало ритмы в такт ее переживаниям.
Внизу у парадного входа машина поблескивала металлом, полировкой, силой хирургического инструмента. Хирургия. В голове зазвенело, словно обронили скальпель. Доктор творит черную магию с ее лицом в стерильной палате частной больницы, жестикулирует, накладывает швы, обливается потом; под белой маской невнятная речь. Вот — операция, за которую она выложила тысячи долларов, чтобы заглушить голос профессиональной совести хирурга-чудодея.
Перекроите это красивое белое улыбчивое лицо. Распорите и начните сызнова с пульсирующей плоти! Исказите лицо, которое он знал, чтобы когда он вернется из Аргентины, раскаясь в своих латиноамериканских прегрешениях и темных ночах с телодвижениями и шевелением губ, то он не нашел бы в этих губах ни малейшего утешения. Загните вниз уголки губ. Заострите и стяните вниз ноздри, брови и глаза. Свяжите в пучок все мышцы лица, чтобы на нем не проявилось ни одно переживание. Пусть ни одно чувство, кроме ненависти, не изливается из моих глаз! Только ненависть, ненависть, ненависть!
Ненависть! В угоду некоей зловещей химии катализаторы пренебрежения, безысходности, долгих лет и длинных ночей превращают любовь в новое клокочущее химическое варево — НЕНАВИСТЬ!
Поднимайся же по ступенькам, Стюарт. Давай, вымолви слова, которые я хочу услышать: «Прости меня, Натали. Я так сожалею. Какое это было ребячество с моей стороны покинуть тебя. Я вернулся навсегда. Навечно. Только тебя я любил, Натали. Прости».
Но ты вкусил все радости и удовольствия, Стюарт. Как я могу простить тебе все эти годы, и чужие губы, и шампанское, бурлящее в твоем опьяненном, затуманенном мозгу? Разве это легко? Значит, ты пришел, встал предо мной и молишь о прощении? Прекрасный герой вернулся. Притомился, состарился и решил остепениться. И вот ты пришел обратно в надежде на распростертые объятия. Отлично. Вот они, мои объятия и мой затылок на случай, если тебе захочется его чмокнуть. А что ты скажешь о моем лице, Стюарт?
Раздались шаги; вот он стоит и смотрит на нее снизу вверх. За промежуток в десяток вздохов они смотрели друг на друга, затем он стал медленно подниматься по ступенькам, поддерживаемый шофером. Пройдя четверть пути, он тихо сказал:
— Спасибо. Дальше я сам. Отгоните машину.
Шофер удалился вниз по лестнице, оставив Стюарта подниматься остальную часть пути. Походка у него была неуверенная, и он, бледный, исхудавший, держался за перила.
Он стоял, подавленный громадой холла, озираясь с опаской по сторонам. Перед лицом мраморных джунглей — архитектурного континента, по которому слонялась всяческая флора и фауна. За каждой колонной — сияющим стволом — маячил какой-нибудь далекий год, словно сороконожка с 365 лапками. Эту местность он не исследовал целое десятилетие и, пожалуй, ее побаивался.
Он был по-прежнему высок ростом, а его длинные и черные волосы чуть тронуты сединой на висках. Что-то было не так с его лицом и длинным кукурузным початком туловища, но издали Натали не могла рассмотреть изъяна.
Он пока не видел ее, так как каждый шаг давался ему с трудом, и подъем был медленным. В былые времена он бы вприпрыжку взлетел бы по этим ступенькам, оглашая все вокруг воплями, от которых звенела хрустальная люстра.
Он поднимался по одной ступеньке за раз и достиг лестничной площадки, где, глядя только на Натали, тихо спросил:
— Мисс Натали у себя?
От потрясения Натали схватилась за холодные перила.
— Нет, — ответила она, — не у себя.
Стюарт вполоборота поглядел на женщину рядом с ним.
— Где же она?
Его лицо. Натали задержала дыхание, чтобы дать ему волю в вопле. Лицо Стюарта постарело, изменилось, устало. Впалые глазницы, выпяченные скулы — некрасив.
После долгих и тщетных поисков она наконец обрела свой голос и нашла слова, подходящие к своему ошеломленному состоянию.
— Она здесь, Стюарт. Прямо перед тобой.
У него аж глаза на лоб полезли.
— Натали…
Он сделал шаг, остановился и действительно увидел ее. Холодные жесткие черты ее лица, застывшие от арктического всплеска неистового, нещадного увядания. Зеленые глаза горят, словно изумруды в снегу.
Наверное, земля сделала десяток витков вокруг солнца, луна накрутила обороты по звездному небу, и настенные часы нарубили секунды, словно старомодный мясник, маятником вместо топора. Следующая минута оказалась невыносимо долгой, невероятно тягучей. Они попали в эмоциональный вакуум.
Затем на его изможденном лице возникло выражение. Бросив камушек в глубокий пруд, видишь, как по воде кругами разбегается рябь, чтобы выплеснуться на далекие берега, волна за волной. Его лицо было тем прудом. Ее лик упал в молчаливые глубины, и по его лицу пробежала рябь. Узнавание. Изумление. Одно за другим. Признание. Жалость. Облегчение.
Облегчение. Сильнее всего его лицо, глаза, губы, темные брови выражали одно — облегчение!
Он изучал ее лицо сверху вниз, вдоль и поперек, по окружности, в диаметре, по массе, плотности, весу и растяжению! Когда же, черт возьми, он прекратит пялиться и получать УДОВОЛЬСТВИЕ от увиденного? В мыслях она дрожала и всхлипывала.
— О Натали, — сказал он, наконец нарушив молчание.
Он приблизился к ней.
— Натали, как давно мы не встречались. Я так рад тебя снова видеть.
Его руки обняли ее. Она стояла в оцепенении, не в силах шевельнуться; хотела, но не находила реакции на требование своего вопиющего разума. Она видела, как его лицо наклоняется к ее шее для традиционного поцелуя — это старческое, передразнивающее лицо чужака! И ладонь насмешливо похлопывает ее по лицу. Ее лицу!
— Натали, Натали, как же я рад тебя видеть!
— Зато я не рада тебя видеть! — мысленно кричала она. — О боже, я-то надеялась его сразить, а это он сразил меня. Это его лицо, искаженное болезнью, поразило меня!
Он неуклюже обнимал ее, и она заплакала.
— Ну, ладно, ладно, Натали. Я уже дома. Навсегда.
— С чего ты взял, что я плачу? — безмолвно вскричала она. — Из-за тебя? Ну, уж дудки! Я тебя ненавижу! Я могла бы оставить свое лицо молодым и подвижным, улыбчивым и миловидным. Миловидным, чтобы раздавить тебя, миловидным, чтобы издеваться над тобой. Когда я узнала, что ты возвращаешься навсегда, я захотела дать тебе то, что ты дал мне. Я боялась, как бы мое лицо не выдало малейшего доброго чувства к тебе. Я не доверяла предательским лицевым мышцам. Я велела их притянуть, привязать, приковать к кости, чтобы я уже никогда не улыбнулась тебе, не посмотрела на тебя без ненависти или мстительности. Я думала, это будет достойной расплатой за все годы твоего отсутствия. Как было бы легко оставить лицо в своем первоначальном виде. Ты, со своей истлевшей привлекательностью, был бы исхлестан и выпорот моей красотой. Но я думала, что ты все еще хорош собой. Теперь же этой операцией я просто ублажила тебя. Тебе льстит, что я не вполне состарилась. Ты думаешь, это сделали годы. Ты не знаешь про латки из овечьих кишок на моих щеках, про скальпели, искромсавшие мою красоту, про венец и стерильный нимб из повязок на моей голове! Я, сама того не ведая, утешила тебя своей уродливой метаморфозой. А я этого не хочу, нет, мне тошно от одной только мысли, что я тебе подыграла с помощью моего замысла, который так безумно провалился!
— Ладно, ладно, — твердил он. — Не плачь, Натали. Не плачь. Незачем плакать.
Незачем плакать? Если бы ты только знал, Стюарт.
Она вдруг прильнула к нему — не потому что ей захотелось, а чтобы не упасть в обморок; ей понадобилась опора, не важно какая, мраморный столб или Стюарт Бенджамин…
Она неожиданно осознала в тот миг, как ей расквитаться со Стюартом. Никакой надежды на ее внешность. Ее уродство умиротворяло его. Два сапога пара! В беде с кем только не поведешься.
— Стюарт, теперь я тебе нужна? Раз и навсегда? Я твой костыль. Что бы ты делал без меня, Стюарт? Ничего. Сгинул бы. Вот теперь-то я тебе нужна! Забавно. Куда же я подевала свой пистолет?
За ужином они сидели у длинного стола. Он на одном конце, она на противоположном. Над ними хрустальные люстры, между ними хрустальные канделябры. Длинный стол разделял их, как долгие годы.
Трапеза была безмолвной. То, что он хотел сказать, он, очевидно, не мог облечь в слова. А ее скомканная ярость была так велика, что она не могла есть. Может, она хотела обрушиться на него с гневными речами, а может, нет. Может…
Но по мере того, как ужин продолжался, и ложки тихо описывали в воздухе дуги, одни блюда сменялись другими, ее мелкая нервная дрожь несколько улеглась. Ее челюсти разжались, пальцы размялись, и в мягком освещении комнаты ее вдруг охватил ужас.
Ибо в комнате находилось еще нечто.
Натали неожиданно сказала:
— Стюарт, ты веришь в привидения?
Он поднял свое постаревшее, утомленное лицо на том краю мира, сотворенного из красного дерева.
— Иногда.
Она оглянулась и приложила руку к горлу.
— Что такое привидение, Стюарт? То, что умерло, или то, что нам кажется умершим? Нечто такое, что как тебе казалось, ты уложил в гроб на вечные времена. Стюарт, здесь есть нечто вроде ходячего мертвеца или фантома.
— Я верю тебе, — сказал он.
Это совсем на него не похоже. Десять лет назад он бы громогласно расхохотался, смачно поглощая еду и хлопая себя по колену.
— Я думал, что навечно схоронил этого призрака. Ты знаешь, как он зовется?
Ах, если бы я сохранила свой моложавый вид… чтобы его раздавить и унизить, а теперь мой доморощенный замысел только тешит его растревоженные мысли…
Вошел призрак прежней Натали, чтобы найти, обрести ее и снова обосноваться в своей смертной оболочке…
И тьма заполнила все пустоты, оживила плоть и придала голосам влюбленность… сделав их снова молодыми…
Оружие нетерпимо ко всему живому. Пистолет имеет круглый ствол, разинутую пасть и всегда готов кричать. Крик не принес облегчения. А только бесстрастную констатацию выстрела, пороха и дыма.
Натали лежала на полу, не ведая о беготне, дрожащих руках и обращенным к ней словам:
— Натали — ты мне нужна!
Стюарт лежал поперек нее и рыдал. Они лежали крест-накрест в верхней комнате в летних сумерках, словно «Х», составленный из человеческих тел. Икс — неизвестная величина трагического человеческого уравнения.
Шли часы, Стюарт лежал рядом с ней, беззвучно сотрясаясь. Единственное, что могло изменить лицо Натали, — это смерть.
Окоченение медленно стягивало расслабленные мышцы, и ее лицо украсилось самой жуткой бескровной усмешкой, какая только бывала у нее при жизни…
Их ничто не возмущало
Каждую ночь приходила новенькая. Он протягивал к ней руки, чтобы пощупать и поцеловать в грудь. Они отплясывали для него непристойные танцы, и он злостно отшлепывал их по самым чувствительным местам и вопил:
— Тащите выпивку! Выпивку сюда, черт побери!
Иногда заявлялись полненькие рыженькие, иногда худенькие брюнеточки, которые, деликатно откашлявшись, не показывали ему, что они прячут в носовых платках после того, как они прикладывали их ко рту. Иногда приходили крикливые блондинки, благоухавшие дешевыми духами и своим ремеслом. Его спальня содрогалась от их визитов и визга.
Разумеется, эти сцены разыгрывались в темноте. Когда он возвращался вечером домой после долгого знойного дня, проведенного за перелопачиванием всякого мусора, он принимал ванну, горланя обрывки песен и нещадно измочаливая себе спину. После обильного орошения подмышек квартой одеколона он облачался в халат, и не успевал он выключить свет, как в темную комнату безмолвно входила одна из них. Даже во тьме он отличал блондинку от брюнетки или рыжей. Он не задавался вопросом, откуда ему это известно. Он просто знал и все.
Он кричал:
— Привет, блондиночка!
Или:
— Привет, рыжик! Присаживайся, тяпни огненной водички!
— Еще как тяпну! — кричал в ответ пронзительный женский голос.
— Угощайся, детка, угощайся! — громыхал он.
— Спасибочки.
В темноте позвякивал стакан.
— До дна?
— До дна! — ответствовало сопрано.
— А-а-х, — смаковали его губы. — Хорошо пошла! — промолвил он с вожделением.
Он ощущал, как напряжение отпускает его тело. Он лег на диван и предложил:
— Еще по одной?
— Не возражаю!
Сегодня ночью он опять лег на диван. В комнате царила тьма и безмолвие. Дверь приоткрылась и захлопнулась, и, глядя в потолок и не включая света, он сказал:
— Привет, рыжая!
Ибо он знал, какой масти гостья пришла на этот раз. В темноте он чуял ее приближение, ощущал ее тепло и дыхание на своих щеках, и простер к ней руки:
— Выпьем, подружка!
Далеко, в недрах доходного дома кто-то включил воду. В затемненном квадрате комнаты, где он возлежал на тахте, послышался голос пришелицы:
— Отчего ж не выпить, Джо!
И вновь старый, милый сердцу перезвон: влага вслепую разливается по стаканам, губы еле слышно шевелятся в предвкушении глотка.
— Ах! — вздыхает один голос.
— Ах, — вторит ему другой.
— Отлично, малютка!
— Лучше некуда, Джо.
— Ты — рыжая, так ведь?
— Угадал с первого раза, красавчик Джо.
— Так я и думал. Как здорово что ты здесь! Старина Джо ужасно одинок. Вкалывает весь день до седьмого пота.
— Бедолага Джо, мой бедненький работяга Джо.
— Прижмись ко мне, крошка, согрей, а то холодно стало. Я совсем один, друзей у меня нет!
— Сейчас, Джо, сейчас!
Потом настала пора оценивать и переосмысливать части ее тела. Привычные, налитые теплые груди и истонченные ноги — не слишком тучные, не слишком худые. Она стояла рядом с ним в темноте, жаркая как печка в полуночной комнате, излучая слабый свет и тепло. Обнаженная и прекрасная.
— Распусти волосы, — сказал он, проливая выпивку на халат. — Я люблю, когда они спадают вниз.
— Да, конечно, Джо! — произнес высокий голос в комнате.
— И приляг рядом, — велел он.
— Твое желание — закон, Джо.
Они всегда повиновались. Их ничто не возмущало. Они исполняли все его прихоти. Никогда не жаловались. До чего же они были послушные!
— Обними меня за голову, — сказал он.
— Возьми меня за руки, — велел он.
— Потрогай меня тут, — попросил он, — и тут.
— Давай опрокинем еще по стаканчику, прежде чем ты меня поцелуешь, — сказал он наконец. — Черт возьми, нужно откупорить еще одну бутылку.
— Я откупорю, Джо.
В темноте что-то зашевелилось. Откупорилась бутылка.
— Такова жизнь, — сказал он, смеясь с зажмуренными глазами. — Комната, бутылка, женщина. Ведомо ли тебе, как одиноко в большом городе, где никого не знаешь? Нет. Очень мило, что ты с девочками заглядываешь ко мне на огонек. Скажи, ягодка, как тебя зовут?
— Может, не стоит, — сказала она.
— Да, ладно тебе. Как твое имя?
— Зови как хочешь.
— Элен?
— Можно и Элен.
— Знавал я когда-то одну Элен. В чем-то она была похожа на тебя: рыжеволосая, но ко мне не прикасалась. Я раз попытался поцеловать ее, но, наверное, я не был для нее достаточно хорош, и она отвесила мне оплеуху.
— Я бы так не поступила, Джо.
— Ну, ты другое дело, ты ей не чета.
Он призадумался, обливаясь потом.
— А может, тебя зовут Энн? Я знал одну польку по имени Энн. Она была Анной, но сменила имя на Энн. Она была блондинка, почти как та блондинка вчера вечером. Ты знаешь эту блондинку, милая?
— Да.
— И не ревнуешь?
— Нет.
— Странная ты женщина. Не ревнивая. А почему?
— Я знаю, Джо.
— Что знаешь?
— Тебя знаю. Знаю тебя. Понимаю тебя. Поэтому и не ревную.
— Где я остановился?
Он почувствовал стакан в своих пальцах и на своих губах.
— Энн тоже была отменной девушкой. Но вышла замуж за моряка. Представляешь, за чертова матроса? А не за меня! Черт! Так что, может, я буду звать тебя Энн.
— Энн — хорошее имя.
— Но ты лучше, чем Энн. Ты добра к одинокому старине Джо. Ты обращаешься с ним по-людски. Да. А может, я буду звать тебя Леотой. Я знал одну девушку, наполовину испанку, брюнетку по имени Леота.
— Зови меня как тебе угодно, дружок.
— Ладно, кончай разговоры. Давай просто пить и целоваться, хорошо, крохотуля?
— Заметано, Джо.
— Сделай одолжение, солнышко. Стяни с меня халат.
И в темноте разливалось тепло, дружелюбие, свечение и печальная нежность. Иногда он распевал песни, и по его щекам катились слезы.
— Ах, как же хорошо, что ты здесь, — сказал он. — Блондинка-блондиночка, не покидай меня. Обещаешь?
— Я буду с тобой каждую ночь, Джо.
— Отлично, просто замечательно. Теперь ложись рядом и целуй меня.
Воцарилось долгое молчание, а за ним что-то вроде всхлипов и рыданий. Они становились все громче. Сначала его голос, потом ее. Послышалось какое-то шевеление, ласковый шлепок.
— Ах, ты неотразима! — восклицал Джо. — Бесподобна!
— И ты, Джо, и ты!
— Я люблю тебя, ах, боже, как я тебя люблю!
— И я тебя люблю, Джо!
Вдруг кто-то замолотил в дверь.
— Открывайте там!!! — кричал домохозяин.
— А!!! — раздался вопль.
Дверь распахнулась настежь. Включили свет. Домохозяин стоял, положив руку на выключатель.
— Я больше не потреплю здесь никаких женщин! — вопил он. — Три недели я с этим мирился! Но мое терпение лопнуло! Убирайтесь и прихватите с собой своих женщин!
Домохозяин оглядывался по сторонам. Он застыл на месте. В комнате было четыре стены, никаких шкафов. Только немного мебели. Тахта, одно окно, один стул, один стол. Спрятаться негде.
На тахте лежал Джо, голый, ослепленный светом, и, моргая, глядел на домохозяина.
В комнате больше никого не было.
На полу валялись две пустые бутылки. Стакан выпал из руки Джо, пролившись на вечернюю газету.
Домохозяин посмотрел на распростертого голышом Джо. После долгой тягостной минуты он процедил сквозь зубы:
— Отсюда никуда.
Выключил свет, захлопнул дверь и запер на ключ снаружи.
— О, боже, боже, боже! — простонал Джо в темноте.
Из коридора было слышно, как домохозяин звонит в полицию.
Дротлдо
Звонок в дверь прозвучал непривычно и нервно. Тали пошла открывать, и ей показалось, что она слышит шаги, нерешительно удаляющиеся вниз по лестнице. Затем, словно набравшись решимости, шаги вернулись, и опять лихорадочно задребезжал звонок.
— А, доброе утро, миссис Раннион.
Миссис Раннион стояла по ту сторону двери, заглядывая внутрь, словно ожидая увидеть необузданную попойку, переминаясь с ноги на ногу, нехотя, не желая вторгаться, но имея что-то важное на уме. Она стояла, сцепив руки, постоянно теребила пальцы и смотрела поверх плеча Тали.
— Доброе утро, мисс Браун. Можно мне войти? Спасибо.
Дверь затворилась.
— О, какая у вас чистота и порядок!
— Благодарю.
— Я редко вас вижу, — сказала миссис Раннион. — И вот решила зайти. Я бываю так занята. Вижу, у вас тут все прибрано. Любо-дорого смотреть. Хорошо, когда у тебя живут люди, которые присматривают за жильем. Надеюсь, те, что будут здесь жить после вас, окажутся такими же чистоплотными, мисс Браун.
— Надеюсь, здесь еще долго не будет новых жильцов, — сказала Тали, встревоженная интонациями в голосе миссис Раннион. — Мне здесь очень нравится. По утрам здесь так хорошо.
Миссис Раннион села, поглаживая подлокотник кресла словно пса, как будто ей нужна была компания для своего очередного заявления.
— За этим я к вам и пришла. Из-за комнат, знаете ли.
— В чем дело?
— Мой брат приезжает из Иллинойса, недели через три, — сказала миссис Раннион, — а при нынешнем положении с жильем… Лос-Анджелес так разросся… Вчера вечером я как раз говорила мистеру Ранниону, как ужасно раздался Лос-Анджелес за десять лет. Помню, как сейчас — на Вилширском бульваре и в Ферфексе цирк-шапито разворачивал свои шатры, а теперь — полюбуйтесь…
— Так что вы говорили о своем брате, миссис Раннион.
— Ах да. Вот я и говорю, брат приезжает, а места нет. И… — она взглянула на свои извивающиеся пальцы, потом на Тали, потом в окно. — Ужасно не хочется это говорить, мисс Браун, но вам придется уступить комнату моему брату.
— Вы хотите, чтобы я съехала?
— Не подумайте, что я вас недолюбливаю, мисс Браун.
— С какой стати мне так думать. Все очень просто.
— Надеюсь, вы не станете жаловаться в Управление по связям с общественностью и чинить препятствия!
— Мне бы такое и в голову не пришло. Но я бы с удовольствием вселилась в квартиру поменьше…
— Но такой квартиры нет, и в ближайшие месяцы не предвидится…
— А я пару дней назад слышала, что Уильямсы возвращаются в Акрон. Я могла бы переехать на их место. Оно меньше, а с другой стороны, эта квартира великовата для меня одной. Мне столько места не нужно.
— Уильямсы? — переспросила домохозяйка. — Ах да, Уильямсы. Но на их место уже есть жильцы, молодожены.
— Может, еще подождут?
— Я не могу их подводить, я им уже пообещала.
Тали со странным выражением лица медленно присела.
— Но ведь я живу здесь два года. Я примерная жилица. Разве нет? Я содержу квартиру в чистоте. Разве нет? Я не закатываю оргий. Плачу вовремя. Так почему же я не имею права на комнату поменьше?
— Пожалуйста, мисс Браун, не ставьте меня в затруднительное положение, — вздохнула миссис Раннион, прикладывая ладонь к разгоряченному лбу. — Всякое бывает. Я уже пообещала сдать им эту квартиру, и вам придется съехать.
— Но я живу здесь…
— Мне очень жаль, мисс Браун.
— Вам жаль. А каково мне? Куда мне деваться?
— Наверняка найдется уйма всяких мест, если поискать как следует.
— Но вся моя мебель, укладывание вещей, переезд!
— Будьте добры, не пререкайтесь со мной, — устало и не без раздражения сказала миссис Раннион.
Она отдернула со лба руку.
— Вам нужно съехать отсюда, и весь разговор! — в ее голосе послышались гневные нотки. — Хватит об этом. Я не хочу выходить из себя, но вы доведете меня до белого каления, если не прекратите!
— С какой стати вам на меня сердиться? Я ухожу. Но сначала я хочу, чтобы вы об этом поговорили со мной.
— Разговор окончен, — отрезала миссис Раннион. — И слышать об этом не хочу. Сказано же вам коротко и ясно — выселяйтесь, и я буду довольна!
Тали смерила ее взглядом и медленно заговорила.
— Да, да, — сказала она, — я съеду, но прежде чем я стану укладывать вещи, я хочу понять, почему вы так странно ведете себя в таком элементарном вопросе?
— У меня полно забот. — Миссис Раннион вскочила и метнулась к двери, словно ей грозил потоп и погибель, если она задержится хоть на миг. — Я помогу вам, если нужно.
— Не извольте беспокоиться, — Тали сидела и говорила тихим голосом.
— Я помогу вам. Я непременно должна вам помочь.
— С какой стати? Миссис Раннион!
Домохозяйка остановилась, держась за дверную ручку, под серо-белой кожей ее лица перекатывались желваки. Глаза плотно зажмурились; затем она обернулась и вымолвила, едва дыша:
— Это не я хочу, чтобы вы съехали, но тут ходят всякие разговоры.
— Какие разговоры?
— Ничего особенного. Просто разговоры. Новые люди. Новые постояльцы приходили на прошлой неделе посмотреть жилье, но отказались вселяться, потому что…
— Потому — что?
Скулы миссис Раннион заходили. Казалось, она беспомощна, ее руки повисли, она тяжко дышала, в глазах стояли слезы, она не могла собраться с мыслями, чтобы заговорить. Она сделала глубокий вздох:
— Мистер Раннион…
— Что мистер Раннион?
— Он… это он хочет, чтобы вы съехали, а не я! — вскричала она. — O, клянусь, не я, мисс Тали. Вы мне нравитесь. Я знаю вас очень хорошо. Во всяком случае, мне так казалось. Но мистер Раннион… посмотрел на меня вечером за ужином и сказал, чтобы вы съехали. Потом он сидел в гостиной, курил трубку и сказал, что вы должны съехать, потому что ему сделали деловое предложение.
— Не понимаю.
Миссис Раннион простонала:
— O, не заставляйте меня продолжать. Я не хочу говорить. Он велел мне пойти к вам. Я не хотела. Мгновение назад я попыталась грубить вам, но у меня не получается. Он должен был сам прийти, но постыдился. Тогда он послал меня, и теперь стыдно мне, а я, напротив, попросила бы вас остаться, но он оторвет мне голову, и наш бизнес прогорит. Понимаете, в первый же день, когда вы пришли, мистер Раннион стал косо на вас поглядывать, хотя ничего не сказал. Но две недели назад…
Она смежила веки, открыла глаза, покатилась слеза.
— Когда вы приехали из отпуска, он увидел, какие темные у вас…
— O-о.
Они умолкли. Тали впитала в себя это одно-единственное слово и не выпустила наружу. Миссис Раннион было нечего сказать. Солнечный луч упал на ковер, прожужжала муха.
После долгого молчания Тали поднялась:
— Я завтра же съеду.
— Не надо так спешно. Можете остаться еще на неделю или больше.
Тали выпрямилась, рукой откинула назад черные волосы. Поймала себя на том, что смотрит на свои руки: какие они темные, какая у них фактура.
— Нет, лучше завтра.
— Прошу вас не сердитесь на меня, мисс Тали.
— Я не сержусь. Пожалуй, нет.
— Вы ведь все понимаете?
— Еще как.
— Я помогу вам уложить вещи.
— Спасибо. Мне понадобится помощь.
Золотой луч солнца упал на ее пальцы. Она подняла их к свету, и они были как янтарь, перемешанный с черной патокой, насыщенные, чистые и чужие. Она позволила своей руке упасть, словно она была в перчатке и не представляла ценности.
— Только скажите мне, ваш брат действительно приезжает? Нет, не говорите ничего. Не нужно ничего говорить. У меня есть глаза. Неужели ваш муж действительно считает, что я могу нанести ущерб его собственности?
— Он сказал… Он говорит: «Впустишь одного, так они все сюда слетятся — и что тогда станет с твоей собственностью!» Вот что он говорит. О, иногда я так его ненавижу!
— Вы не собираетесь с ним поспорить?
— Я спорила целую неделю. Без толку. У меня все внутри сжалось. Я не могу есть. Вы самая приятная особа из всех, кого я знаю. Я ничего не могу поделать.
Тали пристально посмотрела на нее.
— Не можете? — спросила она отрешенно. — Нет, — проговорила она. — Пожалуй, не можете. Большинство не знают как. Ладно, — она резко повернулась. — Мне нужно многое сделать, миссис Раннион, чтобы съехать завтра. Вы уж извините, я начну собираться.
Миссис Раннион кивнула, вытерла глаза, высморкалась. Взялась за дверь, задержалась в дверном проеме:
— Я зайду попозже, помочь.
Тали стояла не двигаясь:
— Что? Ах да. Спасибо.
Дверь захлопнулась.
Тали опять подняла руки к золотистому свету: они были подобны перчаткам из тончайшей чеканной бронзы, которые она, если бы хватило терпения, могла бы стянуть с пальцев. Свет в окне медленно смещался, а она еще долго стояла, выполняя обычные неторопливые движения женщины, стягивающей перчатки, палец за пальцем, палец за пальцем…
Может быть, маленький человек олицетворяет собой и зло, и благо?
Если вы поняли намек, разобрались в себе и примирились с собственным прошлым и угрызениями совести, то маленький человек — во благо. Если вы отвергаете прошлое и гоните прочь угрызения совести, то вам станет больно. Тогда вам покажется, что маленький человек — во зло.
Краткое изложение
1. Голубые глаза, а может, карие; голубой глаз в замочной скважине, но у человека в вестибюле глаза карие.
a. Узнает у администратора, как зовут человека из соседнего номера.
Мистер Бикель
b. Обнаруживает, что дверь все время не заперта.
c. Вызывает администратора, дверь должна быть заперта.
d. В номере никогда не жили. Мистер Бикель живет где-то в другом месте. Постель всегда заправлена.
e. Заходит внутрь. Обнаруживает стеклянный глаз, подвешенный на двух деревяшках перед замочной скважиной.
f. Жалуется администратору. Администратор говорит, если вам не нравится, не смотрите в замочную скважину. Или, в крайнем случае, заклейте замочную скважину пластырем.
g. Заклеивает замочную скважину пластырем.
h. Видит, как маленький человек достает из лифта манекен своего размера, полностью одетый.
i. Я знаю, что он собирается делать с чертовой куклой, я чую.
j. Дверь опять не заперта, он заходит в номер, находит манекен, повернутый лицом к двери: всю ночь чует, как этот манекен у двери пялится в замочную скважину.
k. Наконец сталкивается с маленьким человеком: кто вы? Что вам нужно? Денег? Маленький человек только усмехается. Вы шантажист? Я заплачу пятьдесят долларов, лишь бы вы съехали отсюда. Он кладет деньги на стол, маленький человек даже не прикасается к ним.
1. Он возвращается в номер и выбрасывает манекен в окно.
m. Приходит администратор с жалобой, муж говорит, что ему ничего не известно о происшествии.
n. Маленький человек съезжает.
o. Мужу все равно мерещится, что в смежном номере кто-то есть. Заходит туда и обнаруживает едва прорисованный силуэт маленького человека на двери.
p. Муж и жена выписываются из гостиницы и уезжают домой.
В глазах созерцателя
Проходя по вестибюлю, он испытал момент узнавания. Муж и жена шагали в одну сторону, а человечек в темном костюме и в таком же котелке — в другую. Муж не смотрел в лицо коротышке до тех пор, пока они не поравнялись, и только тогда, в последний миг взглянул на него. С этого начались его беды и череда событий, которые в последующие несколько дней довели его до крайности.
— Я знаю тебя, — казалось, произнес некий голос.
На мгновение муж опешил, ибо лицо маленького человека глядело на него исключительно выразительно, насмешливо, с блестящими глазами и приятным ртом, очертаниями носа и губ, с простой и прямотой вонзенного чистого ножа, без всяких затей.
— Я знаю тебя.
Лицо исчезло. Голос, если это был голос, затих. Муж ощутил себя совершенно разоблаченным и беззащитным перед лицом ледяной бури. Он последовал за своей женой, машинально отворил дверь гостиничного номера, пропустил ее вперед. Ему показалось, что маленький человек маячит у него за спиной. Он обернулся. В коридоре ни души.
Муж вошел в номер; жена снимала шляпку.
— Ты заметила того человечка?
— А что в нем особенного?
— Тебе не показалось, что он что-то сказал?
— Нет.
— Мне послышалось, что он сказал «Я знаю тебя».
— Я ничего не слышала.
Муж подышал на свои руки, словно хотел их согреть.
— А почему мне показалось, что я это слышал?
— Ума не приложу.
— Ладно, к черту его.
И он снял пальто и галстук, готовясь отойти ко сну. Когда его жена закончила свой туалет, он зашел в ванную комнату и за чисткой зубов заметил, что ею пользовались обитатели двух разных миров: жильцы его номера и жильцы смежного номера — из-за второй двери, ныне надежно запертой на замок и щеколду с его стороны. Так что, кто бы ни жил за этой дверью и стеной, ни днем ни ночью не смог бы проникнуть и смыть с себя зловещую сажу и еще более зловещих микробов этого города в их фарфоровую раковину.
— И все равно мне это не по нутру, — решил он вслух.
— Что ты сказал? — спросила жена из спальни.
— Мне не нравится эта вторая дверь в соседний номер, — сказал он громче. — Им следует снять дверь и замуровать проем.
— Ах, ради всего святого, — взмолилась жена. — Дверь заперта. Они используют ее для больших семей, занимающих смежные апартаменты. Никто не собирается к нам вламываться после полуночи, грабить тебя или насиловать меня. Ты слишком беден, а я уже далеко не так хороша собой. Вот.
— Все равно, — упорствовал он, теребя щеколды и пробуя замок на прочность.
— Иди спать.
Свет в спальне погас, и он услышал, как пружины матраса приняли на себя вес его жены.
Он стоял в ванной, глядя на вторую дверь. Вдруг его заинтриговала замочная скважина. Он немного поколебался, а затем нагнулся и заглянул в скважину.
На него взирал яркий синий глаз.
Он молниеносно выпрямился, хватая ртом воздух.
— Прошу прощения! — возопил он, словно сделал кому-то ужасную гадость.
— Что там такое? — спросила жена из затемненной спальни.
Руки у него почему-то затряслись, и он почувствовал, как кровь жаркой волной хлынула ему в голову, заливая краской лицо. Он увидел свое смущенное и одураченное отражение в ярком зеркале.
— Черт! Черт! Черт! — вскричал он.
Затем зажал себе рот ладонью.
— Что с тобой? Ты порезался? — спросила жена.
Он был не в силах отвечать. Что тут скажешь? Что с той стороны какой-то недоумок пялится на нашу ванную комнату? На меня в замочную скважину зыркает какой-то глаз? Черт побери! Разве такое можно выговорить! Совпадение. Человек с той стороны услышал шум воды, подошел и нагнулся посмотреть в тот же самый момент, когда я сам подглядывал. Наверное, тот, другой, так же смущен и обескуражен и чувствует себя так же глупо. Какой идиотизм!
— Чарльз? — позвала жена.
— Иду, — сказал он, резко выключив свет в ванной.
Глуповато хихикая, он на ощупь вернулся в спальню и лег в постель.
— Что происходит? — поинтересовалась жена. — Ты как будто пьян.
Опустив голову на подушку, он прошептал:
— Глупее не придумаешь. Посмотрел в замочную скважину, а из нее на меня зыркает чей-то глаз.
— Ты шутишь.
— Честное-благородное слово. Позор, да и только, — прошептал он, нервно хихикая. Ему свело живот. — Маленький человечишка.
— Кто-кто?
Он призадумался.
— Да. Странно. Но это он. Больше некому. Маленький человек, который прошел мимо нас в вестибюле. Никогда еще я не был в чем-то так уверен. Он живет за стеной.
— Какая разница, — устало молвила жена. — Двери, человечки, замочные скважины… Какое тебе до этого дело?
— А ему какое до нас дело? — вскричал муж и затем, успокоившись, сказал: — Я же не просил его подглядывать в замочную скважину.
— Если бы тебе самому не пришло в голову подглядывать в скважину, то ты бы не сделал такого открытия, — сказала она. — Я в жизни не заглядывала в замочные скважины. У меня и в мыслях такого не было, даже в голову не приходило. С какой стати тебе приспичило сделать нечто подобное?
— А черт его знает, — вырвалось у него. — Вот просто взял и сделал.
— Спи, — посоветовала жена с приводящим в бешенство терпением. — Завтра у нас долгий день. Заседания — целый день. Еще два дня, сядем в поезд, и домой.
Она позаботилась о том, чтобы взбить подушку и натянуть на себя одеяло, чтобы заставить его молчать.
— Все равно, — сказал он после минутной паузы. — Готов поспорить на последний доллар, что этот плюгавенький субчик живет за нашей дверью.
Жена промолчала.
Еле-еле-еле слышная капель. Тишина. Кап. Тишина. Кап. Кап. Кап.
Он поднял голову с подушки. Взглянул на светящийся циферблат часов.
— Три.
Кап. Долгая тишина. Кап.
Как такой ничтожный звук мог его разбудить?
Вода. По капле падает в фарфоровую раковину.
Муж встал, пошел в ванную и прикрутил кран. Капель прекратилась. Он держал руку на холодном металле. Перед сном он всегда все проверял. За двадцать с лишним лет такие проверки стали для него привычным ритуалом — чтобы не капала вода, не оставалось незапертых дверей и хлопающих жалюзи, чтобы дверцы шкафов были заперты, а ящики письменных столов задвинуты. Он признавал, что это чудачество, и отчетливо помнил, что проверял краны именно на утечку. Ответ мог быть только один.
Он быстро включил свет в ванной. Затем заставил себя двигаться очень медленно. Проверил замки и щеколды. Все пребывало в том же состоянии, в каком он это оставил. Дверь в смежный номер была заперта намертво. Никто не мог проникнуть сюда ночью, помыть руки и уйти. Он бросил взгляд на мыло в фарфоровом лоточке. Под каким углом оно лежит? Обычно он кладет обмылок вдоль мыльницы, как полагается. Нет ли отклонений от нормы? Он выдохнул. Черт, черт! Он не знает. Не может сказать. Черт, черт! Нельзя доверять своей подсознательной небрежности. Внешне опрятный, наш подсознательный характер зачастую изменяет нам и разбрасывает повсюду мелкие следы — ничтожное волокно, брызги, мыльную крошку и соринки. Грязь, грязь, грязь!!! Он слегка содрогнулся от своего собственного потаенного постыдного эго.
— К черту, — бросил он зеркалу.
Как же он побледнел, словно застукал своего братца-близнеца за каким-то чудовищным и безнравственным деянием!
— Мы накрепко закрутили кран. Теперь можно и на боковую.
Не хватает одного.
Смеясь над собственной глупостью, он играючи подошел ко второй двери и наклонился. Заглянул в замочную скважину.
На него, не моргая, лучезарно глядел синий глаз.
На этот раз он замер на несколько секунд, казалось, не в состоянии пошевельнуться. Он сделал выдох через легкие и горло, минуя язык, через нос и ноздри, сквозь зубы. У него закружилась голова. Его закачало. Глаз вперился в него. Он оперся рукой о стену. Выпрямился. И долго стоял, переводя дух. Затем, как всплывающий всего на минуту ныряльщик, он сделал глубокий вдох и снова нырнул.
Глаз никуда не делся.
Если глаза умеют улыбаться, то этот ему улыбался.
— Пошел прочь! — прокричал он шепотом. — Вон отсюда!
Он резко повернулся и хлопнул было по выключателю. Промахнулся и попытался снова. Свет погас. Он чуть ли не бегом бросился к постели.
Еще до завтрака он позвонил администратору.
— Это из номера 412. Не могли бы вы мне сказать, кто наш сосед из номера 411?
— Мистер Бикель, сэр.
— Миниатюрный такой, бледноватый коротышка в котелке?
— Здесь только имя «мистер Бикель». Я не могу описать вам его внешность. Что-нибудь не так?
— Негодяй пялится сквозь замочную скважину на нашу ванную комнату. Только и всего.
Последовало долгое молчание.
— Откуда вы знаете? — спросил наконец голос на том конце провода.
— Ну, я присел и… — муж запнулся, сглотнул слюну. — Видите ли, я…
Он прикоснулся к телефону, опасаясь, что аппарат вот-вот взорвется у него под носом, и сказал: — Ладно. Не будем больше. Это бесполезная затея.
И повесил трубку, обливаясь потом.
Жена посмотрела на него:
— Ну как?
— Чертов администратор, словно намекает на то, что это я шпионю.
— А разве не ты?
— О боже, и ты Брут!
— Сказано же в Библии: «Ищите и обрящете».
— Терпеть не могу Библию, — откликнулся муж. — Цитаты на все случаи жизни. И если не из Библии, то из Вилли Шекспира.
— Почему бы тебе не заклеить замочную скважину пластырем, — предложила жена.
Он сел на кровать, и у него стала медленно отвисать челюсть.
— Отличная идея, черт возьми!
Так он и сделал.
— Вот тебе! Получай!
— А сейчас он смотрел на тебя через скважину? — полюбопытствовала жена.
— Не знаю. Не проверял.
— А ты проверь, — сказала она, накрашивая губы помадой.
— Послушай, Глэдис!
— Проверка не повредит.
— Черт, я только хочу, чтобы меня оставили в покое!
Он оторвал пластырь от замочной скважины и склонился к ней.
— Черт побери! Сгинь! Пропади! Всё, звоню администратору!
— Чарли, — сказала жена.
— Вот, полюбуйся сама!
Она засмеялась и подошла. Наклонилась и посмотрела в замочную скважину. Потом выпрямилась, пожав плечами, и вернулась к своему прежнему занятию — припудриванию щек перед зеркалом в ванной.
— Ну и? — воскликнул муж.
— Если ему так уж хочется проводить все часы своего бодрствования, прилепившись к замочной скважине, то нам должно быть на это наплевать, — заключила она.
— Ты видела этот глаз — прямо сейчас?
— Видела.
— Ну вот опять!
— Но кому какой от этого вред? Он ничего не может увидеть.
— В том-то и дело. Вторжение в частную жизнь.
— Не ощущаю никакого вторжения.
— Не говори пошлостей, — сказал он.
— Может, это знак внимания, — предположила она. — А вдруг мы его заинтересовали? Представь себе, что он писатель, которого привлекают сценки из жизни космополитов.
— Ей-богу, он скорее чокнутый.
— Он малость тронутый, как таких величала моя мама, — сказала жена, приводя в порядок прическу. — Те, кто в Кантоне вставал спозаранку, чтобы собрать росу с папоротника, плавал в полночную грозу или загромождал свои жилища старыми газетами, хрусталем или резиновыми покрышками — малость тронутые. «Капустной молью траченные в темноте», — говорила она. Мама посылала стихи в дамские журналы. За тридцать лет ее опубликовали лишь однажды.
— Меня так и подмывает засунуть в замочную скважину водяной пистолет и нажать на спуск.
— Что? — спросила жена, занятая своими мыслями.
— Чертов синий глаз, — пробурчал он.
— Желтый.
— Не понял, — сказал он.
— Желтый, — сказала она. — Вроде кошачьего.
— Когда я вижу синий, я знаю, что это синий, — сказал он обиженно.
— Желтый, — настаивала она.
— Синий.
— Сам посмотри.
Она кивнула на замочную скважину.
Он наклонился. Выпрямился. Глянул на нее.
— Си-ний, — выговорил он каждый слог в отдельности.
— Я готова поклясться, — изумленно сказала она.
Она подошла и снова заглянула в скважину.
— Желтый, — сказала она, разгибаясь. — Чарли, ты что меня разыгрываешь?
— Да прекратишь ты наконец или нет! — вскричал он, отстраняя ее.
И пристроился к замочной скважине.
— Синий, черт побери. Эй ты там! Вон! Пошел прочь! Слышишь!
— Ладно, с меня хватит, — сказала жена, направляясь к выходу. — Пойдем завтракать, а то я сойду с ума.
— А может, ты меня разыгрываешь?
— Чарли, глаз был желтый.
— Значит, это какие-то дьявольские проделки! У него явно разного цвета глаза. И он жульнически пользуется этим преимуществом, чтобы подорвать наши брачные узы.
— А ты часом не дальтоник? — поинтересовалась она, выходя из номера.
— Только не надо теперь всё сваливать на меня!
Их дверь щелкнула. Они находились в коридоре. В двадцати футах от них стоял маленький человечек и прилаживал к голове свой котелок, словно тот был неотъемлемой принадлежностью его черепа, а не просто приложением к последнему.
— А! Вот ты где! — хотел было воскликнуть муж, но промолчал.
Жена, казалось, собиралась сказать ему «доброе утро».
«Я должен что-то сказать, — думал муж. — В конце концов, это на него мы только что орали через дверь. Или не на него? Как знать? Может, с ним живет еще кто-нибудь. Нет. Я не слышал голосов. Там всего лишь один жилец, уже такой знакомый в нашей ванной, или его часть. В любом случае это он и его треклятый глаз. Но теперь мы стоим в коридоре, и мой чертов язык не шевельнется и не пикнет».
Маленький человек прошел мимо. Его нос указывал строго в конец коридора, подобно тому, как тонкая, чувствительная дрожащая стрелка смотрит на север, отзываясь на зов магнитного полюса. Он тихо прошагал мимо, не глядя на них, но они увидели его глаза, когда он поравнялся с ними. Они проводили его взглядами, поворачивая за ним головы, следя, как он удаляется, сворачивает за угол и исчезает из виду.
Муж схватил жену за руку и сказал:
— Карие.
Она посмотрела на него и медленно кивнула.
— Карие, — подтвердила она. — Как у собаки.
Маленький человечек сидел в вестибюле, без газеты, и смотрел на людей, спускавшихся к завтраку. Он по-прежнему сидел и смотрел, когда они вышли после завтрака, полусытыми, так как не были голодны.
— О, — сказал муж. — Я кое-что забыл. Мне нужно подняться в номер. Извини.
Он метнулся к лифту, который вознес его по шахте, где по-змеиному извивались кабели и гулко гудело электричество.
В номере он направил свои стопы к ванной после того, как с превеликими предосторожностями, тайно, неслышно, на цыпочках вошел в наружную дверь.
«Вот теперь мы узнаем, один он там живет или нет», — думал он.
Не включая света в ванной, он приложил глаз к замочной скважине.
Серый.
— О боже! Это уже слишком! — вскричал он.
Серый немигающий светящийся глаз смотрел на него и сквозь него.
— Довольно! — сказал он.
Он отпрянул от двери. Синий как небо. Желтый как кошачий глаз. Карий как у собаки. А теперь серый! Что за глупость. Сколько же народу в этой чертовой комнате? Он прислушался. Ни звука. Даже половица не скрипнет под ногой, чтобы не выдать перемещение тела за стеной или за дверью. Никаких звуков дыхания через рот или вздувшиеся ноздри. Вот черт!
Он позвонил администратору.
— Сколько человек прописано в номере 411?
— Один.
— Там черт его знает что сейчас творится! Будьте добры, позовите к телефону мою жену.
Пауза.
— Чарли?
— Слушай, — спросил он, — этот чокнутый все еще в вестибюле?
— Да, сидит тут, — ответила она.
— Черт бы его побрал.
Он повесил трубку.
Он стоял перед ванной комнатой.
— Глупо торчать целый день и подсматривать в замочную скважину при ничтожных шансах, что кто-то другой тоже подсмотрит в скважину и увидит, как ты подсматриваешь, и разозлится. В этом должен быть какой-то умысел, хотя, черт меня возьми, если я знаю какой. Ни у кого нет времени сгибаться в три погибели и пялиться все 24 часа из 24. Всю ночь этот глаз был здесь. И весь день. Полное безумие.
Он распахнул дверь номера и зашагал по коридору. Приложил ухо к двери маленького человечка — и все равно ничего не услышал, кроме порхания пыли в утреннем воздухе и неслышного шуршания осыпающейся штукатурки. Он постучал в дверь:
— Есть кто-нибудь?
Он постучал громче.
— Я же знаю, что вы там!
Он принялся колотить в дверь.
— Открывайте!
Обливаясь потом, он молотил и молотил по двери целую минуту. Затем дернул за дверную ручку. Она легко повернулась.
— Так, — сказал он.
Он облизнул губы и повернул ручку, позволив двери распахнуться внутрь пустой комнаты. Постель была заправлена, и судя по ее внешнему виду никто на ней ночью не спал. Все было опрятно и на своих местах.
— Они не могли улизнуть. Я бы их увидел в коридоре.
Стенной шкаф. Спрятались в шкаф, конечно. Шкаф. Подбегаю, распахиваю дверцу и выволакиваю негодяя на свет божий. Но что-то мешало ему это сделать, мешало сойтись лицом к лицу с малость тронутым субчиком. Ужасно неловко обнаруживать кого-то в его собственном шкафу. Что ты ему скажешь? Он и так, наверное, испуган стуком в дверь и вторжением в его номер. Так что пусть себе скрывается в шкафу и… Он обернулся и замер.
Дверь в ванну. Вот она где!
И здесь же серый глаз.
* * *
Он вышел из лифта, словно пробирался по краю утеса. Он пересек вестибюль и постучал по серебристому звонку. Эхо малинового перезвона еще висело в воздухе, а служащий уже был тут как тут. Чарльз Фенимор не нашелся сказать ничего лучшего:
— Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь.
Он разложил на стойке регистрации семь поблескивающих предметов.
— Синий, зеленый, карий, коричневый, желтый, аквамариновый и светло-карий.
Семь стеклянных глаз уставились на служащего, а тот в свою очередь уставился на семерку стеклянных глаз, после чего перевел изумленный взгляд на Чарльза Фенимора.
— Вот эти штуки, — сказал Фенимор, запоздало осознав, что прежде, чем вдаваться в объяснения, следовало бы сделать несколько глубоких вдохов. — Зыркали на меня через замочную скважину, что в двери ванной комнаты.
Служащий отшатнулся от стойки.
— Обратитесь, пожалуйста, к администратору.
Был призван администратор, который внимательно выслушал мистера Фенимора.
— Прилеплены пластырем к замочной скважине, говорите?
— Да.
— Иногда синий глаз, иногда карий, иногда зеленый, говорите?
— Да. И днем и ночью.
Администратор поджал губы и ущипнул себя за подбородок.
— А каким образом, позвольте спросить, вы завладели этими стеклянными глазами?
— Я…
— Эти стеклянные глаза принадлежали мистеру Бикелю?
— Да…
— И он вручил их вам?
— Нет, я…
— Вы взяли их?
— Не совсем. Они…
— Вы зашли в его номер?
— Дверь была отворена…
— И вы так оправдываете похищение его собственности?
— Какое похищение! — воскликнул мистер Фенимор.
— Мелкая кража, если вам так больше нравится. Со взломом, — сказал администратор, записывая что-то черным карандашом в блокнот.
— Я не просил его прилеплять чертов стеклянный глаз к моей замочной скважине.
— Ради бога! Стеклянные глаза, прилепленные к замочной скважине, никому не причиняют неудобств.
— А мне причиняют!
— Вы весьма чувствительны. В каких вы отношениях с этим Бикелем?
— Ни в каких, черт бы его побрал! Я никогда с ним не разговаривал.
— Это нелогично, — возразил администратор. — С какой стати ему дразнить вас стеклянными глазами? Если вы незнакомы. У вас есть доказательство того, что они принадлежат мистеру Бикелю?
— Я…
— Вот видите? — Администратор безразлично пожал плечами. — Вы не знаете наверняка. Если они не его собственность, значит, они принадлежат вам. Все это у меня не укладывается в голове. Я забуду об этой истории и пожелаю вам всего хорошего. Если же, с другой стороны, они принадлежат ему, то вам не следовало испытывать на прочность его дверь, вторгаться туда и красть…
— Красть! О боже!
— Красть. А как, по-вашему, это называется? — полюбопытствовал администратор, поглядывая на телефон и постукивая указательным пальцем.
— Послушайте, — сказал мистер Фенимор. — Я только хочу, чтобы вы велели мистеру Бикелю прекратить лепить глаза по ту сторону моей замочной скважины.
— Это его номер. Он не шумит. Я вам уже предлагал наклеить стерильный пластырь с вашей стороны замочной скважины.
— Но в этом-то все и дело. Мы-то знаем, что там есть глаз, черт бы его побрал!
— И что с того? — Администратор бесстрастно посмотрел на него тусклым взглядом психоаналитика, в которого превращается всякий гостиничный служащий, наблюдая за вереницей безумных персонажей, индейцев и запойных алкоголиков, шествующих мимо него на кладбище. — A? Может, вы желаете другой номер?
— Нет, я заплатил за этот номер и оставляю его за собой. Вот чертовы глаза мистера Бикеля. Они мне не нужны. Скажите ему, чтобы прекратил, а не то я скормлю их ему по одному.
— Я верну эти предметы мистеру Бикелю, — администратор слегка щелкнул каблуками, расставаясь с пациентом и уже позабыв о его проблемах.
Зазвонил телефон. Еще не зная, кто звонит, администратор улыбнулся и схватился за трубку:
— Алло!
Мистер Фенимор повернулся и отправился на поиски жены.
* * *
Маленький человек одиноко сидел за столом в пустующем ресторане. Его завтрак был окончен, нераспечатанная пачка сигарет лежала у его локтя рядом с коробком, по которому еще ни разу не чиркнули спичкой. Он сидел, положив руки на колени, созерцая окружающий мир, провожая детским взглядом и незаметным движением головы все, что проплывало мимо него; его рот был спокоен; небольшое туловище расслаблено. Он посмотрел на мистера Фенимора, когда тот пересекал вестибюль и ввалился в ресторан. На мгновение Фенимор произвел впечатление человека, ослепленного скатертной белизной и серебром. Вот он приметил одинокую фигуру мистера Бикеля и настороженно двинулся к нему.
Мистер Бикель посмотрел на него лишь раз, ибо окружающий мир интересовал его гораздо больше. И только после того, как Фенимор дважды окликнул его, Бикель взглянул на него, слегка приподняв брови.
— Да?
— Я хочу поговорить с вами, — сказал Фенимор.
— Я не расслышал вашего имени…
— O черт, вы прекрасно знаете мое имя!
— Извините, разве мы встречались? — Бикель сидел с широко раскрытыми глазами и улыбался.
— Встречались, встречались, черт побери, еще как встречались. Вы живете в смежном номере!
— Неужели?
— Хватит разыгрывать из себя невинность! — гаркнул Фенимор.
— В гостинице столько людей… — сказал мистер Бикель, непроизвольно взмахнув рукой.
— Боже милостивый, — пробормотал Фенимор, зажмурив глаза. — Придется с ним повозиться.
Он открыл глаза и сел. Его поведение удивило Бикеля.
— Ближе к делу, — предложил Фенимор. — Чего вы хотите?
— В данный момент? — спросил Бикель. — Просто посидеть здесь.
— Чего вы хотите от меня! — сказал Фенимор.
— От вас я ничего не хочу. Я вас не знаю, — непринужденно ответил он.
— Вы отрицаете, что поставили себе цель издеваться надо мной любыми доступными способами?
— Поиздеваться?
— А глаза! Стеклянные глаза в вашем номере, прилепленные к замочной скважине!
— Вы побывали в моем номере?
— Да!
— И вы имеете обыкновение подглядывать в замочные скважины?
— Я…
— Ну, — сказал мистер Бикель, улыбаясь и пожимая плечами.
— Вы денег хотите? — вопросил Фенимор в отчаянии.
— Денег?
— Что это за шантаж, куда вы клоните?
— Шантаж?
Бикель положил руки на стол, элегантно состыковав кончики пальцев.
— Что вы такое говорите?
— За всем этим что-то кроется. Вы что, возомнили, будто знаете обо мне нечто такое, чего обо мне не знает жена?
— Я вообще не ночую в своем номере, — сказал маленький человек.
— Невозможно, чтобы номер снимали и не пользовались им.
Мистер Бикель тихо улыбнулся:
— Спросите старшую горничную.
— Сейчас вернусь!
Спустя пять минут мистер Фенимор медленно вернулся, шажок за шажком, держась за лицо, словно ему отвесили оплеуху. Он остановился у стола.
Мистер Бикель взглянул на него.
— Вы правы. Горничная говорит, что две недели не меняла постельное белье. В постели никто не спал.
В его голосе сквозило недоумение. Он готов был повторить сказанное вслух и про себя.
— Присаживайтесь, — мистер Бикель похлопал по стулу.
— Нет, — сказал Фенимор. — Что вы затеяли?
— Ничего я не затеял.
— Ничего хорошего. Вот что вы затеяли. Ничего хорошего. Стеклянные глаза. Постель, в которой не спят. Белье не меняют. Не к добру это. Ой, не к добру! Я подозреваю вас, но не знаю в чем. Вы, часом, не детектив?
Мистер Бикель покачал головой, печально улыбаясь.
— Вы знали меня раньше? — спросил Фенимор.
Мистер Бикель покачал головой.
— Почему вы пытаетесь вызвать у меня угрызения совести?
— Разве? — мистер Бикель откинулся на спинку стула и непринужденно сцепил пальцы.
— Да, чувство вины!
— Но никто не может заставить другого человека испытывать угрызения совести, если тому нечего стыдиться, — возразил мистер Бикель.
— Вы думаете, я кого-то обокрал? Кого-то убил? Ограбил? Совершил кражу со взломом? Украл кучу денег? Столкнул мамочку с лестницы? Так вот, нет, нет и нет. Моя совесть чиста как снег!
Мистер Бикель промолчал.
— Слышите, чиста как снег. Так что держитесь от меня подальше! — кричал Фенимор.
Мистер Бикель смотрел на свои руки и дышал ровно.
— Вам не удастся меня шантажировать! У вас нет никаких зацепок! — сказал Фенимор.
Мистер Бикель встал, потянулся за своей шляпой, взял и бережно держал ее в своих тонких белых пальцах.
Мистер Бикель кивнул мистеру Фенимору и выплыл из дверей. Он вышел из столовой, пересек вестибюль, спустился на тротуар и перешел улицу. Когда движение замерло, он взошел на противоположный тротуар, поднялся по ступенькам и исчез в отеле, что напротив.
Мистер Фенимор, наблюдавший за всем этим, почувствовал, как у него в голове все заиндевело. Его вынесло навстречу серому дню, как будто большой магнит вытягивал его наружу, ухватив за металл, спрятанный в его лацканах. Он направился в соседний отель и вскоре очутился в просторном темном холле. И подоспел вовремя, ибо узрел, как мистер Бикель забирает свою почту и ключ, направляется к лифту, заходит в него и, пока закрываются шуршащие двери, приподнимает шляпу, улыбаясь Фенимору, который хватается за колонну, чтобы удержаться на ногах, глядя, как поочередно загораются зеленые цифры на шкале этажей: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стоп. В вышине подобно одиночному облачку в пустом и неподвижном небе ощущалось движение, дыхание, скольжение мистера Бикеля, вступающего в иное измерение своего существования.
* * *
Администратор даже не оторвал глаз от реестра, казалось, написанного на языке, который он сосредоточенно изучает.
— Меня не интересует, есть ли у мистера Бикеля номер в Карлсон-отеле напротив.
— Но я только что видел, как он забирал свой ключ. Я спросил у администратора: он зарегистрирован под именем Брайт, а не Бикель!
— Как мистер Бикель или мистер Брайт распоряжается со своими деньгами, меня не касается, — сказал администратор, склонившись над реестром. — Если ему угодно валять дурака и сорить деньгами, кому какое дело. До тех пор, пока он не нарушает закон, не пьянствует и не дебоширит. Может, он спит на полу. У нас бывают гости, спящие на полу. Иногда иностранцы. Иногда йоги. Всякое случается.
Администратор говорил смертельно усталым голосом. Он впал в совершенно непроницаемое молчание, водя пальцем по фамилиям в реестре.
— Значит, вы не будете настаивать, чтобы он спал на своей кровати? — сказал мистер Фенимор.
Молчание.
— И вы не принудите его запирать дверь? — сказал мистер Фенимор.
Молчание.
— Что ж, — сказал мистер Фенимор. — Кто угодно может подумать, что это я — возмутитель спокойствия. Что я заблуждаюсь, я будоражу людей, заталкиваю стеклянные глаза в замочные скважины, я шантажирую, я…
Мистер Фенимор замолчал и отвернулся столь резко, что весь вестибюль закружился перед его глазами в кроваво-красном вихре.
* * *
Понадобилось пять минут на получение нужной информации из отеля напротив. Человека, жившего в номере по соседству с мистером Бикелем (Брайтом?), звали Смит. Он набрал номер Смита.
На том конце кто-то взял трубку:
— Алло?
— Прошу прощения, но…
Фенимор запнулся. Ну что он может ему сказать? Вот он я, окно напротив, номер и этаж тот же, только гостиница другая. И постоялец в смежном номере. Стеклянный глаз в замочной скважине. Так его и растак… Что тут скажешь?
— Кто это? — злобно спросил голос.
— Даже не знаю, с чего начать, — сказал наконец Фенимор.
— Послушайте! — загромыхал голос. — С меня довольно! Оставьте меня в покое! Я же сказал, что все это уже переходит всякие границы!
— Вы меня не так поняли… — Фенимор начал было облизывать пересохшие губы.
— Идите вы к чертям собачьим! — завопил голос.
Трубку с грохотом бросили.
Фенимор держал трубку и потирал ухо.
— Так.
Он повесил трубку.
— Теперь, по крайней мере, я знаю.
— Что именно? — спросила жена.
— У жильца из отеля напротив те же проблемы. Он решил, что я — мистер Бикель. Наорал. Разбушевался. Грохнул трубкой. Странный, очень странный шантаж. Две комнаты. Два отеля. Две жертвы. А что, если у него по номеру в каждом отеле города? Представляешь? Подумать только!
Дверь лифта отворилась, внутри стоял мистер Бикель с приятелем, который, казалось, перебрал и нуждался в поддержке. Приятель! Алкоголь!
Мистер Фенимор опешил.
Он повернулся и увидел, что Бикель тащит манекен. Ибо это и был манекен — из чистейшего желто-белого воска, который катился на скрипучих роликах. Кошмар!
— Минуточку! — закричал Фенимор.
— Спускаемся, — сказал лифтер.
— Подождите! — сказал Фенимор, обращаясь и к лифтеру, и к Бикелю. — Стойте!
— Спускаемся.
Лифтер захлопнул дверцы и уполз в шахту, как большой паук.
— Куда вы это тащите?
Маленький человечек обернулся, обнимая молчаливый манекен как любовника.
— Прошу прощения?
— Что на этот раз? — сказал Фенимор, побледнев от бешеной ярости.
— Веду приятеля в свой номер, — сказал Бикель.
— Я вижу, черт возьми! Я думал, вы собираетесь покончить с этим!
— Сэр, — сказал мистер Бикель, ухмыляясь. — Ни с чем нельзя покончить, не начав.
— Я заплатил вам деньги!
— Ничегошеньки вы мне не заплатили, — сказал мистер Бикель. — Вспомните, я не просил и не хотел от вас никаких денег. Если вы вздумали подходить к совершенно незнакомым людям и совать им в карманы двадцатидолларовые купюры, то я не в силах этому помешать.
— Но вы же обещали!
— Разве? — мистер Бикель улыбнулся, оскалив все свои белоснежные зубы.
— Это было равносильно обещанию!
— С вашего позволения, — мистер Бикель пронес своего неживого приятеля в открытую дверь.
— Не позволю меня дурачить! — закричал Фенимор, но дверь захлопнулась.
* * *
Он бросился вниз и закричал администратору:
— Вы видели?
Администратор промолчал.
— Он пронес в номер витринный манекен. Я знаю, куда он собирается его поставить. Перед дверью! Все дни и ночи — перед дверью!
Но администратор даже не повел бровью. Мистер Фенимор выбежал от него с криком и натолкнулся на мистера Бикеля, который возвращался в вестибюль.
— Опять вы! — гаркнул он ему, а потом лифтеру:
— ВВЕРХ!
* * *
Не успела дверца лифта распахнуться, как он вылетел в коридор, отворил настежь дверь в номер мистера Бикеля и замер перед дверью в ванную.
Как он и ожидал, манекен умиротворенно смотрел на ванную; его нос находился всего в дюйме от обшивки. Глаза излучали спокойствие, синеву и сосредоточенность. Он был недвижен и так стоял бы там целую вечность, если бы ему позволили.
— Ах ты! — завопил мистер Фенимор и развернул манекен к себе.
Затем он крутанул манекен обратно, чтобы тот на него не пялился, отвесил ему оплеуху, повалил наземь, и тут он увидел окно. Поднял раму, схватил манекен за шиворот и поволок к окну.
— Ах ты!
Он высунул манекен наполовину из окна. Тот вел себя очень тихо, смирно и спокойно. И смотрел на него снизу вверх ясными синими глазами.
— Ах ты! — крикнул он в последний раз и пустил его лететь семь этажей на мостовую.
— Стой! — завопил он в последний миг.
Какой кошмар! Ужас! Нет! Нет! Он распростер руки. Балансируя на подоконнике, он провожал взглядом падающее кувырком тело. Не-ет! На прощание, когда восковая фигура отправилась в свой безумный полет, молча размахивая руками в горячем воздухе, ее личину, казалось, исказили гримасы его собственного лица. Кукла, со свистом пронзающая пространство и размозжившая вдребезги голову о кирпичи, обрела выражение его лица. Не-ет!
— Не-ет! — заорал он.
От страха он отпрянул, отшатнулся от окна. Сполз по стене дюйма на четыре и остановил себя руками. Зажал себе рот и глаза. И лицо сдавил, словно глину, как будто можно было каким-то титаническим усилием исказить и вылепить себе другое лицо, лишь бы оно не походило на личину манекена, валявшегося внизу.
Ему стало жутко от того, что если он посмотрит вниз, то увидит забрызганные красным кирпичи вокруг расколотого тела.
«Вверх ногами. Конечно. Он посмотрит на лицо вверх ногами, — думал он. — Если смотришь на что-то вверх ногами, то тебе померещится одно, кому-то — другое. Что угодно. Ничего особенного. Просто перевернутость и мое больное воображение. Да-да». Он вздохнул. Перешел на шепот. Перевел дыхание. Вверх ногами. Да. Ах, ах.
Он отстранился от стены. Не глядя, захлопнул окно, так и не осмелившись выглянуть на улицу. Он отшатнулся от окна как преступник, убегающий с места преступления. Молниеносно повернулся и, как ошпаренный, вылетел из комнаты. Грохнул дверью. И побежал по коридору в свой номер.
* * *
В золотистом полуденном воздухе оседала пыльца. Не пыльца, конечно, а пыль, волшебством солнечного света превращенная в золото; она завихрялась и тихо опадала на ковер гостиничного номера, на котором лежал нечеткий абрис окна.
Зайдя внутрь, мистер Фенимор увидел поднятые им клубы пыли, облачка насекомых, блесток слюды и золотинок, которые начали осаждаться, когда он прислонился к двери, плотно заперев ее за собой. Так он провел целую минуту, прижавшись лицом к двери, словно его голова была большущим глазом, который мог обзавестись стеклянным хрусталиком и отсечь от себя окружающий мир одним-единственным опусканием века.
— Ну как? — спросила жена, наблюдавшая все эти шестьдесят секунд, как менялся цвет мыслей в его глазах.
— Ты видела? — спросил он, подразумевая красоту пыли в сумеречном воздухе.
— Нет. Что именно?
— Да, конечно, с твоего места не заметно. Подойди сюда.
Он взял ее под локоть.
— А теперь?
— Надеюсь, ты не имеешь в виду всю эту мерзкую пылищу?
— Именно, мерзкую пылищу, живописные пылинки. Сейчас они в фокусе. То видны, то нет. Что бы случилось, если бы никто не закрывал это окно и не чистил этот номер лет десять?
— Непролазная грязь, — сказала жена, удаляясь.
— Вот именно. А в воздухе, посмотри, сама невинность, падающий снег. Ты не думаешь о том, как эта грязь будет нагромождаться. Ты тщательно собираешь пыль каждый день. Ну…
Он смотрел, как золотистая масса уносится ветром из окна.
— Как это похоже на мелкие прегрешения.
— На что? — не поняла жена.
— На подленькие, гаденькие, гнусные грешки — пыль да пыльца. Как быть с ними? — спросил он.
— Не улавливаю связи.
— Если каждый божий день ты творишь мелкое, мелочное, микроскопическое мерзопакостное зло, безнравственность размером с почтовую марочку, невидимый невооруженным глазом грешочек, то что будет? Сколько лет должно пройти, чтобы легкие твоего рассудка засорились пылью толщиной в одну восьмушку дюйма? Двадцать лет — и силикоз мозгов? Тридцать лет — и рассудок мутится, задыхается и хрипит от психологической сенной лихорадки, и когда наконец пыль вымахает слоем в целый фут, то стоит тебе сделать шажок, как взвиваются клубы сажи.
— Еще разок, и с переводом.
Жена, скинув туфли, массировала ступни.
— Я хочу сказать, — начал он, — что мы сверх меры раздули смертные грехи: мы тратим время на принятие законов против них, придумали десять заповедей: не убий, не прелюбодействуй, не укради и прочее. И в результате мы склонны считать себя белыми и пушистыми, если не согрешили по-крупному. Так и шагаем по жизни: окно распахнуто, пыль оседает, полы не подметаются, а отложения пыли все толще. Ох уж эти мелкие грешки-червячки! Штурмуем автобус поперед всех остальных. Умышленно скрываем мелочь. Делаем вид, будто не слышим, когда зовут из другой комнаты, и сидим сиднем, пока не позовут с полдюжины раз. Забываем дни рождения, юбилеи, случайно, нарочно, чтобы причинить немного боли, которая со временем разрастается. Автобусные шофера указывают не ту дорогу. Домохозяева не высылают почту вслед за съехавшими жильцами. Некоторые портят нам настроение до завтрака и не разговаривают ни с кем, даже если очень хотят поговорить, после ужина. Разве это все не нагромождается одно на другое, как пыль на полу, если позволить этому происходить годами. Иногда мне хочется быть католиком. Они избавляются от такой мелочовки еще до того, как она может сильно навредить. Они обращают внимание на мелочи до того, как они разрастутся. Они знают, что мебель надо протирать каждый день, потому что нельзя позволить пыли воцариться. А мы, баптисты и все прочие, чуть ли не гордимся своей ношей. Мы не хотим сбросить ее, когда представляется такая возможность, пока ноша еще легка. Мы позволяем ей становиться все тяжелее и тяжелее, пока она не сломит нам хребет. Мы возводим внутри себя Пирамиду камень за камнем и недоумеваем, когда не можем сдвинуться с места. Мы так сильно недолюбливаем католиков, как мне кажется, потому, что они знают: от мелких грешков до́лжно избавляться каждый божий день. Мы любим обвинять их в уклонении от ответственности. Но дело не в этом, а в том, что они признают свои слабости и стараются стать лучше.
Из кармана он медленно извлек некий список, сел и принялся изучать его, пока жена не бросила на него вопросительный взгляд.
— Когда мне было десять лет, — сказал он, — у меня вышла размолвка с мамой, уже не помню из-за чего. Нам предстояло вместе сходить в центр города, но я вырвался вперед, как будто обо всем забыл. Мама семенила следом, звала меня почти всю дорогу до центра. Я находился в ста ярдах впереди нее и притворялся, что не слышу, хотя прекрасно слышал. Но я не обернулся и не замедлил шаг. Я смотрел строго перед собой. Но не было такого дня в году, когда бы я не вспомнил, как тоскливо звучал ее голос у меня за спиной: в тот день мое поведение причинило ей немалые страдания.
Жена вздохнула.
— Зачем составлять перечни таких вещей? Ты делаешь себе больно.
— Я всего лишь выношу на свет божий то, что всегда томилось во мне, — сказал он. — Это пункт первый. Пункт второй.
Он похлопал по листку.
— Жила-была милая пожилая дама, по имени Орин, у которой был смышленый пудель; и они на пару развлекали меня разными номерами и волшебными фокусами. Она страдала от астмы. Она угощала меня печеньем и балагурила со мной, когда я был весьма угловатым четырнадцатилетним подростком и у меня почти не было друзей. Когда мне минуло восемнадцать, можно сказать, уже довольно поздно, на меня вдруг нахлынули чувства и я осознал свою любовь и признательность к ней и дал себе слово написать ей однажды: «Благодарю Вас за доброту, проявленную ко мне, когда все остальные не очень-то стремились обращаться со мной по-человечески». Но я так и не собрался ей написать. И вот когда мне было уже двадцать, я оказался в том самом квартале и вспомнил о ней, о собачке и о фокусах. И я пришел на ту же улицу, на которой мальчишкой звонил в ее дверь. Но как ты уже догадалась, я опоздал. Она умерла и была похоронена за шесть месяцев до этого. Мне не хватило самой малости. И вместе с тем — так много. Этот вечер был одним из самых грустных в моей жизни. Каждый год я пытаюсь придумать, как отблагодарить ее, но тщетно. Мне кажется, опоздание — в некотором роде более тяжкий грех, чем убийство.
— Может, она не нуждалась в благодарности, — сказала жена. — Может, она знала, что ты и так ей благодарен. Иногда люди чувствуют такие вещи.
— Спасибо, но этого нет в моем списке.
— А что еще у тебя там? — спросила она.
— Как-то я участвовал в стягивании штанов с мальчика в школе; мне было двенадцать. Мы забросили его штаны на дерево. Он стоял и глазел на нас как на животных. Мы считали его хвастунишкой, снобом и неженкой. Он был не такой уж плохой, как я сейчас понимаю. Но он был «не как все», поэтому мы поиздевались над его достоинством. На следующий день он в школу не пришел. И вообще больше не появлялся. Мы слышали, будто его родители переехали в другой город. Мы в какой-то степени изменили ход его жизни. В какую сторону, я не знаю. Я часто надеялся, что эта перемена была к лучшему. Но узнать об этом невозможно. Я не так часто вспоминаю о нем, может, раз в пару лет поздними вечерами, если не могу уснуть, рисую в памяти картинки и вижу его одинокую фигуру на школьном дворе в синих трусах в полосочку.
Жена подошла и взяла у него список.
— Стащил журналы из закусочной — 9 лет, — прочитала она. — Бил стекла в «доме с привидениями» — 13 лет. А при чем тут Бернис Клаф?
— Обычная девочка, ходила в школу с первого по восьмой класс. Мы преследовали ее до дому, плевались в нее, издевались, дергали, толкали. Я бы сейчас убил всех нас за то, что мы вытворяли.
— Просто тогда вы не соображали.
— Это не оправдание. Это был тяжкий грех.
Он сидел, медленно перечитывая список.
Его жена взяла у него листок, разорвала на мелкие кусочки и швырнула в мусорную корзину.
— Все, — объявила она. — Ты исповедался.
— Все не так просто. Какое мне полагается наказание?
— Завтра нам предстоит новый день, — сказала она. — Постарайся быть лучше.
— Это не поможет негодяям из прошлого.
— Они уже не в прошлом. Они с нами, здесь, в старом добром 1953 году, — сказала жена. — Они никого ни о чем не просят, лишь бы их оставили в покое. Одолжений не предлагать, вопросов не задавать. А теперь марш в постель.
* * *
Ночью его разбудил слабый призрачный звук, не слышнее стрекота паучьих лапок по деревянной обшивке, дуновения ветерка или падения пылинки на пол. Он прислушался. Его взгляд сосредоточился на распахнутой двери в ванную и на той другой двери. Он знал, не отдавая себе отчета откуда и каким образом, что по запертой двери медленно, оставляя за собой следы, передвигается некий предмет. В том помещении горел свет, и маленький человек наверняка отбрасывал тень на дверь. Он стоял и упорно рисовал, рисовал, рисовал, рисовал карандашом свой силуэт на высокой деревянной поверхности. Он наносил изображение как бы невесомыми шелковыми паутинками. Чтобы их обнаружить, понадобился бы микроскоп.
Но мистер Фенимор знал, что изображение существует.
Затем свет погас, и в темноте остался лишь карандашный контур, обращенный на ванную комнату мистера Фенимора, на дверь в ванную мистера Фенимора, на спальню мистера Фенимора и на мистера Фенимора собственной персоной. Расплывчатый грифельный след давил на запертую дверь как миллионы тонн стекла и стали. Вдалеке захлопнулась другая дверь; по ковровым дорожкам в коридоре удалялись шаги. Лифт поднялся как зимний сквозняк и так же опустился. Мистер Бикель исчез навсегда.
«A»
Мистер Фенимор лежал с неподвижным взглядом.
Ему теперь хотелось только одного. Он ждал, когда же его рука словно краб, сама собой, поверх одеяла потянется к телефону на тумбочке.
Он посмотрел на свет в окне седьмого этажа в отеле напротив, где проживал мистер Брайт. Там, за опущенной шторой, проступал силуэт неподвижно сидящего маленького человека. Это смутно напомнило ему старый рассказ о Шерлоке Холмсе, которому противостояли смертоносные таланты профессора Мориарти и его винтовка; он усадил восковую фигуру у занавешенного окна и подсветил лампой, чтобы голова манекена запечатлелась на гардинах.
На это мог уйти остаток ночи, но его рука ползла бы дюйм за дюймом, и его губы зашевелились бы, и голос отменил бы бронирование номера, вызвал бы портье, заказал такси и билеты на поезд, который увезет его домой на день раньше срока.
Ему оставалось только дождаться, пока рука совершит это невидимое путешествие в нескончаемой ночи к телефону.
Он откинулся назад, наблюдая за своей рукой, незаметно улыбаясь каждый раз, когда его пальцы на полшага продвигались к месту назначения.
Бродяга в ночи
Он тихо вылез из постели, направился к стенному шкафу, взял пальто, шляпу и зонтик, оделся, не сводя глаз с лунной дорожки на полу и не глядя на стрелки часов, показывавших безбожный полуночный час. Обернулся и вышел из спальни, молча погрузился в недра спящего дома, словно в колодец. На нижней площадке беззвучной лестницы он задержался, затаив дыхание, затем направился к двери, протянул холодные пальцы, повернул ручку, отворил дверь и уже почти вышел за порог, как вслед ему раздался голос:
— Ральф!
Он вздрогнул.
Мягкий топот ног. И опять голос.
— Ральф! Ральф!
Дверь захлопнулась. Вспыхнул свет, который ослепил его своей резкостью. У него был такой вид, словно его окатили водой из ведра. Он задрожал. Увидел рядом с собой женщину. Она потянулась к нему и стала трясти за плечи.
— Ральф! Очнись! Все в порядке! Ты никуда не ушел, не вышел за дверь, Ральф, ну же!
И он впал в забытье.
На кухне в четыре утра, на фоне города, закутанного в черную тишь, белоснежная фарфоровая печь как бы бросала вызов ночи и сонному городу. Посреди этого молчания струя кофе издавала плеск крохотного, но сфокусированного водопада. Он осушил чашку, не обращая внимания на обжигающий кофе. Откинулся на спинку стула, потер лицо. Взглянул на жену.
— Опять я за старое.
— Не волнуйся, теперь все в порядке.
— А если бы ты не перехватила меня?..
— Главное, что мне удалось.
— Вдруг в следующий раз не получится, что тогда?
— У меня чуткий сон.
Она улыбнулась и погладила его руку.
— Никуда ты от меня не денешься. Жена-собственница. Про таких, как я, книги пишут.
Он покачал головой:
— Бедняжка. Я тебя перепугал.
— Я только боюсь, как бы ты не покалечился, не упал с лестницы, не ударился головой.
— Сомневаюсь. Странное ощущение: и бодрствую, и не бодрствую. И в сознании, и не в сознании. Мозг говорит телу куда идти, и тело идет, катая отключенную голову на плечах, как дитя. Мозг не способен дать приказ вернуться назад, подняться по ступеням, повесить шляпу, убрать зонт, лечь в постель. Невероятная тоска отчуждения, словно кто-то рулит машиной вместо тебя.
Она налила ему еще кофе; ее знобило.
— Есть какие-нибудь догадки на этот счет? — спросила она.
— Ни малейшей. Как говорили в старину, мы не знаем, куда идем, но мы в пути. Почему? Почему я это делаю? Почему встаю и ухожу? Я не перестаю задавать себе этот вопрос: ведь я два года живу в счастливом браке. Жена заботлива, дом добротный, работа приличная. Живи и радуйся! Так нет же, меня, дуралея, застают, когда я одной ногой переступил порог дома по дороге в никуда да еще в шляпе! Ради чего?
— Может, в глубине души ты несчастен. Может, одна половина твоей души желает сбежать и не смеет себе в этом признаться?
— Сбежать? От тебя? Что за чушь! Я не таю в себе ничего подобного. Ты — прелесть! Тут должно быть что-то другое.
Она встала и подошла к буфету намазать ему бутерброд с клубничным желе и принесла ему.
— Есть только один способ это выяснить.
— Какой?
— Как-нибудь ночью ты опять соберешься уходить в шляпе и пальто, с зонтом на случай дождя и с деньгами в кармане. И на этот раз я… дам тебе уйти.
— Шутишь?!
— А вот и нет.
— Не посмеешь!
— Я уже все обдумала.
— Но ведь я могу вообще не вернуться!
— Это я тоже предусмотрела. Я собираюсь идти следом за тобой на каком-то расстоянии, чтобы ты не покалечился. Это длится так долго, и мы оба заинтригованы. Уже год, как это случается минимум раз в месяц. Так не может продолжаться. Мы оба хотим покончить с этим раз и навсегда.
— Я подумывал обратиться к психиатру, но мне ненавистна сама идея: потратить столько времени и денег на всю эту суету и возню! Мне претит одна мысль о том, что кто-то будет рыться в моих документах. Это только в крайнем случае.
— Ты начинаешь нервничать за несколько дней до этого. Я уже могу предсказать, когда случится очередной побег. Вчера вечером я знала, что это случится сегодня. Весь вечер из тебя нельзя было слова вытянуть. Ты рано лег спать, плохо спал. Я, должно быть, задремала, когда услышала твои шаги внизу. В следующие дни ты бываешь очень подавлен, а потом все проясняется, и целый месяц все хорошо. Я могла бы составить график твоих взлетов и падений за целый год.
Он выглядел нервным и подавленным. Сидел с опущенной головой.
— Сожалею. Очень сожалею.
— Не о чем тут сожалеть. Просто запомни, может, в следующий раз я дам тебе уйти.
Он проводил ее по темному предутреннему дому, они поднялись по лестнице, легли в постель и лежали усталые, рука об руку, погружаясь в сон.
— Да, — сказал он. — Может, так будет к лучшему. Наверное, так и надо.
Они уснули.
Он ощутил себя в движении: чувствовал, что дом остался позади, скрылся из виду, и его окружает необъятная белоснежная зима. Он каким-то образом очутился на воле, на мерзнущей голове — шляпа. Никто его не окликнул. Снег в сугробах под его ступнями скрипел, хрустел и стонал. Он уходил все дальше и дальше. В лунном свете барашки пара из его пыхтящих как паровоз ноздрей зачаровывали. Он шагал сквозь теплый пар собственного производства. Он видел, как струи пара обтекают его, клубясь, словно облака в горах. Он втянул голову в плечи, чтобы подбородок ушел под ворот пальто, втиснул руки в карманы, словно поглубже зарылся в нору, подальше от внешнего мира. Единственной реальностью оставалась нескончаемая лента зимы под ногами.
Он свернул один раз, другой. И услышал шум поезда посреди холмов, над белыми кружевными деревьями и великим ватным безмолвием зимы. Стальные колеса вывели его из дремотного молчания, ввели обратно и пропали.
Он обнаружил себя стоящим на станционной платформе. Внезапный горячий всплеск железа у его лица и тела расслабил его, словно он был грешником, низвергнутым в раскаленные докрасна пределы ада; ему обожгло лицо, а сердце превратилось в груди в нелепую головешку. Он вскинул руки.
— Нора! — завопил он.
Поезд ушел без него. Он глазел на непонятный предмет, сжатый в руке. Он метался по платформе в полном сознании и беззвучно кричал. Поезд, раскачиваясь, исчез из виду в саже и грохоте. Из разверзнутой пасти серебряного колокола с отвислым языком разносился замогильный звон, и пар свистел как в каллиопе. А он бежал сломя голову домой. По бархатистой улице и спящему городу, в то время как луна уже садилась, сквозь круг изморози и тающего льда — к дому, куда он нацелил себя последним рывком и влетел в дверь, оказавшись в прихожей, откуда жена снова повела его на кухню.
— Нора, Нора! — восклицал он.
— Все в порядке, — сказала она.
Он сорвал с себя пальто, швырнул на пол.
— Нет, не в порядке. Дважды! Дважды за ночь, черт меня побери!
— Я не слышала, как ты встал.
— Бедняжка.
— Я проснулась пять минут назад. Смотрю — тебя рядом нет и в доме пусто. Чуть с ума не сошла! Увидела твои следы на снегу. Я уже одевалась, чтобы пойти за тобой, как ты вернулся.
— Я пришел в себя на станции, — сказал он. — Смотри. Что ты на это скажешь?
Он протянул ей тот самый ужасающий предмет. Она взяла его.
— Билет до Трентона, туда и обратно, — сказала она.
— Именно.
Она повернула его.
— Но почему в Трентон? Зачем? Есть идеи?
— Два билета, — сказала она билетеру в кассе с зарешеченным окошком. — Два билета в Скрантон.
— Туда и обратно? — спросил он.
Они с мужем стояли перед будкой билетной кассы. На востоке небо порозовело, воздух посвежел.
— В один конец, — сказала жена.
Галлахер Великий
Главная улица, Лос-Анджелес, окраина, на одном конце полицейский участок, на другом кладбище, посередине бурлеск-шоу, дешевые ночлежки с кинотеатриками, а КАМЕРА плывет туда, где играет духовой оркестр, мимо полусонного билетера, в зал с редкими зрителями. Заискрилась музыка, и на сцену выбегает маг и волшебник — Галлахер Великий. Он вещает что-то скороговоркой, начинаются безмолвные карточные фокусы, кролики из шляп, монетки из воздуха, меняющие окраску платки. Зрители спят. Местами слышится похрапывание. Галлахер смущен, поглядывает вниз, нехотя продолжает показывать трюки. Достает ниоткуда сигареты, затем, закуривая последнюю сигарету, стоя на середине сцены, объявляет, глядя в зал:
— Дамы и господа! Мой последний трюк в этот вечер. Впервые на арене! Маг исчезает!
С этими словами он бросает сигарету, спускается по ступенькам и уходит по проходу между рядами, оставляя за собой шлейф из монет, карт и шелков. Его лицо побледнело и похолодело. Зрители просыпаются, смотрят на опустевшую сцену и чего-то ждут. После затянувшейся паузы изумленный дирижер оборачивается к оркестрику и исполняет вступление к следующему номеру.
На улице Галлахер останавливается, оглядывается, идет дальше. Кто-то пытается его догнать, окликая по имени. Это его ассистент с голубем и кроликом в руках.
— Галлахер, вернитесь! Вы не закончили номер!
— Мой номер давно помер, — говорит Галлахер.
— Вы не взяли свой чек за неделю!
— Пусть отдадут кому-нибудь на оплату одного дня проживания в гостинице и утреннего кофе с булочками, — говорит Галлахер, убыстряя шаг.
Ассистент хватает его за руку:
— Галлахер, куда вы идете? Чем вы будете заниматься?
— Не знаю, — говорит Галлахер. — Только не кроликами из шляп и не канарейками из рукавов. Послушай, Коротышка, театр-варьете мертв. И мы это знаем. А ремесло мага и волшебника — самая омертвелая часть этого трупа. Оно уже не пользуется уважением. Водородные бомбы и реактивные самолеты, стеклянные небоскребы и телевидение — вот где магия, вот где волшебство! Проповедь я выслушал, Коротышка. Теперь пора ложиться в гроб.
— Галлахер Великий, помните, вы — Галлахер Великий!
— Все это — в далеком прошлом. В другой жизни. Причем не в моей. Короче, кролики — твои; так что сносное пропитание на всю неделю тебе обеспечено. Голубей отнеси в парк и выпусти. Мои шелковые платки отдай какой-нибудь хорошенькой девушке. А краплеными картами распорядись по своему разумению. Здравствуй и прощай!
— Значит, вы уволены! — воскликнул помощник.
Галлахер остановился, обернулся и сказал с улыбкой:
— Выходит так. Благодарю, босс.
Помощник все еще кричит ему вслед:
— Куда вы идете, как вас найти?
— На Ист-Ривер. У меня есть трюк, которого даже Гудини не исполнял. Залезаешь в пианино, тебя заколачивают снаружи гвоздями и бросают в реку. Замечательный трюк, только надо вспомнить, как его выполнять!
— Галлахер!
Но Галлахера и след простыл.
Коротышка стоит в темноте посреди пустынной улицы. У него на руках нежно воркует голубка.
Зарядил дождь. Улицы наводнила пустота. Полночь, но тусклыми призраками войны, убийства и суицида бродят газеты, шурша акциями, облигациями и давешними скачками.
Слоняясь в одиночестве, Галлахер Великий поднимает воротник пальто, поглядывает на небо. Отдаленные раскаты грома. На его обращенные кверху черты лица ложится бледный отсвет молнии. Мимо него ветер гонит газету. Он нагибается и подхватывает ее. Ловкими сноровистыми пальцами он складывает, сгибает, подгибает и выворачивает газету наизнанку, превращая сухую бумагу в шляпу, и лихо нахлобучивает себе на голову. Рядом одинокий пешеход смотрит на него, видит диковинный головной убор и не может отвести от него взгляд. Галлахер приветствует его и шагает дальше. Прохожий исчезает. Дождь все льет и льет.
Далеко впереди виднеется пятно света. Это всеми цветами радуги переливается ярко освещенная витрина. Перед ней собралась горстка людей. Маленький мальчик, молодой человек со своей подругой и старик наблюдают за происходящим внутри. Подходит Галлахер. Витрина принадлежит пункту проката медицинских принадлежностей. В ней выставлены всевозможные приспособления. Посереди витрины установлен неподвижный восковой манекен, изображающий медсестру в халате.
Галлахер вопросительно смотрит на людей, на манекен и уже готов пройти мимо, как его окликает мальчик:
— Подождите, она вот-вот шевельнется, еще немного, не уходите. Ух ты!
— Как ей это удается? — пробормотал кто-то.
Галлахер останавливается. Снова смотрит на собравшихся.
Мигающие неоновые огни попеременно отбрасывают на лица цветные блики. Дождь усиливается. Прогоняемые непогодой, люди расходятся. Остаются только мальчик и Галлахер.
Галлахер смотрит на витрину.
Он видит восковую куклу в халате медсестры или то, что кажется таковой.
Мальчик смотрит на Галлахера — своего единственного друга.
— Подождите, еще чуть-чуть — и шевельнется, еще немного. Ух ты!
Галлахер смотрит на мальчугана.
— Уже без пяти двенадцать, малыш. Шел бы ты домой.
— Ничего страшного, мама знает, где я. Каждый вечер я прихожу сюда и стою часа по два.
— Все равно, — говорит Галлахер. — Поздно. Спокойной ночи, малыш.
Ребенок бросает тоскливый взгляд на Галлахера, потом на прекрасную женщину в витрине, облизывает губы, смотрит на дождь, падающий из тьмы, и принимает решение.
— Ладно. Через минуту все равно все закончится. Ночь!
И убегает в дождливую мглу.
Оставшись в одиночестве, Галлахер озадаченно рассматривает восковую фигуру, взгляд которой устремлен только вперед.
Галлахер собирается уходить, но останавливается.
Глаза восковой куклы в витрине задвигались вслед за ним. И — судорожно вернулись в исходное положение. Уставились в одну точку. Застыли.
— Вот это да, — прошептал Галлахер. — Ничего себе…
Разинув рот, он отступает на шаг назад, потом приближается к огромному стеклу.
— Так вот, значит, в чем дело, — шепчет он. — Вот где собака зарыта. Так, так…
И он изумленно таращит глаза. Струи дождя льются по его лицу, бумажная шляпа размякла.
Женщина по ту сторону стекла отсутствующим взглядом смотрит перед собой, ни один мускул на ее лице не дрогнет.
— Привет, — шепчет Галлахер, еле обозначив улыбку.
Женщина не шелохнется, а только смотрит в пустоту.
— Как тебя зовут? — шепчет Галлахер.
Женщина смотрит, вперив глаза в пространство.
— Я — Галлахер, — говорит человек под дождем. — Галлахер Великий. Слыхала о таком? Душа общества. Десяток тузов в колоде. В бумажнике — розовый куст. Я исполняю трюк на «индийском канате». А ты кто?
Льет дождь.
Женщина смотрит в пространство.
— Ладно, — говорит Галлахер, — ты хотя бы не торчишь на холоде. В такую ночь не так уж много зрителей. Нам нужно держаться вместе. Мы — два сапога пара.
Женщина смотрит в пространство.
Галлахер сначала отводит взгляд, потом поворачивает обратно.
И за этот миг глаза женщины мечут ему вслед взгляд, но стоит ему снова посмотреть на нее, как взгляд мгновенно застывает.
— Попалась! — торжествует он.
Он подходит ближе и снимает перед ней шляпу.
— Так, значит, ты живая, — шепчет он. — Или то, что они называют живой. Тебе здесь здорово достается. Что именно? Каждый вечер и каждый вечер? Восьмичасовая смена и каждый час пятиминутный перерыв? Что тебе говорит весь этот одинокий люд вроде меня, который собирается здесь в полночь? Небось изливают перед тобой всю душу без остатка, когда рядом — никого. А тебе приходится тут стоять, просто стоять и стоять, и все это терпеть. Ты умеешь читать по губам? Конечно, умеешь. И понимаешь все, что я тебе говорю.
Женщина его не видит.
— Я скажу тебе, — говорит он тихо под барабанящий дождь с бумажной шляпой в руке. — Я скажу тебе то же, что говорят все остальные. Но тебе не нужно меня бояться. Ты прекрасна. Поистине прекрасна. Сколько тебе? Двадцать пять?
Женщина уставилась в ночную тьму.
— Как ты дошла до такой жизни? — спрашивает он ласково, близко к стеклу. — Что с тобой стряслось? Хорошенькая девушка, весь мир пробегает мимо тебя, а между вами — стекло. Холодное стекло. Правда, оно защищает от ветра. А? Точно, точно.
Женщина смотрит в пространство.
Галлахер сминает бумажную шляпу в комок, и он исчезает.
— Видишь? Я факир. Я могу все. Что ни прикажешь. Только скажи. Могу осчастливить тебя. Осчастливить? В момент!
Из пустой ладони возникает лоскут ярко-синего шелка.
— Пожалуйста! — Он смотрит на него. — Нет, это синий — цвет, навевающий грусть. Не то. Опля! Так-то лучше!
Он поглаживает шелк до тех пор, пока он не становится ярко-оранжевым — цветом счастья.
— Чего еще изволите? — спрашивает он у витрины. — Все сделаю. У меня фокусов больше, чем в Африке слонов.
Шелк исчезает.
— Ах, — вздыхает он. — Может, счастье вовсе не в этом? Куда оно подевалось? Будь я проклят, если знаю. Спокойной ночи, леди. Я зайду в следующий раз. Поболтаем, а то тебе, наверное, одиноко.
Женщина смотрит только в темноту.
— Я загляну к тебе. Злоупотреблю своим преимуществом, прожужжу все уши. Проведу бесплатный односторонний сеанс психоанализа, облегчу душу. Спасибо за внимание. Меня зовут Галлахер, а как тебя величать, прекрасная дева?
Женщина таращится в пустоту.
Галлахер уже собирается уходить, но останавливается как вкопанный, пораженный увиденным, и оборачивается.
В витрине автоматически погасли огни, и манекен остался стоять без движения в темноте. Он заинтригован тайной ее неподвижности. С какой стати ей там стоять, если рабочее время истекло? Почему она не поворачивается и не уходит из витрины домой? Что-то удерживает ее во тьме. Она застыла, замерла, словно под воздействием чар. Он подходит к двери магазина, дергает ее. Заперто. Когда он возвращается к витрине, ее нет. Все еще озадаченный, он заходит за угол магазина и вдалеке в переулке видит девушку под дождем. Она исчезает. Он ищет ее, но тщетно. Заходит в ночное кафе перехватить чашечку кофе. Оказывается, она здесь — девушка из витрины. Сидит, не шелохнувшись, не шевелясь, безмолвно, в одиночестве, перед ней дымится чашка кофе, из которой она отрешенно отпивает. Он сидит на соседнем стуле и заговаривает с ней. Она не обращает на него внимания. Тогда, чтобы привлечь ее внимание, он начинает вытворять мелкие фокусы с монетами, картами и платками. Ему удается вызвать у нее улыбку, смех и, наконец, она начинает говорить.
— Что вы делаете в этой промозглой витрине? — спрашивает он.
— Такая работа, — отвечает она.
— Но как вы это переносите? — настаивает он. — Ни на минуту нельзя шелохнуться — и так целыми часами и днями! И никто не знает, жив ты или мертв!
— Иногда я и сама не знаю, жива я или мертва, — говорит она.
— Это недопустимо, — говорит он. — Красивым женщинам негоже простаивать за стеклом. Им надлежит находиться в гуще жизни, двигаться, действовать!
— Предпочитаю вообще не шевелиться, — говорит она. — Стоит что-то предпринять, как начинаются промахи. Если стоишь неподвижно, никто тебя ни за что не осудит.
— Вы определенно нашли себе работенку по вкусу, — замечает он, изумленно глядя на нее. — Долго вы этим занимаетесь?
— Год.
— И сколько еще собираетесь?
— Года два. Пять лет, десять. Не знаю.
— Почему вы остались неподвижно стоять в витрине, когда выключился свет? — спрашивает он.
— Мне некуда идти, — отвечает она.
— Но у вас наверняка есть где-то комнатушка?
— Да, но я не вхожу в нее, пока не почувствую смертельную усталость. Только тогда я сваливаюсь в постель, не чувствуя, какая она крошечная и тоскливая.
Она поворачивается к нему.
— А как случилось, что вы простояли там столько времени и раскусили меня? Куда вы шли и зачем?
— Мы товарищи по несчастью, — говорит он. — Я собственноручно уволил себя с работы. А почему бы вам не последовать моему примеру? Мы могли бы поплакаться друг другу в жилетку и назавтра начать жить со свежими силами!
— Нет, — неожиданно вскрикивает она в испуге. — Я не могу уйти из витрины, ни в коем случае!
— Чего вы боитесь? — спрашивает он.
— Города, людей, всего! Я начинаю работу с утра. В семь тридцать я на витрине. И так весь день, каждый божий час. Несколько минут на обед и ужин. Потом весь вечер до полуночи.
— Вы никогда не гуляете в парке, не ходите на спектакли, не катаетесь? Ничего не делаете, кроме стояния, подобно восковому манекену?
— Воскресенье — выходной.
— И что делаете по выходным?
— Не вылезаю из постели, читаю.
— О, женщина! — восклицает он. — А я-то воображал, что это у меня проблемы! Выше голову!
Он обнаруживает, что не может расплатиться за кофе. Предлагает кассиру золотую монету достоинством в пять долларов; тот заявляет, что это незаконное платежное средство. Галлахер не возражает, говорит, что это семейная реликвия. Показывает кассиру, как она то появляется, то исчезает. Будучи под сильным впечатлением от увиденного, последний говорит:
— Считайте, что расплатились! А теперь — на выход!
Галлахер выводит за собой на улицу девушку, которая вовсе не горит желанием идти.
Они стоят и смотрят на свежевымытые мостовые.
— Вот и дождь перестал, — говорит он. — Добрый знак. Утром — чистое небо. Судьба и рок, внемлите предостережению! Мы идем!
Он подводит ее к опустевшей витрине и с помощью волшебного красного порошка, который он сдувает на стекло, выводит пальцем: «ОБЕД. ВЕРНУСЬ В 1975!»
— Найдем тебе завтра работу поприличнее! — восклицает он и вручает ей свою визитку «ГАЛЛАХЕР ВЕЛИКИЙ!».
— Я не знаю, захочешь ли ты участвовать в моем номере? Может, я распилю тебя пополам, а может, превращу в зебровую амадину или в кенгуру! Мы будем жить впроголодь, зато увлекательно! Не пойми меня превратно. Я устрою тебе комнату при нашем пансионе для престарелых актеров, канатоходцев, фокусников, севших на мель вроде меня, жонглеров и клоунов. Ты никогда не останешься в одиночестве или без покровительства. У нас найдется для тебя все, что пожелаешь. Итак, слово за тобой!
Под натиском его словес, обаяния и восторженности смущенная девушка поворачивается и убегает. Она запирается в магазине. Он не может туда проникнуть. И тоже уходит в замешательстве.
На следующее утро он возвращается, чтобы поговорить с девушкой, но обнаруживает вместо нее уже настоящий манекен — восковую куклу, на первый взгляд очень похожую на нее. Он даже пытается заговорить с ней. В магазине он встречается с управляющим, который рассказывает ему, что девушка не вышла сегодня на работу, а он не знает ее адреса. Найти ее никак нельзя. Галлахер уходит.
Гуляя по городу, он обнаруживает, что его со всех сторон обступают восковые фигуры во всех витринах. Он ловит себя на том, что, слоняясь мимо витрин, он краешком глаза следит за ними в надежде встретиться взглядом с девушкой, которая растворилась в толпе.
Вернувшись в театральный пансион, он делится своими печалями с домохозяином-степистом, который остался не у дел, и философствует о положении дел в театре.
— Взять хотя бы чечеточников, — говорит он. — Рынок перенасыщен. Девать некуда. Хоть пруд пруди! Факиры, степисты — кому мы нужны? У всех одна и та же проблема: миру нет до нас дела. А твоей приятельнице из витрины, похоже, нет дела до всего остального мира. Я ей сочувствую. Можно мне занять ее место в витрине и притворяться неживым? Дай мне ее адрес. Я заинтригован.
— Где я ее найду? — вопрошает Галлахер.
— Так ты едва с ней знаком?!
— Я знаком с ней настолько, насколько я способен вообще познакомиться с ней или с кем угодно. Я и мое краснобайство в ответе за то, что она лишилась работы и сбежала. Теперь она одна в огромном мире, перепуганная, и с ней может случиться что угодно. Даже не знаю. Если она наложит на себя руки, я…
— Ладно, успокойся, — говорит домохозяин. — Если бы тебе расхотелось жить, куда бы ты пошел? Ну, кроме кладбища, конечно. Представь, что ты — женщина. Это непросто. Безумно. Но постарайся угадать, куда бы пошла такая женщина в такую пору.
— Может, попыталась бы найти работу на конвейере, стать придатком машины, как ты думаешь?
— Слишком много народу, — говорит домохозяин. — Ловля губок, если это вообще женское занятие. Вот чем бы она занялась. Ты ныряешь в океан. Ты оторван от внешнего мира. Наедине с самим собой. Тишина — как в церкви. Но нет, вряд ли она ныряет за губками.
— А фотомоделью она стала бы?
— Нет-нет. Есть только один способ ее разыскать. Найди себе такую работу, чтобы ты мог кружить по всему городу. Говорят, если встать на углу Сорок второй и Бродвея, то все земное население рано или поздно пройдет мимо тебя. За исключением, разумеется, одного миллиарда, населяющего Суматру, Индокитай, Японию, Сиам и Монголию. Кроме них, все остальные протопают мимо тебя. Тебе остается только простоять там полсотни лет, по 48 часов в сутки, без сна и отдыха. Но моргнешь глазом — и все насмарку!
— На какой же работе пятьдесят лет, день и ночь, нужно шататься по улицам? — любопытствует Галлахер.
— У меня как раз есть нужный человечек, — говорит домохозяин, протягивая визитку. — По переулку прямо, Джо, не сворачивая!
СЪЕМКА ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ: переулок в неприглядном квартале Нью-Йорка. В переулке стоит и демонстрирует кухонную утварь со складного столика сам ГАЛЛАХЕР ВЕЛИКИЙ! Он выделывает магические трюки и следит, чтобы не попасться на глаза копам. Когда появляется полиция, ГАЛЛАХЕР захлопывает свой стенд и пускается наутек. С помощью консервного ножа он вскрывает дверь черного хода в магазин и испаряется. Он бродит по городу, поглядывая на восковые фигуры, на проходящих мимо женщин, не раз принимая прохожих за ту, которая исчезла.
Вернувшись домой в подавленном настроении, он видит, что все постояльцы пансиона собираются провести вечерок на Кони-Айленд. Они уговаривают его пойти с ними. Он едет с ними в подземке и удрученно залезает на карусель. Пока карусель раскручивается, он смотрит на ближайший аттракцион и читает вывеску: ЖЕНЩИНА ВО ЛЬДУ! ЗАМОРОЖЕННОЕ ЧУДО! Вдалеке на возвышении он замечает женщину, заключенную в продолговатую студеную сверкающую ледяную оболочку. Карусель кружится. Галлахер вскрикивает, вытаращив глаза. Карусель кружится. Галлахер то близко, то далеко, то близко, то далеко. Он видит холодное свечение красивой женщины во льду. Он кричит, чтобы карусель остановили. Бросается с карусели, падает, встает, проталкивается сквозь толпу.
Спящая женщина, упрятанная глубоко под лед, и есть девушка из витрины.
Галлахер созывает своих друзей; они смотрят на замороженную фигуру и спрашивают, что он теперь думает делать. Галлахер советуется с администратором карнавала, и тот объясняет, что девушка будет выставлена на обозрение в глыбе льда до тех пор, пока парк развлечений не закроется на ночь.
Позднее, когда лед растапливают и откалывают, Галлахер беседует с ней. Он признает, что был неправ, пытаясь уговорить ее бросить работу на старом месте в витрине. Он знает, что отпугнул ее. Теперь он ее нашел. Пусть она обязательно остается на этой работе. Пусть занимается, чем пожелает. Лишь бы он мог встречаться с ней за чашечкой кофе раз в день, за обедом раз в неделю, за ужином раз в месяц. Пусть она сама назначит время. Он больше не будет вмешиваться.
Он спешно уходит, чтобы не сказать лишнего. В последующие дни и недели они потягивают вместе кофе, обедают, иногда ужинают. И вот наконец настает день, когда она является в пансионат со своими саквояжами, готовая вселиться в соседнюю комнату. Она говорит, что не хочет обратно — в лед, в холод и одиночество карнавала. Она наконец уволила себя с этой тоскливой и противоестественной работы. И что теперь?
— Теперь, — говорит Галлахер за ужином в тот вечер за общим столом. — Что же теперь? Как быть ей, мне, всем нам? Что мы можем сделать? Каждый в отдельности за этим столом, в этом пансионате вносит свой вклад. Кто чечеткой, кто акробатикой.
И Галлахер прямо на месте начинает свои факирские трюки, изображает остальных. К концу пятиминутного пения, танца и жонглерства Галлахер замирает, уставясь в большое продолговатое зеркало.
— Вот так-то! — провозглашает он. — Вот как надо. Такого раньше не бывало. А почему? Почему бы нам не попробовать?
— Что попробовать? — изумлены все.
— Магов-волшебников пруд пруди? — говорит Галлахер.
— Именно!
— Чечеточников-степистов хоть отбавляй? — говорит он.
— Хоть отбавляй!
— А что, если мы их всех объединим? Если бы наш фокусник умел танцевать, а наш танцор показывать фокусы?
Девушка задумчиво произносит:
— Галлахер Великий — пляшущий волшебник!
— Чародеев балет! — восклицает хозяин пансиона.
— Галлахер Великий, — все перешептываются. — Пляшущий волшебник!..
— Сработает?
— Еще как! Не может не сработать! За дело!
СЪЕМКА ИЗ ЗАТЕМНЕНИЯ: обеденный стол, агент и ГАЛЛАХЕР ВЕЛИКИЙ.
— Пляшущий волшебник, — говорит агент. — Кто-нибудь когда-нибудь слыхивал про пляшущего волшебника?
— Вы услышали. Только что! — говорит Галлахер.
— Я-то услышал, — говорит агент. — Но я в это не верю. Это как лотерея. Вы же знаете, во сколько обходится обустройство большого представления с магией и всем таким прочим. На трюки нужна сотня тысяч баксов. Откуда вы, бродяги, достанете сто тысяч?
— Не обязательно, чтобы трюки были сложными, — говорит Галлахер и начинает петь и отплясывать прямо в конторе и фокусничать с монетами, сигаретами и картами. — Заголовок должен быть вроде: ВСЕ, ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ. А ЧЕГО ИЗВОЛИТЕ? Под конец танца пол усыпан монетами, стены оклеены игральными картами, с потолка растут букеты цветов.
Агент качает головой.
— Даже боюсь вызывать уборщицу.
Он достает из стенного шкафа метлу и вручает Галлахеру.
— Вот. И когда покончите с этим, сбегайте в сигарную лавку и принесите мне пару «мелакрин».
Галлахер достает и протягивает ему «мелакрину». Агент недовольно берет, раскуривает ее, после чего испускает истошный вопль, и большущее облако дыма обволакивает Галлахера и агента. Когда дым рассеивается, Галлахера и след простыл.
Вернувшись в пансион, Галлахер советуется с домовладельцем, который, помимо прочего, содержит антикварный магазин и склад, заставленный старой мебелью, за которой хозяева так и не вернулись. Галлахер обнаруживает здесь реквизит, необходимый для полноценного представления с фокусами, и т. д. Нужно только переделать зеркала, секретеры, шифоньеры и прочий скарб. Работа кипит!
А тем временем Галлахер бьется над раскрытием тайны, окутывающей девушку из витрины. Он приглашает ее на танцы. Или скорее, пытается пригласить. Но та отказывается. Она не способна танцевать, даже в окружении толпы. Она боится упасть, совершить какую-нибудь ужасную ошибку.
— Давай будем просто стоять и раскачиваться на месте, — предлагает он.
На это она согласна. Мало-помалу, разговаривая с ним, она выходит на танцплощадку. Они танцуют вместе со всеми. Спустя много часов толпа постепенно растворяется и они остаются одни. Оркестр играет последний танец. Они уходят рука об руку и прогуливаются вдоль берега океана.
— А теперь рассказывай все по порядку, — говорит он.
И она рассказывает.
Она балерина. В день ее дебюта случились два несчастья: ее покинул возлюбленный, и она поскользнулась и упала на сцене на глазах тысяч зрителей. Она сбежала из театра, чтобы никогда уже туда не возвращаться. Ей всегда хотелось вернуться, она любила находиться в центре внимания, но в последние годы она это делала так, чтобы промахам не было места — она исполняла роли воскового манекена в витрине, замороженной красавицы в огромном ледяном кристалле на Кони-Айленд…
Он пытается внушить ей, что этих двух происшествий в ее жизни просто не было. Возможно, на сцене во время премьеры она поскользнулась нарочно, чтобы наказать себя за то, что она сама же и отвадила от себя своего возлюбленного. Ведь он ревниво относился к балету и ее образу жизни. И вот, поскользнувшись, она наказала себя, разрушив балет и свою жизнь в балете, убежала со спектакля. Как только она это осознает, она сможет снова танцевать. Они могут начать вместе. Ведь она знает о балете все. А он ничего. Теперь она поможет ему с танцевальными фокусами для будущей постановки мистерии.
— Послушай, — говорит он. — Ведь я гипнотизер. Как я скажу, так и есть на самом деле. Этот пляж зарос плющом и розами.
Она оглядывается, все так и есть. Море — вино, накатывающее на берег. Действительно.
— Теперь, — говорит он, — танцуй для меня, и только для меня.
И она танцует. Когда танец окончен, он говорит:
— А теперь научи меня.
И они начинают… Сцена затемняется.
В пансионе полным ходом идут репетиции номеров. Галлахер демонстрирует свой сенсационный трюк «РАСПИЛИВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОПОЛАМ» в сопровождении песенки «ПОЛОВИНА ЛУЧШЕ, ЧЕМ НИЧЕГО» или «МИР НУЖДАЕТСЯ В ДВУХ ТАКИХ, КАК ТЫ, ДОРОГАЯ», ну и тому подобное. Тело женщины делят на части, одинокая голова возносится на пьедестал и распевает песенки. В конце номера женщину по частям закладывают обратно в ящик, из которого она выскакивает сверкающей и обновленной. Пансионная публика встречает идею бурным одобрением. Затем Галлахер показывает номер «ЧЕРНАЯ МАГИЯ», во время которого вся сцена задрапирована черным бархатом — на его фоне ассистенты, облаченные в черный бархат, вылавливают предметы прямо из воздуха.
Приглашен и агент с кислой физиономией. Увидев два первых номера, он смотрит отчасти недоверчиво, отчасти благосклонно. Он соглашается найти продюсера.
— Сколько времени это займет? — спрашивает Галлахер.
— Секунд десять, — отвечает агент.
Он достает часы и считает до десяти.
— Сделка заключена, — объявляет он.
И молниеносно достает чековую книжку. Начинается празднование!
Представление открывают номера с различными мелкими трюками под условным названием «РАДИ ТЕБЯ Я НА ВСЕ ГОТОВ»: из его рук фонтанируют живые бабочки, а из шляп бьют фейерверки.
Во время шоу что-то происходит с девушкой Галлахера из витрины. Объятая ужасом, она снова убегает из театра. Галлахер сдерживает себя, чтобы не броситься вслед за ней.
Он отправляется на поиски. Интуитивно он вспоминает про пункт проката, где она проработала много месяцев.
Он возвращается в два часа ночи к старой витрине в холодную и ветреную погоду. В витрине темно. Поначалу издалека Галлахер ничего не видит и собирается уезжать, как вдруг…
Он замечает ее на стуле: одинокая, застывшая, она сидит во тьме лицом к ночи, уставившись в пустоту.
Он разворачивает машину, чтобы осветить ее фарами. Он обращается к ней языком пантомимы. Танцует, артикулирует слова. Она его не узнает и не реагирует на него. Она неподвижна.
В отчаянии он пытается привлечь ее внимание трюками, подарками, но для нее они не имеют значения.
Он стоит с застывшим, окаменелым лицом и подсознательно предлагает ей единственный дар, который она не может отвергнуть.
Из его глаз падает и катится по щеке слеза.
В ответ в витрине он видит, как слезинка катится по ее щеке — всего одна-единственная.
Поднимается ветер, сотрясает витрину, и она обрушивается. Девушка сидит внутри. Он окликает ее, чтобы убедиться, что она не пострадала. Она кивает ему и выходит наружу. Они обнимаются. Идут вместе к машине. Уезжают.
Концовка. Чародеев Балет. Большой Иллюзион спасен. До поры до времени…
Finis
Кукла Рассказ Рэя Брэдбери
— Как живая.
— Она и есть живая.
Бернард налил кофе двум водителям грузовика, которые только что зашли в кафе.
— Не может… — начал было один.
— Может.
— Я следил за ней целую минуту. Ни разу не моргнула, не вздохнула.
— Ей и не нужно. Что ей минута? Пустяк. Я однажды следил за ней пять минут. Корчил рожи и все такое, а ей хоть бы хны, словно меня и не было вовсе.
— Вот именно, — сказал второй.
— Послушайте, о чем речь? — полюбопытствовал Барни.
— Ты видел куклу в полный человеческий рост в витрине спортивного магазина?
— Два квартала вниз, полквартала на север?
— Да. Только это, — сказал знаток, — не кукла, а… ну, короче, сам сходи. До завтра. Потом расскажешь.
— А что, — сказал Барни, наливая себе кофе, — и схожу.
Незадолго до полуденного часа пик он прогулялся под зарядившим апрельским дождем и теперь стоял перед витриной. Все оказалось в точности так, как описывали те двое.
Кукла в человеческий рост, с ракеткой в руке, изображала теннисистку в шортах и свитере. Рост пять футов, пять дюймов, волосы темные, глаза большие, ресницы роскошные, неотразимые коралловые губки и румяные щечки. Он в жизни не видывал такого превосходного воскового манекена. Но его интерес к восковым фигурам не был безграничен и он уже собирался уходить, как вдруг случилось нечто любопытное.
Кукла подмигнула правым глазом — большим карим глазом. Один-единственный разок.
Это произошло в тот самый миг, когда он отворачивался от нее, и он поначалу не поверил своим глазам. Он простоял еще минуту в надежде на повторение или подтверждение обманчивого впечатления.
И чем больше он всматривался, тем меньше уверенности в нем оставалось. Если она восковая кукла, то подмигивание — чистейшей воды безумие. С другой стороны, если бы она была всамделишной, то судя по тому, что ему приходилось слышать, такие актрисы никогда не позволили бы себе так опростоволоситься.
Сноски
1
Рассказ «Этюд в бронзе» не был включен в данный сборник составителями Эллером, Тупонсом и Албрайтом. (Примеч. переводчика. — А. О.).
(обратно)







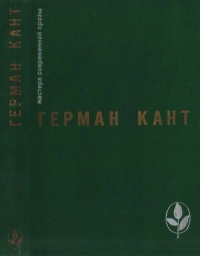



Комментарии к книге «Маски », Рэй Брэдбери
Всего 0 комментариев