Эндрю Ридкер Альтруисты
Andrew Ridker
The Altruists
© 2019 by Andrew Ridker
© Е. И. Романова, перевод, примечания, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Амбициозное сочетание глобальной перспективы и теплой человеческой комедии, неизбежно вызывающее сравнения с книгами Джонатана Франзена. А оптимистичная концовка намекает на светлое будущее — как минимум для талантливого автора этого выдающегося дебюта.
The New York Times Book Review
Остроумный взгляд на шестидесятников, миллениалов и на те вещи, которых ни за какие деньги не купишь.
Real Simple
Невероятно трогательная история о цене добрых поступков.
The Daily Mail
С юмором и теплотой Ридкер исследует значение семьи и всего неизбежно накапливающегося эмоционального багажа. Да, картину «Альтруисты» рисуют не идиллическую — но до чего же узнаваемую: как обычные люди совершают ошибки и все же умудряются снова нащупать контакт.
People (Книга недели)
Трагедия порождает комедию в этом невероятно уверенном дебютном романе. Ридкер искусно накручивает одну моральную дилемму на другую, шаг за уморительным шагом подводя героев и читателя к незабываемой кульминации.
Entertainment Weekly (Обязательное чтение)
Тот редкий случай, когда вся предварительная шумиха насчет нового мощного таланта целиком и полностью оправданна.
BookPage
Изумительно насыщенная, при довольно скромном объеме, семейная сага. Персонажи настолько узнаваемы и натуральны, что даже удивительно, как это автор, не вдаваясь ни в лишние проповеди, ни в созерцание собственного пупка, затрагивает проблемы морали, добра и зла.
Vanity Fair
Глубокое исследование водораздела между личным интересом и бескорыстным сочувствием.
The New Yorker
Призыв к щедрости во время скорби и всеобщего эмоционального напряжения… Обязательное чтение для наших сложных времен.
The Daily Mississippian
Даже самых несимпатичных персонажей Ридкер умудряется описать так, что хочется вызнать о них всю подноготную и всласть посплетничать.
St. Louis Post-Dispatch
Остроумная трагикомедия о старых ранах, новых обидах и выстраданной мудрости.
Sunday Express
Ридкер искренне любит своих незадачливых героев и находит убедительные способы изменить их жизнь к лучшему.
Minneapolis Star Tribune
Это один из тех суперблестящих, сверхсмешных романов, которыми наслаждаешься, как мультяшная белка — особо нажористым орехом.
Гари Штейнгарт (автор романов «Абсурдистан», «Приключения русского дебютанта», «Супергрустная история настоящей любви»)
Вот какая тема интересовала меня больше всего: что это значит — быть хорошим человеком? Какие жизненные ценности мы наследуем от родителей, а какие выбираем сами уже в сознательном возрасте?
Эндрю Ридкер
Полу и Сьюзен Ридкер
В мире животных мы — аберрация;
желание овладевает нами, посылает
в драном тюле на вечные поиски,
но никогда не подскажет, где
зарыта косточка или желудь.
Мэри Джо Бэнг. «Апология желания»Семью Альтер объяло пламя. Всю осень у них что-то вспыхивало и загоралось — впрочем, поначалу никто не видел связи между этими предзнаменованиями, и зловещими они стали казаться только задним числом. В сентябре Итан, закуривая, обжег палец, а три дня спустя из-за неисправной горелки взбесилась газовая плита: долго и тщетно щелкал поджиг, после чего полыхнул огонь, зацепивший рукав Франсин. На пятидесятый день рожденья Артура, который скромно отмечали на заднем дворе дома, с морковного торта на землю упала свечка. От нее успели заняться несколько сухих листьев, но Мэгги тут же их затоптала.
Настоящая же геенна огненная разверзлась в ноябре. Вечером Франсин сидела у себя в кабинете: к ней пришли Маркус и Марго Вашингтон, супружеская чета адвокатов — специалистов по авторскому праву. Пришли они впервые (по рекомендации общего знакомого), однако Франсин была о них наслышана. В прошлом апреле они блестяще отстояли интересы молодой пиринговой файлообменной сети, с которой судилась хип-хоп-группа, написавшая популярную песню с непечатным названием. Впрочем, Вашингтоны отнюдь не производили впечатления успешных людей: Маркус тупо смотрел на свои колени, Марго нервно трясла ногой. Они хотели, чтобы Франсин прописала им антидепрессанты.
— Вы поймите, ситуация очень деликатная, — сказала Марго, стискивая сумочку. — Никто не должен об этом знать.
Франсин прекрасно все понимала. Род Марго пустил в Сент-Луисе глубокие корни: история семьи представляла собой затейливую легенду о наследстве и принципе jus soli{1}. Предком Марго якобы был французский дворянин Пьер Леклерк — зажиточный торговец пушниной и владелец необъятных земельных просторов в колониальном Сент-Луисе. По легенде, он освободил одну из своих наложниц, Вирсавию, и переписал все земли на ее имя — надеясь таким образом отвязаться от кредиторов. Вирсавия, недолго думая, распродала собственность, ввергнув род Леклерков в пучину судебных разбирательств на несколько поколений вперед. Потомки Леклерка представляли собой эксцентричных персонажей на передовой сент-луисской аристократии (точнее, того, что от нее осталось), да и Вашингтоны пользовались пристальным вниманием высшего общества — главным образом потому, что были одной из двух чернокожих семей на Ленокс-Плейс, элитной улице с закрытым въездом неподалеку от Сентрал-Уэст-Энда.
— Разумеется, — кивнула Франсин.
Марго окинула комнату придирчивым взглядом:
— Давно работаете на дому?
— С тех пор, как сюда переехали. Уже четыре года.
— Четыре года, — протянула Марго и повторила, словно примериваясь: — Четыре года!
До того как Альтеры перебрались из Бостона в Сент-Луис, эта комната была застекленной террасой — пристройкой с западной стороны дома. Сквозь прозрачную стену Франсин всю осень наблюдала, как неспешно опадали в саду выжженные листья красных кленов. На отдельную входную дверь она повесила табличку с гравировкой, недвусмысленно указывающей на род деятельности нынешней хозяйки дома. Артур не хотел тратиться на табличку (и тем более на звукоизоляцию), но Франсин настояла на своем. Она знала, как ценят клиенты приватную обстановку и респектабельный фасад.
Домашний офис стал для нее своего рода утешительным призом: если бы не он, Франсин ни за что не согласилась бы на переезд, из-за которого ей пришлось бросить высокооплачиваемую работу в частной клинике Ньютона. И хотя теперь она принимала пациентов в небольшой комнатке у себя дома, ее имя постепенно приобрело известность в таких пригородах Сент-Луиса, как Юниверсити-Сити, Клейтон и Ладю.
— Никто пока не жаловался, — добавила Франсин.
Марго решительно кивнула и поставила сумочку рядом.
— Ладно. Я начну. — Она села удобнее и расправила плечи. — Чтобы вы знали — а вам, полагаю, надо это знать, — у моего мужа появилась странная наклонность, привычка, которой я не приемлю и которая может разрушить наш брак.
— Мне бы хотелось послушать самого Маркуса, — сказала Франсин. — Маркус, удобно ли вам об этом говорить?
Тот молча щурился в мандариновых лучах закатного солнца, бьющих в окна.
— Он не желает с вами разговаривать.
— Маркус, — снова попытала удачи Франсин.
— Он вообще не хочет это обсуждать. Но надо принять какие-то меры! — Марго на секунду умолкла. — Ладно, говорю как есть: мой муж любит переодеваться. Для него это… ну, такая эротическая игра.
Франсин вновь посмотрела на Маркуса. Тот молчал. Чтобы сдержать улыбку, она незаметно закусила изнутри щеки.
— Что ж… Маркус, мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по этому вопросу.
— Он говорит, ему нравятся ощущения. Теснота костюмов. Резина — как вторая кожа.
— Резина?
— Ну латекс. Да. Он надевает облегающие костюмы и изображает домашнего питомца.
— Так… понятно. — Франсин немного поерзала на стуле. — Маркус любит притворяться собачкой.
— Не только собачкой. Иногда еще кошкой. Или, например, хомяком — это полный бред, потому что хомяки живут в клетке и бегают в колесе, а Маркус… Маркус — уважаемый судебный адвокат и владелец юридической фирмы. — Марго нырнула в свою сумочку и достала оттуда черную маску с длинными ушами. — Надевай, — приказала она мужу.
— Это совсем не обязательно, — сказала Франсин.
— Что вы, ему так нравится! Он с удовольствием все продемонстрирует. Надевай, Маркус.
Не успела Франсин вмешаться, как Маркус живо схватил маску и натянул ее на лицо.
— Видите? Нет, вы видите, с чем я вынуждена мириться?!
Франсин кивнула. Она начинала понимать, что к чему. В основном ее клиенты из респектабельных пригородов делились на две категории: те, кому действительно была необходима ее помощь, и нервические натуры, которых настораживали любые перемены в своем настроении. Последние полагали, что даже небольшое уныние — признак депрессии, а легкие приступы паники — не иначе как первые звоночки генерализованного тревожного расстройства. Вашингтоны, рассудила Франсин, наверняка относятся ко второй категории. Они просто хотят услышать слова поддержки и ободрения, убедиться, что с ними все нормально.
В последнее время Франсин только и делала, что поддерживала и ободряла. Ей это порядком надоело. Хотелось вложить во что-то всю душу. Она трудилась не покладая рук, днями напролет, стараясь производить хорошее впечатление на новых клиентов — и ради чего? Ради пустых бесед о безобидных заскоках? Жизнь, с ее повседневными битвами, и без того тяжела.
Взять хоть Мэгги. Бедняжка без конца закатывает истерики из-за школьного спектакля на День благодарения. Она хотела сыграть индейца — да, в 2000 году сей политически некорректный термин по-прежнему был в ходу в начальной школе «Кэптейн», — а получила роль Рога Изобилия. Итан тем временем взял привычку запираться в своей комнате. Он полностью отошел от дел семьи и променял родных на компьютер (осмотрительно купленный, к слову, лишь после того, как все убедились, что проблема 2000 года — надуманная){2}. Деньги на компьютер он заработал сам, каждое лето трудясь в Еврейском культурном центре в Крев-Кёре, и теперь успешно отражает наскоки матери веским аргументом: «Это мои деньги. Что хочу, то и покупаю». В довершение всего на прошлой неделе руководство университета отказалось даже рассматривать кандидатуру Артура на заключение бессрочного контракта{3}. Вот уже четыре года он числился приглашенным профессором на инженерном факультете, хотя гостем давно себя не чувствовал. Артур преподавал больше дисциплин, чем все его коллеги, состоял в бесчисленных комитетах, а главное — неосмотрительно взял ипотечный кредит на дом. Однако на днях декан факультета Сахил Гупта сообщил ему, что не может ничего поделать, «пока бюджет не устаканится». Артур теперь топает по дому, матерится себе под нос и время от времени твердит, как мантру: «Бюджеты сами собой не устаканиваются!»
Маркус, не снимая маски, спросил:
— Чем это пахнет?
— Не уходи от темы! — рявкнула Марго.
— Погоди… — Маркус потянул воздух через носовое отверстие маски. — Что-то горит.
— Доктор Альтер, он просто хочет увильнуть от разговора. Да ведь?
Франсин принюхалась:
— Я тоже чувствую запах гари.
Воздух в кабинете начал сереть.
— Так. Быстро выходим.
Франсин и Вашингтоны вышли в коридор, где уже собрались Артур, Итан и Мэгги. Вскоре они все стояли полукругом на улице, а небо над ними стремительно багровело. Где-то за пределами Шуто-Плейс протяжно завыли сирены.
— Это кто? — спросила Мэгги, показывая на Маркуса.
Марго свирепо сощурилась:
— А ну сними маску! Пугаешь ребенка!
— Я его не боюсь, — возразила Мэгги.
Рев сирен становился громче. Артур заметался по тротуару.
— Что вы натворили? — спросил он всех сразу.
— Ничего! Я ничего не делал! — выпалил Итан.
— Я разучивала слова, — ответила Мэгги.
— Какие слова? Ты же Рог Изобилия! — воскликнул Артур.
Вокруг замелькали огни. К ним подъехала пожарная машина.
— Рога Изобилия не разговаривают, — пробормотал Артур себе под нос и заспешил к пожарным.
— А я разговариваю! — крикнула Мэгги ему вслед. — Мне дали слова!
— Он знает, милая, — проворковала Франсин, — знает.
Из соседнего дома в стиле крафтсман{4} осторожно вышла Линн Жермейн.
— Все хорошо? — услужливо спросила она с крыльца. — Что-то горит?
— Все нормально, — отмахнулась Франсин. Щеки ее становились краснее с каждой минутой. Как это неловко и стыдно — выставлять напоказ свою жизнь, торчать тут у всех на виду…
Марго отправила Маркуса заводить машину. Тот вздохнул и поплелся прочь. Она долго и пристально смотрела ему вслед, затем перевела взгляд на Артура, потом — на Франсин.
— А вы? — спросила она, кивая на пожарную машину. — Вы давно женаты?
Ответить Франсин не успела: Артур вернулся к ней, а трое пожарных отправились штурмовать дом. Еще двое развернули шланг и понесли его к пожарному гидранту у дома Жермейнов. Сердце у Франсин сжалось, когда они стали загонять Линн домой.
— Что вы натворили? — опять спросил Артур. Он погрыз ногти, посмотрел на пожарную машину, на дом… — Пойду туда.
— Не мешай людям работать, — сказала Франсин.
— Они же не знают, где там что. Не знают, какие ценные вещи надо спасать.
— Да не будут они спасать твои вещи! Люди пожар тушить приехали.
— Ой, смотрите! — воскликнула Марго. — Из окна валит дым!
Артур рванул к дому. Франсин успела схватить его за воротник рубашки — крепко, решительно, чтобы наверняка. «Такая уж моя доля», — подумала она. Ей было очень стыдно делать это при Марго, стыдно держать мужа, не давая ему броситься на верную смерть, когда прямо у них на глазах горела синим пламенем вся их жизнь, и думать при этом: «Ну что бы он без меня делал?»
Часть I
1
— На сей раз ты идешь с нами.
Мэгги знала Эмму с тех пор, как они обе носили брекеты, но та неуклюжая девчонка, что играла на саксофоне в школьном джаз-банде с энтузиазмом, оправдывающим нелепость инструмента (да и джаза в целом), теперь училась на втором курсе юридического. В гостиной у Эммы толпились однокурсники — одни с кем-то обнимались, другие просто стояли, уверенно подбоченясь. На мини-кухне прозрачные водочные бутылки с матовыми надписями делили столешницу с пластиковыми канистрами «Просто апельсинового». Мэгги могла поклясться, что знает гремевшую из колонок песню, но сосредоточиться и вспомнить имя исполнителя мешали оглушительные уведомления о сообщениях (к стереосистеме был подключен чей-то мобильник).
— Вечно ты приходишь к самому началу, — продолжала Эмма. — А потом испаряешься — типа никто не заметил!
— Неправда! — возмутилась Мэгги.
— Что ж, тогда тем более — сегодня ты идешь с нами.
Мэгги скрипнула зубами и уставилась на оранжевое кольцо жидкости на донышке своего одноразового стаканчика. В другом конце комнаты зубастый парень в модных очках пародировал кого-то, кого Мэгги не знала.
— Здесь куча интересных людей! — добавила Эмма, обводя рукой толпу однокурсников.
Мэгги нахмурилась. Какой-то постановочный кадр, ей-богу: все такие собранные, такие ладные, такие самоуверенные. Ее охватила паранойя. А вдруг эта вечеринка, это сборище будущих финансовых аналитиков и адвокатов организовано специально для нее? Мэгги не могла избавиться от чувства, что подруги устроили этот парад перспективных молодых людей ей в назидание.
— Что ты хочешь этим сказать?
Эмма подняла руки:
— Да ничего, ничего!
Мэгги немного успокоилась. В конце концов, дела ее не так уж плохи: денег на съемную комнату хватает. Чтобы их заработать, она трудилась во благо славных жителей Куинса. А главное, она была сама себе начальник. Обычно это значило, что целыми днями она бегала по мелким поручениям, сидела с детьми или общалась с городскими инстанциями от имени своих испано-, русско- и китайскоговорящих соседей. Что просили — то и делала. Неквалифицированный труд, словом. За пять месяцев Мэгги набрала приличную клиентскую базу, которая состояла главным образом из иммигрантов, считающих американское гражданство полезным навыком. Работа была благодарная, но не слишком высокооплачиваемая. Мэгги всегда немножко голодала.
К ним подкрался тот самый зубастый парень.
— Мы тут Зиглера обсуждаем, — сказал он.
— А, Зиглера! — воскликнула Эмма.
— Кто это? — спросила Мэгги.
— Наш препод. Читает лекции по деликтам.
— Что такое деликт?
— Противоправное действие, влекущее за собой…
— А, ладно. Не важно.
Зубастый обиделся.
— О’кей, — сказал он.
Эмма решила их познакомить:
— Это Мэгги, моя школьная подруга.
— Чем занимаешься? — спросил парень, щурясь.
Недавно Мэгги устроилась к одной полячке на Гимрод-стрит — вести беседы с ее новорожденным сыном. Говорить можно было о чем угодно, лишь бы по-английски. Подразумевалось, что ребенок впитает язык с младых ногтей и вырастет билингвом. Но в первый же день, как только мать младенца вышла из комнаты, Мэгги впала в ступор. За целый час она не выдавила из себя ничего, кроме «Э-эм», «У-ум» и «Хм-м»: сперва ее парализовывали нервы, а затем чувство вины — десять баксов она не заслужила! «Простите, пожалуйста, я не могу взять ваши деньги, — сказала Мэгги полячке. — Но к следующему разу я придумаю, что сказать, обещаю».
От голода она не умирала и, честно говоря, не без удовольствия отказывала себе в возможности есть досыта. Это делало ее немножко святой. Мэгги зарабатывала ровно столько, чтобы иметь такую возможность и без труда отказываться от лишних денег. Она скрупулезно ограничивала себя в тратах и потребляла только необходимое, заслуженное количество пищи. Проблема была в том, что ее тело не видело разницы между сознательным голодом и обычным. Оно, тело, не разделяло ее идеологических взглядов и знало лишь один «голод» — нехватку питательных веществ. Поэтому Мэгги худела. За два года скинула шесть фунтов, что, в общем-то, немало, когда у тебя и так нет ни грамма лишнего веса.
Поначалу легкость в теле и головокружение были ей даже приятны. Мэгги ходила по улицам Риджвуда с умеренным трезвоном в голове, размывавшим границы сознания. А потом ее желудок отрастил когти. Впервые она встревожилась, когда потеряла сознание в облаке из пяти ароматов на заднем дворе «Гонконгского супербуфета»: ноги предательски подкосились, и она упала на асфальт. На первом семестре обучения в Дэнфортском университете Мэгги посещала курс «Азы философии: основы западной мысли». Ее хватило ровно на две недели, после чего она выбрала что-то менее умозрительное. За это время Мэгги успела выучить термин «психофизиологическая проблема», но не его определение. И теперь она решила, что как раз столкнулась с такой психофизиологической проблемой. Тело выдвигало Мэгги свои требования, а та ее часть, что определяла ее как личность, — видимо, «я» — парила в вышине, словно шарик на веревочке.
Эмма помахала рукой у нее перед глазами:
— Мэгги! Брайан задал тебе вопрос.
Если не считать малого веса, Мэгги имела удивительное сходство с покойной матерью: у нее были рыжевато-каштановые вьющиеся волосы Франсин Кляйн Альтер и точно такая же бледная россыпь веснушек на переносице. Но если Мэгги была миниатюрной, то Франсин имела крепкое телосложение (не плотное, не коренастое — крепкое), говорившее о твердости моральных убеждений. От отца, с которым Мэгги не хотела иметь ничего общего, она унаследовала слегка выступающий лоб. Форму их черепу, очевидно, придавали могучие удары мятущегося мозга.
— С ней все нормально? — спросил Брайан.
— Тебе надо поесть, — сказала Эмма. — У меня где-то завалялись кукурузные чипсы…
— Нет, нет, — замахала руками Мэгги. — Я не голодна.
— Точно?
Она кивнула. Подумаешь — легкое головокружение!
— Ага.
— Ну ладно. Что ж… Собирайся. Выходим через десять минут.
— Куда?
— Скоро узнаешь.
Мэгги окинула взглядом комнату. Раз в несколько минут кто-то отделялся от одной группы и переходил в другую, а от той группы в свою очередь непременно отделялся еще кто-нибудь. Состав компаний в гостиной без конца менялся, причем количество участников в каждой компании оставалось прежним: эта социальная термодинамика одновременно завораживала и отталкивала Мэгги.
— В том-то и проблема, — сказала она. — Все присутствующие куда-то движутся — из точки А в точку Б.
— В смысле? Мы идем в бар. Все вместе.
Мэгги вскинула брови:
— Только не надо сгребать меня в одну кучу со «всеми».
Эмма вздохнула:
— Здесь такие классные люди собрались. И умные! — Она пихнула Брайана в бок. — Брайан вообще гений.
Мэгги покачала головой:
— Не могу.
— Мэгс! У меня же день рожденья! — Эмма безнадежно улыбнулась. — Ты моя самая давняя подруга. Ну пожалуйста! Один разочек! Ради меня?
А вот это ей даже польстило — неужели она действительно знает Эмму дольше (а значит — лучше) всех? Но ведь понятно же, чем закончится дело. Она купит себе один коктейль за шестнадцать долларов и остаток вечера будет жалеть, что так потратилась. Вдобавок придется слушать беседы о том, почему первый год учебы в сто раз труднее второго, и отвергать ухаживания парней в одинаковых голубых рубашках.
— Извини, никак не могу.
Улыбка Эммы померкла.
— Можешь, но не хочешь. Зря ты все так усложняешь. Жить надо проще.
А вот и нет. Жизнь как раз трудна, причем почти для всех, а те, кому она дается легко, должны сознательно чинить себе трудности — иначе сгниешь изнутри. Мэгги не могла спокойно смотреть на веселье людей, которым было что терять.
От этих мыслей ее замутило. Голова шла кругом. Гремевшая из колонок музыка как будто начала заедать. Неужели никто больше не слышит? Капля пота скатилась в стаканчик. Мэгги протянула руку и хотела схватить Эмму за плечо, но так и не дотянулась.
Конечно, она понимала, что не стоило пропускать обед, но до обморока ее довел двенадцатилетний мальчишка, любивший распускать кулаки.
Два раза в неделю она приходила домой к Бруно Накахаре — якобы помогала ему и его брату делать уроки. Однако новообретенный интерес Бруно к смешанным единоборствам привел к тому, что все ее тело покрылось синяками — добытыми в нелегкой борьбе кровоподтеками цвета залежалого мяса. Бруно утверждал, что оттачивает на Мэгги свое мастерство.
— Ща наваляю! — проорал он сегодня, швырнув Мэгги на пол.
Хотя за встречи с Бруно ей почти не платили, Мэгги терпела и даже поощряла его побои. Они были наглядным доказательством того, что ее работа требует жертв. Мать Терезу всю скрючило, у Ганди ребра вылезли наружу. Ну а у Мэгги есть синяки. Признак сильного характера. Так всегда бывает с теми, кто пытается творить добро: рано или поздно обязательно получаешь по шапке.
Семья Накахара обитала в крошечной, но не слишком уютной квартирке, окна которой выходили на неказистое сердце Риджвуда, пересечение Сайпресс, Миртл и Мэдисон-стрит — негативное пространство, где тихими воскресными вечерами можно было услышать все составляющие района по отдельности: отбивающие время церковные колокола, потрескивающие неоновые вывески, тридцатилетнюю вражду лысого человека и голубя.
— Уфф, — пробормотала Мэгги.
Она кое-как выбралась из-под Бруно и заковыляла по комнате.
— Кажется, у нас по-прежнему проблемы с самоконтролем.
Она всегда говорила «мы», имея в виду кого-то из мальчиков. Это помогало установить доверительные отношения.
В гостиной семьи Накахара неизменно стояла вонь горелых такитос, пицца-роллов и прочих полуфабрикатов, составлявших рацион Бруно. Эту вонь то и дело пронзали насквозь пуки полудохлого золотистого лабрадора по кличке Цветик, давно уже залегшего в угол умирать. Пол был застелен ковром грязно-бежевого цвета, похожим на лежалый снег у обочины дороги. Над коричневым диваном из кожзама висели два портрета в рамочках: Майкл Джексон и (Мэгги спросила) Петр Порошенко.
— С самоконтролем проблем нет. Просто у меня ОВР, — сказал Бруно, имея в виду оппозиционно-вызывающее расстройство, про которое он вычитал в интернете. — Это реальный диагноз, между прочим. Есть такое расстройство!
Однако правильная постановка диагноза — еще полдела.
— Вот именно, расстройство, — сказала Мэгги. — Не болезнь.
За полгода их знакомства Бруно перебрал множество увлечений, среди которых были выкидные ножи, чревоугодие и пиромания. Хотя Мэгги считала смешанные единоборства попыткой чокнутых боксеров найти философское оправдание своей тяге к рукоприкладству, это хобби Бруно нравилось ей больше остальных. Все же спорт, как-никак. И дает видимые результаты. Плоды Бруновых трудов сперва стали заметны на его собственном теле, а затем перекочевали и на ее.
— Уроки сделаны! — крикнул Алекс из-за кухонного стола заливистым, словно колокольчик консьержа, голосом.
Если Бруно был крепыш (как зверушка из воздушных шариков: мускулистые и раздутые руки-ноги с тонкими тугими сочленениями), то его брат казался миниатюрным и грациозным, гладеньким, обтекаемым. Чистая кожа, иссиня-черные волосы.
— Наша тренировка окончена? Тогда делай математику. Ах да! Сперва вытащи из духовки то, что там обуглилось, пожалуйста.
Она расстегнула ремень, которым ее большая плечевая сумка крепилась к груди, и та упала, тихонько звякнув молниями, на ковер. Освободившись от сумки, Мэгги начала готовить квартиру к предстоящим занятиям: положила три остро наточенных карандаша поближе к доминантной руке Алекса, а затем села на стул Бруно, чтобы свернуть окно с кровавой компьютерной игрой и открыть «ворд».
И тут, словно по сигналу, в кухню заглянул отец мальчиков — затрапезного вида японец, с которым ее до сих пор не познакомили и который почти не говорил по-английски, что было странно, ведь мальчики не знали японского. Он окинул комнату долгим озабоченным взглядом и вновь скрылся в спальне.
— Бруно, садись!
Тот хмыкнул и поплелся в кухню.
Мэгги была чутким деспотом. За ее строгостью крылась бездонная нежность к мальчикам. Ей вовсе не нравилось их наказывать. Она бы предпочла, чтобы они слушались ее просто так, из уважения. Причем она не ждала от них абсолютной безропотности. Детское уважение часто бывает больше похоже на неуважение. Так уж будущие подростки проявляют свою любовь. На ум пришла мысль одного выдающегося антрополога, которого она читала в университете: первым делом нужно заслужить уважение туземцев. Или не «туземцев»… Впрочем, не суть.
— Кто хочет мини-кальцоне? — спросил Бруно, доставая из духовки противень с почерневшими рулетами. А потом добавил рэперским речитативом: — Да я над вами прикалываюсь, чмошники! Эти крошки мои.
Он открыл рот и закинул туда рулетик.
Извилистый путь к Риджвуду начался для Мэгги с одной простой идеи, пришедшей ей на ум в детстве: мир не только тесен, он еще и весьма охотно откликается на ее старания.
Ребенком она часто гуляла в сент-луисском Форест-парке, собирая улетевшие с гольф-поля мячи. Набив ими стоявший в гараже синий мусорный бак на четырнадцать галлонов, она аккуратно отмыла и оттащила ко входу на поле свою добычу. Предпринимательский инстинкт подсказал воздвигнуть табличку: «Мячи для гольфа. $1 за штуку». В первый день она заработала сорок долларов и продала половину найденных мячиков. Но в следующие выходные Мэгги передумала торговать и решила раздавать мячи бесплатно. Почему бы и нет? Ей нравилось гулять, нравилось искать в траве белые шарики — даже очистительный ритуал их мытья радовал Мэгги! Хотя гольф представлялся ей самым нелепым хобби на свете — унылым развлечением для отживших свое белых стариков, — там, на зеленой лужайке, она впервые поняла, что хочет отдавать, а не брать.
Это было откровение. Если щедрые поступки приносят такую эйфорию, зачем люди вообще что-то продают? Зачем поддерживают концепцию «ты мне, я тебе» (а точнее, «все мне, все мне»), на которой строится торговля? Мэгги в считаные дни создала и разрушила рыночную нишу. А также усвоила ценный урок: границы, воздвигаемые между людьми и системами, вовсе не так неприступны, как кажется.
Она пришла к такому выводу вопреки стойкому недоверию отца ко всему филантропическому. Через несколько лет после того, как Мэгги обхитрила капитализм в Форест-парке, ей захотелось пожертвовать карманные деньги в фонд помощи жителям Нового Орлеана, пострадавшим от урагана. Артур отговорил дочь, прочитав ей пылкую лекцию о комплексе жертвы и неблагонадежности Красного Креста.
— Они ничего не делают с этими деньгами, просто сидят на них, — сказал он.
Переубедить его было невозможно. Однажды на День благодарения тетя Бекс битый час вела с ним идеологическую беседу о своем любимом благотворительном проекте, а потом он не выдержал и завопил: «Да на кой черт Израилю деревья?!» То было практически семейное кредо Альтеров, эдакая антигиппократова клятва: «Не помоги».
Мэгги отказывалась капитулировать. Два года назад, в 2013-м, она окончила Дэнфортский университет — сразу после смерти матери и последовавшего хаоса — и начала целенаправленно устраиваться на самые низкооплачиваемые работы в некоммерческих организациях. Вместе со своим университетским бойфрендом Майки Блументалем она поселилась на съемной квартирке в Мидтауне. Каждое утро он пешком ходил на «работу» в некую финансовую фирму, где целыми днями просиживал перед двумя тикающими мониторами и переводил крупные суммы денег с одного счета на другой. Мэгги жила у него бесплатно — над шумной, кишевшей туристами улицей рядом с Мэдисон-сквер-гарден, — и потому могла посвящать себя высокоморальным занятиям: три месяца на общественных началах заботилась о здоровье детей стран третьего мира, затем еще пять месяцев работала волонтером в организации, занимавшейся охраной водных ресурсов.
При этом Мэгги никогда не нравились женщины, с которыми приходилось работать (а работать приходилось почти исключительно с женщинами). Все они посвятили жизнь благотворительности и были грустными рядовыми солдатами на войне с несправедливостью мира. Их точеные лица с опухшими глазами напоминали традиционные ритуальные маски тех стран, что нуждались в их помощи. Но за душой у этих женщин не оказалось ни единого подвига, ни единой истории о поверженном зле. За обедом они вели разговоры на более чем приземленные темы. Куда больше их злила сломанная кофемашина в офисе, чем несправедливые законы. Где же горящие взоры, думала Мэгги, где страсть?
Главное, она ничем не выделялась среди прочих практиканток и явно не годилась на роль Самой Самоотверженной, ведь в любой организации находилась хотя бы одна психически неустойчивая девушка, которая проклинала себя за каждый потраченный доллар и за каждую проведенную впустую минуту. Такая девушка искренне не считала свою жизнь ценнее и важнее чужих жизней и экономила воду, редко принимая душ (тем самым вынуждая коллег оценивать ее щедрость на запах). Она всячески приветствовала микрозаймы, но просить у нее пару баксов на автобус не имело смысла — «Нет, извини, лучше потратить эти деньги на антималярийную сетку для младенца в Конго». Мэгги кипела. Ну как ей тягаться с Конго? Никак.
А вот третье место ей понравилось: работа под прикрытием в мексиканской закусочной при торговом центре Парамуса. (К тому времени она уже рассталась с Майки: за первый год после окончания универа он отрастил заметное брюхо, потерял кучу волос и стал республиканцем, утверждая, что «так проще работать».) Мэгги должна была устроиться в кафе официанткой, втереться в доверие к другим работникам и медленно, но верно сеять семена революции в умах: исподволь уговаривать коллег вступать в профсоюз.
В работе под прикрытием было много захватывающего. Новая личина позволяла ей говорить, делать и думать что угодно, ведь это не характеризовало ее как личность (даже если в момент говорения, деланья или думанья она вовсе не вспоминала о своем прикрытии). Например: «Советую вам попробовать нашу энчиладу» (нет, энчилада здесь так себе) или: «Я примирилась со смертью матери» (нет, не примирилась). Наконец-то Мэгги нашла то, что искала, — избавление от гнета собственного «я», от необходимости быть собой.
Между тем она оказалась великолепной официанткой — обходительной, трудолюбивой и остроумной, — что очень ее смешило, ведь она была вовсе не официантка, а активистка под прикрытием. За все время работы в кафе Мэгги не разбила ни одного стакана. Она угощала сигаретами усталых посудомойщиц и училась узнавать в лицо щедрых на чаевые клиентов. Работа приносила удовлетворение: приятно было хоть на день отключить мозг. Простая жизнь официантки позволяла отдохнуть от амбиций.
Семь месяцев спустя, когда она уже начала невзначай употреблять слово «объединиться» в беседе с ничего не подозревающими коллегами, Мэгги позвонил ее настоящий работодатель.
— Здравствуй, Мэгги, — сказал голос в трубке. — Это Бренна. Из… ну, ты поняла. Со мной рядом Джейк и Триш. Слушай, мы вынуждены освободить тебя от занимаемой должности…
— Освободить от чего?..
Дело было в сентябре. Мэгги взяла перерыв и вышла на улицу, к помойке на заднем дворе закусочной. Она прижимала телефон к щеке и видела собственное дыхание в холодном, загазованном джерсийском воздухе.
— К тебе никаких претензий, Мэгги. Просто мы больше не можем позволить себе сотрудника…
— Я уволена?
— Из нашей фирмы? Да. Но ты можешь оставаться официанткой, разумеется. Из кафе мы тебя не увольняем. Да нам бы и в голову не пришло! У тебя наверняка все отлично.
— Просто супер! — отозвалась Триш.
В профсоюзе Мэгги получала не слишком много — увольнение оттуда не могло сильно подорвать ее благосостояние. Однако теперь она больше не активистка под прикрытием, а просто… просто…
— …Официантка, — сказала она. — Я не сотрудник профсоюза, а просто… официантка.
Тут к беседе подключился Джейк:
— Никакой труд…
— …Не постыден, я в курсе, — закончила за него Мэгги (это был девиз профсоюза). — Можно мне хотя бы говорить людям, что я у вас работаю?
Она прямо услышала, как Бренна охнула.
— А ты уже кому-то говорила?! Это ужасно. Э-э, Мэгги? В таком случае все было зря! Черт. Ты кому-то про нас рассказывала? Про то, чем мы занимаемся?
— Нет, — соврала она.
— Ну слава богу. Фух. Фух! А то я уже перепугалась.
Мэгги повесила трубку и вернулась в кухню. От газового гриля несло горелым мясом. Два младших повара ржали и матерились по-испански, шлепая друг друга тряпками по паху и увертываясь от ударов. Мэгги сделала шаг вперед, и под ее ногой с сухим безнадежным хрустом рассыпался на куски обломок тако.
Она уволилась из «Супер-такерии» и переехала в Риджвуд, «быстро развивающийся» район Куинса, в комнату на шестом этаже долгостроя от обанкротившегося хасидского застройщика. Куда же податься теперь? Что она умеет? Какими навыками может похвастаться? Мэгги завалила квартал листовками с предложением услуг бебиситтера и выгульщика собак. Но телефон упорно молчал. Какой смысл в ее дипломе по специальности «американистика», если она не в состоянии найти ему применение в жизни и стать добросовестной американкой-трудоголичкой? Две наполненные тревогой недели подряд они грызла себя за инертность. А потом ей позвонила Оксана Козак-Накахара.
Пересаженная в Куинс прямиком из Украины, Оксана, самый старший и физически подготовленный фельдшер «скорой помощи» в бригаде (на Украине она была врачом и чемпионкой по толканию ядра), искала американку с высшим образованием, которая следила бы за успеваемостью ее сыновей и разговаривала бы с ними по-английски. Мэгги с радостью согласилась. На первой же встрече Бруно врезал ей под дых. Оксана исступленно залепила ему три пощечины. Мэгги все равно не ушла.
Мальчики, как выяснилось, прекрасно говорили по-английски. Их только нужно было чуть-чуть замотивировать — чтобы они успели окончить среднюю школу, не взорвав ее к чертям собачьим.
— Если я доделаю матику, можно мне пойти к себе и поковыряться с роботом? — спросил Алекс.
— Гомик, — сказал Бруно. Что именно его разозлило — «доделаю матику» или «поковыряться», — Мэгги точно не знала.
Алекс закатил глаза:
— Найди себе подружку, а!
— Бруно, не выражайся, — сказала Мэгги. — Алекс, давай будем добрее. С вас обоих по доллару в банку.
Банку придумала Мэгги. Туда складывались штрафы не только за ругательства, но и почти за все формы дурного поведения. То, что мальчики плохо обращались с ней, мало ее волновало — чем хуже они себя вели, тем более оправданным казался ей собственный (почти бесплатный) труд, — но жестокости между детьми она потерпеть не могла.
— У меня вон целых две подружки, и я так не психую, — пробормотал Алекс.
Мальчики сложили по доллару в банку на кухонном столе.
Бруно вернулся к домашке по математике: при помощи карандаша стал превращать круговые диаграммы в пенисы. Алекс ушел ковыряться с роботом. Мэгги плюхнулась на пол к Цветику, потискала его немного и побрела в кухню. Взгляд сам собой упал на банку. Она была на три четверти полна зеленью и желтизной в оттенках «мох» и «череда»: на подушке из меди и цинка покоилась груда купюр. Ее маленький штрафной террариум. Мэгги закашляла, маскируя подозрительные звуки, достала из банки пригоршню однодолларовых бумажек и сунула их в карман.
Как и все экономики мира, Мэггина была полна парадоксов. Необходимых зол. Например, чтобы предоставлять семейству Накахара свои услуги на почти безвозмездной основе, ей приходилось время от времени красть у них деньги.
Но главный вопрос заключался в том, не воровали ли мальчики. Почти наверняка воровали — банка стояла в кухне без присмотра, воруй не хочу. Но как Мэгги могла им что-то сказать, не лицемеря? Воровство воровством, а лицемеркой она быть не желала.
Два часа спустя она попрощалась с мальчиками и пошла домой. Мэгги жила в нескольких кварталах от дома семьи Накахара, на линии разлома между Бушвиком и Риджвудом, над которой, оглушительно скрежеща металлическими колесами по рельсам, проносился поезд надземки. Шумная граница между Бруклином и Куинсом навевала мысли о тектонических сдвигах и подземных колебаниях: казалось, два пригорода, такие разные и самобытные, прекрасно понимали, что обречены на вечный конфликт.
Многоквартирный дом Мэгги с несколькими заколоченными этажами стоял напротив продовольственного рынка и рядом с котлованом — огромным и составляющим весь вид из ее окна. Она частенько замечала за собой, что смотрит на него. В него. Это даже лучше, чем телевизор (которого у нее не было), лучше, чем вай-фай, оплачиваемый родителями соседки. Котлован! Иногда по его периметру ходили человечки в касках. Они показывали друг на друга пальцем и что-то кричали. На месте котлована могла возникнуть парковка, еще один многоквартирный дом, торговый центр — да что угодно. Но застройщик никуда не спешил. Котлован пока был просто котлован — дыра с колоссальным и еще не раскрытым потенциалом.
В подъезде Мэгги обнаружила, что ее почтовый ящик залеплен какой-то гадостью. Она с силой дернула дверцу, и та распахнулась: внутри лежала перемотанная резинкой стопка счетов и каталогов. Мэгги просмотрела почту, пока поднималась пешком на шестой этаж. Коммунальщики хотели денег, альма-матер хотела денег. В следующий раз лучше вообще не заглядывать в ящик.
Она зажала сверток влажной от долгого подъема подмышкой и вошла в квартиру.
Соседка — ее тоже звали Мэгги, что доставляло обеим массу неудобств, — сидела в синем походном кресле, которое наша Мэгги пару месяцев назад притащила с помойки.
— Тяжелый день?
— Совершенно безумный! Три детских дня рождения подряд. Какой сахарный удар по организму! Дети просто на ушах ходили.
Вторая Мэгги работала в школе по программе «Амери-Корпус»{5} и ненавидела свою работу. Третьеклашки без конца оттаптывали друг другу ноги и чуть что прибегали к насилию. Странно было видеть ее в гостиной, в глубоком гнезде холщового кресла, ведь большую часть времени вторая Мэгги проводила у себя в комнате: ее существование сводилось к лязгу задвижки и узкой полоске света под дверью.
— Ох, как я тебя понимаю! Ты бы видела сегодня моих пацанов. Бруно опять меня отлупил.
— Мэгги, — пропела Мэгги, — у тебя всего двое! А у меня три класса по двадцать человек в каждом. Тебе не понять, как я устаю.
— Да я и не думала с тобой тягаться!
Мэгги не понравился ее высокомерный тон. Педагогического образования у соседки не было, так что она почти наверняка портила жизнь своим ученикам. Меньше всего им нужна белокожая дебилка-класснуха.
Она фыркнула и пошла к себе. Идти на вечеринку к Эмме страшно не хотелось, настроение было окончательно испорчено. Она бросила почту на кровать, и конверты рассыпались в форме протянутой руки.
Внимание привлекло какое-то яркое пятно. Под журналом «Работающая мать» (почтальон ошибся адресом) оказался хрустящий белоснежный конверт. В верхнем левом углу — имя отца и название улицы, на которой прошло детство Мэгги.
Когда она подносила конверт к глазам, на ум почти одновременно пришли две мысли. Одна: «Чего-чего?!» Другая, странная, пришла на долю секунды раньше: «Аналоговая почта — это прошлый век! Какой официоз. Конверт похож на маленький белый смокинг».
2
Итан облокотился на подоконник эркерного окна: полуденное солнце приятно грело спину. В руках он держал раскрытый том. Изучение философии в последнее время казалось ему благородным средством самосовершенствования, противоядием от многочисленных светящихся экранов и способом отвлечься от винного шкафа фирмы «Крейт энд Баррелл» с блестящим экстерьером и пьянящим интерьером. Однако Итан быстро сообразил, что Фуко не поймешь без Маркса, а Маркса не поймешь без Гегеля и так далее, вплоть до самых греков. Когда же он понял, что не понимает и греков, то купил себе «Кембриджский гид» и благополучно в нем увяз (интересно, не существует ли гида по «Гиду»?).
Итан вернулся к введению. «Сравните два вопроса, — прочел он в пятый раз, — которыми нередко задавались как древнегреческие, так и древнеримские мыслители:
1) Что есть правильная и счастливая жизнь?
2) Почему Земля не падает?»
Итан ломал голову над первым вопросом, когда услышал, как в отверстие для почты что-то сунули.
Он не мог даже представить, зачем отцу понадобилось ему писать. Зачем он взял на себя такой труд и написал — ручкой на бумаге — письмо Итану? Минуло уже пять месяцев со дня их последнего и короткого телефонного разговора. Сразу после похорон матери Итан вернулся в Нью-Йорк, теперь уже навсегда, и сестра (спустя неделю окончившая университет) последовала его примеру. С тех пор они отца не видели. Прошло почти два года.
Итан повертел конверт в руках и открыл клапан. Само послание было ожидаемо немногословным и сдержанным:
И.,
не хочешь ли меня навестить? Я был бы очень рад. Вы (с Мэгги) можете приехать в середине апреля (весенние каникулы). Важно иногда видеться с родными, не забывать свои корни, детство.
А.
Надо же, два года прошло.
За два года всякое может случиться.
Но почти ничего не случилось.
Письмо устроило кавардак у него голове. Отчий дом для Итана был неразрывно связан с унижением. Послание от отца моментально вызвало глюк в системе, постыдные воспоминания полезли из его памяти, как лента из неисправной видеокассеты. Вот, например, такое: пятнадцатилетний Итан нервно сидит напротив Артура и Франсин за обеденным столом, словно собирается защищать курсовую перед ученым советом. Родителей обрамляют шелковые цветы, торчащие из круглых прозрачных ваз с декоративными стеклянными шариками на дне. Он откашливается и говорит им, что бисексуален. Не гей, нет. Почему-то ему кажется, что так проще: вроде как не сигать с головой в ледяное озеро, а сперва сунуть туда одну ногу… Вдруг отец фыркает.
— Артур! — возмущенно одергивает его Франсин, но уже поздно.
То был знойный и смурый август, сент-луисский август: вонь пота и кислый запах репеллентов так тесно переплелись в сознании, что достаточно было учуять что-то одно, как сразу мерещилось второе. Итан жил в Сент-Луисе уже четыре года, но до сих пор не привык к местному лету. Переехали они из-за отца. В Бостоне Артур читал лекции в колледже да изредка публиковался в научных журналах. Когда он дал понять, что устал работать в частной компании, один его старый учитель, которому десять лет назад пришла в голову та же мысль, замолвил за него словечко в университете Дэнфорта. Затем он утопился в Миссисипи, а Артура пригласили на его место.
И хотя текст письма пестрел словами вроде «приглашенный профессор» и «временная должность», Артур решил, что не мытьем, так катаньем добьется постоянной занятости. Последние несколько лет он работал в компании, занимавшейся строительством Большого Бостонского тоннеля — казалось бы, не контракт, а песня. Но все портили коррупция, головотяпство и конструктивные дефекты. Артур без конца жаловался родным, как сквозь трещины в тоннеле I-93 просачивается едкая соленая вода, а столбы защитного ограждения, отделяющего технические тротуары от проезжей части, имеют острые квадратные края. В народе их уже прозвали «столбами-убийцами»: очень скоро они оторвут кому-нибудь голову, это лишь вопрос времени. Работа мечты быстро превратилась в игру «найди крайнего»: Артуру регулярно доставалось за чужие ошибки, а лавина претензий к его конторе с каждым днем набирала силу. Однажды Франсин услышала, как муж во сне бормочет слова «нюрнбергской защиты»: «Я лишь исполнял приказ!» Словом, Артуру давно хотелось сменить работу. Когда пришло лестное предложение от Дэнфортского университета — преподавать инженерное дело, а не практиковать его, — Артур окончательно убедился в собственном интеллектуальном превосходстве и решил немедленно переехать с семьей на запад, как истинный первопроходец. Впоследствии он любил вещать на эту тему. Они, как подлинные американцы, торят себе путь в новый далекий мир, где не нужно будет так ожесточенно биться за место под солнцем. Франсин, семейный психотерапевт, сможет принимать пациентов у себя дома и даже работать на общественных началах в университете. «Когда устанешь слушать нытье богатеньких парочек о своей никчемной жизни, — смеялся он, — сможешь для разнообразия послушать их детей».
И хотя все, кто знал Артура, прекрасно понимали, что его фырканье — это сдавленный смешок, юный Итан впервые столкнулся с проблемой интерпретации. Франсин быстро разгадала смысл Артурова фырка — тот и сам давно догадался о нетрадиционной сексуальной ориентации сына, — но Итан решил, что отец таким образом выражает возмущение.
— Ничего подобного! — сказал Артур.
Эти слова ясности не внесли.
Итан вскочил, опрокинув стул, и умчался в свою комнату. Там он рухнул на матрас и с головой накрылся одеялом.
Свет почти не проходил сквозь плотное одеяло. Теплый отработанный воздух скапливался в темном тесном пространстве. Интересно, сколько он сможет так пролежать? Когда вынырнет на поверхность за глотком воздуха?
Несколько часов спустя в его дверь постучали; Итан спал. Очнувшись, он осторожно пересек комнату и открыл. На пороге стоял Артур с маленьким проволочным ключиком в руке.
— Мы делаем это каждый вечер, что бы ни случилось.
Глаза Итана заранее наполнились слезами. Он с трудом проглотил слюну — получилось громко, и он покраснел. Сев на кровать, Итан уставился в противоположную стену.
Артур сел рядом:
— Открывай.
Итан открыл рот и запрокинул голову. Попытался представить то, что сейчас видел его отец, — небный расширитель, крестообразную металлическую конструкцию, похожую на паука, каждый конец которой фиксировался на коренных зубах. Артур засунул ему в рот два волосатых пальца, поместил ключик в специальное отверстие по центру расширителя и повернул его. Итан сморщился. Череп пронзила острая боль. Он вцепился пальцами в бедра. Горькая слюна с металлическим привкусом скапливалась в уголках его рта, пока Артур медленно поворачивал ключ и таким образом расширял челюсть Итана. Волосы на папиных пальцах защекотали ему десны, и он чихнул, покрыв его очки для чтения тонким слоем слюны. Артур вытер их насухо рукавом рубашки.
— Поверь, я и сам не рад, — пробормотал он, убирая ключ.
Итан попытался закрыть рот, но челюсть как будто свело судорогой. В ушах стоял пронзительный свист. Зубы звенели. Он хотел что-то сказать, но Артур уже закрыл за собой дверь.
Через какое-то время Итан прокрался в гостиную. Родители сидели на диване и читали.
— Я гей, — сказал он. — Не би.
Артур посмотрел на жену поверх очков. Вскинул брови, затем вновь опустил глаза на страницу. Франсин понимающе кивнула сыну. Он стоял перед родителями, изнывая от ужасной боли — нервные окончания верхней челюсти молили о пощаде, — и было очень трудно избавиться от мысли, что его допрашивают с пристрастием.
Впрочем, письмо все же обрадовало Итана — самую малость. Приглашение! От отца! Долгие годы он ждал, что отец куда-нибудь его пригласит, а когда это наконец случилось, он невольно задался вопросом: не поздно ли?
Итан бросил свой «Гид» на стул и спрятал конверт в задний карман. Окинул взглядом квартиру, оформленную в минималистичном стиле — точно так, как ему хотелось. Прямые углы, чистые линии и свободные поверхности. Голый кирпич. Никаких фотографий. Долой сентиментальность. Что же теперь делать — с письмом, с оставшейся частью дня? Взгляд упал на две полки из амбарной доски — безмолвные, параллельные и совершенно голые, словно знак «равно» на стене.
Почти два года прошло со смерти матери, и все это время Итан стремительно уходил в себя — с тех пор, как бросил работу и купил квартиру на Кэрролл-стрит. Он прекратил появляться на публике — во всех смыслах этого слова. Он совершенно себе не нравился: трескучий голос, робкие жесты, которые он ненароком ловил в зеркальных витринах. Ему было неловко среди людей, он смотрел на них с завистью и подозрением. В метро, замечая на себе чей-нибудь случайный взгляд, Итан первым делом задавался вопросом, что с ним не так. Не так стоит? Не так дышит? Его щеки вспыхивали от негодования. Почему он вообще в себе сомневается? Зачем принижает себя, ведь и куда более мелкие души уверенно занимают свое место под солнцем?
Любая вылазка в мир стала напоминать позорное поражение. Открытое признание собственной неполноценности. Не важно, что ему требовалось — еда, секс или зубная паста, — от каждой встречи с этим рефреном («Мне нужно! Нужно! Нужно!») Итану становилось физически дурно. В мечтах о полной самодостаточности он представлял себе бункер с уходящими в бесконечность полками, на которых хранились запасы всего, что могло понадобиться ему в жизни. Его мать, его деньги — он выходил из положения, как мог, пытаясь заранее оградить себя от потребностей, окружить себя комфортом.
Общественные места по большей части были объективно неприятны, и это делу не помогало. Особенно Итан ненавидел прачечные. Всепроникающий люминесцентный свет, лужицы ржавой воды. Когда сломалась его стиральная машина, он узнал, что у прачечной «Садс энд Дадс» с голубыми козырьками — той, что на Юнион-стрит, — есть доставка по вполне приемлемой цене. Мысль о том, чтобы впустить в свой дом мастера, была невыносима, и, уж конечно, Итан не стал бы чинить машинку сам. С тех пор он ни разу не стирал вещи дома.
Продукты, готовую еду из кафе — что угодно можно было заказать с доставкой. У Итана находилось все меньше поводов для вылазок в мир. Фильмы и передачи он смотрел на стриминговых сервисах. Телефон был забит подкастами и музыкой — слушай что хочешь. Заказанные в интернет-магазине книги привозили в тот же день. Его квартира — по бруклинским стандартам весьма просторная — становилась просто огромной, если считать количество доступных внутри ее информационных средств.
Такой образ жизни, разумеется, стоил денег. Строго говоря, Итан был по уши в долгах. Он внес первоначальный взнос в размере ста пятидесяти тысяч долларов за двухкомнатную квартиру в стиле неогрек, одной стеной примыкающую к епископальной церкви, и сделал капитальный ремонт в кухне и ванной, получив от этого занятия необычайное удовольствие. После ремонта денег у него осталось ровно на год добровольной безработицы и интернет-шопоголизма. Он с энтузиазмом транжирил деньги на кухонную утварь и прочие вещи, без которых вполне мог обойтись. Купил сервиз «Бернадот», так и не пригодившийся набор кастрюль «Ле крузет», подсвечники «Уотерфорд Лисмор», хлебницу из белого мрамора, электрический штопор. Полугодовой абонемент от магазина «Вильямс Сонома» на доставку лучших американских сыров. Где-то Итан вычитал, что сидеть на деньгах — все равно что пытаться удержать в руках кубик льда; это подвигло его на приобретение алюминиевой формы «Хаммахер Шлеммер» для приготовления идеальных кубиков льда с идеальными гранями и пропорциями. Такой размеренный образ жизни, как коматозный больной, требовал постоянных денежных вливаний.
Итан был внимательный должник. Он отслеживал расходы и скрупулезно раскладывал по папочкам все чеки, квитанции и выписки по кредитным картам. Его бумажник набухал пластиком. Итан отлично понимал, что делает, когда заказывал журнальный столик с каменной столешницей и чугунными ножками ручной ковки. Он знал, каких денег стоит ездить по мелким делам на такси с водителями-нелегалами, и помнил стоимость костюма «Том Форд», который ему даже некуда было надеть.
Однако собственные долги казались внимательному и прозорливому Итану чем-то нереальным. Просто цифрами в колонке. Долги были нематериальны — эдакая метафорическая бездна. А какое значение имеет глубина бездны, если сама бездна — метафорическая? Никакого. Метафоры — вещь абстрактная, тогда как приобретаемые вещи приносили вполне реальное удовольствие: постельное белье из египетского хлопка, кофемашина «Ла Павони». Финансовые институты говорили на языке общности — оперируя такими словами, как «членство», «отношение», «сопричастность», — и эти слова много значили для Итана. Ему нравилось чувствовать себя нужным, чувствовать свою приобщенность к чему-то.
Если даже трезвому Итану долги казались иллюзорными, то пьяному и подавно. Он любил коктейли, но у пива было одно преимущество: благодаря повальной моде на микропивоварение оно легко могло сойти за хобби. Итану нравился весь пивной спектр от нежно-желтых светлых сортов до черных как ночь стаутов. Пильзнеры, светлые эли и лагеры, бурые эли, дункели и портеры. Вкусы у него были демократичные, он не считал себя тонким ценителем и не интересовался спецификой. Прежде Итан экспериментировал с другими вредными привычками: в старших классах курил, в университете дважды попробовал кокаин. Но Сент-Луис — пивной город. Алкоголь навевал ему воспоминания о доме.
Затворничество имело свои преимущества: Итан никогда не напивался на людях и не мог навредить никому, кроме себя. При желании он бросил бы пить в любой момент, но бросать не хотелось. Ему нравилось жить под забавным девизом вроде тех, что печатают на футболках: «У меня нет проблем с алкоголем. Я просто пью и отрубаюсь — никаких проблем».
Когда ему пошел тридцать второй год и юность официально осталась позади, он вдруг осознал, что одинок. Это было ужасное открытие, и каждое утро он совершал его заново. Друзья из консалтинговой фирмы, в которой он раньше работал, либо сбежали из города в пригороды, где школы были получше, либо могли говорить только о работе. Их мелкие склоки и интриги Итана больше не касались, а ведь было время, когда бонусы, свадьбы коллег, манера начальника мочиться, уперев руки в боки (видимо, чтобы запугать писсуар) имели для него немалое значение. Но эта эра закончилась. Стоит на несколько месяцев исчезнуть с радаров — и подобные вещи утрачивают всякий смысл. Лишь бодрые крики аналитиков хедж-фондов, кутящих по воскресеньям в Кэрролл-парке, наталкивали Итана на мысли о том, не тратит ли он жизнь впустую.
Юность. Начиная лет с двадцати он регулярно вступал в отношения с интересными, привлекательными мужчинами — завидными партнерами, видевшими в нем симпатичный сосуд, который можно наполнять чем угодно по своему желанию.
Первый его партнер, выпускник театрального факультета Брауновского университета, с которым Итан жил задолго до Кэрролл-стрит, был во всех отношениях завидной добычей. Длинноногий и восхитительный, Шон носил стильный андеркат задолго до того, как эту стрижку застолбили белые националисты, вызывая среди женской половины офиса, где работал Итан, вдохновляющие и доселе невиданные приступы зависти. Шон флиртовал со всеми барменами в округе и водил Итана на клубные вечеринки «без цифрового следа» — то есть на такие мероприятия, о которых нельзя узнать из интернета: нужно старомодно общаться с людьми и миром. Бедное детство в Аппалачах оправдывало страсть Шона к порокам и привилегиям современной интеллектуальной элиты. Более того, его жизнь была настоящей историей успеха. Бедствовать в пасторальной Пенсильвании — отнюдь не то же самое, что бедствовать в Нью-Йорке. Когда молодой человек живет впроголодь на Манхэттене — это все же какой-никакой «успех», особенно в глазах его забитых родственников. Когда их спрашивали, как дела у Шона, те отвечали просто: «Он в Нью-Йорке», и это сразу все объясняло.
Познакомились они так: Шон увидел Итана на улице и ошибочно принял его за приятеля-актера.
— Ой, извини, — сказал он, когда Итан обернулся.
— Что такое?
— Ничего, я просто принял тебя за другого человека.
— А! Нет, я — это я.
У Шона загорелись глаза.
— Слушай… Я иду на тусовку… в ресторане. Точнее, в пекарне — но там наливают. А после полуночи можно и потанцевать. Ты танцуешь?
Итан так остолбенел, что не смог выдавить ни слова.
— Ой, да ладно! Будет весело.
Так и завертелось.
Итан был скорее эскортом, чем бойфрендом. Когда он бывал в городе, а не уезжал в очередную командировку, Шон таскал его с собой на закрытые кинопоказы, выставки и уличные вечеринки. Он не мог понять, зачем жить в таком дорогом городе, если не брать от него все. Шон полагал, что в юности человек должен накапливать опыт, ввязываться в любые авантюры; Итану же эти авантюры казались чем-то эфемерным и крайне утомительным. Однако спустя два месяца в квартире Шона проводили дезинсекцию, и он на время переехал к Итану. Они провели вместе одну ужасную неделю в Ист-Уильямсбурге, после чего Итан понял, что ему никогда не угнаться за Шоном: тот каждый будний вечер куда-то срывался, словно это был выходной (отчасти потому, что работа помрежа на полставки не требовала от него больших усилий, а отчасти — потому что Шон, как акула, умер бы, если бы остановился). Он удрал от Итана на день раньше, вопреки предостережениям дезинсекторов.
Два года спустя Итан повстречал Тедди, с которым у него сложились более гармоничные отношения. Тедди был невысокого роста, смуглый, с могучими трицепсами, выращенными на сывороточном протеине, и тонкими, как спички, ногами. Амбициозный до мозга костей, он успел обзавестись престижной секретарской должностью у некоего судьи Вольфа, известного своим железным утилитаризмом и верой в то, что ситуацию на так называемом «черном рынке детей» можно улучшить, если родители будут выбирать детей для усыновления на аукционе.
Работа предоставляла им множество тем для разговора. «О боже, — орал Тедди сквозь напыщенный гомон паба в Финансовом округе, — ты не поверишь, что сегодня отмочил судья Вольф!» Он работал как проклятый — почти столько же часов в неделю, сколько Итан. Когда дело все же доходило до постели — пару раз в месяц по выходным, — Тедди, на первом свидании трижды упомянувший свою «озабоченность», самозабвенно дрочил с помощью «Флэшджека», пока Итан массировал ему плечи. Затем Тедди засыпал, виня во всем усталость и стресс, а Итан оставался ни с чем. «Прости, малыш, — мямлил в подушку его возлюбленный, — в следующий раз — обещаю!»
Любовники Итана быстро скисали. Пассивность, благодаря которой они изначально видели в нем мужчину мечты и рисовали себе картины радужного будущего, не способствовала сожительству. В семье Альтер бытовала история о маленьком Итане: однажды тот сидел на полу и рисовал, а проходивший мимо друг семьи случайно наступил ему на руку и простоял так с минуту. Бедный Итан молча терпел, пытаясь ничем не выдать своих страданий.
«Ты меня больше не увидишь! — прокричал Шон в день их расставания, театрально, как и подобает актеру, замерев на пороге квартиры. Затем он выждал минуту-другую — не позовут ли обратно? — Тебя попросту нет, Итан! Ты как будто завис!» Итан тем временем сидел на своем лохматом диванчике, расставив стопы и пялясь на образованную ими букву V.
Итану нравилось думать, что он завязал с поиском любви еще до Кэрролл-стрит — когда ходил на работу и бывал на людях. Но именно два года жизни в этом завидном квартале, где золоченые солнцем палисаднички окутывали прохожих ароматами цветов, превратили его в отшельника. Наглухо заперли его в собственной жизни.
3
На последнем курсе однокурсник Мэгги по имени Кевин Кисмет изобрел приложение с геолокацией для онлайн-знакомств, RoseBox, которое подбирало пользователям партнеров на основе общих психологических травм. Идея Кевина заключалась в том, что расовая и классовая принадлежность, образование, музыкальные предпочтения и внешность — слишком поверхностные критерии. Куда более прочные связи возникают между людьми, которые разделяют боль друг друга, — ветеранами, наркоманами, жертвами насилия. С помощью однокашников, посещавших с Кевином практический курс по разработке мобильных приложений, он составил исчерпывающий список жизненных невзгод и на его основе написал простой алгоритм подбора партнеров. Пользователи заполняли свои профили различными неприятностями, которые им довелось пережить. Например: если вы никогда не знали своего отца, приложение подбирало для вас человека, тоже выросшего в неполной семье. Если вы перенесли тяжелую операцию, RoseBox находило того, кому довелось лечь под нож. Если вас травили в школе… — ну и так далее. Ко всеобщему удивлению, студенческий проект стал стремительно набирать популярность и теперь, два года спустя, оценивался в десятки миллионов долларов.
Минула неделя после того, как Мэгги упала в обморок на той вечеринке. Сейчас она сидела в бед-стайском кафе{6} и читала новостную заметку о грядущем первичном размещении акций RoseBox на бирже, а в верхней части экрана то и дело вспыхивали новые сообщения от Эммы. Мэгги оторвала взгляд от телефона и измученно, по-стариковски вздохнула.
Кафе четко позиционировало свой стиль как «теплый индастриал»: обитые амбарной доской стены под лабиринтом обнаженных вентиляционных труб, абажуры из медной проволоки, вместо полок — деревянные ящики, на которых лежали пухлые мешки с кофейным зерном. На высоком окне, выходящем на улицу, золотом оттиснуто слово boulangerie[1]. Мэгги выбрала это кафе, потому что оно находилось на равном удалении от ее дома и дома Итана и потому что ему бы понравилось убранство: стильное и похожее на интерьер его квартиры. (Она гостила у него дома всего один раз. Интерьер действительно был стильный, но слишком уж бездушный: минималистичная эстетика не допускала каких-либо чувств.) Менеджер вешала на голую кирпичную стенку за барной стойкой уорхолизированный портрет Туссен-Лувертюра{7} — в знак уважения к жилому району, который ее кафе облагораживало своим присутствием.
Мэгги уже начинала переживать, что Итан вовсе не явится на встречу. Он вполне мог продинамить ее в последнюю минуту, а потом списать все на свою «социофобию». Мэгги этот аргумент никогда не убеждал. Очень уж тонка грань между себялюбием и самопрезрением. Умный, чуткий, высокий — мироздание наградило Итана множеством достоинств. И что он с ними сделал? Люди и с куда меньшим набором положительных качеств добивались гораздо, гораздо большего. Да и в конце концов, поход с сестрой в кофейню можно назвать «социализацией» разве что с большой натяжкой. Как человек, всегда направлявший свою ярость и тревогу наружу, во внешний мир, Мэгги была не в состоянии понять брата, оценить по достоинству его личность, якобы таящую несметные богатства. Она догадывалась, что его отчаянное стремление к уединению и бездонная тоска — всего лишь симптомы одиночества. Ему надо найти человека, с которым они будут одиноки вместе. А вся эта мнимая неуловимость («Не могу сейчас разговаривать»), вся измученная бравада («Вам меня не понять») — лишь крик души стадного животного, оказавшегося в полной изоляции.
Мэгги перенаправила свое раздражение в прежнее русло — на Кисмета, — а затем экстраполировала его на современное общество в целом. Не очень-то хороший знак, что общество — на этой все еще ранней стадии нового тысячелетия — так высоко оценивает подобные идеи. Приложение RoseBox с его «фирменным» окошком для аватарки в форме красного сердца изначально было просто студенческим приколом. Кисмет сам ей это говорил! На благотворительном вечере братства «Сигма Ню», у здания студенческого парковочного комплекса! Теперь же, разбогатев, Кисмет превратился в сущего ангела: при любом удобном случае он вещал о любви, выступал на шоу Андерсона Купера{8} с проповедями о чудесной сближающей силе совместного преодоления психотравм и отбивался от вопросов злопыхателей о приватности и защите пользовательских данных.
Мэгги разглядывала фрилансеров, деловито тыкающих пальцами в экраны своих гаджетов за столиками из матированной стали. Вполне может быть, что кто-то из них сейчас листает предложения RoseBox. Она присмотрелась к симпатичному парню за барной стойкой со стильной щетиной и татуировкой Всевидящего ока на предплечье. Интересно, какие у него тараканы? Обсессивно-компульсивное расстройство? Родители развелись? Пастор домогался? Вариантам несть числа…
Мэгги вернулась к своему телефону, бестолково попялилась в экран и неожиданно очутилась на странице для загрузки приложения RoseBox. Ну, подумала она, раз уж я тут… И вот приложение уже скачивалось на телефон, а с карты Мэгги списали девяносто девять центов — секунду-другую деньги пометались между серверными парками и исчезли.
Прижав телефон поближе к груди, Мэгги начала заполнять анкету. Травмы в пубертатном периоде? Разумеется. Тревожность/депрессия? Клинической нет, а так — определенно да. Травля в школе? Хм, в девятом классе она возглавляла школьную антибуллинговую кампанию (подвергая безжалостной травле всякого, кто не желал вступать в ряды).
Вопросы становились все специфичнее, и в конце концов на экране появилось сакраментальное: «Потеря родителя в период становления личности». Тут-то в кафе и вошел человек, который совершенно точно пережил ту же самую травму.
Итан похорошел относительно недавно, и Мэгги до сих пор всякий раз дивилась его привлекательности. Короткие волосы внезапно стали чуть ли не белокурыми. На щеках алел детский румянец. Уютный свитер с шалевым воротником казался мягким, словно измятые денежные купюры, прошедшие через множество рук. Живот слегка выдавался вперед, как у беременной на небольшом сроке. Мэгги не видела брата месяца два, но сразу узнала его походку. Манеру держать себя. Точнее, не держать — он всегда немного горбился под весом собственного тела.
Она сунула телефон в карман и встала поприветствовать Итана. Они обнялись: их тела образовали над низким столиком букву А. Мэгги сразу почувствовала его живот и уже хотела как-то это прокомментировать, но передумала: чего доброго, брат обратит внимание на ее болезненную худобу. Впрочем, он был так укутан — в свитер, в собственные мысли, — что ничего не заметил. На столике лежали завернутые в салфетки столовые приборы и табличка с бессмысленным приказом: «УБЕРИТЕ НОУТБУКИ».
— Спасибо, что пришел, — сказала Мэгги. — Пешком добирался?
— Нет, нет. — Итан потянул за конец своего тонкого шарфа. Тот мгновенно размотался и мягко упал ему на колени. — На такси. — Он опасливо забегал взглядом по залу.
— Напрасная трата денег. И… э-м… ресурсов — ископаемое топливо, все дела.
Брат молча взглянул на меню:
— Уже решила, что хочешь?
— Тут ветка «джи» проходит. — Она скрестила руки на груди. — Мог бы и на метро доехать, вот я к чему.
Зевающий официант принял заказ. Итан попросил черный кофе, а Мэгги хотела со сливками, но теперь, конечно, не могла в этом сознаться и тоже заказала черный. Тут у нее в кармане завибрировал и завыл мобильник — раньше он подобных звуков не издавал.
— Как твоя квартирка? — спросила она. — Район по-прежнему нравится? Нашел кого-нибудь?
— Мэгги, умоляю, — вздохнул Итан.
— Что?
— Хватит кудахтать. Превращаешься в наседку.
— Да мне просто интересно! Я же добра тебе хочу! — Она забарабанила пальцами по столу. — И как дела с работой? По-прежнему…
— …Наслаждаюсь жизнью, да, — процедил Итан.
— Я думала, ты…
— Мэгги.
— Ипотека все-таки…
— Мэгги. Уймись.
— Не понимаю! — Она покачала головой. — То есть понимаю, конечно, столько всего случилось… Но как ты мог уволиться?! Ума не приложу.
Консалтинговая фирма наняла Итана сразу по окончании университета — «внедрять прогрессивные принципы и императивы в рабочие процессы». То есть — объяснять успешным великовозрастным бизнесменам, как им оптимизировать производство. Фирма отправила его в кругосветную командировку — проводить исследования и представлять их результаты в виде презентаций тем мировым компаниям из списка Fortune 500, которые могли себе это позволить. Итан установил, что причиной неудач одной компании, выпускавшей программное обеспечение, была слабая узнаваемость бренда; нашел тридцать кандидатов на сокращение в некоммерческой медицинской организации; провел приснопамятное исследование для фирмы «Доктор Шолль», производящей ортопедическую обувь и косметику для ног, — опрос полутора тысяч китайских крестьян об их предпочтениях при выборе обуви. Поначалу дела шли замечательно: Итан непрерывно работал, и времени на праздное самокопание не оставалось. Он отрубался на гостиничных кроватях и от усталости спал без снов. Но вскоре работа начала его тяготить; с каждым годом он все острее чувствовал нелепость своего могущества, ведь он ничего не смыслил в программном обеспечении, медицине и ортопедической обуви. Открытия, совершаемые командой его «специалистов», приводили к увольнению десятков сотрудников из компаний, которые он при всем желании не мог изучить досконально. От гостиничных кроватей начала болеть шея. Причем его коллеги не испытывали никаких угрызений совести: они благополучно поднимались по карьерной лестнице, а их места занимали все новые выпускники вузов. Итан, не считавший себя адептом политики самопродвижения, превратился в эдакого меланхоличного ветерана компании.
— Ты же сама называла меня продажной шкурой, пока я там работал!
— Ты и был продажной шкурой. Но хоть при деле.
— Бесконечные разъезды…
— Тогда они тебе даже нравились. И вообще ты был весь такой высокофункциональный и продуктивный. Ну да, потом все пошло наперекосяк. Мама умерла. Ты захандрил. Но подумай: сколько времени прошло с тех пор?
— Чем дольше я об этом думал, тем несчастнее становился.
— Значит, слишком долго думал.
— Давай лучше обсудим то, ради чего встретились.
— Хорошо.
Она сунула руку в карман пальто и достала оттуда папино послание. Итан вытащил свой конверт и положил его сверху.
— Смотрю, ты тоже получила голубиную почту. — (Ее телефон опять пронзительно взвыл.) — Папа прямо расстарался.
— Что думаешь?
— Пока не знаю, — ответил Итан. — Я не в восторге от идеи.
— Из-за него?
— Из-за него.
Мэгги надеялась услышать другое. Она не особо скучала по отцу, но ей хотелось почтить память мамы, съездить на ее могилу — и заодно перевезти из Сент-Луиса в Нью-Йорк кое-какие вещи. Личные вещи. Принадлежавшие Франсин. Папино приглашение давало ей возможность вернуться домой под достойным предлогом — как будто она вовсе не мечтала перерыть весь дом на предмет памятных вещиц, а приехала навестить отца.
— Да ладно тебе, — не слишком уверенно возразила Мэгги. — Не такой уж он и плохой.
— Я все думаю о том, что ты мне сказала после похорон. Ну, мол, у него была масса возможностей поучаствовать в нашей жизни. А мне давно пора смириться с простым фактом: он никогда не изменится.
— Я так сказала?
— Да.
Вой.
— Ну… — Мэгги накрутила на палец кудряшку. — Ну да.
— Ты сказала, цитирую: «Ты вконец избаловал его вторыми шансами».
— Брось, не могла я так сказать.
Мэгги не хотелось ехать в Сент-Луис одной. Она нуждалась в Итане, в каком-то буфере между нею и отцом. Провести все выходные наедине с Артуром? Немыслимо! Без Итана химический состав семьи приобретал ощутимую горючесть.
— Может, на сей раз будет по-другому. Он ведь сам написал, в конце-то концов. Сам нас пригласил.
— Твои слова ломают мою картину мира, если честно.
— Съездили бы все вместе на мамину могилу…
— «Ты избаловал его вторыми шансами» — твои слова.
— Да не могла я такое сказать!
Подошел официант. Он хотел эффектно поставить чашки, но случайно грохнул их об стол.
Мэгги поднесла кофе к губам и подула: темная поверхность подернулась рябью.
Итан сделал глоток… и резко охнул:
— Вот черт!
— Обжегся?
— Нет. — Он опустил голову и прикрыл лицо ладонью. — Сзади. Выходит из туалета. Только не смотри!
Мэгги рывком развернулась. За соседний столик садился высокий мускулистый блондин с выбритыми висками.
— Я же сказал: не смотри!
— Кто этот неонацик? — спросила она.
Итан свирепо зашикал:
— Тише ты!
Она вновь обернулась и повнимательней рассмотрела блондина:
— Симпатичный. Не знала, что ты западаешь на арийцев.
— Идем отсюда.
— Нам только что кофе принесли!
— Мля, мля, мля… — Итан опустил голову еще ниже.
Опять вой.
— Это у тебя?
— Нет. Да. Не знаю. Пообещай, что подумаешь о поездке.
Телефон Мэгги снова взвыл.
— Можешь его вырубить?! — рявкнул Итан.
— О! — раздался голос из-за ее спины. — Итан! Какая встреча!
— Черт, — прошипел он, выпрямился и помахал рукой. — Шон!
Блондин не спеша подрулил к их столику:
— Рад тебя видеть!
— И я. — Итан встал и приобнял Шона за плечо, затем сел обратно. — Это моя сестра, Мэгги.
— Привет!
— Привет! — Шон склонил голову набок. — Давненько не виделись, красавчик.
— Да уж.
Мэгги кашлянула.
— Я в самом деле рад встрече. На прошлой неделе уронил мобильник в унитаз и потерял все контакты, представляешь? В общем, я хочу устроить маленькую пирушку… ну, не то чтобы маленькую… Весной у меня вроде как свадьба намечается?.. — Он поднял левую руку. Сверкающее золотое кольцо обнимало его безымянный палец.
— Поздравляю!
— Ну и мы решили арендовать эти… яхты? Стартануть из Адской кухни, спуститься по Гудзону до статуи Свободы и обратно. Но только медленно. Шесть часов на воде. Вот, будет маленькая вечеринка. Не то чтоб совсем маленькая… Сыграем свадьбу, в общем. Обязательно приходи, Итан. Как раз на таком мероприятии я встретил свою половинку. Ну и вообще — символично же. Круг замкнулся, все дела.
— Спасибо, я не большой любитель подобных…
— Ты в своем репертуаре! Брось, Итан, будет весело. Пьянка на Гудзоне. Мы человек сто пригласили — может, познакомишься с кем-нибудь!
— Не знаю…
— Отказы не принимаются.
— Какого числа, говоришь?
— Ура! Одиннадцатого. Вторая суббота апреля.
Мэгги вытаращила глаза и энергично закивала на конверты.
— Ой! — воскликнул Итан. — Я же не могу.
— Почему? — спросил Шон.
— Еду в Сент-Луис с сестрой.
Шон надулся:
— Понятно.
Телефон Мэгги снова завыл. Она вырвала его из кармана, причитая: «Ну что, что, что?!» — и увидела на экране кучу уведомлений: RoseBox нашел поблизости шесть человек с аналогичными травмами.
— Что ж, рад был повидаться, — сказал Шон. — Ты классно выглядишь, Итан. Как и всегда.
С этими словами он вернулся за свой столик.
— Как здорово, что ты передумал!
— Да-да… — Итан глотнул кофе.
— Если ты меня продинамишь, я отыщу его и скажу, что ты никуда не едешь. Отыщу и скажу, клянусь! Ты меня знаешь.
— Интересно, к чему это было: что я всегда классно выгляжу…
— «Комплимент» называется.
— А ты разве не разглядела в этих словах скрытый смысл? Я вот разглядел.
— Псих.
Звякнул колокольчик над входной дверью. В кафе вошел здоровенный мужик в серой толстовке-кенгуру. На толстовке красовалась надпись: «Чемпион», а передний карман был оторван. Всклокоченная борода пожелтела возле рта. В руке здоровяк держал большой пластиковый пакет с кучей пакетиков внутри. Менеджер тут же подбежала и выпроводила его за дверь.
— Слушай… — вдруг сказал Итан. — А как ты называла маму?
— Э-э?..
— Ну… Помнишь, ты ей прозвище придумала?.. — Итан изобразил над головой невидимую корону.
— А, точно. Мадам Пушок.
— Да! Потому что у нее было…
— Пальто, ага. — Мэгги взбила кудри. — Пальто с меховой оторочкой на капюшоне.
— Мадам Пушок. Точно.
— Мне казалось, что в этом пальто она выглядит очень аристократично.
— Ага.
— Прямо как королева.
Больше всего на свете Мэгги жалела, что ее не было рядом с мамой, когда та умирала. Она столько дней провела в больнице «Барнс-Джуиш» (бродила по стерильным коридорам, ночами спала у маминой койки), но в нужный момент уехала. Самое ужасное — куда она уехала: на природу, на реку в горах Озарк, чтобы выпивать, валяться на плоту и неторопливо дрейфовать по течению навстречу выпускному.
Мэгги при всем желании не смогла бы придумать более наглядный пример угрожающего цивилизации студенческого мероприятия, чем двести пьяных будущих выпускников, почти полностью перекрывших своими надувными кругами русло реки Мерамек в Миссури. Парни с отросшими брюшками, девушки в загорательных позах: с расстегнутыми лифчиками купальников и слегка оттопыренными попами. Холодильники с подкисшим на солнце пивом. Эти холодильники плыли на отдельных плотах — точнее, то были специальные плавучие устройства для охлаждения напитков, за которыми по реке, подобно послушным питомцам, спускались горы пустых алюминиевых банок. Шезлонги, ножные браслеты, пестрые купальники, солнцезащитные очки с линзами всех цветов радуги и логотипом Дэнфорта на дужках. Все это змеилось по реке — одной из крупнейших незарегулированных рек штата Миссури с течением настолько медленным, что казалось, она двигалась в обратном направлении.
Мэгги плыла на плоту с Майки и его лучшим другом, Фейнштейном, который валялся рядом в полной отключке. Парни без какого бы то ни было зазрения совести записались на Неделю старшекурсников — бесплатную семидневную вылазку на природу, положенную всем будущим выпускникам. Мэгги пришлось ехать с ними: она и так уже продинамила их с матчем «Кардиналс», викториной и гала-концертом в ботаническом саду (последнее мероприятие Фейнштейн омерзительно называл «гейла-концерт»).
Словом, зря она поехала — надо было остаться в больнице, рядом с умирающей матерью.
— Слушай, ну хоть раз-то тебе можно повеселиться! — сказал Майки, прихлопнув комара и размазав его по ноге.
Мэгги пропустила его слова мимо ушей. Тогда он принялся рассказывать, как его бабуля несколько лет назад заболела и все твердила, что он не должен целыми днями хандрить по этому поводу.
— Вообще-то, тут совсем другое, — сказала Мэгги.
Но в каком-то смысле он был прав. Она заранее решила, что ей не понравится на реке, а значит, никто не упрекнет ее в том, что она веселилась с друзьями, пока ее мать медленно умирала в больнице.
— Ты прямо специально нагоняешь на себя тоску, — заметил Майки.
Его меткое замечание ударило по больному: где же он прятал эту удивительную наблюдательность в последние пять месяцев их… ну, допустим, романа?
Фейнштейн хорошо разбирался в пиве и сказал, что «берет алкоголь на себя». Но двенадцатибаночный клад индийского белого эля из частной пивоварни уже высушил Мэгги изнутри, а до конца сплава оставалось еще три часа. Однообразие окружающей действительности и почти полное отсутствие какого-либо движения начисто стерли пространство. Осталось только время, и его было слишком много. Вдалеке показалась тонкая ниточка облаков. К распухшей от комариного укуса лодыжке Мэгги то и дело возвращался какой-то другой комар. После того как Майки попросил выдавить ему прыщ на спине, а Фейнштейн очнулся и подставил солнцу белое брюхо в родинках, она вдруг поняла, что больше не может выносить их присутствия, и сблевала в воду.
В том же часу умерла Франсин.
Мэгги думала, что может позволить себе один-единственный раз выбраться из больницы — немного отдохнуть от колючего писка аппарата для анальгезии, стона содрогающихся катушек МРТ, капельниц и всепроникающего запаха рвоты, прикрытого перекисью. За это желание она — причем совершенно заслуженно — поплатилась.
Выпив кофе с братом, она позвонила Майки и напросилась к нему домой.
Их расставание прошло излишне бурно. Она и сама это понимала. Вообще-то, Майки был беззлобный парень, добрый и внимательный, но однажды днем, сев за его ноутбук, Мэгги обнаружила в истории браузера бесконечный список просмотренных на ютубе интервью с выдающимися представителями Нового атеизма[2]. Кое-как выдержав сорок три секунды лившейся с экрана взвешенной исламофобии, Мэгги влетела в заполненную паром ванную комнату их с Майком квартиры и объявила, что съезжает. От потрясения он поскользнулся в душе. И шторку содрал.
Расставание далось ему тяжело, хотя Мэгги знала, что у него тоже были к ней претензии. Например, он терпеть не мог, когда она описывала героев его любимых комиксов до обидного простыми терминами из диагностического справочника психических расстройств. («Лицо со Шрамом — не нарциссическая личность! — вопил Майки. — Он просто Лицо со Шрамом!»){9} Как бы то ни было, она решила, что переезд из Мидтауна в Уильямсбург определенно пойдет ему на пользу.
— Уильямсбург? — переспросила она, когда он открыл ей дверь.
Майки заметно отяжелел с их последней встречи и немного облысел, но почему-то выглядел моложе — не взрослый мужчина, а пухлый младенец с редкими, еще не отросшими волосиками.
— Ты же в курсе, что район считают «конченым» как раз из-за таких, как ты?
— Я тоже рад тебя видеть.
— Извини. Настроение…
— Мы все постоянно пребываем в том или ином настроении. По-другому просто не может быть.
Он потянулся ее обнять.
— Мэгги! — донеслось с дивана.
— Вот черт, — пробормотала она Майки в плечо. За его спиной, в гостиной, она увидела кудрявую голову Фейнштейна, торчащую из-за спинки бежевого раскладного дивана. Он смотрел по телевизору документальный фильм об американском скрипаче, совершавшем культурный тур по Китаю.
— А он что тут делает? — спросила Мэгги.
— В гости пришел. Я специально взял выходной, чтобы с ним повидаться. Ты же в курсе, что я работаю, да? Нельзя просто заявляться к людям в гости, тем более в будний день.
Мэгги пожала плечами:
— Сегодня же сработало.
Фейнштейн сел посреди дивана, освободив им места по обе стороны от себя. Майки сел слева, а Мэгги так и осталась стоять.
— Садись, что ли, — сказал Фейнштейн. Его глаза были закрыты густой челкой, на щеках темнела сажей щетина.
— Да я постою, — ответила Мэгги.
— Фейнштейн приехал из Боулдера.
Она сделала вид, что ей интересно:
— Да? Чем ты там занимаешься?
— Угадай.
Мэгги закатила глаза.
— Работаю в холистическом пункте выдачи медикаментов.
— Ясно.
Американский скрипач тем временем пылко костерил молодых китайских музыкантов. «Одной техники мало!» — орал он.
— Ага, — кивнул Фейнштейн. — Там огромные деньги замешаны. Серьезно, Мэгги. Можно очень хорошо заработать.
— А с каких это пор ты у нас такой предприимчивый? Ты разве не химик по специальности?
— Мои родители думают, что я учусь на медицинском.
— Ого, — подивилась Мэгги. — Как тебе удается водить их за нос?
Фейнштейн пожал плечами:
— Это не трудно. Они вопросов не задают.
Майки посмотрел на нее многозначительно и одними губами произнес слово «развод».
— Ой. Извини, — вслух ляпнула Мэгги.
— За что?
Майки отвернулся.
— Так, а теперь играем с чувством! — проорал скрипач.
— Да нет, это я так… Слушай, Фейнштейн, ты не обидишься, если я поговорю с Майки наедине? В его спальне?
— Нет, конечно. Валяйте.
Она жестом подозвала Майки. Тот медленно встал и повел ее за собой по коридору.
— Я и не знала, что Фейнштейн приехал, — сказала Мэгги, как только за ними закрылась дверь.
— У него сейчас трудные времена. Родители разводятся. И оба требуют, чтобы он дал в суде показания в их пользу.
— Давай не будем об этом.
— О’кей. — Майки почесал затылок. — Я, вообще-то, рад, что ты приехала. Рад тебя видеть. Помню, ты говорила, что мы предназначены для других вещей и других людей, но… Я все равно рад.
На глаза навернулись слезы. Увидев Майки — да и Фейнштейна, если уж на то пошло, — она словно вернулась в студенческую пору. Одно его присутствие моментально перенесло ее в прошлое, в Сент-Луис. Туда, где мама еще была жива.
— Ты хоть иногда меня вспоминаешь? — спросил он.
— Иди сюда. — Мэгги привлекла его к себе и поцеловала.
— Но… Фейнштейн… — пробормотал Майки, пока она стягивала с него футболку.
Они разделись и упали на матрас, застеленный старым нежно-голубым бельем, которым он застилал кровать еще в универе.
Мэгги оседлала Майки, поместила его в себя, наклонилась и поцеловала его в шею. Но как бы она ни гнала от себя непрошеные образы, память вновь и вновь возвращала ее на реку Мерамек. Жара. Во рту пустыня.
Она закрыла глаза.
Было время, когда Мэгги нравилось заниматься сексом. Она переспала с несколькими однокурсниками, и хотя непринужденность тех случайных связей пришлась ей по душе, сама культура беспорядочного секса превращала человека в эмоционального пуританина. Майки был одним из немногих, кто не боялся показать девушке свой интерес. Это дело быстро вошло у них в привычку: секс был достойный и максимально обоюдоприятный (при условии, что твой партнер — юный консерватор). Однако после маминой смерти Мэгги начала отдавать себе отчет, какой вред может причинить тело — себе и другим. Вот уже два года она пыталась испытать то непринужденное, ничем не омраченное удовольствие, привлекала Майки к своим поискам, но всякий раз возвращалась ни с чем.
— Ты похудела? — прошептал он.
Она закрыла ему рот. По телу пополз колючий жар. Она увидела постер «Лицо со Шрамом» на стене и стопку книг на прикроватной тумбочке. «Алхимия финансов». «Слово в защиту Израиля»{10}.
— Прости. Я не могу.
— Что не можешь?
В реке плавала ее блевотина.
Мэгги проглотила ком в горле:
— «Алхимия финансов»? Не слишком возбудительно.
— Сказала мажорка с открытым на ее имя трастовым фондом.
— Ты совсем охренел? — Она скатилась с него, легла на спину и скрестила руки на груди. — Лучше бы молчал, ей-богу.
— Извини.
— Зачем ты так сказал?!
— Мэгги, — взмолился он, — прости!
— Кончи уж как-нибудь сам.
Он закрыл глаза, положил руку ей на бедро и минуту спустя, застонав и содрогнувшись, замер.
— Что я вообще тут делаю… — сказала она.
Они молча лежали рядом. Дыхание Майки успокоилось. И тогда он спросил, не приехал ли к ней отец.
Мэгги прыснула:
— Я голая. Ты голый. Что за вопрос, блин?!
— Так он приехал?
— Нет…
— Ты недавно с ним виделась?
— Нет!
— Тогда, может, с братом встречалась?
Она покраснела:
— Тебе-то какое дело?
— Просто интересно.
— Интересно.
— Просто в универе ты начинала первой, когда хотела выпустить пар.
— Неправда!
— Вспомни-ка: после Дня благодарения, после зимних каникул, в родительский день…
— Ладно, ладно, ладно!
Ну вот опять: восприимчивость и наблюдательность. Откуда? Может, она недооценивала Майки? Хотя, откровенно говоря, недооценивать его было очень легко. Да и вообще — выносить ему оценку. Он был еврейский мальчик из Уайт-плейнс. Мэгги даже никогда не спрашивала его о детстве, ведь все и так было предельно ясно: летний лагерь, непременное участие в Маккабианских играх{11}, проникновенная речь на бар-мицву (написанная в соавторстве с гиперопекающим родителем). Экзамены на «отлично», бесплатная поездка в Израиль…
— Знаешь, это был даже не трастовый фонд. Я вообще не мажорка, если уж на то пошло. Ты ведь это понимаешь?
— Не совсем.
— Бездушная скотина!
— Ну серьезно, в чем разница-то?
— Во-первых, никакого трастового фонда на мое имя нет. Просто я получила наследство, потеряв очень близкого человека. Во-вторых, до смерти мамы я даже не знала, что мне полагается какое-то наследство. У меня нет мажорского менталитета, а именно это имеют в виду люди, называя кого-то мажором. И в-третьих, я отказалась от денег!
— Неужели?
— Да!
— Только ты еще не совсем от них отказалась, верно?
— Откажусь!
— Нельзя сказать: «Я отказалась от денег», если деньги до сих пор лежат в банке. На твоем счете.
Мэгги фыркнула:
— Ну, извини. Слушай…
Проблема Майки, вдруг осознала она, — не столько моральные изъяны, сколько его жизненная траектория. Он во всех отношениях хороший человек, который слишком быстро вырос. Международные финансы, лишний вес, политический консерватизм — разве так полагается жить молодому парню двадцати с небольшим лет? Зато Мэгги делает все правильно: проживает молодость на полную катушку, пренебрегая благами и привилегиями, и изо всех сил приносит пользу миру…
— Ты слушаешь? — спросил Майки. — Ты по-прежнему мне небезразлична, говорю.
— Я пойду.
— Останься. Прошу тебя. Давай поговорим.
Мэгги потрясла головой:
— Я лучше умру, чем буду жить в изобилии.
К тому же ей было давно пора возвращаться в Куинс. Надземка понесла ее на восток, мимо верхних этажей заброшенных складов с разбитыми окнами. Пролетавшие за окном районы становились все менее облагороженными, приходили в упадок и честно рассыпались в прах. Сойдя на станции «Миртл-Уайкофф», Мэгги побежала забирать из школы братьев Накахара. Оксана работала допоздна, а ее муж свалился с гриппом и не мог встать с постели.
Мальчики посещали чартерную школу{12}, расположившуюся в старинном здании методистской лечебницы. Невероятная викторианская громадина возвышалась практически на тротуаре, словно бы говоря: «Взгляните-ка на меня, хм». Крыша взмывала в небо шпилями и шипами. Узорчатая кирпичная кладка была испещрена бледными камешками. Кучки мусора украшали узкий двор с четырьмя баскетбольными кольцами — кольца висели в пустом пространстве, на тонких столбах без задников.
Мэгги подбежала к школе ровно в три часа, когда из скрипучих ворот начали просачиваться дети с крошечными рюкзачками и ланчбоксами. Бруно и Алекс вышли чуть ли не последние. Их сопровождала суровая тетка в парике и вязаной кофте. Алекс побежал вперед, а Бруно уныло плелся рядом с мучительницей.
— Это ваши? — спросила она Мэгги.
— Э-м…
— Вы их няня, так?
— Скорее ментор дефис тьютор… Лайф-коуч, только без нью-эйджевской ахинеи{13}.
— Ладно, не важно. Втолкуйте этому человеку, что насилием делу не поможешь, — сказала она, крепко удерживая Бруно за загривок. — Он сегодня избил ни в чем не повинного маленького мальчика!
— Бруно! — охнула Мэгги.
— Я надеюсь, вы его накажете? — спросила тетка.
— Хорошо.
— Обещаете?
— Прошу прощения?
— Мне не хочется отпускать этого мальчишку, пока вы не пообещаете, что он понесет наказание.
— А-а, ну ладно, хорошо. Пойдемте, мальчики.
Они зашагали домой.
— Я ни в чем не виноват! — пробормотал Бруно.
— Действительно, — отозвался Алекс, — у него просто нет подружки. У меня вот целых две — и никаких проблем с самоконтролем.
— С тебя доллар, — сказала Мэгги. — Никаких проблем с самоконтролем у нас нет.
— Вот именно, — кивнул Бруно. — Все ОВР виновато.
— Что у тебя случилось?
А случилось вот что: Бруно вышел из себя на переменке, когда одноклассник Тревор Кван правильно определил возраст его древней «раскладушки» — ей было ровно шесть лет. Хуже того, Кван попытался включить экран и выяснил, что телефон не работает: аккумулятор давным-давно сдох, и Бруно таскал в школу фактически муляж (нарочито громко изображая рингтоны на переменках). Тут все Кваны, банда Тревора, начали дразниться и кричать: «У Бруно нет телефона! Нет телефона! Нет телефона!» — и перекидывать серебристую «моторолу» у него над головой.
— Ну, я и дал ему в зубы. — Он продемонстрировал Мэгги свой кулак: мясистые костяшки были покрыты ссадинами.
— Ребят, — сказала Мэгги, — мы же вроде об этом говорили. Помните: про мирное разрешение конфликтов? И как надо вести себя в школе? Вы должны понимать, что я волнуюсь за вас не меньше, чем мама. И вовсе не потому, что это моя работа. Вы мне как родные.
— А мама за нас не волнуется, — вставил Алекс.
— Неправда!
— Правда, правда. Она сама так сказала: я за вас не волнуюсь. У двух ее теток нашли рак. Ну, из-за Чернобыля. Так что у нее без нас хлопот хватает.
— Хм. Ну ладно, — протянула Мэгги. — Я поняла. Но вы себя берегите, лады? Ради меня.
— Это ж не я, это моя болезнь — ОВР, — пожал плечами Бруно. — Ничего не поделаешь.
Тем же вечером, растратив душевные силы на всех значимых людей в ее жизни, но по-прежнему чувствуя себя ужасно одинокой, Мэгги приняла приглашение тети: та звала ее к себе домой поужинать.
У Итана всякий раз находился какой-нибудь предлог, чтобы не ехать в Нью-Джерси — для него это была лишняя суета. Мэгги же ездила к Бекс из солидарности. Хотя тетин образ жизни ей претил, та была неким связующим звеном между ней и мамой. И тоже очень горевала.
Прекратить горевать по такому человеку, как Франсин, было невозможно. Видящая все и ни за что не осуждающая, умная, но не демонстрирующая свой ум, она пожертвовала карьерой ради благополучия семьи — в которой ей была отведена роль модератора, рефери и миротворца. В глазах Мэгги мать была одновременно образцом для подражания и поучительной историей — наглядным примером того, как современный мир видит женщину и на какие жертвы она готова идти, чтобы соответствовать этому образу.
За час до захода солнца — в ту самую минуту, когда Мэгги вышла из метро на 175-й улице, — у тротуара притормозил тетин армейский внедорожник.
— Детка! — завопила Бекс, осыпая ее щеки поцелуями.
У нее была упругое душистое лицо, липковатое от увлажняющего крема с гуайявой. Волосы, убранные в тугой хвост на макушке, слегка подтягивали кожу вверх. Она погладила кудри Мэгги.
— Какие мягкие!
— Спасибо.
— Совсем как у твоей мамы…
— Бекс…
— О-ох, — вздохнула тетя, промокнув ресницы бумажным носовым платком. — Ну вот, опять я расчувствовалась. А ведь у нас такое счастье!
— Счастье?
— Все безумно рады, что ты придешь!
— Все?!
— Ну да, все! Сегодня же шаббат, красавица.
— А-а… — протянула Мэгги. — Я совсем забыла. Только я ведь не одета… — Она опустила взгляд на свои черные джинсы, на которых пару месяцев назад запеклась какая-то гадость из дома Накахара. — Тяжелый был день.
— Не волнуйся, одежду я тебе дам. Какая ты худая!
Мэгги вся сжалась на сиденье — щеки вновь начал жарить знакомый зной.
Пока они ехали по мосту Джорджа Вашингтона, Бекс хорошенько ее рассмотрела.
— Знаешь, твоя мама мне спуску не давала. Перед важными свиданиями я иногда пыталась тайком голодать, но с Франсин этот номер не проходил. Она была психотерапевтом еще до того, как стала психотерапевтом, понимаешь?
— Понимаю.
— И больше об этом ни слова.
У Бекс были такие же темные и теплые глаза, как у Франсин. Опустив голову, Мэгги украдкой разглядывала необыкновенное тетино лицо, пока их гражданский танк катил по огромному автосалону марки «Лексус» под открытым небом — то есть по Нью-Джерси.
Тетя нравилась Мэгги или, по крайней мере, представляла для нее социологический интерес. Бекс Голдин из округа Берген, урожденная Ребекка Кляйн из Дейтона, Огайо, тринадцать лет назад вышла замуж за Леви Голдина, унаследовавшего крупнейшую на территории трех штатов компанию по оценке и ликвидации предприятий. Помимо дворца в Джерси, у них с Бекс был дом в Аспене, где Леви однажды заставил отца Мэгги воткнуть мясной нож в замерзшую землю — потому что тот по неосторожности нарезал им сыр.
— Что новенького? — спросила Бекс, едва не съехав на обочину.
— Ничего особенного. Вот думаю к папе съездить.
— К Артуру? Ох, Мэгги…
— Думаешь, не стоит?
— Слушай… Он, конечно, твой отец, не мой. Ты не можешь вечно его избегать. Хотя лично я не вижу в этом ничего зазорного.
— Да я справлюсь!..
— Знаю, ласточка. Но будь начеку, хорошо? Не хочу, чтобы ты страдала. Осторожность никогда не повредит.
Высокие чугунные ворота впустили их на территорию. За громадным домом, защищенным от улицы длинной узкой подъездной аллеей, прятался бассейн и глиняный теннисный корт. Вымощенная плиткой дорожка перед домом была украшена цементной розой ветров с именами двоюродных братьев и сестер Мэгги возле буквенных обозначений сторон света: Эзра (N), Лорен (Е), Максин (W) и Соломон (S) (Соломоном звали собаку). Заканчивалась дорожка широкой мощеной площадкой, на которой всегда стояло как минимум три автомобиля.
— Идем в дом, — сказала Бекс. — Скорей-скорей! Детям не терпится тебя увидеть.
На стене рядом с входом на кухню висела целая коллекция зеркал всех форм и размеров. Этот льдистый декор создавал ощущение прохлады, населяя окружающее пространство студеными бликами и отражениями. Мэгги увидела скользящих по коридору Лорен и Максин в зеркалах еще до того, как они очутились перед ней.
— Поздоровайтесь с сестрой, — скомандовала тетя.
Девочки — близняшки четырнадцати лет — что-то пробормотали. Их лиц было не видно за длинными занавесами черных волос.
— Поцелуйтесь, — приказала Бекс. Эту привычку она переняла у семьи мужа. Голдины целовались часто и с удовольствием, а Альтеры предпочитали без явной необходимости ни к кому не прикасаться.
— Ла-адно, — выдавила Лорен, и девочки клюнули Мэгги в обе щеки.
— Подростки, что с них взять? — Бекс закатила глаза и покрутила пальцем у виска.
Коридор привел их в просторную, полную воздуха гостиную с белым пианино и двумя одинаковыми белыми диванчиками «честерфилд»{14}. Максин тут же подлетела к пианино и принялась жать на все клавиши без разбора.
— Сыграешь что-нибудь для Мэгги? Нет? Ну ладно. Может, попозже.
Тетя жестом позвала Мэгги за собой, наверх:
— Эз-ра! Кузина Мэгги приехала! Иди поцелуй ее! Она поможет тебе сделать уроки! — Бекс обернулась к племяннице. — Ты ведь не против?
Он сидел на полу в своей комнате перед огромной меловой доской во всю стену. Под потолком шла надпись пухлыми буквами: «Стена Эзры для граффити».
— Через двадцать минут спускайтесь ужинать, — сказала Бекс. — Я подберу тебе какую-нибудь одежду.
— Ну, — сказала Мэгги, когда тетя ушла вниз, — что проходите в школе?
Эзра застонал и постучал костяшками пальцев по обложке лежавшего рядом учебника: «Переосмысление империализма: ликбез».
— Ты в шестом классе?
Он кивнул. Мэгги вспомнила осыпающуюся школу, в которой учились братья Накахара, и испещренные пенисами тетради Бруно.
— Мы проходим Африку, — пояснил Эзра и махнул рукой на распечатку со старой картой, датированной 1881–1914 годами. — Каждый ученик станет какой-нибудь страной. Я буду Англией. Я должен разукрасить те области на карте Африки, которые хочу заполучить, и завтра на уроке мы будем за них биться.
— Заполучить?!.
— Ну да. Ресурсы там, все такое… — Эзра поднес кончик красного маркера к Алжиру.
— Тебе помочь? — спросила Мэгги.
Эзра поднял глаза:
— Принесешь мне «Капри сан»?
Без особой охоты притащив братику не тот вид фруктового сока в ламинированной фольге («Дикая вишня? Ненавижу дикую вишню!»), Мэгги выбрела в коридор на втором этаже. Насчитала две, три, четыре спальни для гостей. Или беженцев! Они сейчас валом валят с Ближнего Востока или откуда-то оттуда. В Сирии вообще гражданская война. Бесспорный факт: в мире всегда есть люди, которым нужны комнаты, а в доме Бекс комнаты всегда есть. Вот именно эта зажиточность и изобилие выводили Мэгги из себя. Думая об этом, она начинала презирать своих кровных родственников.
Так, вот хозяйская спальня. На кровати — приготовленный для нее наряд. Вместо того чтобы надеть его, она подошла к мраморному столику: на длинной бархатной подушечке красовались драгоценные колье. Мэгги оглянулась на дверь. Прислушалась к шагам в коридоре. Все было тихо. Осмелев от роскоши, простора и высокомерия двоюродных сестер и братьев, Мэгги решила, что вполне может присвоить цепочку розового золота — тонкую и легкую, словно выкованную из воздуха. Она бросила ее в карман джинсов, чтобы потом заложить в ломбард — во имя какой-нибудь великой цели.
Она немного сдвинула остальные цепочки и колье, чтобы закрыть пустое место.
— Мэгги, Эз-зи, у-ужин! — донесся снизу голос Бекс, ничуть не похожий на голос совести.
Мэгги пошла вниз в чем была, даже не взглянув на одежду.
В столовой уже собралась вся мафия Голдинов. Загорелые голенастые женщины в коротких юбках и туфлях на высоких каблуках возвышались над мужьями. Мэгги издавала положенные звуки, обнимая ринопластированных женщин семейства Леви: они жили в соседних дворцах и каждую пятницу по очереди ходили друг к другу в гости праздновать шаббат.
— Мэгги, — сказала тетя, изо всех сил отводя взгляд от ее засаленных джинсов. — Ты ведь помнишь Сару, Алексис, Адама, Лейлу, Джастина и Мэдисон…
Чьи-то крепкие руки легли ей на загривок. Дядя. Он развернул ее к себе и заключил в могучие объятья.
Леви, ростом под два метра, всегда был в отличной форме. В восемнадцать лет он, как и положено, совершил паломничество в Израиль, дабы вступить добровольцем в парашютно-десантную бригаду «Цанханим» — это обстоятельство, казалось, парило, подобно парашютисту, над его прилизанной головой.
— Очень рад, что ты пришла, — сказал он.
Собравшиеся почтительно умолкли: две девицы в кожаных сапогах ввели в гостиную Сола Голдина, главу семейства. Он на секунду замер и осторожно нагнулся — погладить собаку, названную его именем. Сол был одет в розовую рубашку с узорчатыми манжетами и брюки с подтяжками. Закатанные рукава обнажали заросшие белой шерстью предплечья. Дед по очереди поздоровался со всеми главами семейств, оценивающе разглядывая их лица. Его жена Дорис с довольной улыбкой наблюдала за происходящим.
Когда очередь дошла до Мэгги, та машинально согнулась в поклоне, на который дед ответил поцелуем в лоб.
Было что-то жуткое в том, как организованно проходил ужин. Все сели за стол только после Соломона и начали есть только после того, как начал он. Говорили в основном о грядущей бар-мицве Эзры: какая кейтеринговая компания будет обслуживать праздник, что лучше надеть, как у Эзры успехи с зубрежкой Торы.
— Ты же репетируешь речь? — спросила его Дорис.
— Да, бабуль.
— Молодец!
Мэгги сидела на противоположном конце стола, рядом с Леви. Прямо перед ней стояли блюда с запеченной курицей и мясом (пришлось положить себе побольше фаршированной капусты). Леви спросил ее про брата.
— У Итана все хорошо. Мы как раз сегодня встречались.
— И где же он?
— А… Не смог приехать. Дела у него.
Дядя фыркнул:
— Какие еще дела?! Он же не работает!
Леви был мелким магнатом и считал, что работать должен каждый, независимо от наличия или отсутствия капитала. Что носить галстук — это почетно, и что конференц-залы со стеклянными стенками придуманы не просто так. Мэгги понятия не имела, чем же он занимается — из чего состоят будни профессионального стервятника. Вроде бы он играл в теннис. Больше она ничего о нем не знала. Когда Франсин еще была жива, он регулярно приглашал Артура поиграть, но тот всегда уклонялся. «Леви не понимает одного, — втолковывал Артур семье по дороге домой из Нью-Джерси. — Для игры в теннис — на нашем уровне, разумеется, — необходимо умение, а не сила. Силы у него хоть отбавляй, а навыков не хватает. Профессионалам, разумеется, нужно и то и другое. — Он поворачивался к Мэгги, сидевшей на заднем сиденье, и произносил сакраментальную фразу: — Твой дядя — здоровяк, но папа еще утрет ему нос».
— Не знаю, — ответила она. — Итан мне ничего не рассказывает.
— А у тебя как дела? — продолжал допрос Леви. — Работаешь?
— Ну что, иду заваривать чай? — спросила Бекс. — Кому чаю?
— Работаю.
— Правда?
— Бебиситтером, тьютором, в таком духе.
— Я имел в виду нормальную работу.
— Нормальную?
— Не будешь же ты всю жизнь девочкой на побегушках!
Мэгги ощетинилась. Леви прекрасно знал о ее наследстве. Деньги Франсин были сущими грошами по его меркам, но дядя явно хотел знать, что она собирается с ними делать. Каков будет ее следующий шаг.
Золотая цепочка жгла карман.
— Кем ты мечтаешь стать? — спросила Алексис (или Мэдисон). Весь стол умолк и внимательно слушал.
— Я вот на предпринимателя учусь! — вставила Лейла.
К тому времени Сол, сидевший на другом конце стола, уснул.
— Мне кажется, у меня очень нужная работа, — сказала Мэгги. — Я приношу пользу своим соседям.
— Смотря что иметь в виду под «работой», — ответил дядя. Он выпрямился — как часто делают мужчины, чтобы напомнить собеседнику о своем физическом превосходстве, — и завел речь: — Слушай. Все очень просто. Мы работаем, чтобы выживать. В джунглях, в пустыне, где угодно — ты либо охотишься, либо умираешь. Находишь еду — либо голодаешь. Это и есть выживание. Тут ты скажешь: мы-то не в пустыне живем! Верно. Но что дальше, когда ты уже научился выживать? А вот что. У меня даже поговорка есть: «Сперва выживаешь, потом процветаешь». Это тот же инстинкт, только на другом уровне. Тебе пока не понять, родишь детей — поймешь. Добившись благополучия для себя, ты переключаешься на детей, пытаешься обеспечить их благополучие. Их и их детей. Чтобы им никогда не пришлось вкалывать, как тебе. — Он обдумал свои слова и кивнул. — Но все же работать необходимо. У меня есть еще одна поговорка: «Без работы нет охоты». Человек, который вышел на пенсию в тридцать пять, деградирует. Безделье нам чуждо. Поняла? В этом вся штука. Люди пашут, пашут, пашут, но стремятся к заведомо неправильной цели — никогда больше не работать.
Мэгги была твердо убеждена, что дядя ошибается. Что его помыслы корыстны, тщеславны и ему нет никакого дела до высоких абстрактных материй, которыми живет она, — к примеру, о глубинных взаимосвязях мирового рынка, о социально-этической ответственности богатых.
— Работа — это… — начала было Мэгги и умолкла. Ей почудилось, что она стоит над пропастью на хлипком веревочном мостике и вдруг замечает внизу бурную реку, разлохмаченные канаты, трухлявые доски.
К счастью, Бекс уже вернулась из кухни и благополучно ее перебила:
— Правда, она красавица? — Одной рукой тетя удерживала серебряный поднос, а другой гладила Мэгги по волосам. — Убить готова, чтобы помолодеть!
Леви кивнул:
— Да. У такой девушки, как она, всегда есть варианты.
4
На прошлой неделе Артур Альтер проснулся и неожиданно осознал, что соскучился по детям.
Суббота. Семь утра. Грубые, как наждак, обжигающие солнечные лучи поползли по его лицу. Снаружи студенты-медики, математики и прочие трезвенники с отшлифованными мордами слонялись по лужайкам, пока остальные жители кампуса спали с похмелья. Окно в его спальне было чуть приоткрыто и впускало весенний сквознячок. Сквозь эту щель внутрь просачивались частицы студенческого трепа.
Артур медленно встал, чувствуя затекшую больную спину, и кое-как спустил на пол ноги. Ульрика еще спала, лежа на животе. Артур впервые обратил внимание на обложку книги, которую она читала: гордая акация на фоне оранжевого солнца. Поначалу этот ориентализм с примитивной аллюзией на зарю человечества его покоробил, но он быстро опомнился — в конце концов, это квартира Ульрики и вообще она вольна читать что угодно.
Ульрика жила в крошечной, предоставленной университетом однушке в подвале шумного студенческого общежития на Дэнфортском просторе — территории, прозванной так за внушительные размеры, где селили исключительно младшекурсников. Какую унизительную роль отвели Ульрике, подумал Артур: мамка, надзирательница, тролль под мостом… Зато за жилье платить не надо, да и кто он такой, чтобы судить? В последнее время он сам тут живет.
Артур похрустел затекшими плечами и спиной. Они с Ульрикой полночи не спали, спорили до хрипоты: ей предложили грант в Бостоне, и она всерьез обдумывала предложение. Сказала, что, вообще-то, тут и думать нечего: дело стоящее. В принципе, это давало Артуру возможность мягко и безболезненно завершить отношения — подвести черту двухлетней эпохе угрызений совести. (Ульрике было тридцать пять, и он не верил женщинам, которые говорили, будто не хотят детей.) Но что с ним станется без нее? Итан и Мэгги уехали. Дом вот-вот отойдет банку. Карьера загублена: даже самым алчным университетским вампирам нет дела до его жалких курсов. Без Ульрики он столкнется с одиночеством, страх перед которым изначально и привел его в ее объятья. Но она была соучастницей — и во многом даже виновницей — событий, после которых его жизнь схлопнулась; Артур своими руками связал свою судьбу с ее судьбой; и ведь когда-то он действительно ей нравился. Он уговорил Ульрику никуда не ехать. Точнее — подумать об этом. «Священник-педофил и биомедик заходят в бар. Причем — в спортбар. Это и есть Бостон! И ты хочешь туда переехать?! Поверь мне, там ужасно».
Он приполз в кухню. Порылся в шкафчиках и нашел коробку «Шоко-хрустиков». Затекшая левая рука неприятно зудела. С кухни было слышно, как Ульрика громко, могуче сопит в подушку. Крошечная квартирка, соседи-подростки, тевтонский храп любимой… Артур с неохотой признал, что все это пустяки, не стоящие его внимания. А точнее, неотъемлемые составляющие его жизни, без которых он — никто.
Эпоха Угрызений Совести началась с вечеринки для педсостава, где Артур познакомился с Ульрикой. Его привлекли старые добрые роковые прелести: саркастичность, молодость, немецкое происхождение. В университете она преподавала недавно — медиевистику на историческом факультете.
— Медиевистика, надо же… — повторил Артур. Он опрокинул остатки пино-гриджо в рот и смял пустой стаканчик. — А я думал, к нам теперь только цифровых гуманитариев берут{15}.
— Фот как? — Ее «в» звучало скорее как «ф»: немецкий акцент придавал ее дыханию праздную свежесть, словно мятный леденец после обеда. — Видимо, я — то самое исключение, которое доказывает правило.
Артур был настолько заинтригован, что не стал подвергать сомнению уместность идиомы.
Вечеринку организовала Комиссия по междисциплинарному прогрессу. Эта комиссия — нарост на раковой опухоли университетского фонда пожертвований, — помимо прочего, проводила обязательные к посещению мероприятия для профессорского состава. Приглашенных выбирали случайным образом, как коллегию присяжных. И так же, как в случае с судом присяжных, народ терпеть не мог обязаловку. Однако всем уклоняющимся грозило «временное отстранение от профессиональной деятельности», а этого Артур, так и не заключивший с университетом бессрочного контракта, не мог себе позволить. Он смутно догадывался, зачем нужны подобные вечеринки: наверное, члены КМП решили, что, если загнать десяток поддатых педантов в одну комнату, они рано или поздно изобретут что-нибудь полезное и коммерчески успешное, а университету достанутся все лавры. Но профессура не желала изобретать полезное, они только мялись и разбивались на кучки по дисциплинам: гуманитарии облюбовали стол с закусками, а технари и инженеры — скамейки. Ульрика сама подошла к Артуру.
С тех пор как четверть века назад Артуру стукнуло сорок, он начал понемногу свыкаться с фактом, что женщинам он больше не интересен. Дабы окончательно с этим примириться, он решил полностью игнорировать секс во всех его проявлениях (тем более что у них с Франсин редко доходило до постели): пренебрегать женщинами так же, как они пренебрегали им. Затея была, мягко говоря, амбициозная, даже для Артура, но он неплохо справлялся — во многом благодаря непременной ежеутренней мастурбации, позволявшей ему сохранять ясность мышления хотя бы до обеда. Но проигнорировать стройную медиевистку он не мог. И она — о чудо! — тоже обратила на него внимание.
— К слову о цифровых гуманитариях, — сказала она, показывая ему мобильник.
На экране появилась фотография хипстера во фланелевой рубашке, обрамленная красным сердечком популярного приложения для знакомств.
— Мне тридцать пять. Предлагают вот такого мужчину. Как по-вашему, я достойна большего?
Артур, конечно, считал, что достойна.
— Покажите-ка остальных.
Он встал рядышком: его подбородок был примерно на уровне ее изящной ключицы. Она принялась смахивать экран влево, листая фотографии. Ее телефон оказался набит портретами брюхастых мужиков в спортивных футболках. Артур невольно приосанился. Осмелел. Безусловно, он был не пара Ульрике. С высоты своего внушительного роста она наверняка приметила его бледную плешку размером с кипу. Но вот же диво: они весело хихикали, разглядывая ее потенциальных партнеров. Господи, думал Артур, все-таки технологии — это чудо! Они дают тебе возможность разить соперников одним движением пальца, пока тебя невзначай касается бедром прекрасная немка.
— Никогда не пойму здешних мужчин, — сказала Ульрика, пряча телефон в задний карман.
— Здешних? — уточнил Артур. — Или мужчин в целом?
Она засмеялась:
— Здешних, наверное.
— Американские мужчины долго взрослеют.
— Правда?
— Ага. Это называется «продленное детство». На прошлой неделе об этом была статья в «Таймс». Значит, «Сент-Луис пост диспэтч» через годик тоже спохватится.
Ульрика опять засмеялась. Сердце Артура забилось быстрее.
— У меня был неприятный опыт общения со здешними мужчинами.
Артур отвесил ей поклон:
— Значит, мы поладим. При условии, что вы не боитесь очередного неприятного опыта.
— Вы знаете, — сказала Ульрика, — до приезда сюда я даже не знала, что есть на свете такое место — Сент-Луис, штат Миссури. — Последнее слово она произнесла как «мизери»[3].
Артур улыбнулся:
— Скажите еще раз, пожалуйста.
— Миссури?
— Да.
Он и сам удивился своим чувствам, своей способности по-прежнему испытывать влечение. Ульрика была совершенно не похожа на женщин, к которым его раньше тянуло. И хотя Артур знал похабную истину, стоявшую за вечным спором «Сиськи или попка» (правильный ответ мог быть только один: и то и другое), он все же отметил, что у этой интригующей женщины нет абсолютно ничего общего с его женой. Франсин вся была округлой, сфероидной: пышная грудь, круглое лицо, кудрявые волосы. У медиевистки же оказалась стильная маленькая грудь, которую она не прятала под бюстгальтером, и плоский зад, скромно венчавший могучие длинные ноги. В физическом плане она была прямой противоположностью Франсин. Нет, подумалось ему, не просто противоположностью — яростным отрицанием.
Выпив еще по три бумажных стаканчика вина, они отправились к ней домой и довели флирт до логического завершения.
Вечер 10 ноября. Клеймо с датой отпечаталось у Артура в мозгу. Когда дочь несколько месяцев спустя обвинила его в страшном преступлении: будто бы он «завел любовницу, стоило маме заболеть», он заставил себя вспомнить, вернуться мысленно к этой дате в календаре. Нет, Мэгги ошибалась. По иронии судьбы рак груди у Франсин обнаружили на следующий день.
И тогда же его начала грызть совесть.
Первая ночь с Ульрикой ни на йоту не сдвинула стрелку его морального компаса. Их с Франсин отношения успели превратиться в такой ад, что интрижка в его глазах была скорее шагом вперед, эволюционным скачком, нежели предательством. Сент-Луис губительно отразился на их браке: Франсин злилась на Артура из-за переезда, а он злился, потому что она злилась и потому что к шестидесяти пяти годам ему совершенно нечем было похвастаться, в то время как его ровесники уже вовсю почивали на лаврах. Безусловно, он любил жену — глубокой и непреложной любовью. Но такую любовь испытываешь к коллеге, к профессиональному сопернику, с которым вынужден десятилетиями делить один кабинет. Артур целиком и полностью зависел от Франсин: она без устали напоминала ему, кто он такой и где ему хорошо. Но, увы, их брак нельзя было назвать счастливым.
Падая в тот вечер на кровать Ульрики — его тело стремилось из оси Y к оси X, а Ульрика расставила колени на (1,0) и (–1,0), — Артур, до сих пор успешно боровшийся с соблазнами и без труда утолявший даже самое сильное влечение двухминутным уединением в кабинке университетского туалета, в кои-то веки позволил себе маленькую слабость. Артур, с его врожденной рачительностью, привычкой во всем себе отказывать и презрением к материальной культуре, позволил себе самое материальное удовольствие на свете. От секса никуда не денешься, как ни юли. Можно либо сдаться, либо до конца жизни презрительно (и тщетно) отпихивать его ногой.
Артур сдался.
Обычно они трахались в квартире Ульрики. Иногда — в его кабинете (Артур дважды спускал в горшок с пластиковой диффенбахией). Во время этих страстных актов прелюбодеяния, вдали от химиотерапии, головных платков и таблеток, он заново познакомился со своим набухшим естеством — твердым, горячим, багровым, злобным, радостным — и вспомнил, каково это, когда женщина шепчет слово «член», имея в виду твой. Дабы отогнать мысли о смерти, излишки времени Артур тратил на фантазии о том, как Ульрика садится ему на лицо, и ее клитор прорастает ему в рот, словно пробивающий землю побег в ускоренной съемке.
Секс у нее дома имел особую прелесть. В подвал студенческой общаги проникала очищенная методом осмоса энергия молодости, юных восемнадцатилетних тел — в комнатах наверху девицы и парни лишались невинности, оттачивали свои навыки. Артур, слегка потерявший былую хватку, не отставал и заново оттачивал свои.
Ульрика Блау была не просто его любовницей, но и, скорее всего, блестящим ученым. Удостовериться в этом Артур не мог, поскольку ничего не смыслил в истории и литературе Средних веков, однако резюме Ульрики, скачанное с сайта факультета, внушало уважение. Хотя в послужном списке значились лишь европейские издания, нетрудно было предположить, что журнал Mittelalterliche Geschichte[4] обладает высоким престижем. Ульрику любили студенты и коллеги: каждый встречный желал ей доброго утра. Ее ум и обаяние выводили отношения на новый уровень. Ульрика — не просто любовница, не какая-нибудь пустышка-вертихвостка, а женщина основательная, состоявшаяся.
И зачем же ей понадобился Артур?
Этот вопрос иногда приходил ему в голову. Ее ум, красота и подкованность, его плешка. Тридцать лет разницы в возрасте. Однажды ночью, мучаясь угрызениями совести и допивая шнапс из ее шкафчика, он спросил:
— Почему ты выбрала меня? А не какого-нибудь молодого, подающего надежды профессора?
— Только не надо напрашиваться на комплименты, — ответила Ульрика. — Я этого не люблю.
— Но меня-то ты любишь. И мне хочется знать почему.
— Это личное.
— Пожалуйста.
Она вздохнула:
— Если хочешь, расскажу тебе историю о юной немке, выросшей под Франкфуртом.
Артур поежился. Его член уже начал оттягивать трусы.
— Расскажи.
Ульрика кивнула. И начала. Она была застенчивым подростком — заучкой и изгоем. Ее единственная подруга Карин жила в небольшом домике рядом с Метцельпарком, на другом конце района Заксенхаузен-Зюд, и Ульрика почти каждый день ездила к ней в гости на велосипеде. Но как-то весной у ее подруги выросла грудь. Карин моментально обрела популярность, и Ульрика часами просиживала в одиночестве на ее крыльце — ждала, пока подруга нагуляется с новыми друзьями и вернется домой. Однажды вечером Ульрику увидел отец Карин; он пригласил ее в дом, спросил, что случилось, и она все рассказала; он внимательно ее слушал и был очень красив — крупные сильные руки, широкая грудь…
— Все, хватит!
Артур мгновенно скис. Его одолела ревность. Он вытряхнул эту историю из памяти, как собака отряхивается от воды.
— Ты была права. Ни к чему мне это знать.
Учитывая, что его жене недавно диагностировали рак груди, осень 2012-го могла быть намного хуже. (Артура бесконечно волновало здоровье Франсин, но еще больше он волновался за себя: что-то с ним будет после ее смерти? Ясно что: он не протянет и часа. Ульрика стала его запасным вариантом, желанным и необходимым в равной степени.) Интрижка настолько встряхнула и взбодрила Артура, что в его жизни начали происходить нежданные, неумышленные перемены. Во время лекций он стал позволять себе художественные отступления и высмеивать университет (к неописуемому восторгу студентов). Сплетни, конфликты, злые козни — оказалось, что все это куда больше интересует его учеников, чем крутящий момент и геометрия движения, причем даже закоренелых гиков, посещавших его лекции лично (хотя прямые трансляции можно было смотреть из любой точки, где работал университетский вай-фай). Артур стал больше общаться с детьми: по дороге к Ульрике или от нее у него было прекрасное настроение и он строчил им задорные эсэмэски.
Он превратился в идеального мужа, эдакого заботливого и чуткого медбрата. Одиночество больше его не страшило, и он сумел полностью посвятить себя жене.
Однако Франсин имела за плечами двадцатипятилетний опыт работы психотерапевтом, а с Артуром жила еще на десять лет дольше. Конечно, она обратила внимание на внезапную обеспокоенность мужа ее самочувствием, на то, как он часами просиживал в ее палате, как тактично беседовал с детьми о ее здоровье. Друзья тоже говорили, что никогда не замечали за ним подобной заботливости.
Она поняла: что-то здесь нечисто.
И решила обойтись без упреков — сразу перешла к делу.
— Я не хочу знать, как ее зовут, и тем более — сколько ей лет, — проговорила она, лежа в полуобморочном состоянии на своей койке в онкологическом отделении. Прозрачные трубки соединяли ее с мешочками на металлической стойке для капельниц. — И не надо ко мне подмазываться, пожалуйста. Позови Мэгги.
— Ты все неправильно поняла, — сказал Артур. — Я просто изменился! Разве я не мог измениться? Стать… ну, хорошим?
— Нет. Думаю, не мог.
Больнее всего Артура ужалила даже не правота Франсин, а то, насколько хорошо жена его знала, — верное свидетельство долговечности их отношений. Которыми он так запросто пренебрег.
Ему стало очень совестно. До ужаса стыдно. Франсин все знает, и теперь ему не загладить вину даже бесконечной заботой. Если раньше каждый час, проведенный в больнице «Барнс-Джуиш», каждая прочитанная страница руководств «Быть рядом» и «Итак, у вашей жены рак груди» помогали ему немного унять зуд совести, то теперь этот зуд усилился. Не в силах разорвать связь с Ульрикой, Артур пришел к выводу: нет, он не тот человек, который изменяет умирающей жене, — он человек, который просто не может перестать.
Артур вырос в семье, принадлежавшей к среднему классу (тогда это понятие еще существовало), и готовность Франсин тратить деньги прекрасно уравновешивала его врожденную бережливость. После смерти жены он, разумеется, понял, что без ее дохода образ жизни придется изменить — слегка подзатянуть пояс… Но к полному финансовому краху он оказался не готов.
Думать об этом было неприятно и тяжело.
Прочитав завещание Франсин, он узнал о секрете куда более красноречивом, нежели его собственные любовные похождения. В ходе изнурительного бюрократического кошмара, последовавшего за смертью жены, выяснилось, что последние тридцать лет Франсин тайно владела портфелем ценных бумаг, созданным незадолго до их свадьбы. Портфель этот с годами превратился в целое состояние.
Франсин никогда не владела необходимыми для игры на бирже навыками и знаниями, ничего не смыслила в балансовых отчетах, дивидендах и индексах (у нее было «туго с цифрами»), но надо же — она каким-то чудом умудрилась предсказать подъем крупной компьютерной корпорации и при этом проявила поразительную дальновидность: инвестировала деньги в менее привлекательные на первый взгляд области вроде производства цельнозерновой муки (например, в компанию, производившую «Шоко-хрустики», от одного вида которых у Артура теперь начинал дергаться глаз).
Все это могло оказаться чудом и даром свыше, не случись у Артура интрижки с медиевисткой. Однако интрижка случилась, и Франсин о ней узнала.
За несколько дней до смерти она переписала завещание.
И разделила деньги между детьми.
Артуру не досталось ни цента.
Они жили в Шуто-Плейс — элитном закрытом районе между Форест-парком и Дельмар-луп в Юниверсити-Сити. Плавно изогнутые улицы района располагались друг за дружкой и образовывали эдакую концентрическую подкову. Улицы эти были законной собственностью жителей: именно жители занимались уборкой, благоустройством и ремонтом дорог и тротуаров, а по весне прятали под густой сенью деревьев пасхальные яйца для детей. Такой «частный сектор» посреди города был сугубо местным явлением — изобретением прусского землеустроителя, вошедшего в муниципальный совет благодаря женитьбе на одной из его чиновниц. Безмятежную тишину улочек обеспечивал регулируемый въезд: в каждой из высоких, почти крепостных стен, окружавших миниатюрный район, имелись угрожающего вида ворота. Исторически стены защищали Шуто-Плейс от нищих, черных и евреев. Но прогресс не стоял на месте: в 2015 году ворот и башен уже не было (впрочем, толстые каменные столбы по углам района остались), да и к евреям отношение стало иным.
Первые два года после переезда в Сент-Луис Альтеры снимали трешку в Сентрал-Уэст-Энде. Артур понял, что хочет преподавать, а не вкалывать, и был совершенно уверен, что сможет закрепиться в университете. Когда контракт продлили на второй год, он взял ипотечный кредит на дом в Шуто-Плейс, заверив Франсин, что без работы не останется. Поначалу он развил бурную деятельность и даже вытянул пару-тройку улыбок из Сахила Гупты, бессменного декана, милостиво согласившегося его принять. Он вел курсы, за которые никто не хотел браться, чудовищное количество курсов, закрывал любые дыры в расписании и в итоге сделался совершенно незаменимым сотрудником. Он по-прежнему числился приглашенным профессором, но никто не просил его об уходе, и с каждым годом мечта Артура о постоянном трудоустройстве росла обратно пропорционально вероятности его получить. Минуло уже пятнадцать лет с тех пор, как руководство отказалось рассмотреть его кандидатуру на заключение бессрочного контракта. С каждым годом ему давали все меньше курсов, платили как молодому преподавателю, а существующий временный контракт обновляли в последнюю минуту. Артур обозлился. Он наконец снял розовые очки: те, ради кого он до шейных судорог держал голову на плахе, обманывали его и обкрадывали. До окончания выплат по ипотечному кредиту оставалось еще двенадцать долгих лет — а значит, как минимум столько ему придется работать.
Дом всегда был для них дороговат: чуть-чуть не по карману, самую малость. При этом он вполне соответствовал представлениям Франсин о своей семье и представлениям Артура о себе самом. Прекрасный кирпично-деревянный особнячок в колониальном стиле, весьма скромный по меркам района, являл собой, по мнению Артура, подлинное инженерное чудо: выходившая на улицу стеклянная стена комнаты с изящным металлическим переплетом, как в оранжерее, могла — благодаря особенностям конструкции — выдержать зимние ветра и летний град любой силы. Кабинет был его подарком жене, утешительным призом за согласие переехать в самое сердце страны.
Альтеры многим жертвовали. Дети сэкономили на образовании и остались учиться дома — все ради того, чтобы семья и дальше могла позволить себе жизнь в элитном закрытом квартале, украшавшем их существование.
Однако ипотека оказалась неподъемной. Без доходов Франсин кредит полностью лег на плечи Артура, занимавшего весьма шаткое положение в университете, руководство которого страдало жестокой идиосинкразией к бессрочным контрактам. В этом семестре ему дали два предмета — по пять тысяч долларов за курс. Артура терзала мысль, что все эти годы бо́льшую часть денег зарабатывала Франсин, хотя переехали они сюда ради его карьеры. Он задержал уже несколько выплат по кредиту. Банк, разумеется, не оставил сей факт без внимания и теперь забавлялся с ним, как десятилетний мальчишка забавляется с собственным пенисом: пытливо и с удовольствием.
Ни дня не проходило без мучительных раздумий — как же Франсин удалось втайне от семьи скопить такую сумму денег? Как она их заработала? Непостижимо… Но самое главное: почему она держала их в секрете? И для чего? На всякий пожарный? Или подумывала уйти? Он вновь и вновь перебирал в уме варианты ответов, но ни один из них его не устраивал.
Семье Альтер повезло: они вышли из кризиса 2008 года практически невредимыми. Но и семь лет спустя рынок недвижимости не восстановился: даже если бы Артур захотел, он не мог продать дом, так как потерял бы на этом большие деньги.
А главная беда была в том, что Артур не хотел его продавать. Он не мог позволить себе очередную неудачу. Он просто жил у Ульрики, пока дом стоял без дела и без жильцов: как памятник его поражению, навевающий мысли о покойной жене и грядущем лишении имущества.
Скучал ли он по детям? Вопрос был невыносим — все равно что смотреть на солнце широко открытыми глазами. Прямое нарушение законов физики. Да, он скучал по старой жизни, а дети были ее частью. Жена умерла. Дом вот-вот отберут. Кроме детей, у него ничего не осталось. Кроме детей — и их неожиданного наследства.
Ульрика не смогла сделать вдох и проснулась в испуге. Погладила постель.
— М-м… Артур? Иди сюда. Полежи со мной.
Он бросил в раковину грязную миску:
— Я ухожу.
— Куда?
— На заседание кафедры.
— В субботу?
— Да. Спи.
Ульрика вздохнула и положила голову на подушку.
Их интрижка длилась уже два с лишним года. Ее и интрижкой-то было не назвать: с тех пор, как Франсин умерла, Ульрика перестала быть «другой женщиной». Она стала его женщиной. Не другой. Артур понял, что их отношения перешли в разряд серьезных, когда начал ей врать.
Он выполз на территорию кампуса. Стояло ясное и свежее мартовское утро: в разреженном дэнфортском воздухе витали ароматы и аллергены. Вроде бы и не зима уже, но ветер все еще озорничал: набирал скорость, ворошил деревья. Рассеивал пыльцу и дрожал оконными стеклами. Природа гулко отзывалась где-то внутри, на молекулярном уровне. В такое утро даже не стыдно быть профессором. Приятно вспомнить, что твое призвание — искать красоту. Искать красоту и истину, а потом рисовать вокруг них границы. И жить припеваючи в этих стенах.
Артур прошел мимо кучки слэклайнеров и зашагал прямиком к главному кампусу и величавому Гринлиф-холлу. Нырнул внутрь, поднялся по обшарпанной лестнице в библиотеку африканистики и стал красться по длинным прямоугольникам цитрусово-желтого света, лившегося сквозь сводчатые окна над головой.
В залах царило элегантное запустение. Университет, обычно с фашистской беспощадностью следивший за порядком в своих владениях, почему-то позволил библиотеке африканистики прийти в почти полную негодность. Запах порчи витал меж стропилами, как будто кто-то заполз на потолочные балки и там умер. Этот специфический аромат, слабый вай-фай и отсутствие кафетерия сделали библиотеку непопулярным рабочим пространством, а уж в субботу она принадлежала практически одному Артуру. Ни коллег поблизости, ни студентов. Он втянул носом запах смерти — гнусный, конечно, но чего не стерпишь ради уединения.
Артур сел за длинный массивный стол и принялся писать.
Снаружи набирал силу ветер: он завывал на территории кампуса, со свистом пролетал мимо кабинетов деканов и замдеканов, ректоров и почетных профессоров. Шариковая ручка корчилась в его руке.
Он чувствовал себя ловеласом, эдаким пикапером, похабно свистящим вслед жизни, что проходит мимо в мини-юбке.
Дрожащими пальцами Артур сложил пополам два письма и спрятал их поглубже в карман.
Еще одним — и немалым — преимуществом библиотеки африканистики было то, что в ней хранился его успокаивающий предмет. (Так окрестила это Франсин. Ей нравилось выяснять, какие у ее пациентов и родственников успокаивающие предметы. Определять тотемы и фетиши — отлитые в пластике комплексы. Окрестила в шутку, но, как и все шутки, это на семьдесят процентов было правдой.) Артур поднялся и прошел в дальний конец зала.
Он приближался к нужному стеллажу как хищник перед прыжком, поглаживая пальцами книжные корешки. Кожаные, картонные, глянцевые и шероховатые, с простой печатью и тиснением. А вот и его единственная публикация. Когда Артура спрашивали, почему у него не вышло ни одного крупного научного труда, он отвечал, не раздумывая: миру уже хватает книг.
Увидев искомое, он совершил молниеносный бросок и схватил нужную книжицу — тонкую, без суперобложки, приглушенно-красную, с трескучим клеем в переплете. На обложке было отпечатано заглавие: «К ВОПРОСУ О НОВОЙ СИСТЕМЕ САНИТАРНОЙ ГИГИЕНЫ В НЕЗАВИСИМОЙ РЕСПУБЛИКЕ ЗИМБАБВЕ: ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 1981». А чуть ниже, мелким (но тоже полным достоинства) шрифтом, имя автора: «АРТУР АЛЬТЕР».
В мире существовало меньше пятидесяти экземпляров его опуса. Почти весь тираж наверняка пошел на макулатуру или в тюремные библиотеки. Личная коллекция Артура пятнадцать лет назад сгорела в пожаре, случившемся из-за неисправности в стирально-сушильной машине: ворсовый фильтр забился и не давал выходить легковоспламеняющимся отработанным газам. Артуровы экземпляры лежали в большой картонной коробке рядом с машинкой. Их погубили огонь и вода: машинка горела и текла одновременно. Но пока в университете хранился последний экземпляр, Артур был спокоен. Все хорошо, все идет по плану.
Сердце начало биться с человеческой скоростью. Артур задышал медленно и размеренно. Взгляд сам собой замер на слове «предложение». Есть ли на свете слово, заключающее в себе столько же надежды? Он уставился на открытую «О», на похожую на ключ «Р».
Совесть немного поутихла. Там, в старой библиотеке, взяв в руки свою книжку, Артур вдруг преисполнился новой уверенности — и решил как можно скорее отослать письма, пока она не улетучилась.
5
Решение, что сын будет учиться в Дэнфорте, принял Артур. Оценки у Итана были неплохие, он легко мог поступить в вуз за пределами штата, но Дэнфорт предлагал хорошую скидку детям сотрудников, проработавших в университете более пяти лет. У Артура пошел шестой. О субсидии он узнал из буклета об университетской программе материальной помощи. Сей глянцевый документ обладал поистине библейской силой внушения: стоило Артуру отложить его в сторону, решение пришло само. Он начал называть Дэнфорт «университетом Итана» задолго до подачи заявки в приемную комиссию и повторял эти два слова так часто, что никто даже не побежал поднимать конверт с приглашением, когда тот наконец скользнул в щель для почты и хлопнулся на пол.
Итан, учившийся на тот момент в последнем классе школы, не слишком обрадовался этой новости. Он ничего не имел против Сент-Луиса и был польщен папиным нежеланием отпускать его из дома, чем бы оно ни объяснялось. Но все же Итан мечтал уехать подальше от Артурова испытующего взора — и обязательно в Нью-Йорк, — где он мог быть самим собой, что бы это ни значило. Еще не хватало встречаться с отцом на кампусе! Нет, нет, это будет конец света. Но Артур привел железный довод: если Итан не хочет тридцать лет просидеть в долговой яме, надо выбирать университет с умом. Плюс дело было сразу после событий 11 сентября, многие боялись террористической угрозы. А какой город лучше защищен от международных террористов, чем тот, который не интересен даже международным туристам?
— Я понимаю, ты хочешь учиться в другом городе, — сказала Франсин (она к тому времени создала и возглавила университетскую психолого-консультативную службу, где на общественных началах проводила семинары по борьбе со стрессом, тревогой, депрессией, нарушениями пищевого поведения и прочими проблемами, с которыми сталкиваются студенты). — И я понимаю, что тебя совсем не радует перспектива учиться в вузе, где работают родители.
Итан взглянул на отца. Тот с надеждой приподнял брови.
— Ну да, — кивнул он. — Не знаю… Может, что-нибудь да получится.
Артур принял его «может» за согласие и при любой возможности выражал восторги по этому поводу. «Итан пойдет ко мне, в Дэнфорт, — рассказывал он друзьям и родственникам. — Спасибо руководству за щедрую скидку». Иногда он даже приписывал идею самому Итану. «Сынок поступил мудро: решил сэкономить и воспользоваться скидкой», — говорил Артур, одобрительно поглаживая его по спине. Можно подумать, сэкономленные деньги достались бы Итану, а не ухнули в ипотеку! Однако отцовские похвалы и поглаживания дорогого стоили, Итан их очень ценил. И только слово «скидка» не шло у него из головы: постоянно казалось, что родители на нем сэкономили, что все остальные студенты, заплатившие за обучение полную сумму, каким-то образом узнают больше, встречаются после лекций и получают бонусом еще какие-то знания.
Хотя Альтеры жили рядом с университетом, Итан уговорил родителей оплатить ему хотя бы общежитие. «Здесь я себе друзей не найду», — заявил он матери, показывая пальцем в окно столовой, на чинные улицы Шуто-Плейс. При желании он мог бы предъявить и более веский довод: в конце концов, он сэкономит родителям 23 280 долларов в год, если согласится поступить в Дэнфорт.
Родители уступили. Но комнату в общежитии тоже нужно было обставить — на этой почве Артур и Франсин устроили жуткую сцену в брентвудском магазине товаров для дома «Разные разности». Они спорили из-за наматрасников и настольных ламп, настенных досок и фонариков для чтения, пластиковых комодов и полок для обуви. Пригодится ли Итану полочка в душевую и корзина для грязного белья?
— Лично я уезжал учиться с одним рюкзаком за спиной, — пыхтел Артур.
— Совершенно уверена, что это неправда, — отвечала Франсин.
— Как ты можешь быть уверена? Тебя там не было!
Ничто так не выводило Артура из себя, как вещи. Он был минималистом и за всю жизнь так и не научился (да и не хотел учиться) оформлять свое завидное жилище «со вкусом», как подобает «зажиточному среднему классу». Альтеры прекрасно усвоили его позицию: холодильник охлаждает еду, а канализация уносит говно под землю. Что еще нужно для счастья?! Франсин тратила деньги направо и налево, Артур ныл. Инь и невыносимый ян. Однажды она принесла из магазина резальную машину для бубликов, и он поднял по этому поводу страшный вой. И до последнего — назло ей — резал бублики обычным ножом.
— Ладно, — сказал Артур, окидывая взглядом полную тележку. — Скажи мне, зачем нашему сыну электрический чайник.
— Потому что приятно иметь в комнате чайник. Можно пить чай, пока готовишься к семинару. Или горячий шоколад. Или растворимый кофе. Не вижу ничего криминального в том, чтобы купить ему одну вещь просто для удовольствия.
Артур повернулся к Итану:
— Ты пьешь чай?
— Вроде не особо…
— Слышала?
— Еще кофе и горячий шоколад… — не унималась Франсин.
— Знаешь, сколько раз в жизни мне пригодился бы электрический чайник? Сколько раз в жизни мне хотя бы приходило на ум это слово?! Ноль. Вот сколько. Ноль раз.
Франсин с коварством практикующего психолога продолжала стоять на своем:
— Это не просто электрический чайник. Посуди сам. Представь: Итан сидит у себя в комнате, к нему кто-то заходит, а он в этот момент заваривает себе чай — или горячий шоколад. И этот человек говорит: «О, класс, можно и мне чашечку?» У них завязывается беседа… Понимаешь, о чем я? Итану и так будет непросто в новой обстановке, среди незнакомых людей… Нужно дать им повод с ним заговорить. Это… — Она вытащила коробку с чайником из тележки и потрясла ее. — Это не просто чайник, а новые возможности. И мне не жалко отдать за них двадцать пять долларов.
Артур что-то буркнул и ушел дожидаться их в машине. Франсин улыбнулась.
— Видишь, — сказала она сгорающему от стыда сыну, толкая тележку по отделу с кухонной техникой, — не так уж он и страшен. Надо только уметь отстаивать свою позицию.
Вековой кампус Дэнфортского университета, подобно Акрополю, расположился на вершине холма и производил на маленького Итана огромное впечатление. Теперь, став его полноправным студентом, Итан решил, что за внешним великолепием кроется пустота. За ужином Артур прочел нудную лекцию по этому вопросу: главный кампус якобы был спроектирован на манер Оксбриджа — те же арки, шпили и зубчатые стены, — но в действительности архитектор вдохновлялся университетами Лиги плюща, а уж их создатели нагло сдирали все с Оксбриджа. Стало быть, Дэнфорт — это копия копии. Хуже того, новые постройки на территории кампуса должны были повторять облик главного здания: получилась розовокирпичная английская готика с энергоэффективными окнами, диковинная помесь современности и старины, несущая миру мысль о неотвратимости повторения прошлого.
Итана волновала не столько архитектура, сколько отец: не хотелось сталкиваться с ним на университетской территории, прилюдно. Артур понимал это — а может, и сам не горел желанием повстречать сына в очереди за сэндвичами — и потому первым, еще до переезда, подошел к сыну с дельным предложением.
— Слушай, — тихо сказал он, — давай поделим кампус пополам. Ты не появляешься в главном здании, где у меня кабинет, с десяти утра до пяти вечера, а я по возможности не буду соваться на остальные территории и Дэнфортский простор. Общежитие первокурсников расположено там, и там же у вас проходят почти все занятия.
— О’кей, — кивнул Итан.
Переезд прошел гладко: Артур в знак протеста остался дома (его коробила нарочитая торжественность и пышность университетской приветственной церемонии). А вот со сверстниками отношения у Итана не складывались. Никто не польстился на его чайник. В считаные дни первокурсники разбились на компашки, состоявшие главным образом из ребят с Восточного побережья, познакомившихся еще в школе, театральной студии или на футбольных турнирах. Да, в университете проходила ярмарка интересов — но она была предназначена скорее для тех студентов, которые уже знали, что им интересно, и не хотели заниматься этим в одиночку. Спортсмены бродили по кампусу стайками, а художники целыми днями просиживали в своих студиях.
Итан, которого ничто общественное не увлекало, скитался в одиночестве. Он хорошо выглядел, хорошо учился и когда-то даже играл в школьной бейсбольной команде. Но он никогда не пытался применить свои таланты в обществе. Пользу от них получал только он сам.
Первокурсники целиком подчинялись братствам, которые устраивали тематические вечеринки с названиями вроде «Лыжники-бесстыжники» или «Цари Тутанхамоны и шлюхи фараона». Женским сообществам отдельных мест для проведения вечеринок не полагалось — из-за закона о публичных домах и борделях. Итан прятался в угол какого-нибудь темного подвала и смотрел, как его сокурсники поливают пеной и лапают друг друга. Вечеринки ЛГБТ-обществ были ничем не лучше: там играла такая же музыка и стояли те же пенные пушки. Только лапали всех подряд, не обращая внимания на пол. Дважды Итан уходил домой с пылкими юношами, ищущими себе партнера для обнимашек по утрам. Их отчаяние было ему до боли знакомо и оттого вызывало неудержимую тошноту. Один такой парень потащил его с собой на встречу дэнфортского ЛГБТ-союза, но Итан не понимал, что объединяет этих людей и что у него общего с ними — помимо очевидного. Ну да, они не гетеросексуальны, и что? Может, тогда общество светловолосых евреев организуем?
Он записался на курс «Введение в сексуальность» на кафедре гендерологии, который оказался скорее терапевтическим, нежели теоретическим. Его сокурсники без малейшего стеснения выкладывали личную информацию о себе, как будто близость нужно было не заслужить, а по-птичьи скормить друг другу — из клюва в клюв. В середине семестра им задали составить список всех своих сексуальных опытов: что и в каком возрасте они делали. Итан совершенно не хотел делиться с кем-либо интимными подробностями своей жизни, но когорта маленьких Кинси не видела в этом проблемы{16}. Исследование было анонимным, однако Итан оказался единственным студентом мужского пола на курсе. Его выдал почерк. Вскоре он осознал, что сокурсницы специально обедают после занятий, лишь бы не сидеть с ним за одним столом.
Шли месяцы, а он так ни с кем и не подружился — даже со своим соседом по комнате, которого интересовали только онлайн-казино и подружка, оставшаяся в Нанкине. Цзяи (требовавший, чтобы Итан называл его Юджином) был застенчивым парнем, сыном высокопоставленного китайского чиновника. За все время обучения в университете Юджин лишь раз повысил голос: чтобы на ломаном английском перебить препода по международной политике, рассказывавшего об июльских протестах в Гонконге{17}. Впрочем, активная политическая позиция не мешала Юджину с удовольствием пользоваться дарами американского капитализма. Он носил карго-шорты ниже колен и скейтерские «найки», ночами просиживал в Сети за игорными автоматами и водил «мазерати», для которого у него было оплаченное место в студенческом парковочном комплексе.
Постоянное присутствие Юджина нервировало Итана. Одиночество, как выяснилось, — особый вид наркотика. После одинокого дня на кампусе он мечтал только об одном: уединиться в своей комнате. «Зато сосед не водит подружек и не выгоняет тебя из комнаты, уже хорошо», — сказал ему завхоз общаги с изрытым постакне лицом, объясняя, что сосед-социопат-криптофашист — еще не повод для переселения в другую комнату.
Как правило, Итану удавалось избегать встреч с отцом, однако установленные ими границы оказались весьма проницаемы. Время от времени Итан все же наведывался к преподавателям, чьи кабинеты находились в главном здании. Однажды, задав своему профессору несколько вопросов по эссе — тот вел новый курс «Популярная криминалистика: тревожные расстройства в колониальной Америке», — Итан заскочил в туалет Гринлиф-холла. Расстегивая ширинку, подошел к одному из двух писсуаров — и ненароком глянул влево. В водянисто-зеленом свете мужского туалета стоял его отец. Он тоже покосился вправо и сразу опустил взгляд. Помочился, стряхнул, застегнул ширинку, вымыл руки. И, не сказав ни слова, вышел.
Хм. Конечно, отец мог и не узнать его. Или беседы у писсуаров были не в его правилах. Ну, о’кей. Не хочешь — не надо. Однако Итану пришла еще одна мысль, душераздирающая и в то же время малодушная: отец мог посмотреть вправо, узнать сына и, согласно установленным правилам, сделать вид, что его не заметил.
В конце первого курса Итан подал заявку на одноместную комнату в одном из современных жилых комплексов, не так давно воздвигнутых на Просторе. Нового соседа он себе не нашел и теперь волновался, как бы Юджин не решил — черт знает, что творится в голове у этих иностранцев! — будто они и дальше будут жить вместе. Итан все не мог решиться на разговор, но однажды в апреле Юджин сам поднял больную тему.
— Давай поговорим о нашем размещении на следующий год, — сказал он.
— А, да. Я тоже хотел…
— Я решил снимать квартиру вместе с пятью студентами из Китая.
— Что?
— Прости. — Он положил руку Итану на плечо. — Ты обязательно найдешь себе хорошую комнату!
У Итана были сомнения на этот счет. На студенческих вечеринках он чувствовал себя представителем другого вида. Не знал, как заговаривать с людьми. Социальная жизнь в университете была полностью во власти факультативов: существовала корейская а-капелла-группа, черная а-капелла-группа и а-капелла-группа, которая переделывала популярные песни в гимны о Хануке. Итан сходил на пробное занятие по софтболу, но на площадку так и не вышел: еще на парковке он понял, что игроки давно перезнакомились и подружились, лезть в их команду было бессмысленно. До него дошло, что все это время он воспринимал Юджина как единственного брата по духу, товарища по несчастью… А тот, выходит, целый год резался в азартные игры с соотечественниками — завязывал отношения по Ethernet-кабелям. Итан узнал, что бывают разные уровни одиночества и их столько же, сколько людей, и что тебе никогда не понять одинокую участь другого человека, а ему не понять твою.
Хотя здание общежития «Райтон» было новым и современным, студенты уже благополучно его стигматизировали. Оно почти целиком состояло из одноместных комнат, и за зданием закрепилась слава «жуткой» общаги, пристанища одиночек и людей с ограниченными возможностями. Души были оборудованы сиденьями и специальными перилами для колясочников — согласно политике университета, инвалиды гарантированно получали место в «Райтоне». Подобные излишества отпугивали простых смертных. Масла в огонь подлило недавнее самоубийство: в прошлом году студент экономического факультета покончил с собой на почве клинической депрессии, сиганув с четвертого этажа «Райтона».
Уже в начале второго курса Итан понял, что окончательно погряз в одиночестве. Внутреннее устройство общаги всячески тому благоприятствовало. Расположение комнат и почти полное отсутствие общих пространств позволяли затворникам затворяться сколько душе угодно. Итан неожиданно заскучал по Юджину, которого порой встречал на кампусе — в компании новой подружки и стайки детей китайских банкиров и дипломатов. 2004–2005 учебный год не сулил Итану ничего хорошего.
Одна маленькая загадка удерживала его на плаву. На двери противоположной комнаты висело белое знамя с синей надписью: «Твой ближний». Единственный признак жизни в «Райтоне». Знамя бросалось ему в глаза всякий раз, когда он выходил в коридор, — большое белое полотно на всю дверь. Оно начало ему сниться. Кто жил за этим знаменем? В тумане послеобеденных лекций Итан обычно рассеянно выводил на бумаге каракули — случайные линии и завитушки. Очухиваясь ближе к концу занятия, он стал замечать на страницах своих тетрадей эти два слова: «Твой ближний».
Однажды в конце сентября, когда на кампусе со всех сторон дул осенний промозглый ветер, Итан вдруг обнаружил на дне баула в кладовке тот самый электрический чайник. Дыхание тотчас перехватило, щеки вспыхнули. Он как будто снова очутился в магазине «Разные разности», и родители опять ссорились, а продавцы бросали на них осуждающие взгляды. Какой позор! Итан схватил коробку с чайником и поспешил к мусорному баку в конце коридора.
По дороге туда он услышал за спиной чей-то голос:
— Это чего?
Итан обернулся. К двери, затянутой знаменем с двумя загадочными словами — «Твой ближний», — прислонялся молодой человек.
Ближний оказался обыкновенным, вполне симпатичным парнем. Круглые щеки, русые волосы. Забавный вихор над широким лбом. Ладно сидящие штаны защитного цвета (как атрибут человека, который «не обделен» вкусом) и футболка фирмы «Олд нейви» (как атрибут того, кто обделен). Глаза необычайного оттенка — зеленой морской пены — были единственной его особой приметой.
— Это для кипячения воды, — выдавил Итан, пытаясь собраться с мыслями.
— Чего?
— Электрический чайник!
— А, понятно. Пидорасня, короче.
Итан помертвел. Хотя родителям он рассказал о своей нетрадиционной ориентации три года назад, обычно его принимали за гетеросексуала. Это создавало массу неудобств: например, новых знакомых нужно было непременно ставить в известность, то есть ни с того ни с сего приплетать к разговору секс — и зачем? Чего ради? Чтобы люди могли поместить Итана в какую-нибудь условную категорию? В конечном итоге он бросил эти попытки. Даже гордился, что никто не может его раскусить. Но как это удалось Ближнему? Наконец Итан вспомнил о чайнике, который держал в руках. Это не он, это чайник — пидорасня.
— Меня Чарли зовут.
— Итан.
Чарли проводил его до мусорного бака.
— Хочу выбросить, — пояснил Итан.
— Да ради бога, — пожал плечами Чарли и поднял крышку бака. — Ну, пошел! — велел он чайнику.
Внезапно Итан начал встречать его повсюду. В столовой, в библиотеке — оказалось, у них похожие расписания и привычки. Итан, судя по всему, уже тысячу раз видел на кампусе этого тощего парня с вихром, но не обращал на него внимания: так иногда остается незамеченной популярная песня, которая играет фоном в торговых центрах и супермаркетах. Они даже посещали вместе один курс: «Введение в теорию эволюции человека». Итан стал подсаживаться к Чарли на лекциях и помогать ему с латинскими названиями гоминидов. «Australopithecus africanus, — шептал он. — Homo heidelbergensis».
Вообще-то, Чарли учился на физика, а лекции по эволюции посещал ради баллов по обществоведению. Кроме того, он родился в Сент-Луисе и был пятым, младшим сыном Дэна и Эллен Багби — единственным, кого отец еще не устроил к себе в отдел сбыта пивоваренной компании «Анхойзер-Буш». «Все Багби там работают. „Анхойзер“ нас не обижает. Ну, пивоварня такая. В Суларде. Это прям семейное дело. Наша вотчина. Папа рассказывал, что раньше у нас даже были лошади, клейдесдали, конечно{18}. Скажем так: в нашей семье никто ни разу не проигрывал в игре „Птичка или пиво“».
На 40-м шоссе стоял оранжевый неоновый щит. Два изображения сменяли друг друга: расправивший крылья орел и пустая анхойзеровская буква «А», которая наполнялась пивом. Чарли утверждал, что все Багби издалека угадывают, какое именно изображение появится на щите, когда их машина будет проезжать мимо. На спине любимой куртки Чарли красовался тот же логотип: орел в букве «А».
Чарли был истинным Багби. До мозга костей. В отличие от большинства студентов, изучавших английский, историю и философию (основные предметы со временем брали свое, колонизировали их личности), Чарли так и не позволил Дэнфорту превратить себя в интеллектуала. «Родители очень удивились, что я поступил сюда, а не в Миззу{19}, как братья. Я пообещал им, что не изменюсь. Да и с какой стати мне меняться? Я по-прежнему смотрю футбол. И никогда не перестану пить „Бад“».
— А что означает твое знамя? — спросил его однажды Итан.
Лекция закончилась, аудитория стала редеть, и два гомо сапиенса отправились домой, в «Райтон». Итан шел походкой, которую освоил еще в детстве, неосознанно бормоча стишок, помогавший ему ступать внушительно и уверенно: «Мо-е и-мя И-тан Аль-тер, а вто-рое и-мя Дэ-вид».
— Какое еще знамя?
— Ну, на двери.
— А! Понял, понял. Это из моего летнего лагеря в Мэне.
Чарли рассказал, что, хотя Багби никогда не покидали Среднего Запада{20}, сам он десять лет подряд ездит в лагерь «Брандл пайнс», самый старый из постоянно действующих лагерей Америки. Теперь-то, конечно, он уже вожатый, но сам лагерь не меняется: настоящий еловый рай на берегу теплого, сонного озера. «Там из мальчиков делают мужчин, — на полном серьезе добавил Чарли. — Папа все лето вкалывает в две смены, чтобы я мог туда ездить». Посреди главной поляны стоят два деревянных памятника юным брандловцам, погибшим на Первой и Второй мировой войне. Чарли рассказывал о лагере с сияющими глазами и искренним пиететом: о гребле на рассвете, о припорошенной иголками глади озера, о полном отсутствии расчетливых девичьих взглядов; о четырех столпах, на которых зиждилась жизнь «Брандл пайнс» (братство, природа, лидерство, тишина), об исключительном великолепии первозданной новоанглийской природы. На знамени, как выяснилось, был начертан девиз лагеря, просто на двери он целиком не поместился. Девиз звучал так: «Твой ближний — превыше всего».
— Круто, — сказал Итан.
— Ага.
Они подошли ко входу в общежитие. Чарли открыл дверь карточкой.
— А можно спросить, как тебя занесло в «Райтон»? Одно дело я… — сказал Итан. — Я-то сам захотел жить один. Но мало кто хочет. Вот я и подумал…
— Да меня просто кинули! — ответил Чарли. — Соседи-мажорики по коридору из прошлой общаги. Сказали, что можно будет взять на всех несколько смежных комнат, а потом в последний момент продинамили, мля, — сняли квартиру в городе! Трешку в Сентрал-Уэст-Энде. Ну, я такой: не, ребят, мне это не по карману. Там в ванной полы с подогревом, прикинь?
— Тупо, — сказал Итан.
— Ты ж не из таких?
— Это каких?
— Ну, не из богатых? А то тут одни сраные мажоры с Восточного побережья.
— Я вырос в Сент-Луисе, — сказал Итан, опустив название элитного жилого квартала, а потом с волнением и учащенным сердцебиением добавил: — А учусь тут, потому что родителям сделали скидку.
Чарли одобрительно кивнул.
То был первый из многих моментов истины для Итана Альтера, второкурсника. У него наконец появился человек, которому можно было излить душу. После занятий он приходил в невзрачную, скупо обставленную комнату Чарли и пил «Бад лайт». Они играли в «Гало» и болтали{21}. Сидя рядом с Чарли перед телевизором, Итан начал рассказывать о наболевшем и сокровенном — и с удивлением обнаружил, что у его собеседника есть похожие истории. Например, оба в детстве имели проблемы с зубами (у Чарли были ретинированные клыки), оба выросли с ощущением, что не вписываются в семью. Итану пришло в голову, что он никогда еще не был так счастлив, как теперь, попивая дешевый лагер в компании простого паренька, почти еще мальчишки. Может быть, ему, прожившему четверть жизни в семье Альтер, именно этого и не хватало для счастья: никакого цинизма, никакого притворства, лишь невзрачная честность бытия.
Итан вложил немало сил в оформление своей комнаты. Над его кроватью висел постер в рамочке — репродукция туманного моста Моне, который он видел однажды в Художественном музее Сент-Луиса. Противоположную стену украшал акварельный пейзаж кисти его бабушки. Под ним, на специальных держателях, висела бейсбольная бита фирмы «Истон» с лазерной гравировкой: «ИТАНУ АЛЬТЕРУ — 2000–2001 — ЗА УСПЕХИ В СПОРТЕ». Окно обрамляла рождественская гирлянда. На письменном столе ничего не было. Когда Чарли заглянул к нему в гости, он молча разинул рот, долго пялился на шедевры Моне и Нэн Альтер, а потом прошептал: «Комната у тебя — чума!»
Итан знал, что он говорит искренне. Чарли никогда не лгал и не заискивал. Ирония, сарказм — все это было ему совершенно чуждо. Однако стоило Чарли проявить чувствительность и тонкость восприятия, как тут же с его губ срывалась какая-нибудь вульгарная дрянь («А чего шторы такие пидорские?»), которая надолго выбивала Итана из колеи.
Эти гетеросексуалы — такие странные. Сперва скажут что-нибудь меткое, правильное — и тут же сами все испортят… Что за дела?! Видимо, это такой побочный эффект спокойной жизни у всех на виду, когда ни от кого не надо прятаться, — жизни без фильтров и вынужденных корректив.
В конце октября произошло очередное самоубийство, из-за которого отменили пятничные занятия — получилось три выходных подряд. Итан спросил Чарли, какие у него планы.
— Никаких. Домой сгоняю, наверное.
— Такая же фигня. Я тут подумал… Может, съездим куда-нибудь? Прокатимся… Тачку я у родителей возьму.
Его тяготила мысль о долгих выходных в обществе отца, а главное — без Чарли.
— Я за! Куда поедем?
— Куда захочешь. Выбирай! — воскликнул Итан (быть может, чересчур пылко). — Если выехать в четверг днем, можно хоть куда успеть.
Чарли задумался. Его глаза сверкали. Через минуту он повернулся к Итану и решительно объявил:
— В Питтсбург!
Питтсбург. Прямиком из глубин его души. Питтсбург. Не Нэшвилл на юге, до которого ехать четыре с половиной часа, не Чикаго, до которого ехать столько же, только на север, а Питтсбург: Город Мостов, Стальной город, Железный город. И дорога до него займет девять часов. Нежелание (или неспособность) Чарли выбрать более интересное место показалось Итану подозрительно трогательным.
— О’кей, — с улыбкой ответил он. Вместе с Чарли — хоть на край света! — Питтсбург так Питтсбург.
В четверг они благополучно стартовали — на новенькой «сперо» цвета морской волны, тойотовском универсале Франсин, который та охотно предложила Итану и его другу.
— «Другу»? — переспросила Мэгги. Они с мамой сидели в гостиной и читали. — А с чего вдруг такой тон?
— Какой?
— Ну, ты так сказала: «другу».
— Неправда.
— Правда!
— Мам, ты действительно так сказала, — вмешался Итан.
— Просто я рада, что ты кого-то нашел. Друга. Друга, с которым можно попутешествовать. Съездить в Питтсбург.
Выехали в три часа дня. Чарли надел свою любимую куртку с логотипом «Анхойзера». Когда они подъезжали к Миссисипи, Итан увидел в окно Арку — западные ворота Сент-Луиса, казавшиеся теперь, когда он оставлял их позади, неуклюжими и ненужными. Массивная дуга из нержавеющей стали{22} исчезала в зеркале заднего вида и словно вопила им вслед: «Вы не туда поехали! Разворачивайтесь!» А потом застройка вокруг стала значительно ниже, Миссури сменился Иллинойсом, за окном пронеслись восточные пригороды — и все исчезло. Остались лишь трава, деревья, открытое небо да щит с надписью: «Любите своих детей, даже если они еще не родились». На заднем сиденье звякали в ящике двенадцать бутылок «Бад селект» (Чарли настоял на том, чтобы взять пиво с собой, а не покупать по дороге).
— Знаешь, что мне в тебе нравится? — спросил Чарли, когда они въезжали в Иллинойс.
— Что?
— Снаружи ты весь такой тихий, но на самом деле чокнутый. Во что угодно впишешься.
— Да? — Электрический ток по венам.
— Ага. Взять хоть эту поездку. Я захотел в Питтсбург, и ты такой: «Лады, поехали!» Видишь? Сразу вписался.
Где-то в Индиане Чарли уснул. Итан подолгу косился на спящего друга (выяснилось, что он может не смотреть на дорогу по шесть секунд за раз), когда свет встречных фар выхватывал из темноты его лицо. Примерно в половине девятого вечера Итан свернул на 68-ю трассу и поехал на юг, в Йеллоу-спрингс, штат Огайо. Какое-то время он рулил в темноте по неприятно тихим жилым кварталам, но наконец дорога впереди вновь расширилась.
Итан свернул на парковку задрипанной, обшитой вагонкой пиццерии с броским указателем. Чарли решил не будить. Зашел в кафе, заказал четыре куска пиццы, два съел сам за столиком, а еще два прихватил с собой для друга. Когда они тронулись, Чарли разбудил запах теплого сыра.
— Это что? — спросил он.
— Для тебя.
— Ну ты даешь. — Чарли куснул пиццу. — Ого, клевая!
— Я заранее посмотрел, где лучше взять. Говорят, лучшая пицца в округе.
— Ты ради нее дал кругаля?
— Рад, что тебе понравилось.
— Да, но где ты про нее узнал?
— В интернете. Отзывы почитал.
— Обалдеть! Шаришь, чувак.
— Да? Спасибо. Приятно знать.
— Я вот не шарю. Вообще. — Чарли вытер рукой жирные губы.
— Да ладно!
— Серьезно! И никто в нашей семье не шарит. У нас много других достоинств, но звезд мы с неба не хватаем, это точно. Я уже давно понял.
Итан улыбнулся:
— Ты хорошо себя знаешь.
— А ты — нет?
— Нет.
— Почему?
— Ну… может, я и не хочу. Страшно же — заглядывать внутрь и видеть всю правду. Этим ты мне и нравишься. Ты просто заглядываешь в себя и сразу все про себя понимаешь.
— Многим это не по душе, — сказал Чарли. — Друзей у меня не слишком много. В универе почти никого. Здесь все хотят, чтобы я изменился, подстроился под их долбаные стере…
— Стереотипы.
— Во! Говорю же, шаришь. Поэтому я так люблю «Брандл пайнс». Там мне не надо подстраиваться, можно быть самим собой.
— Я этим грешу.
— Чем?
— Ну, пытаюсь подстраиваться. Под других.
— Ни фига подобного.
— Разве?
— Нет, ты вообще не такой.
Итан раздулся от гордости.
— Скажи честно: по-твоему, я тупой? — спросил Чарли. — Раз говорю, что ты шаришь, а я нет?
— Нет, — ответил Итан. — Ты чего? Даже близко не тупой. Мне бы и в голову не пришло… Нет. Я так не думаю. Честно.
Он покосился на свое отражение в зеркале заднего вида: его лицо то светлело, то темнело, когда их «сперо» проезжала сквозь пятна света от придорожных фонарей. Хотя путь Итана к физической привлекательности еще не был пройден до конца, не так давно ему сняли небный расширитель — оказалось, у него очень красивая, архитектурно выстроенная улыбка. Поры на лице сузились. Плечи стали шире, как будто все это время в тощем теле была заключена его увеличенная копия и эта копия наконец вылупилась.
Они поселились в южной части Питтсбурга, на первом этаже «Холидей инн экспресс». В номере было две двуспальные кровати. Итан бросил рюкзак на шершавый ковер и без сил рухнул в постель. Засыпал он под рассказ Чарли о телепередаче, где сыщики светили лампой черного света на стены и кровати гостиничных номеров и делали всякие мерзкие открытия.
Он очнулся на рассвете. Из соседнего номера доносился шелест включенного душа, а из столовой — аромат шипящих между двумя железными плитами вафель.
Итан открыл глаза. Чарли стоял рядом с его кроватью. В левой руке он стискивал запотевшую бутылку «Бад селект», а в правой — свой твердый член. И то и другое он предлагал Итану.
Питтсбург встретил их солнцем, которое три дня палило за окном отеля. Ребята почти не выбирались на улицу, целыми днями куражились в постели, спали и пили пиво. Затем повесили на дверь табличку «Не беспокоить»: номер стремительно и провокационно терял свежесть, но их это не волновало. Время от времени они выбирались на поиски пищи. Чарли трижды неправильно произнес слово pierogi{23} (причем не подряд, а в ходе трех разных вылазок). Город не придирался и все им прощал. Мальчики, с которыми Итан спал до этого, были такие же неопытные и неуклюжие, как он сам. С Чарли дело обстояло иначе. Он вел его за собой. Итан решил, что это лучший уик-энд в его жизни. Увы, когда питтсбургские страсти поутихли и мальчики вернулись в Дэнфорт, Чарли совершенно остыл к другу: на лекциях садился как можно дальше от Итана, а после занятий наглухо запирал дверь в свою комнату. Итан потрясенно осознал, что сбылся его худший кошмар: он вновь остался один и на сей раз даже не понимал почему. А после зимних каникул Чарли вернулся в универ с новой подружкой и заявил Итану, что случившееся между ними — ерунда и «просто детская возня, как в лагере». Свою жизнь в Сент-Луисе он видит совсем иначе, а если Итан кому проболтается о той поездке, он его убьет.
Весна второго курса обернулась хаосом, порой рекордных потерь: потерей аппетита, потерей интереса к жизни, потерей сил… Итану постоянно казалось, что он вот-вот лишится чувств. В ушах навеки поселился какой-то пронзительный звон, а в грудь, казалось, установили расширитель, который постоянно и очень быстро расширялся. Во рту несколько недель подряд стоял вкус батареек.
Он не вылезал из постели. Сердце сходило с ума: то оглушенно замирало, то лихорадочно неслось вперед, как мышка, перебегающая из одного угла подвала в другой. Итан сходил в медпункт (предварительно узнав, что мамы там не будет). Ему выдали две таблетки парацетамола и велели расслабиться. Он никак не мог взять в толк, что с ним случилось. Жизнь вдруг сникла, как вопросительный знак.
Помимо прочего, он теперь жил в страхе. Комната Чарли была прямо напротив его комнаты, и на двери по-прежнему висело знамя. «Твой ближний». Эти слова почему-то приобрели зловещий смысл. Итану приходилось заранее планировать вылазки из номера, чтобы случайно не столкнуться в коридоре с соседом. Сначала он целые дни проводил на кампусе: уходил из дома рано, возвращался поздно. Однажды вечером Итан переступил порог своей комнаты и услышал за спиной щелчок дверного замка. Он явственно ощутил позади чье-то присутствие, залетел в комнату и с грохотом захлопнул дверь.
На последнем курсе Итан наведался в ботанический сад. Он шел по тропинкам и смотрел на свои ноги, подсвеченные вмонтированными в землю светильниками. Среди зелени прогуливались парни в штанах цвета хаки и девушки в сарафанах. Кто-то, элегантно отставив мизинчик, пил шампанское. Ребята, которые только что уминали китайскую еду на тротуарах, в одночасье превратились в леди и джентльменов. Мимо, хихикая, пробежала босоногая девчонка. Конкурирующие акапелловцы мирно распевались все вместе. На лужайке царил дух всепрощения, роз и тюльпанов: ни намека на обиды и прочие дурные чувства.
Итану не терпелось выпуститься и уехать в Нью-Йорк. Сегодня он притащился в ботанический сад на гала-концерт для выпускников — неизвестно с чего решив, что в последнюю неделю учебы родственная душа вдруг найдется, выйдет из укрытия и скажет: «Наконец-то ты пришел!» Но, нарезая круги по саду, он ощущал лишь стыд и растерянность. Как все эти люди — гораздо менее привлекательные, менее умные и менее талантливые, чем он, — умудрились за считаные годы создать столь крепкие духовные связи? Вокруг были сплошные парочки и компании. Первый автобус до кампуса приезжал только через час, а билетики, по которым можно было получить напиток, у Итана закончились.
Он свернул за угол. На скамейке возле зеркального пруда, скрючившись и уронив голову на колени, сидел молодой человек: то ли спал, то ли плохо себя чувствовал. Вдруг он поднял голову и посмотрел на лиловый стеклянный пузырь с острой верхушкой, похожий на слезу, паривший над поверхностью воды.
Итан обомлел. Он не видел Чарли так близко уже года два. После «Райтона» тот снял квартиру где-то в городе. Замечая его на территории кампуса, Итан прятался за угол (совсем как при встрече с Артуром): да, он боялся за свою жизнь, но куда сильнее был страх перед очередным болезненным опытом. Что мешало Чарли вновь поманить Итана и исчезнуть? Ничего. И уж точно ему не помешал бы сам Итан, который больше всего на свете хотел, чтобы его опять поманили. Впрочем, сегодня вид у Чарли был вполне безобидный: волосы уложены муссом, белая рубашка заправлена в чиносы. Итан аккуратно приблизился.
— О, дружище! — заплетающимся языком произнес Чарли, показывая пальцем на Итана. — Вот идет мой друг!
Итан сел рядом. Он изо всех сил пытался разбудить в себе гнев и обиду на человека, который его бросил, но несчастный вид Чарли, его надутые зеленоватые щеки не вызывали ничего, кроме сочувствия.
— Все нормально? — спросил он голосом своей матери. — Может, принести чего?
— Я тебя знаю, друг.
— Ага. И я тебя знаю.
— Нет, ты не понял. Я тебя знаю. — Он рыгнул себе в локоть.
— Точно ничего не принести? Водички, может?
Чарли помотал головой.
— Ну ок. Я тогда просто тут посижу.
К пруду подошли несколько отбившихся от стада выпускников. По пурпурному воздуху поплыл едва различимый смех. За спиной Итана из воды поднимались три высокие каменные колонны с бронзовыми ангелами, дующими в рожки.
— Все кончено, — вдруг сказал Чарли. — Всему конец.
— Учебе?
— Учебе?.. А, в жопу учебу!
Его глаза были полуприкрыты: казалось, их задернули шторами.
Итану захотелось взять Чарли на руки, отнести в закрытую часть сада, уложить на траву и позаботиться о нем. Куда только делся гнев, на который он имел полное право?
— Что будешь делать летом? — как можно равнодушнее спросил Итан.
Чарли помотал головой.
— Снова поедешь в лагерь?
— Не могу.
— Почему?
— Папа не разрешает. Даже если я сам заработаю. Видимо, я теперь слишком взрослый. — Он с подозрительным прищуром уставился на Итана. — Слишком старый.
— Сочувствую.
— Да, да… — закивал Чарли.
Он проглотил слезы. Содрогнулся. Итан уже хотел сказать, что это не повод для слез, но в тот миг, когда последние солнечные лучи покинули небо и в саду вспыхнули фонари — от их яркого света веки Чарли затрепетали, — Итан понял по его лицу, какая это огромная потеря.
— Все будет хорошо, — сказал он. — Ты умный, обязательно найдешь себе что-нибудь.
Страх полностью исчез. Ну разве может этот человек причинить кому-то боль? Тело Итана, как бокал, наполнилось нежностью.
— А ты куда? — выдавил Чарли.
— Никуда. Я здесь, с тобой.
— Да, но ты ведь уедешь. Куда?
— А! — Итан кивнул. — В среду улетаю в Нью-Йорк.
Чарли наклонился к нему и прошептал:
— Только никому не говори…
— Не скажу.
— …Я мечтаю свалить отсюда нахер!
— Ну так свали.
Чарли шмыгнул носом:
— Может, свалю.
— Почему «может»?
— Тебе легко говорить. Перед тобой все двери открыты.
— Перед тобой тоже.
Чарли помотал головой:
— Нет, тут другое. У тебя, Итан… — Он раскрыл ладонь и обвел ею все кругом, тихонько присвистнув. — У тебя есть все. Я знаю, где ты живешь.
Итан выпрямился:
— Не понял?
— Я знаю, где ты живешь, — произнес Чарли беззлобно, скорее — многозначительно.
— Ты обязательно что-нибудь найдешь, — сказал Итан. — Ты можешь делать все, что захочешь!
Чарли потянулся к нему. Итан машинально закрыл глаза и поджал губы. Почувствовал, как пальцы Чарли коснулись его уха, скользнули вниз и замерли на мочке. Он зажал ее между большим и указательным пальцем и потер, как монетку, — на удачу.
6
Казнят священника, раввина и инженера. Священник первым подходит к гильотине, встает на колени и сует голову в дырку. Палач дергает за веревку, но ничего не происходит: лезвие застряло. «Чудо! Божественное вмешательство!» — восклицает священник, и его отпускают. Ладно, теперь черед раввина. Он встает на колени, палач дергает веревку. Лезвие начинает падать, но на полпути застревает. «Барух Хашем! — говорит раввин. — Я спасен!» Наконец к гильотине подходит инженер. Он окидывает ее взглядом, сует голову в дырку, а когда палач уже собирается дернуть веревку, кричит: «Стойте! Я понял, где неисправность!..»
Стрекот сверчков. Или, скорее, шорох бумаги, сплоченный гул пятидесяти ноутбуков и едва различимый писк популярной песни в чьих-то болтающихся на груди наушниках. А в остальном — полная тишина.
— Понимаете? Он сам себя погубил! Инженер мыслит рационально, мыслит технически — и поэтому губит себя. В этом соль анекдота.
За спиной Артура вспыхнул последний слайд презентации: мультяшный кот, сунувший голову в гильотину.
Тот факт, что на протяжении пяти лет он читал эту лекцию строго определенным образом, а сегодня решил попробовать что-то новенькое — рассказать студентам анекдот про гильотину — и не получил никакого положительного отклика, лишь укрепил Артура во мнении: лекции нельзя улучшать вечно. Это вам не стихи и не картины, которые при желании можно совершенствовать до бесконечности. Совершенство лекции имеет пределы. Безусловно, это уже большое дело — отточить свое лекторское мастерство, научиться привлекать и удерживать внимание аудитории, вовремя менять слайды. На это уходят годы тонкой настройки. Но если уж ты нащупал свое, оно от тебя никуда не убежит, зато дальнейшие попытки совершенствования могут привести к нежелательным результатам.
В этом смысле лекция — штука практичная. Как мост. Для наглядности Артур нарисовал в уме ферменный мост. Представил его стойки, раскосы и шпренгели. Такая конструкция — настоящее произведение искусства: игра сжатия и растяжения, умелое распределение скалывающих напряжений, изящный тандем двух сил в каждой ферме. Но мост не может быть просто красив, он должен прежде всего выполнять свое предназначение: соединять два берега. Лишние рюшечки могут только помешать делу. Если великолепный мост рухнет под весом декоративных элементов, то это и не мост вовсе.
Артур сделал мысленную пометку: никаких анекдотов.
— Что ж, — пробормотал он, — все свободны.
Минутная стрелка встала на место, и в Дэнфорт нагрянули весенние каникулы. Студенты хлынули на улицу. То была доходная пора для университета: целую неделю все преподаватели, повара и прочие сотрудники с почасовой оплатой сидели дома, не получая ни гроша, и ждали, когда студенты вернутся домой после недельных попоек в странах третьего мира.
Артур выключил проектор.
— Профессор Альтер! — раздался за его спиной чей-то голос. — Профессор Альтер?
Он оторвал взгляд от крошечного пульта управления, который держал в руках. Перед ним стоял румяный белокурый мальчик с робкой осанкой первокурсника. Курс «„Инженерия“ социальных перемен» пользовался большой популярностью среди молодняка и позиционировался как вводный курс для идеалистов, краткий ликбез для юных филантропов. На деле же все обстояло куда циничнее: вместо того чтобы одобрять деятельность студентов с активной гражданской позицией, Артур выступал с яростной критикой технологического детерминизма. Вместо восторженных рассказов о достижениях местных инженеров он мог два часа кряду разглагольствовать о цене, которую человечество вынуждено платить за осуществление подобных проектов (лекция под названием «В тени Арки» была его особой гордостью). Однако из года в год аудитория наполнялась свежим выводком юных оптимистов, и некоторые из них — всегда парни — проникались теплыми чувствами к Артуру. Они видели в нем ментора, наставника, духовного учителя.
— Да?
— Я хотел сказать, что мне очень понравилась сегодняшняя лекция.
— Благодарю.
— Вся эта тема про инженерное мышление — суперинтересная! Сам-то я вроде не инженер… Ну, то есть, конечно, не инженер! Я еще даже специализацию не выбрал. Но то, что вы говорили про центральное положение… э-э… менеджеризма… в рамках которого человеческие отношения используются для… э-э… эксплуатации сотрудников… Про теорию справедливости — о системе вложений и…
— …Вознаграждений, — подсказал Артур.
— Ага. Прямо очень круто! Раньше мне бы и в голову не пришло специализироваться на инженерном деле, но теперь я всерьез об этом подумываю.
Артур вскинул брови.
— Очень рад, что вам нравится мой курс, — сказал он, барабаня ногой по полу. В этом году он не был настроен нянчиться с молодняком: со своими детьми бы разобраться.
— Ну вот, я и подумал: как мне применить полученные знания на практике? Может, начать какой-нибудь внеклассный социальный проект… помочь городу?
Артур сощурился:
— Как, например?
— Ну, не знаю, придумать автоматическую систему полива придомовых территорий?.. Что-то в этом духе. И мне показалось, вы как нельзя лучше подходите на роль научного консультанта…
— Господи, на что они готовы тратить деньги… — пробормотал Артур. — Слушайте, я вам не советчик.
— Я читал про вас в интернете, профессор! У вас огромный опыт, здесь и за рубежом…
— Нет.
— Но на лекции вы говорили…
— Вы совсем ничего не поняли! Вы меня не слушали! — Артур отер рукавом взмокший лоб. — Подобные проекты до добра не доводят. Никогда. Вот что я пытался вам объяснить. Вот о чем мой курс. Такая работа всегда оборачивается громадными потерями. Колоссальными.
— Я только хотел помочь… — пискнул парень.
— Стоит изменить конструкцию парковых скамеек — взбунтуются бездомные. Построишь для них ночлежку — через год она превратится в притон. Реальные последствия подобной деятельности невозможно предсказать. Система полива придомовых территорий… Я вас умоляю!
Первокурсник уронил голову:
— Да я просто навскидку…
— Вот вам идея получше. Получите диплом социального работника. Или поступите на медицинский. Вам нравятся сады и парки? Станьте ботаником. Хотите помогать городу? Выучитесь на градостроителя. Или на инженера, так и быть. Но что бы вы ни делали, не высовывайтесь. Не думайте, что понимаете нужды других людей, — это не так. — У Артура задрожали руки. — Нельзя вламываться в чужие палисадники и рассказывать людям, как правильно поливать цветочки. Увы, нельзя. Гарантирую вам: ничего хорошего из этого не выйдет.
Паренек разинул рот, уши его горели огнем.
— Извините…
— Не извиняйтесь. Просто. Не. Высовывайтесь.
— Ладно. Понял. Извините…
Артур нетерпеливо привстал на носки:
— Мы закончили?
— Да… — Паренек совсем сгорбился и начал медленно пятиться к выходу.
Артур выскочил из здания и поспешил прочь: сердце билось вдвое быстрее обычного. Полил грибной дождик: длинные и тонкие капли защекотали загривок.
— Артур.
Он резко развернулся, едва не поскользнувшись на мокрой дорожке. К нему приближался большой черный зонт, под которым виднелась нижняя треть декана Гупты: оксфорды с клиновидным мыском и темно-синие костюмные брюки.
— А, Сахил, здравствуйте! — сказал Артур, показывая большим пальцем себе за спину. — Я уже собирался уходить…
— Я тут подумал. — Гупта умолк и прислушался к тишине.
Дождь тем временем барабанил по Артуровой плешке. Хотя Гупта был самым непосредственным образом причастен к тому, что Артуру отказали в бессрочном контракте, он почему-то никак не мог избавиться от тягостного желания угодить декану. В конце концов, тот был выдающимся ученым: в 60-х экспериментировал с хемилюминесценцией и параллельно (в свободное время) с псилоцибином. В результате был изобретен химический источник света — светящаяся палочка. Легендарное прошлое (увлечение психотропными препаратами, заветный патент на 3 774 022 доллара) позволило Гупте заручиться уважением как студентов, так и коллег — включая Артура. Заработав себе имя, декан бросил научную деятельность, стал выполнять исключительно административные функции и вдобавок увлекся гольфом. Как часто случается с преуспевшими в жизни людьми, Гупта почивал на лаврах и относился к своим менее успешным коллегам со смущенным презрением. Любое взаимодействие с деканом, который был старше его на десять лет, наталкивало Артура на мысли о ничтожности собственных достижений.
— Давайте договоримся о встрече.
Артур обмер:
— О встрече?..
— Загляните ко мне после весенних каникул. — Гупта демонстрировал свой сипловатый голос, позолоченный аристократическим выговором, как дорогие часы, которые большую часть времени проводят под манжетой рукава. — Мне нужно кое-что с вами обсудить.
Ну все. Это конец. Много лет подряд Артур вел пять курсов в семестр, затем ему стали давать только четыре, потом три и наконец — два… Его зажимали в клещи. И теперь решили прикончить. Он поморгал, чтобы отогнать эту мрачную мысль.
— После каникул. Договорились!
Декан сложил руки на груди. Окинул Артура оценивающим взглядом.
— У вас все хорошо?
— Да, все прекрасно.
Гупта еще секунду помолчал, присматриваясь к нему:
— Вот и славно. Славно. Ну бегите, прячьтесь от дождя, хм?
Артур кивнул и поспешил к Гринлиф-холлу, поднялся по лестнице и вошел в библиотеку африканистики. Скорей, скорей найти книгу — единственную свою отраду. Перед глазами Артура почему-то застыла такая картина: книги нет на полке, два массивных соседних тома наглухо сомкнулись.
Но нет, она стояла на месте — между «Развенчанием Конрада» Алисон Мердок и «Осмыслением апартеида» Честера Эмброуза. Артур сорвал ее с полки и просидел сорок пять минут, внимательно изучая содержание и проверяя каждую страничку на предмет повреждений.
Когда он вышел из библиотеки, небо уже прояснилось. Подавители сигнала здесь не работали, и телефон тут же тренькнул: пришло письмо от сына.
Он сообщал, что едет домой.
Артур мгновенно забыл про встречу с деканом, вернулся в квартиру Ульрики и быстренько сообразил примирительный ужин — запеченную семгу, свое единственное фирменное блюдо. Приправы он практически не использовал («С чесноком и так не соскучишься»). Через час пришла Ульрика, и он с порога сообщил ей, чтобы на следующей неделе она его не ждала.
— Почему? Не понимаю.
Он поманил ее пальцем, приглашая за накрытую скатертью кухонную стойку.
— Наверное, уже остыло. Давно тебя жду.
— Ты же знаешь, что по пятницам я работаю допоздна.
— Неопытный повар слишком рано достает семгу из духовки, боится пересушить. Тут необходимо проявить терпение и выдержку. Не торопить события.
— Артур.
— Что?
— Это из-за ссоры? Из-за нашей дурацкой перепалки среди ночи? Я еще ничего не реши…
— Нет. Дело не в этом… Ладно, слушай. Я тебе все расскажу. Я позвал домой детей.
На подбородке Ульрики появилась ямочка: новые выражения всегда образовывали нечитаемый шрифт Брайля на ее лице, только не выпуклый, а, наоборот, впалый.
— Я тебе уже говорила, — сказала она. — Мне неинтересны твои дети. Я не хочу о них слышать.
В самом начале отношений Ульрика недвусмысленно дала Артуру понять, что не желает ничего знать о его детях и больной жене — особенно о жене. От чувства вины она избавилась очень просто: выждала время. Немного терпения — и вуаля, Артур перестал быть женатым мужчиной. Но любая сколько-нибудь ощутимая мысль о Франсин выбивала ее из колеи. В тот вечер, когда Артур впервые произнес имя супруги, Ульрика выпила две таблетки «бенадрила», бутылку «мальбека» и улеглась спать в надежде стереть его из памяти. Но дети-то, дети умирать не собирались!
— Я не хочу быть им матерью, — заявила она.
— А я тебя и не прошу! Наоборот, пока они в городе, лучше исчезни с радаров — это очень поможет делу.
— Значит, сперва я говорю тебе, что уезжаю. Ты просишь меня остаться. А теперь сам же хочешь, чтобы я уехала. Артур, я запуталась.
— Да я не прошу тебя уезжать. — Он посмотрел на розовое филе, надеясь привлечь внимание Ульрики к богатому белками символу серьезности его намерений. — Мне нужно подготовить дом.
Она нахмурила тонкие брови. Артур никогда не расспрашивал ее о жизни до Сент-Луиса, но по случайным ремаркам понял, что родители Ульрики работали в государственных учреждениях. Отец — инженер в сфере гражданского строительства (Артур решил обойтись без подробностей), а мама, видимо, школьная учительница. Собрав по крупицам нехитрый семейный портрет, Артур пришел к выводу, что Ульрика выросла в семье матерых франкфуртцев — простых, как оглобля, реалистов, не привыкших рассусоливать и церемониться, — и унаследовала эти качества.
— Дом? Артур, что ты такое говоришь? — Она расправила плечи и начала объяснять (а потом разжевывать) Артуру, что дом нужен ему для подстраховки. Это его способ не слишком связывать себя отношениями, держать одну ногу на берегу. Она не желает отказываться от карьеры в куда более интересном (уж будем честны) городе ради человека, готового выплачивать безумный кредит, лишь бы не связывать себя с такой (объективно) красивой женщиной в расцвете сил…
— Я буду готовить дом для нас.
Ульрика замолкла на полуслове:
— Что?
— Дай мне эту неделю. Позволь повидаться с детьми. А когда они уедут — переезжай ко мне.
— Надолго?
Артур перегнулся через стол:
— На все обозримое будущее.
Ульрика положила вилку — та культурно звякнула о край тарелки.
— На все обозримое будущее?.. Как это понимать?
— А как понимать твое «как понимать»? Скоро ко мне приедут дети. Они помогут с домом, а когда уедут, ты переселишься ко мне. Если захочешь.
Слова его не слушались — леммингами срывались с губ. Что угодно, лишь бы Ульрика не ушла. Что угодно, лишь бы не остаться одному.
— Рынок труда, Артур. Если я останусь в Сент-Луисе, то рискую упустить возможность…
— Знаю, знаю. Наука не для слабаков. В научных кругах все так непредсказуемо. Именно поэтому я говорю только об обозримом будущем. А необозримое… мы не можем его предсказать, так ведь?
— Я тебя не узнаю.
Ульрика была права. Необозримое будущее — от него не отмахнешься. Необозримое будущее было главным источником его тревог и чуть ли не единственной причиной, по которой он связался с Ульрикой. Артуру порой казалось, что вся его жизнь — одна сплошная попытка отсрочить неизбежное.
— Дай мне шанс. Прошу тебя. Там столько места. Прекрасные условия, не то что здесь. Очень уютно. Хороший район.
— Но моя жизнь — не здесь.
— А где?
— Везде! Берлин. Индиана. Я много где побывала.
— Не пора ли остепениться?
— Артур.
— Останься. Хотя бы ненадолго. Останься в Сент-Луисе. Тебе больше не придется жить в этой дыре. Больше никаких студентов, блюющих в коридоре. Будешь жить в настоящем доме на настоящей улице. Шуто-Плейс. Бывала там? Скорее всего, нет. А знаешь почему? Потому что это закрытый, охраняемый квартал, туда кого попало не пускают. Наш квартал!
— И дом принадлежит тебе?
— Да. Вроде того. Скоро он будет мой.
— Когда?
— После отъезда детей.
— Как так?
— Не забивай себе этим голову. Я все устрою. Обещаю.
— Даже не знаю.
— Подумай, сколько ты сэкономишь! Я знаю, как университет относится к своим сотрудникам. Переезжай ко мне — и тебе не придется платить за жилье ни гроша.
— Даже если я соглашусь, то не ради денег.
— Ну я же говорю: это бонус. Экономия — просто приятный бонус. Подумай об этом.
— Подумаю.
— Вот и славно. А теперь ешь семгу. Я же специально для тебя готовил.
На следующий день Артур впервые за много недель вернулся домой.
Его по-прежнему удивляло, что с 1996 года по 2013-й, год смерти Франсин, и потом еще несколько месяцев урывками, он жил здесь, здесь, в этом элегантном, самоуправляемом анклаве ученых, эстетов, переселенцев с Восточного побережья и людей, так или иначе связанных с университетом. На протяжении семнадцати лет его ноги ступали по мягким восточным коврам, а на ужин он лакомился кок-о-веном{24} и запеченным картофелем фри марки «Ор-айда» (Франсин долго противилась этому сомнительному сочетанию, но в конечном итоге Артур победил). Семнадцать лет подряд он подолгу грелся в душе и ни разу не воспользовался одним полотенцем дважды (в крайнем случае он сперва прокручивал его в сушилке). О, комфорт! Лишь теперь, живя скромно и экономно — в соответствии со своими принципами, — Артур понял, насколько огромна была роль Франсин в создании этого комфорта. Два десятилетия подряд он пытался угодить и нашим, и вашим: ругал на чем свет стоит культуру потребления, но при этом с удовольствием пользовался материальными благами, которыми Франсин обеспечивала дом и семью. Без нее он бы не жил такой жизнью, не занимал бы этого дома.
Артур выключил двигатель и вышел на лужайку. Птичьи песни оглашали Шуто-Плейс. Он закрыл за собой дверь и зашагал по дорожке: ноги заново знакомились с особенностями ее топографии, с трещинками, колдобинками и прочими недоработками строителей. Артур замер над одуванчиками, вылезшими из трещины в плитке. Наклонился поближе. Зазубренные зеленые листья смотрели в небо, два желтых цветка чуть покачивались от его дыхания. Вполне простительно, попав в эдакую благословенную тишь, забыть на время об исторической подоплеке и социальном неравенстве и посвятить себя целиком разглядыванию сокровенных трещинок, пузырей и разрывов в родном асфальте.
Артур схватил сорняк, выдрал его с корнем и бросил в сторону.
Затем встал, потянулся и окинул взглядом свой дворик. Нахмурившись, взял в гараже совок, подобрал с лужайки отвердевший помет соседского гибридного пуделя и решительно швырнул его на соседский участок.
Кухня будто совсем не изменилась с тех пор, как он был здесь в последний раз: такая же чистая, почти стерильная. В морозильнике до сих пор хранился запас запеканок и кугеля для шивы{25} (это блюдо, по мнению Артура, следовало предать вечной мерзлоте). На дверце холодильника по-прежнему висели вырезки из газет и детский рисунок Итана. Пересмотренная и дополненная пирамида здорового питания от Министерства сельского хозяйства США. И графическая схема, которую нашла и повесила сюда Франсин:
Лишь гнилые манго и груши в проволочной корзинке да вьющийся над ними мушиный рой говорили о том, что в доме никто не живет.
Артур пропылесосил гостиную. Опустошил мышеловки — выкинул трупики в кусты на заднем дворе. Побрызгал нашатырем с лимонной отдушкой на все окна и бережно их вытер (начал с кухни и постепенно обошел весь дом). От ковролина в подвале еще попахивало дымом после пожара, но это даже могло сыграть Артуру на руку: обонятельные луковицы находятся рядом с участками мозга, отвечающими за память и эмоции. Приводя в порядок комнаты Итана и Мэгги, он случайно дотронулся до лица перепачканными дезинфицирующим средством пальцами — из глаз, затуманивая зрение, хлынули химические слезы.
Он собрался с мыслями. Успех грядущего визита детей можно было изобразить в виде такой формулы:
(Ж + Н)(1/2Р) + С = Д,
где Ж — жалость, Н — ностальгия, Р — раскаяние, С — совесть, а Д — деньги или долг (по кредиту).
Артур решил начать с Н: сперва прочесал весь дом в поисках мягких игрушек, любимых пледов, детских книжек с картинками и прочих «триггеров», а затем раскидал их по комнатам, как противопехотные мины. В качестве финального штриха Артур собрал все письма из банка: первое уведомление о задолженности положил на кухонную стойку, второе — на стеллаж-перегородку между столовой и прихожей, а третье — на столик у лестницы. Таким образом, если дети войдут в дом с черного хода (как это принято у Альтеров), то путь к комнатам на втором этаже многое им расскажет.
Утром он вновь занялся домом: сразу после завтрака залез на кровать Мэгги и дернул свисавший с потолка шнур. Открылся прямоугольный люк. Артур дернул посильней: из люка неохотно спустилась красная наклонная лесенка и с тихим пффт коснулась белого мохнатого ковра на полу.
Чердак в доме Альтеров представлял из себя черную дыру, куда засасывало разные семейные разности. Подниматься и спускаться по складной лесенке было хлопотно, и никому не приходило в голову что-либо оттуда доставать (хотя Артур даже провел на чердак свет, включавшийся автоматически при полном выдвижении лесенки). Просунув голову в люк, он увидел горы хлама, который его семья собирала годами: справочники, компакт-диски, стереосистемы, теннисные мячики в пластиковых коробках. Три поколения интернет-роутеров. У маленького треугольного окошка валялись, соблазнительно поблескивая раскрытыми страницами, фотоальбомы в кожаных переплетах, а рядом — корзина с маской фараона из папье-маше и старыми носками. Герметично запакованный в пластик и завернутый в полотенце труп некогда любимого хомячка, ожидающий погребения возле томика «Мифов Древней Греции» Ингри и Эдгара Д’Олер. Слева от себя Артур приметил кучку пластиковых динозавров, разобранный на части телескоп, стопки максуэлл-хаусовской Аггады{26}, пальчиковые куклы, изображающие десять казней египетских, пакетик со стеклянными шариками и лишние экземпляры канонических настольных игр: «Монополия», «Риск», «Игра в жизнь». И пыль — пыль всюду. Она захватывала и оккупировала все содержимое чердака.
В дальнем углу Артур наконец обнаружил искомое. Картонную коробку с надписью «Воспоминания» — теперь уж и не вспомнить, как делали эту надпись, с иронией или всерьез. Он поднял истлевшие клапаны крышки. Внутри, как он и надеялся, лежал диапроектор.
Артур уселся перед коробкой и начал методично доставать из карусельки 35-миллиметровые слайды — поднимая каждый и щурясь, чтобы разглядеть изображение. На свету картинки на черной пленке становились четче, наполнялись цветом, лица и пейзажи проступали из темноты. Большую часть слайдов он возвращал обратно, но некоторые складывал в обувную коробку. Добравшись наконец до начала карусельки, он спустился с чердака и поднял лестницу: там сразу потемнело.
Днем он, прихватив с собой обувную коробку, наведался в магазин канцелярских товаров. Не получив никакой помощи от мегаритейлерской оравы бездарных консультантов, Артур сумел самостоятельно перевести маленькие черные слайды в цифровой формат и затем распечатать их на глянцевой фотобумаге.
— Это вы?! — спросил один из никчемных бейдженосцев, показывая на распечатанный снимок.
— Пальцами не трогайте, пожалуйста, — сказал Артур.
Выбрав из стопки четыре фотографии, он поместил их в рамки и повесил в столовой на самолично вбитые гвозди.
Шагнул назад — полюбоваться снимками. Один, два, три, четыре. Аккуратным рядком. Из-за них атмосфера в столовой мгновенно стала взрывоопасной. Наэлектризованной. Фотографии содержали мощный посыл. Но о чем? О щедрости, о доброте, о многочисленных «я», заключенных в одном теле. Артур гордо стоял перед снимками, пока за окном не стемнело.
Желудок жалобно застонал. Еды в доме, конечно, не было, а закупить продукты Артур забыл. Он прыгнул в «сперо» и поехал на юг, в супермаркет «Шнакс», расположенный в Ричмонд-Хайтс. Припарковал машину на просторной, забитой под завязку парковке и зашагал ко входу. Здание супермаркета напоминало огромный кирпичный мавзолей. На лужайке лежали мешки с удобрениями, и их древесно-фекальная вонь застала Артура врасплох. Он поспешил вперед, мимо штабелированных пластиковых стульев и полок с пластиковыми ограждениями для клумб.
В «Шнаксе» было не протолкнуться. Студенты затаривались перед каникулами: шныряли по рядам с алкогольной продукцией, налетали на корзины с кукурузными чипсами, бросали в тележки упаковки замороженных бургеров. Пенсионеры медленно, ошалело брели сквозь обезумевшую толпу, время от времени останавливаясь уточнить цену на фасованную заморозку или понюхать кусок сыра. Артур пробился к нужному холодильнику и начал сгребать пластиковым совком самые экзотические и пикантные оливки из представленного ассортимента.
Тут ему пришла в голову мысль. Надо запастись их любимой едой! Да! Так бы поступил на его месте хороший отец! Артур улыбнулся и отвесил самому себе почтительный поклон.
Стоп. А что они любят?
Пожалуй, вопрос питания детей был единственным, по которому мнение Артура и Франсин совпадало. Она, время от времени боровшаяся с лишним весом, была первой матерью в Шуто-Плейс, начавшей регулярно ездить за продуктами на фермерский рынок Суларда. Она хотела кормить детей полезной едой — уж точно не разноцветными желе и зефирной массой, которой кормили в детстве ее саму, — то есть овощами и свежими (насколько это было возможно в штате без собственного выхода к морю) морепродуктами, которые она называла «пищей для мозга». Экономный Артур был только рад разбавлять детские соки водой в пропорции 1:1. Ни у кого двухлитровые пакеты с соком не жили так долго, как у него. Когда Итан в четвертом классе впервые попробовал неразбавленный яблочный сок на дне рождения у друга, у него чуть глаза из орбит не вылезли.
Артур брел сквозь толпу. Он вспомнил, как приходил сюда с Мэгги — и какие истерики она закатывала по поводу сладкой радиоактивной дряни, которой родители кормили ее друзей. Что ж, теперь она выросла — вполне можно угостить ее чем-нибудь вкусненьким. Однако, свернув в проход с сухими завтраками, Артур увидел перед собой бесконечные ряды ярких коробок: лаймово-зеленых, ядовито-розовых, ослепительно-желтых. Мультяшные персонажи, броские названия — ему пришлось прищуриться, чтобы не потерять равновесие. Как люди ориентируется в этом ассортименте? Зачем им такой выбор?! Не так уж плоха, если вдуматься, была талонная система Советского Союза с его унылыми полупустыми магазинами — бери, что дали, и убирайся. Никакого выбора. Потребительский ассортимент — нелепая и переоцененная привилегия.
Маленькая девочка из встречной тележки сшибла коробку с полки напротив Артура, и к его ногам просыпались разноцветные шарики вздутых злаков. Девочка начала плакать, а ее мать (в ушах эти белые наушники-капельки, которые носят теперь все подряд) даже бровью не повела, просто пошла дальше. Артур остался стоять над рассыпанными шариками. Покачал головой. Ну нет, это уже слишком! Он развернулся и пошел прочь. Дети обойдутся.
Вечером он решил погулять. Зашагал на восток по Трасти-роу — череде нелепых дворцов, оштукатуренных палаццо и пряничных замков, выстроившихся вдоль Форест-парка. Он не сводил глаз с роскошных жилищ и думал о том, как нелепо они диссонируют друг с другом. И еще думал об обозримом будущем.
Однако прошлое не отпускало. За парком виднелись громадные здания больницы «Барнс-Джуиш», соединенные висячими переходами, — казалось, они пытаются встать поближе, тянут друг к другу руки.
Гордость за свой труд по преображению дома — и то была истинная гордость, исключительное чувство, которое дано испытать лишь тем, кто работает руками (Артуру это удавалось нечасто, ведь он, подобно коллегам и соседям, обретался в сияющих чистотой палатах разума), — все же не позволяла ему окончательно избавиться от сомнений по поводу своего плана.
План. А каков, собственно, план? Вот прилетят его дети в Сент-Луис — и что дальше?
Придется их как-то разделить. Поговорить с каждым тет-а-тет. Сперва с Итаном, заручиться его поддержкой. Затем — с Мэгги. Но как? Непонятно. Кто они вообще такие, его дети, чем живут? Итан вроде поселился в Бруклине и работает в консалтинговой фирме… С Мэгги Артур не разговаривал аж с самых похорон. Он ничего не знает о собственных детях. А значит, и доступа к их сердцам у него нет.
И все же они ему нужны. Еще несколько лет он как-нибудь да протянет, но с каждым семестром приближается пенсия (которая под вопросом) и смерть (которая неминуема). А тут еще декан пригласил на разговор… Что-то нужно делать.
А что, собственно? Будь Артур посмелее, он мог бы просто уйти — сбежать. Люди его поколения удирают от подобных проблем, как зайцы. Но если и бежать, то куда? Что с ним будет?
Так, ломая голову над сложившимся положением, Артур добрел до конца парка и очутился перед гостиницей «Чейз-парк-плаза». Стоя у подножия колоссальной пирамиды песочного цвета, этого монументального зиккурата джазовой эпохи, он вдруг понял, что страшно устал — прогулка заняла больше часа, — и зашагал обратно к Юниверсити-Сити.
7
— Тебе тут нравится?
— Тут — это где?
— Ну здесь, в этом доме. В Сент-Луисе. Не знаю. На Среднем Западе.
Мэгги сидела на кровати плечом к плечу с Франсин. Они пытались одолеть «Основы патопсихологии». До конца первой сессии оставалось еще два экзамена, один из которых был по маминой специальности. Мэгги пришла из общежития домой, чтобы задать Франсин несколько вопросов.
— А почему ты спрашиваешь? — удивилась мама. — Да еще таким тоном?
— Каким?
— Будто заключаешь каждое слово в кавычки. «Средний Запад».
— Ну, потому что это скорее идея, образ, нежели… нежели…
— Точка на карте.
— Да!
— Как «сердце страны».
— Да.
— «Исконная Америка».
— Да.
В этом воспоминании мамины непослушные кудряшки были собраны на затылке серебристой заколкой — того же сияющего цвета, что и любимые наручные часы, которые сейчас обнимали ее запястье. На той же руке она носила тонкие звенящие браслеты.
— Так почему ты спрашиваешь?
Мэгги потеребила мочку уха.
— Наверное, я бы не смогла вот так взять и все бросить ради другого человека.
— Тебе здесь не нравится?
— Да нет, почему. Здесь вся моя жизнь, я другого и не знаю…
— Но…
— Но мы не местные, не со «Среднего Запада», так ведь? Мы из «университетских».
— Отчасти ты права. Хотя я-то как раз родом отсюда, из «сердца страны».
— Ну да. Ты только не обижайся, но у вас с папой все друзья — профессора. И все они живут в Шуто-Плейс. И ты сама только что заключила «сердце страны» в кавычки.
Франсин улыбнулась:
— Я не обижаюсь.
— Да я, в общем-то, и не об этом спрашивала.
— А о чем?
— Я бы не смогла переехать ради кого-то.
— Ты очень независимая. Это здорово и достойно восхищения. И я буду рада приписать эту заслугу себе, если не возражаешь. Значит, я правильно тебя воспитала.
— Но ты-то переехала!
— В жизни всякое бывает.
— Почему ты согласилась?
— По многим причинам.
— Например?..
Франсин забарабанила пальцами по странице учебника:
— Например, когда люди говорят о том, что в браке необходимо быть гибким, уметь идти на компромиссы и приспосабливаться, то обычно они имеют в виду, что все это должна делать только одна сторона.
— То есть женщина.
— Безусловно, это почти всегда так.
— А папа что думает по этому поводу?
— По какому?
— Насчет переезда. Ты принесла в жертву карьеру. Его мучает совесть?
Франсин поправила волосы.
— Совесть мучает твоего папу по многим поводам, но переезд к ним не относится. Думаю, за это он себя не корит.
— А за что корит?
— Ну… Непросто быть амбициозным человеком. Когда ты амбициозен, а жизнь сложилась не так, как тебе грезилось… с этим трудно смириться.
— А что у него не сложилось? — Мэгги закрыла книгу. Психопатологии родного отца интересовали ее куда больше.
— Он горел одной идеей… Она стала смыслом его жизни. И отчасти — моей тоже. — Франсин вздохнула и покачала головой. — В юности меня больше всего тянуло к таким мужчинам. Которые чем-то горели.
— И чем он горел?
За окном спальни чистил перышки присевший на ветку кардинал. Закончив, он вспорхнул и улетел. Франсин проводила его взглядом.
— Ну… — Она откашлялась. — Что тебе известно о системе обработки отходов в странах Африки?
До того как Артур загорелся этой идеей, у него были только амбиции — и именно тогда он познакомился с Франсин Кляйн. Он нравился ей своей решительностью и напористостью (особенно когда он был решительным и напористым по отношению к ней). В Артуре она увидела живой и деятельный ум — такой, каким мечтала обладать сама. Суровый. Бескомпромиссный. Их отношения вышли на новый уровень после нескольких случаев с порвавшимся презервативом и пропущенной таблеткой; Судьба, эта еврейская бабушка, постоянно подталкивала их к рождению ребенка. К лету 1977-го они поселились в тесной двухкомнатной квартире на Кенмор-Сквер. До того как благодаря многомиллионному проекту по реновации города закрыли «Ратскеллер» и открыли «Барнс энд Ноубл»{27}, Кенмор-Сквер представлял из себя трущобы, по которым никто не стал бы скучать — дрянной квартал с закопченными ложками, грязными шприцами и метадоновыми клиниками на каждом шагу. Словом, прекрасное место для молодых и влюбленных.
Франсин училась в университете и пополняла запас психиатрических терминов, которые с завидным энтузиазмом применяла к своим родителям. Все детство она мечтала о бегстве из Дейтона и о любой другой семье, кроме собственной. Однако теперь, на четвертом курсе, Франсин принялась лелеять крошечное зернышко сочувствия, которое еще испытывала к родной матери — обыкновенной дезадаптированной личности с истероидным расстройством и умеренной дерматилломанией, которая лучшие годы своей жизни потратила на попытки образумить мужа с монополярной депрессией и целым ворохом околоэдиповых проблем. Как ни странно, эти знания очень помогли Франсин. Ей стало намного легче, когда она поняла, что ее мать, хоть и не заслуживала прощения, была всего-навсего жертвой собственного разума и того времени, в котором жила.
Вместе с этим новообретенным сочувствием пришло и другое, куда более тревожное открытие. Быть может, миссис Кляйн, еженедельно звонившая дочери с вопросом, не удалось ли той забеременеть, была в чем-то права. Быть может, судьба тоже готовила ее к этому шагу. Быть может, они даже сговорились, какая разница? В декабре 1980-го двадцатисемилетняя Франсин решила — осознала? — что хочет ребенка.
Артур не разделял ее энтузиазма.
— Ты же ненавидишь мать. И вообще — всех матерей. В целом.
— Я никогда такого не говорила.
— Да ты постоянно об этом говоришь! Не ты ли заявила вчера на кухне: «Чем старше я становлюсь, тем тверже убеждаюсь, что моя мать была не исключением, а правилом»?
— Я не то имела в виду. Маме, как и большинству женщин ее поколения, нелегко пришлось: многие из них страдали недиагностированными расстройствами — наследственными либо спровоцированными обществом, — поэтому ее поступки были скорее симптомом, нежели…
— Еще ты сказала, что тебе одновременно досадно и радостно: с одной стороны, это означает, что ты нормальная, а с другой — лишает тебя права жаловаться.
— Артур! Я ничего не говорила про «право жаловаться». Я говорила про «гордость преодоления». Выходит, я не боролась со злом. Просто моя мать страдала психическим расстройством.
— Мне запомнилось иначе. Как бы то ни было, разговор на эту тему может подождать. В моей голове сейчас просто нет места для подобных мыслей.
Она перевернулась на другой бок и едва не упала с кровати: так мало места оставляли ей амбиции мужа. Они полностью захватили его внимание — как любовница, пророчески подумала Франсин. Ей не нравилась отчужденность Артура. Хотелось, чтобы он наконец сосредоточился на том, что уже имеет, — на ней, к примеру. Однако она завидовала его видению, его умению мыслить будущим и даже не представляла, каково это — мнить себя потенциальным творцом истории, Великим Умом. Когда Артур пребывал в хорошем настроении, его амбиции бодрили, приводили в восторг и так чудесно пьянили… Но когда он падал духом, как сейчас, его разглагольствования начинали казаться Франсин нелепым и высокомерным донкихотством, вызывали тошноту и головокружение.
Она объясняла его кислое настроение стрессом на работе. До недавних пор он занимался разработкой своего личного проекта — недорогого, быстро отвердевающего материала, который мог бы однажды прийти на смену бетону. В него входила особая паста, сокращавшая количество цемента, необходимого для приготовления смеси. Он занимался этим весь год: консультировался с инженерами-материаловедами, задерживался в офисе для проведения испытаний на прочность и пренебрегал прямыми рабочими обязанностями. Увы, эксперименты не увенчались успехом: новый материал действительно получился дешевле цемента, но значительно уступал ему в прочности. Его нельзя было использовать для строительства таких крупных конструкций, как мосты и торговые центры. Арматура тоже не спасала. Артур пришел в ярость, когда начальник сообщил ему о решении закрыть проект.
— Это же новинка, — взмолился он, — инновационный материал! Неужели вы не дадите ему шанс?
— Инновационный или нет, какая разница, если вы так и не нашли ему практического применения?
— Найдем, обязательно найдем! Я что-нибудь придумаю, обещаю!
— Нет смысла. Никому не нужен более дешевый и быстро застывающий бетон — нет такого запроса, понимаете? Обычный бетон всех устраивает. Я разрешил вам заняться этим проектом, потому что мне понравился ваш запал, и вы обещали, что это не помешает вашей основной деятельности…
— Мой запал не остыл! У проекта определенно есть будущее…
— Позвольте задать вам вопрос, — сказал начальник. — Только ответьте честно, пожалуйста. Вы занимаетесь этим потому, что такой материал, на ваш взгляд, действительно кому-то нужен? Или вам просто надо к чему-то стремиться?
— Мне неприятны ваши намеки.
— Иными словами: вы делаете это ради других или ради себя?
— Я обязательно найду применение смеси!
— Она слишком хрупкая, Артур. Она никогда не пройдет сертификацию. По крайней мере, в нашей стране.
И вот однажды в середине января Артур сидел в кабинке университетского туалета с раскрытым на коленях журналом «Тайм», как вдруг его осенило. Прямо током ударило — вот так идея! Быть может, ему удастся найти материалу применение в другой стране — сухой и жаркой, где он будет отвердевать еще быстрее и где законы не так строги, где катастрофически не хватает средств на строительство, где его вклад оценят по достоинству — если получится это провернуть, тогда он, Артур, станет не просто инженером, а гуманитарным гением. Со страниц «Тайм» ему улыбался новенький премьер-министр Зимбабве — очки, усы щеточкой… Артур поднял журнал к лицу и поцеловал.
Затем покраснел и поспешно вышел из туалета. На часах было только половина пятого, но он не вернулся за стол, а пошел прямиком в комнату отдыха, где у него хранились беговые лыжи. Артур вынес их на улицу и надел. Снег завалил и выбелил весь Бостон, спрятал машины. Артур стремительно несся по нерасчищенным улицам, то и дело увязая в свежем белом пухе, неуклюже вскидывая в воздух палки. Добравшись до своей квартиры на Кенмор-Сквер, он скинул мешавшие лыжи, бросил их внизу, взбежал по лестнице на третий этаж и, задыхаясь, поведал Франсин о своей затее.
— Прости, что ты сказал?! — Она сидела за столом, заваленным бумагами и учебниками.
Артур перевел дух. Щеки у него разрумянились от мороза, глаза блестели.
— Я буду строить прочные, недорогие, отвечающие современным санитарным требованиям общественные туалеты на территории Зимбабве.
Франсин заморгала:
— Ты серьезно?
— Да, серьезно. Что думаешь?
Что она думала? Ей не хотелось, чтобы он уезжал, — это во-первых. Но быть женщиной, которая мешает своему любимому претворять в жизнь мечты, хотелось еще меньше. Отношения Артура и Франсин находились на слишком зачаточной, слишком нежной стадии — если уже сейчас заронить в них семя такого долгоиграющего конфликта, ничего хорошего не выйдет. И потом, было что-то восхитительно захватывающее во всем этом, в Артуре, румяном и сияющем, припорошенном снегом, мечтающем о великих делах. Им двигали уже не бесформенные амбиции, а настоящая цель. Если Франсин разрешит ему уехать, если даст взрослому мужчине добро на подростковую выходку, он поймет, что такую женщину надо ценить. Через несколько месяцев он вернется — уставший от свободы и готовый к созданию семьи.
— Хорошо, — сказала она. — Мне кажется, дело стоящее.
С ее благословения он составил предложение и начал подавать заявки на финансирование. Франсин, пренебрегая собственной учебой и сроками сдачи работ, помогала ему писать тексты и подавать документы на гранты. Увы, почти все организации, в которые обратился Артур, ответили ему жестким и беспощадным отказом: «Спасем детей», «Сообщество развития Южной Африки», «Сумка самарянина», «Врачи без границ», «Инженеры мира». Месяцы таяли вместе со снегом, и Артур начал падать духом. Раньше он никогда не выпивал больше двух бутылок пива за вечер, а теперь запросто опустошал три, четыре, пять, шесть. Он набрал вес. И это человек, который принципиально не позволял себе лишнего, чуть ли не каждую рисинку считал, терпел голод, избегал напрасных трат и мечтал только об одном: спасти мир от неминуемой гибели.
Франсин испытала маленькое, но облегчение, когда ему отказали. Значит, он останется дома. Придет в себя, встанет на ноги. Да, его план провалился, но теперь он, возможно, захочет вложить силы в отношения. Создать наконец семью.
К осени жизнь более-менее вернулась в нормальное русло. Франсин упорно училась, время от времени упоминая в разговоре друзей, у которых уже родились дети. Артур вернулся на работу и делал вид, будто ее не слышит.
Весной в почтовом ящике обнаружилось необычное письмо, адресованное Артуру. От организации «Смиренные братья во Христе». В машинописном тексте послания они рассказывали, что «посвятили жизнь борьбе с нищетой и голодом, а также полному и бескомпромиссному уничтожению излечимых болезней по всему миру». Артур едва не зарыдал от счастья, когда прочел последние строки письма — о намерении выделить средства на его проект.
Франсин была раздавлена.
— Что это вообще за… церковь? — спросила она. — Никогда о них не слышала. Честное слово, я не хочу омрачать твою радость, но надо все хорошенько обдумать, навести справки…
— У меня нет выбора: беру, что дают, — отрезал Артур.
«Смиренные братья» с лихвой окупили недостаток известности своим энтузиазмом — и деньгами. Их маленькая, недавно открытая и освобожденная от уплаты налогов типография даже напечатала в ста экземплярах Артурово предложение: на твердой красной обложке значилось его имя. Он так расчувствовался, что даже (впервые за все время знакомства с Франсин) заплакал.
Публикация текста произвела на Артура, выросшего в доме без книг, неоправданно сильное впечатление. В детстве он был не по годам развитым мальчиком, маленьким мыслителем, однако его родители не читали и не покупали книг. Все выходные он проводил в публичной библиотеке Шарона. Интересы у него были вполне типичные для младшего школьника — биографии гениев, романы о бейсболе — однако больше всего ему нравился цикл романов Т. С. Уортингтона о похождениях удалого защитника отечества, лейтенанта Джайлса Эверхарда (кавалера Креста Виктории и рыцаря Почетнейшего ордена Бани). Сей плут, мерзавец и пылкий антигерой путешествовал на кораблях и соблазнял женщин по всему миру — по поручению ее величества королевы Виктории, разумеется. Холодное унылое здание массачусетской библиотеки не могло равняться с экзотическими пейзажами из книги «Эверхард в Вест-Индии» и колоритным американским Юго-Западом, описанным в романе «Эверхард и краснокожие». Родителям Артура и дела не было до его увлечений. Его мать — суровая женщина с нераспознанным синдромом Туретта и не имеющей к этому отношения привычкой напоминать сыну о том, какое он ничтожество, — выбрасывала любые книжки, которые он притаскивал домой. Она не видела в них никакого смысла. На отца, единственного малоимущего стоматолога в мире, особой надежды не было: он так увлекся самопрезрением и алкоголем, что превратился в любимчика местных ирландцев и ходячим посмешищем в глазах знакомых евреев. И вот теперь у Артура вышла книга — с его собственным именем на обложке! Достойный ответ обоим родителям сразу. Жаль только, что отец умер и не успел это увидеть. Артур специально съездил в Шарон и оставил один экземпляр для матери. Та даже не позвонила.
— Она в своем репертуаре, — пыхтел потом он. — Странно, что я ждал другого.
— Успокойся, — говорила Франсин.
— Могла бы хоть соврать! Сказать, что прочитала! Я ей сегодня звонил, кстати. И угадай что? Она даже не заикнулась про книгу. Ты была права насчет матерей. Им нельзя доверять. И точка.
— Я такого не говорила. И потом, ты ведь ее знаешь. Положительного подкрепления от нее не дождешься. Она никогда тебя не хвалила. Ты можешь гордиться собой, разве этого мало? Я горжусь тобой.
Артур закрыл лицо руками:
— Этого недостаточно.
Вскоре им пришло еще несколько писем с подробностями предстоящей поездки. Все было решено: Артура ждали в Зимбабве.
Тогда мир возлагал на молодую республику большие надежды. Она только что получила независимость, стала житницей Африки — главным экспортером пшеницы, кукурузы и табака. Все благодаря харизматичному и воинственному лидеру, Роберту Габриэлю Мугабе. В марте 1982 года Артур Габриэль Альтер вылетел из Бостона в Лондон, а оттуда — в Солсбери (позднее переименованный в Хараре), столицу страны, где он собирался воплощать в жизнь свои идеи.
В Лондоне Артур за символическую плату повысил класс обслуживания в самолете. Перед взлетом «Эйр Зимбабве» предоставила ему, пассажиру первого класса, горячие влажные полотенца для рук и бокал шампанского. Во время полета к услугам Артура был открытый все десять часов бар; кроме того, он прекрасно отобедал копченой рыбой и кукурузным кексом (уже очень скоро обслуживание в зимбабвийских самолетах претерпело радикальные изменения в худшую сторону). Через проход от Артура сидел зимбабвиец английского происхождения, эдакий дородный Киплинг с перманентным загаром. У него были жесткие усы и протез вместо одной ноги. От основания шеи вниз тянулся розовый шрам, уходивший под застегнутую до середины груди рубашку. Зимбабвиец заметил взгляд Артура и сказал: «Ранили на войне». На ум сразу пришли строчки из стихотворения, которое он разучивал наизусть в школе: «Коричное дерево, пряные рощи — вот что такое Африка»{28}.
У багажной ленты аэропорта Солсбери (а вскоре — международного аэропорта Хараре) стоял подтянутый молодой человек в мешковатом костюме, солнцезащитных очках и с картонкой с надписью «АЛЬТЕР». Артур проследовал за ним к автомобилю «мерседес-бенц».
Незадолго до отъезда из Бостона он договорился с коллегой-зимбабвийцем по имени Луис Мойо погостить в Солсбери у его родителей. Напоследок тот пригласил Артура в ресторан. Когда принесли счет, Луис сунул ему горсть стодолларовых купюр.
— Вы разве мне должны? — удивился Артур.
— Нет-нет, — ответил коллега. — Это для моих родителей. Передайте им, пожалуйста. Американские доллары везде в почете. И еще, пока не забыл… — Тут он выудил из портфеля номер журнала «Плейбой» с белокожей рыжей девицей на обложке: она склонилась над опрокинутым флакончиком красного лака для ногтей (обнаженные соски были целомудренно размыты). — Примите это от меня в качестве благодарности, — сказал Луис и тут же пояснил: — В джунглях наверняка пригодится.
«Медное солнце и алое море — вот что такое Африка».
Родители Мойо проживали в дорогом особняке желтого кирпича с безупречно ухоженной лужайкой, какие можно встретить в фешенебельных пригородах Бостона.
Луис Мойо-старший оказался щекастым, добродушным господином, то и дело перебивающим собственную речь каким-нибудь игривым анекдотом. Еще он вворачивал фразы вроде: «Вы, наверное, ужасно устали», демонстрируя тем самым умение входить в положение собеседника. Промис Мойо, жена, настойчиво потчевала Артура чаем с кексами. Эта отчаянно независимая женщина еще до знакомства с мужем построила фабрику по пошиву одежды и единолично ею управляла. Луис-старший — не имевший, по его собственному признанию, никаких талантов и навыков, зато обладавший полезными связями, — подсуетился и обеспечил фабрику супруги выгодным контрактом: отшивать форму для национальной армии Зимбабве.
— Мир — это те, кого мы знаем, — сказал он Артуру, одной рукой обнимая жену за талию.
Артур отправился отдыхать в гостевую спальню, но через некоторое время в дверь постучали.
— Пришел пожелать вам спокойной ночи, — сказал Луис-старший. — Но сперва хочу спросить: наш сын ничего нам не передавал?
Артур совсем забыл про деньги.
— Да-да! Сейчас.
Повернувшись спиной к мистеру Мойо, он присел к чемодану, тихо достал из бумажника стопку купюр (он помнил слова коллеги о том, что американские деньги везде в почете), отсчитал три сотни, а все остальное передал мистеру Мойо. Тот заулыбался и пожелал гостю приятных снов.
Две недели Артур прекрасно отдыхал у них дома. И мистер, и миссис Мойо в свое время учились за рубежом — Луис-старший в Рочестере, Нью-Йорк, а Промис в Торонто — поэтому им было интересно узнать о политической ситуации в Штатах. На их расспросы о Рейгане Артур отвечал развернуто и с чувством. Как американский народ мог выбрать в президенты голливудского актера?! А очень просто: средний американский избиратель — избалованный ненасытный ребенок, который хочет одних лишь зрелищ.
Артур в свою очередь кое-что узнал о Зимбабве. Мойо оптимистично смотрели в будущее и считали получение независимости великим делом. Артур, приятно удивленный их современной кухней, стирально-сушильной машиной марки «Вирлпул» и хорошим напором воды в душе, тоже преисполнился оптимизма. Гостеприимство хозяев, комфортные условия и солнечная погода наталкивали его на мысль, что в Солсбери-то живется куда лучше, чем в Бостоне.
Спал он превосходно («Африка? За книгой вечера / в тишине до наступленья сна»), а каждое утро обнаруживал под дверью поднос с горячим чаем и молоком, который приносила горничная. За завтраком Артур читал свежий выпуск «Нью-Йорк геральд». Промис решила подготовить его к самостоятельному проживанию в Зимбабве и научила варить кашу из грубо смолотого маиса, так называемого «мили-мил». По вечерам Луис-старший угощал Артура импортными сигарами. Однажды Мойо взяли его с собой на футбольный матч, проходивший на стадионе «Руфаро»: проехали мимо толп на частную парковку, где стояли одни «мерседесы», а затем провели Артура в президентскую ложу с отдельным входом.
— Он был так счастлив, — рассказывала Франсин дочери. — Его письма той поры были полны надежды и веры в будущее.
Спустя две недели Артур попрощался с Мойо и сердечно поблагодарил их за оказанное гостеприимство. Промис обняла его и сказала, чтобы он непременно приезжал еще. Артур сел на старый, облупленный советский автобус и отправился в Чиредзи, небольшой городок в 400 километрах к югу от столицы, где его дожидались «Смиренные братья». Когда они выезжали из чистого и современного Солсбери с его бетонными высотками и аллеями цветущей жакаранды — бруталистские очертания города в облаках сиреневых цветов остались позади, — Артур впервые ощутил тоску по дому, отложенную печаль, на которую до сих пор у него не было времени. Он вспомнил про Франсин.
Город схлопнулся за его спиной. Поредевшие постройки сменились скалистыми холмами и неопрятными скоплениями чахлых деревьев — марула и мопане. Пахло бензином, лесными пожарами, жареным мясом и мылом. Красновато-коричневая дорога проходила через холмистую местность, и по обеим сторонам от нее ждали люди. Автобус плелся вперед, медленно набирая пассажиров. Когда он заглох — где-то в провинции Масвинго, — Артур и еще несколько работоспособных мужчин вызвались его толкать.
К месту назначения он прибыл только вечером. Чиредзи — маленький административный центр на Нижнем Велде — выживал благодаря сахарным плантациям у границ Мозамбика. Станция «Смиренных братьев» находилась в нескольких милях к югу от города.
Артур отправился туда пешком. Станция оказалась одноэтажным шлакоблочным зданием с красной черепичной крышей. Вдали теснились крытые соломой лачуги, причем некоторые стояли на сваях. Навстречу Артуру вышел хрупкий представитель церкви, назвавшийся Рафтером Бенсоном.
— Вы тут один? — спросил Артур.
— Да, мы с вами одни, — ответил тот, подтвердив его худшие опасения. — Давайте-ка сюда вашу сумку. Ого, тяжелая!
У Рафтера была соломенная шляпа и тонкие ноги-палочки, как у мультяшной пичуги. Он рассказал, что поселился тут два месяца назад и с тех пор готовил дом к прибытию Артура.
— Прочел вашу книгу раз сто, наверное. Не могу сказать, что все понял… Но вы явно знаете, о чем пишете.
— Вы — миссионер? — спросил Артур.
— О нет, нет-нет-нет, — ответил Рафтер. — «Смиренные братья» не занимаются прозелетизмом. По крайней мере, открыто. У нас более… гуманитарный подход. Мы помогаем нуждающимся. И если в процессе у кого-то из них возникает желание разделить наши взгляды на мир, мы, разумеется, им не мешаем.
— Вы здесь уже бывали? — спросил Артур. — В этой части света?
— Лично я? Нет. Это мой первый волонтерский выезд.
— Ну а церковь? «Смиренные братья» имеют какие-то наработки в регионе?
Рафтер смутился:
— А мы, по-вашему, здесь зачем?
— Так что же, мы первые? — Артур покачал головой. — Я думал, вы что-то знаете об этих местах. Или хотя бы познакомите меня с другими волонтерами и соцработниками, которые могут…
— Не-а. Это терра инкогнита. Так сказать. — Рафтер улыбнулся. — Зато какое приключение, а? Ну, идемте в дом, расскажете мне о своих планах.
Для Артура это была в первую очередь миссия по восстановлению человеческого достоинства. Насколько он знал, в сельской местности Зимбабве отсутствовали даже элементарные санитарные удобства. Самые бедные граждане справляли нужду прямо в кустах, заражая огромное количество колодцев и источников воды, да и тем, кому повезло жить неподалеку от нужников — разбитых хибар, построенных над выгребными ямами, — приходилось ненамного лучше. Строительство прочных туалетов стоило больших денег, а хлипкие конструкции частенько разваливались под собственной тяжестью, образуя на переудобренной почве вонючие руины, которые никто не спешил убирать, — памятники человеческой лени и безалаберности. Артур считал, что каждый гражданин страны, ступившей на путь модернизации (а не только Мойо и их зажиточные друзья), заслуживает право пользования удобным, надежным и гигиеничным отхожим местом. Люди должны жить полноценной и плодотворной жизнью, а не бояться болезней, распространение которых легко предотвратить.
— Ого, — сказал Рафтер, ставя на пол его сумку, — вот это да! Почту за честь работать с вами.
Отдельных комнат на станции не предполагалось: это был просто длинный сарай, в одном конце которого стояли две койки, а в другом громоздились коробки с консервами, фонариками, батарейками и прочими припасами. Посередине была установлена раковина, а под ней стояло больничное судно.
— Выбирайте любую койку, — сказал Рафтер. — Или, если угодно, займите обе: их можно составить вместе, получится двуспальная кровать. Я и на полу могу поспать, мне не трудно.
Несколько недель Рафтер собирал песок и цемент для смешивания с Артуровой пастой (ее консистенция чем-то напоминала ту самую маисовую кашу). Он изучал местность и помогал создавать опытный образец будущего туалета. Он был патологически услужлив, что делало его великолепным ассистентом и ужасным компаньоном. Рафтер без конца спрашивал Артура, удобно ли ему, всего ли хватает и не может ли он что-нибудь для него сделать. Себя он считал простым смердом, топчущим Божью землю, однако здесь, в Зимбабве, — в отсутствие церквей и прочих напоминаний о Нем — он целиком посвятил себя служению Артуру. Перефразируя песню, которую в ту пору только-только начали крутить на зимбабвийском радио (хотя она была написана десять лет назад): «Коль не можешь служить богу, которого любишь, служи тому, который рядом с тобой»{29}.
Как-то вечером Артур допустил промашку: спросил Рафтера, как того занесло в организацию «Смиренные братья во Христе». Тот до глубокой ночи рассказывал о своем детстве на западе Виргинии, где он с шестилетнего возраста был посвящен в духовный сан и проповедовал в церкви, практикующей поднятие змей{30}. В пятнадцать лет он убежал из дома и открыл для себя буддизм — в пустом вагоне товарного поезда, который вез его на север. Так он путешествовал на товарняках по стране, покуда в Нью-Джерси его не приютила секта мессианских иудеев.
— Но свое истинное призвание я нашел здесь, в рядах «Смиренных братьев».
— Почему ты так в этом уверен? — спросил Артур.
— Просто знаю — и все.
— Если честно, я про вашу организацию ничего не слышал.
— Мы не так давно существуем.
— Странное выражение: «новая церковь». Как церковь может быть новой?
— Когда-то ведь и Иисус был простым странником, ходившим по Галилее.
— Что ж, тут ты прав. Где у вас штаб-квартира?
— В городе Бьютт, штат Монтана.
«Смиренные братья» не вызывали у Артура большого доверия, но работа шла хорошо, и церковь поддерживала его во всех начинаниях. Стоило ему попросить материалы — через две недели они прибывали в Чиредзи. Вопросов никто не задавал.
И все же, и все же. Он скучал по Франсин. По ее обществу, по ее вере в него. И по Бостону тоже скучал. Он всерьез подсел на подаренный Луисом «Плейбой». О ходе времени он судил по громыхающим пикапам общества «Спасем детей», что раз в две недели проезжали мимо станции (Артур с горечью разглядывал их водителей и пассажиров и думал: «А ведь я мог бы работать на вас!»), и по грузовикам-рефрижераторам «Кока-кола», перевозившим вместе с содовой медицинские вакцины.
Чтобы позвонить домой, Артуру приходилось идти пешком в Чиредзи, моля бога, чтобы телефонная линия не была оборвана, потом ждать полчаса, потом еще пятнадцать минут ругаться с операторами Солсбери и Найроби, платить вперед четырнадцать долларов — все ради двухминутного, то и дело прерывающегося разговора с Франсин. Когда их наконец соединяли, язык подводил Артура. Он боялся ляпнуть что-нибудь не то, ведь расстояние усиливало любые слова, наделяло скрытым смыслом небрежные высказывания. Случайные фразы потом прокручивались в голове сотни раз, получая новые и весьма неожиданные толкования. Тишина била под дых. Любой нормальный человек превратился бы в таких условиях в параноика: почему она не взяла трубку? где пропадала? а это шипение в трубке — помехи или она игриво шикает на любовника, лежащего рядом в кровати? Артур не находил себе места от беспокойства.
Поскольку созвониться удавалось примерно раз в две недели, не чаще, и Артур, и Франсин были вынуждены выставлять себя в самом выгодном свете, демонстрировать только хорошее. На рассказы о тревогах и неприятностях не было времени — причем замалчивались и мелкие повседневные тревоги вроде отсутствия на складе арматурной сетки, и самая главная тревога, вызванная разлукой. (С разлукой ничего поделать было нельзя, а значит, и говорить о ней не стоило.) Оставалась лишь радость и любовь. Порой они действительно испытывали эти чувства, порой нет. Вместо отсутствующего чувства собеседнику выдавалась его имитация.
Очень быстро они скатились до дежурных фраз. «Я соскучилась», — говорила Франсин после нескольких секунд невыносимой тишины, и Артур, как попугай, повторял те же слова — лишь бы что-то сказать. «Скучаю. Люблю». Как ужасно — слышать признание в любви и сознавать, что им просто заполняют тишину. Но о чем тогда говорить? Общих тем с каждым днем становилось все меньше, ведь и жили они совершенно по-разному. Да Франсин эти туалеты в гробу видела! А Артуру было гигиенично насрать на «Толкование сновидений» Фрейда. Каждая минута телефонного разговора превращалась в пытку. Неужели так мало нужно, чтобы разлюбить человека? Несколько недель и 7600 миль?
В свободное от создания опытного образца и телефонных разговоров время Артур пытался рассказать о себе тем местным, что жили в лачугах близ Чиредзи. Говорили они главным образом на языках шона и тсонга, кто-то знал несколько слов по-английски. Артур пытался жестами и мимикой объяснить, что он тут делает, но специфика проекта плохо подходила для этих целей. Так и не сумев донести до местных свою мысль, Артур стал играть в футбол с их детьми: те натягивали между столбиками москитную сетку и делали импровизированные ворота. Кто-то из них носил традиционные имена, но многих детей звали на английский манер (язык завезли на континент британские колонисты и американские волонтеры). Помимо Кудашв и Кунашей, Эммануэлей и Джонатанов, Артур встречал детей по имени Шугар (в честь близлежащих сахарных плантаций), Никсон (в честь американского президента), Блессинг и Гудлайф{31}. Один мальчик, Джемролл Матимбе, названный так в честь заморского десерта, которым проезжий студент-медик из Англии угостил мать в день его рождения, особенно привязался к Артуру и стал наведываться на станцию. Несколько раз в неделю он, нарядившись в западные обноски (рубашки в клетку или «огурцы»), приходил посмотреть, как Артур работает.
Хотя Джемролл не знал английского, а Артур не знал языка шона, им было хорошо вместе. За работой Артур читал Джемроллу лекции о проекте: это, как ни странно, помогало ему отключить голову. Мальчик терпеливо слушал и время от времени отвечал на своем языке. Хотя они не понимали друг друга, Артур радовался знакомому ритму человеческой беседы и возможности поговорить с кем-то, кроме Рафтера.
Вес Джемролла куда больше мешал их дружбе, чем языковой барьер. Артур узнал, что жители зимбабвийских деревень страдают от двух видов голода: алиментарный маразм, уничтожающий плоть, и квашиоркор — недостаток белков, вызывающий вздутость живота. Джемролл явно страдал первым: грудина у него ввалилась, тонкая кожа обтянула ребра.
Артур стремился войти в положение мальчика, призвав на помощь эмпатию и фантазию. В конце концов, они оба — люди. Артур вспомнил, как в возрасте Джемролла провел лето у тети Терри, маминой сестры. Терри не вышла замуж и жила одна на востоке Бостона, где скопила огромное количество оловянных статуэток. Она непрерывно разглагольствовала о предстоящих выборах, которые якобы ставили под угрозу ее существование. Она была убежденной демократкой, но считала Кеннеди тайным агентом «Опуса деи»{32}. Готовила только одно блюдо, «рыбную пиццу», которой Артур вынужден был питаться каждый день. Сама Терри никогда не ела, лишь сидела за столом и наблюдала за Артуром. Очень скоро его начало тошнить от омерзительного вкуса залитой сыром рыбы, и он стал незаметно соскребать ее в салфетку, как только тетя отворачивалась, а затем отпрашивался в туалет и смывал все в унитаз. Все лето Артур обходился без ужина: по вечерам живот у него так урчал и ныл, что спать было невозможно. Как-то ночью он прокрался в кухню, думая найти там что-нибудь съестное, но обнаружил только одинокую банку горчицы. В холодильнике тоже было пусто. Юный Артур не понимал, зачем мать отдала его на попечение этой странной женщине, но по прошествии лет до него дошло: так она пыталась уберечь сестру от самоубийства. Как бы то ни было, осенью он вернулся в Шарон новым человеком, познавшим истинный голод. Именно этот опыт помог ему встать на место Джемролла, перенестись в его тело — перекинуть мостик между их жизнями. Великое дело — эмпатия! Он отлично понимал, что чувствует голодный ребенок. Половину причитающихся ему непортящихся продуктов — бобов, яблочного пюре, сухого молока — он отдавал Джемроллу, сознавая, впрочем, что это лишь временное решение проблемы, носившей системный характер. Жизнь мальчика пойдет на лад, думал Артур, как пошла на лад его собственная жизнь, когда он уехал от тети Терри, перестав, так сказать, быть ее колониальным подданным.
К июлю опытный образец построили: он гордо стоял в полумиле от станции и ниже по склону от ближайшего колодца. Широкий цилиндр высотой в девять футов. Наверху — вентиляционное отверстие, через которое в помещение проходил свет и воздух. Помимо семьи Джемролла, в окрестностях станции жили еще три семьи, но Артур воздвигнул свою постройку рядом с домом нового друга.
— И устроил Моисей жертвенник, — сказал Рафтер, глядя на дело их рук, — и нарек ему имя: Иегова Нисси{33}.
Следующие несколько недель Артур почти не отходил от общественной уборной и демонстрировал любопытным местным жителям, как устроен туалет и как его обслуживать. Заодно он показывал, как смешивать специальную пасту с цементом, песком и водой, а получившуюся смесь выливать на железную сетку. Артур как мог пытался донести до местных, что паста позволит им сэкономить цемент. У туалета имелась деревянная дверь на пружинных петлях, а вся конструкция стояла на круглой бетонной плите с отверстием посередине, установленной над глубокой выгребной ямой. Стройматериалы для одного туалета обходились в двенадцать долларов. Артур показывал, как делать влажную уборку, и с гордостью смотрел, как люди по очереди посещают его детище. Отныне деревенским жителям района Чиредзи не придется справлять нужду в убогих скворечниках или того хуже — в кустах у реки.
Рафтер сфотографировал Артура и Джемролла рядом с туалетом. Одну пленку Артур оставил себе, а вторую отправил руководству «Смиренных братьев» — те в ответ прислали еще денег. Артуру предстояло построить несколько туалетов на западе, в окрестностях соседнего Триангла, и на юге — в долине Гиппо. Он нанял в Чиредзи рабочих и стал обучать их строительному делу, все чаще делегируя обязанности Рафтеру и рабочим. Туалеты Альтера начали появляться по всей провинции Масвинго.
В сентябре Артуру пришла телеграмма:
Артур. Приезжай к нам на званый ужин в эти выходные. Пора тебе немного отдохнуть. Искренне твой, Луис Мойо-старший.
Через несколько дней за ним приехал белый «мерседес».
— Что мне делать, пока вы в отъезде? — спросил Рафтер.
Артур ласково похлопал его по щеке:
— Просто строй.
Всю дорогу до Солсбери он проспал. Коричневое кожаное сиденье приятно холодило шею, шофер не говорил ни слова. На закате «мерседес» остановился перед домом Мойо, и Артур кое-как очухался. Увидел знакомый особняк — и его тут же замутило от стыда. Когда он впервые прибыл в Солсбери, у него не было других точек отсчета, кроме Бостона. Но, прожив несколько месяцев среди бедных зимбабвийцев, он больше не мог восхищаться богатством семьи Мойо.
Тошнота преследовала его на протяжении всего ужина, приготовленного Промис и ее служанкой. Артур был слишком голоден, чтобы отказываться от еды, но за ужином ему стало совсем худо.
— Я так рада вас видеть, Артур, — сказала Промис.
— Надо же, как вы подчистили тарелку, дружище! — воскликнул Луис-старший. — Вас там, что ли, голодом морят? Ха!
Артур со злостью уставился на его недоеденную тушеную говядину.
— Как идет ваша работа? — спросила Промис.
— Хорошо идет. Первый туалет уже функционирует. Теперь будем расширяться. Вы не представляете, как благодарны местные…
— Очень даже представляю, — сказал Луис-старший.
— Лично я вами восхищаюсь, Артур, — улыбнулась Промис. — Вы американец, но приехали в такую глушь — ради туалетов! Кто бы мог подумать? — Она засмеялась.
— Местные живут очень плохо, — сказал Артур.
— Никто не хочет вставать на путь модернизации, — кивнул Луис-старший. — Советую вам не останавливаться, держать марку, иначе до финала можете и не дойти.
— Это точно, — подхватила Промис.
Артур поморщился и с трудом допил чай:
— Пойду лягу, если не возражаете.
Но сон к нему так и не пришел.
Званый обед — день рождения десятилетней девочки, дочери близких друзей Мойо, — состоялся на следующий день в доме этих самых друзей, точнее — на их роскошной зеленой лужайке. Фуршетные столики ломились от элитных спиртных напитков и креветок: пухлые розовые ракообразные лежали на краю высоких бокалов, окунув головы в соус (казалось, они жадно его пили), на серебристых блюдах блестели боками румяные цесарки и антилопье филе. Артуру удавалось скрывать ярость ровно двадцать минут — пока он ел. Но, пропустив два стаканчика «Джонни Уокера», он открыл свой гнев заново.
— Мистер Мойо, — сказал он, когда лужайка качнулась под его ногами. — Простите, но откуда у них все это?
Луис-старший улыбнулся:
— В смысле?
— На юге страны нет вообще ничего. Ни шампуня, ни бритв, ни батареек. Даже туалетная бумага — роскошь. Мне все это присылают по запросу, но я вижу жизнь местных и не понимаю: как они терпят? Они в курсе, что тут происходит? Эти креветки и виски и… Я-то думал… я думал, у вас социализм.
Луис-старший расхохотался.
— Дружище! — Его улыбка вдруг показалась Артуру омерзительной. — Такой уж в Африке социализм: что мое — то мое, а все твое — общее.
Артур отошел в дальний угол лужайки и сблевал в кусты.
Ночью ему приснилось, что он служит на флоте и должен защищать от врагов целый гарем загорелых женщин, но всякий раз, пытаясь выхватить меч, смущенно обнаруживает, что меча в ножнах нет.
В воскресенье он не вернулся в Чиредзи, как планировал, а сперва заехал на неделю в траппистский монастырь, при котором действовала больница. Там он трудился, не покладая рук: по мере сил помогал больным, вместе с монахами пек хлеб и варил пиво. На станцию «Смиренных братьев» он вернулся с похмельем в голове и новой надеждой в сердце.
— Где вы пропадали? — спросил Рафтер. Они с Джемроллом пинали во дворе футбольный мяч с логотипом «Братьев».
— Заехал кое-куда на обратном пути. Что я пропустил?
Джемролл пнул мяч. Артур поймал его ногой, и тут ему на носок упала капля дождя. Он поднял взор к темнеющему небу, затем посмотрел на Джемролла.
Мальчик пожал плечами.
— Сезон дождей, — сказал он по-английски.
К декабрю дожди усилились и участились. Строительство «туалетов Альтера» встало. Но когда в середине месяца на целую неделю установилась ясная погода, никто из нанятых Артуром людей не явился на работу. Джемролл тоже пропал. Артур отправил Рафтера в город: узнать, что произошло.
Вернулся тот очень скоро. Почему-то он натянул ворот футболки себе на рот.
— Фонна лень.
— Чего?
Рафтер убрал футболку со рта:
— Сонная болезнь!
Он натянул рукава и закрыл ими кисти рук.
— Что ты делаешь?!
— Прячу открытое тело. Артур, надо спасаться.
— Я оставил бетономешалку у туалета. Пойдем сходим за ней.
— Артур…
— Давай-давай. Объяснишь все по дороге.
— Сонная болезнь! — нервно озираясь по сторонам, повторил Рафтер, когда они зашагали к туалету. — Ее переносят мухи цеце. Она разрушает нервную систему.
— Какая-то эпидемия, что ли?
— Да, больница Чиредзи забита битком. Они больше не берут пациентов.
— Наши рабочие там?
— Вы не понимаете, Артур! Болеют все поголовно…
— Это смертельно?
— Смотря как лечить. В больнице нет свободных коек, люди лежат на полу.
— Что же, и Джемролл…
Рафтер вскинул руки:
— Честно? Я сейчас больше переживаю за нас с вами!
— И что будем делать?
— Не знаю… Засядем на станции, устроим карантин. Может, болезнь отступит… Я звонил в нашу штаб-квартиру, оставил им сообщение. Завтра попробую дозвониться еще раз. А пока надо держаться подальше от любых…
Он умолк. Они подошли к туалету. Вокруг него стояла стена низкого гула.
— Артур… Смотрите! — Дрожащей рукой Рафтер показал на крышу туалета.
Артур проследил взглядом за его пальцем и увидел, что всю верхнюю часть постройки облепили черные точки.
У Рафтера отпала челюсть.
— Они летят на запах, — сказал он. — Господи!
Артур сделал шаг вперед.
— Куда вы?!
— Хочу посмотреть.
— Спятили?! Они же там размножаются!
— Мне надо знать, — процедил Артур. — Я хочу убедиться!
— Я вас не пущу! — Рафтер схватил его за грудки. — Не позволю, чтобы и вы заразились!
А дальше начался сущий кошмар. По региону поползли слухи. Местные стали подозрительно коситься на приезжих белых, поселившихся на станции. Дети сбивались в стайки и швыряли камни в «туалеты Альтера», пока к ним не подлетали матери: унося детей, они строго-настрого запрещали им подходить к этим проклятым постройкам. Рафтер перестал говорить. Его одолела такая тяжелая депрессия, что даже самая истовая вера была перед ней бессильна. И вера его — в Артура, в идеалы, проповедуемые «Смиренными братьями», — пошатнулась. Видимо, он что-то сказал руководству, поскольку в конце декабря от них пришло письмо: в весьма энергичных выражениях они сообщали, что прекращают финансирование.
Надо было срочно покупать билет домой. Артур отправился пешком в город, надеясь уйти незамеченным. Он чувствовал себя выпотрошенным, выскобленным, пустым. Мойо ему опротивели. Да он и сам себе опротивел. Шагая по дороге, неспешно петляющей до автовокзала Чиредзи, сам не свой от отчаяния, Артур споткнулся о камень и плашмя упал в пыль. Шли минуты. Он не двигался. Зачем? Тут ему самое место. «Ты — дерьмо, — сказал он себе. — Вот и лежи на земле».
Однако солнце уже садилось, а телефоны ночью не работали. Артур вздохнул и кое-как поднялся, отряхнул живот, вытер руки о джинсы. И — увидел.
Впереди, чуть в стороне от дороги, стоял туалет Альтера. Но что он тут делал? Кто построил туалет на этой извилистой дороге, да к тому же рядом с городом? Он не помнил, чтобы одобрял этот объект…
Он осторожно приблизился. Издалека туалет действительно напоминал его творение, но имел конструкцию в виде спирали — необходимость в двери отпадала — и был построен из какого-то армоцемента. Кроме того, из основания торчала черная вентиляционная труба около девяти футов в высоту. И туалет был не новый: стены имели уже изрядно потрепанный вид.
Артур не сразу сообразил, что это значит. Когда же до него наконец дошло (за счет вентиляционной трубы осуществлялось проветривание выгребной ямы; мухи могли проникнуть в помещение по спиральному проходу, но их привлекал свет в конце трубы; конец трубы был оборудован тонкой москитной сеткой; в общем и целом конструкция была куда более совершенная, чем его, и простояла здесь уже несколько лет), он понял, почему никто не хотел финансировать проект.
Его идея была не нова. Он предложил решение проблемы, которую уже решили до него. «Смиренные братья» просто были не в курсе. А Артур, самовлюбленный дурак, не удосужился навести справки. Колени у него подогнулись, и он вновь упал на землю.
Часть II
8
Кляйны уж точно не были самой несчастной семьей на Фолсом-драйв, но и самой счастливой тоже не были: радоваться жизни им мешал страдавший депрессией отец-математик. Он спал по шестнадцать часов в сутки, работал, не вставая с постели, и поднимался только затем, чтобы шумно и мучительно помочиться или посидеть в своем кресле из кожзама. Если кто-то из дочерей спрашивал, что он делает — сидя в кресле с отрешенным лицом, — он отвечал самым сумрачным своим тоном: «Пишу книгу». «Как будто за ходячий труп замуж вышла», — жаловалась мать подружкам по телефону, и Франсин, подслушивая ее разговоры из соседней комнаты, невольно соглашалась: у грузного Папы Кляйна в самом деле был бездушный взгляд мертвеца. Но восьмилетней девочке становилось страшно, когда мать так откровенно рассказывала о своих тревогах. До сих пор она свято верила, что папа у них просто задумчивый: бьется у себя в мыслях с какой-нибудь сложной теорией, без конца решает уравнения в поисках заветного икса.
Никаких особых примет у дома Кляйнов не было, если не считать его размеров. То был самый крошечный дом на всей улице, что донельзя раздражало миссис Кляйн. Недостаток высоты и ширины семейного гнезда она компенсировала трепетной заботой о его внутреннем наполнении. Над застеленным ковролином полом и ободранной мебелью висели пастельные портреты арлекинов — нарисованные ею самой. Она берегла их как музейные экспонаты и заставляла всю семью неукоснительно соблюдать ряд правил. Не шуметь. Не ходить в уличной обуви по гостиной. Не дышать на Произведения Искусства.
С миссис Кляйн надо было держать ухо востро. Тонкая, как игла, женщина с высоким «ульем» на голове, обтянутым тонкой сеточкой, она без труда считывала социальные подтексты и была гениальным критиком с богатым арсеналом комплиментов-шпилек вроде: «Какое чудо, что ты хотя бы фотогенична», или: «С такими широкими плечами, как у тебя, можно позволить себе эту блузку». Миссис Кляйн записалась во все женские общества и ассоциации города с одной-единственной целью: ежедневно разносить в пух и прах товарок. Франсин научилась предсказывать мамины выпады и правильно на них реагировать, поэтому отделалась малой кровью. А вот ее младшей сестре, своевольной и вздорной Ребекке — Бекс, — нелегко пришлось: та приспосабливаться не умела и днями напролет ругалась с матерью.
Миссис Кляйн прятала жало только в шаббат: ее муж в этот день обязан был разделить трапезу с семьей. Она зажигала свечи и тут же быстренько прикрывала глаза, чтобы прочесть молитву на иврите. Когда она их открывала, то первым делом видела свет. В Дни Трепета она тоже хорошо себя вела, и по этой причине Франсин всегда с нетерпением ждала осени: целых десять искупительных дней мать старательно изображала доброту и мягкосердечие, дабы быть записанной в книгу жизни.
Когда девочки еще были маленькими, первая книга их отца — не трактат, как выяснилось, а учебник по матанализу для первокурсников — получила неплохое признание: ее взяли на вооружение во многих университетах страны. Нежданное счастье закончилось приобретением пустующего соседнего дома и второго автомобиля, зеленой «импалы». Дом был куплен для матери Папы Кляйна, что привело его жену в ярость, ведь просторное жилье на Фолсом-драйв пригодилось бы ей самой, а свекровь ничем не заслужила такого щедрого жеста.
Примерно в ту пору Франсин начала задумываться о справедливости. Когда она спрашивала маму, почему в их семье есть целых два автомобиля, а у ее подруги Элли только один, миссис Кляйн без лишних церемоний отвечала: «Потому что папа Элли пропивает всю зарплату». Именно от бабушки, папиной мамы, которая поселилась рядом и во многом заменила девочкам мать, Франсин научилась чувству справедливости.
— Вашему папе просто повезло, — отвечала бабушка Руфь на тот же вопрос. — Давайте сделаем так: за обедом ты станешь отдавать Элли половинку своего печенья.
— Зачем? — удивилась Франсин.
— Чтобы поступать по справедливости. Чтобы у всех всего было поровну.
— Но половинка печенья не заменит ей автомобиль!
Бабушка Руфь улыбалась, и в глазах ее вспыхивал знаменитый огонек, украшавший всех женщин ее рода.
— Ты такая умница!
— Но ведь машина…
— Да, ты права. Половинка печенья не заменит автомобиль. Но печенье, которым ты с ней поделишься, может со временем превратиться в нечто гораздо большее…
Урок был усвоен. Когда папа однажды избил Бекс — впрочем, тогда говорили не «избил», а «отшлепал», подразумевая удары открытой ладонью, только Бекс, увы, достались не они, — Франсин пришла в ярость.
— Что случилось? — спросила она, осматривая синяк на руке сестры.
Бекс всхлипнула, ее плечи содрогнулись.
— Я говорила по телефону после шести вечера… — Запрет на телефонные разговоры после шести ввела, конечно же, их мать. — Я звонила Мари — спросить про домашку, клянусь!
На следующий вечер Франсин дождалась шести вечера и позвонила в справочную. Когда на место преступления пришел отец, она положила трубку, закрыла глаза и протянула ему левую руку.
— Побей и меня! — сказала она, надеясь, что синяк на ее руке подбодрит сестру и восстановит семейное равновесие.
Папа Кляйн постоял с минуту, вращая глазами, подернутыми белесой катарактой, и с ворчанием скрылся в своем кабинете.
Когда Франсин рассказала бабушке о случившемся, у Руфи перехватило дыхание. Она поправила руками облачко белых волос и сказала:
— Увы, человек не может исправить все на свете. Наши возможности не безграничны.
Сестры Кляйн обожали тематические вечера. Больше всего им нравилось отмечать дни рождения в «Тропиках» — прокуренном кафе с голубыми светильниками, соломенным навесом, официантками-полинезийками и бесплатными спичками, на коробках которых красовались голые девицы. Сестры любили все экзотическое, все чужеродное Огайо, но еще больше им нравилась сама идея тематического ресторана — места, где можно затеряться в декорациях и где действуют совсем иные правила. У них дома было так много правил, свирепо насаждаемых сумасбродкой и тираншей, что любая передышка, любая возможность пожить в другом пространстве, существование которого бросало вызов устоям их семьи, доставляла огромное удовольствие. Когда девочкам было по восемь и десять лет, случилось нежданное счастье: их повезли в «Диснейленд». И хотя многие аттракционы, о которых они так давно мечтали, оказались им не по росту, сестры ничуть не огорчились. Зато можно было пожить в удивительном мире с собственной эстетикой, валютой и философией. Они с упоением погрузились в новую тему.
Ближе к старшим классам миссис Кляйн начала искать в дочерях отличия. «Франсин у нас умненькая, — рассказывала она всем, кто соглашался слушать, — а Ребекку хлебом не корми, дай повеселиться». Подобные реплики имели интересный спецэффект: обидно становилось обеим ее дочерям.
На самом деле все было не так. Да, Бекс «веселилась» более очевидным образом: косметика, вечеринки, смех с открытым ртом. Франсин, хоть и предпочитала посидеть дома с книгой, тоже умела «веселиться», просто делала это по-своему — и в одиночку. Если Франсин была девушкой эрудированной, то Бекс обладала житейской мудростью и «срывала розы поскорей»{34}, чем заработала себе репутацию сердцеедки задолго до того, как ее старшая сестра задумалась о любви.
Девочки росли, и их тела формировались в соответствии с мамиными представлениями. Бекс оставалась худой и привлекательной, веснушки у нее пропали, а смех стал еще громче. Франсин то набирала, то скидывала вес в зависимости от даты: перед экзаменами и прочими волнительными событиями она раздувалась, как шарик.
Несмотря на это, Бекс всегда равнялась на сестру, чувствуя, что таланты Франсин вызывают у родителей больше уважения. Миссис Кляйн ввиду склонности к мизантропии никогда не вела светского образа жизни, а Папа Кляйн попросту отсутствовал, точнее, обретался в невидимых семье сферах. К несчастью для Бекс, харизму в их доме не держали за добродетель. Она восхищалась примерным поведением Франсин, ее оценками и умом, а та в свою очередь не без зависти слушала рассказы младшей сестры о вечеринках, которые та посетила, и о мальчиках, которых та целовала.
В шестнадцать лет, однако, Франсин обнаружила, что больше не может служить примером для сестры. Ее неискоренимая хандра могла дать фору отцовской. Кляйны уже много лет жили на авторские отчисления с папиного учебника и приобрели скорбные физиономии людей, наживающихся на прошлых заслугах и даже не пытающихся добиться чего-то нового. Депрессия обрушилась на семью подобно чуме. Масла в огонь подливала напряженная ситуация в школе Мидоудейла, где училась Франсин: там до сих пор не улеглись страсти по Лестеру Митчеллу, афроамериканцу, застреленному три года назад неизвестным белым преступником. Поскольку класс Франсин на семьдесят процентов состоял из чернокожих, отношения между ними и белыми учениками накалились до предела. Близняшки Эйда и Айда, приезжавшие в школу на автобусе из куда менее благополучных районов, чем Фолсом-драйв, восемь месяцев подряд выслеживали Франсин, потому что та однажды «странно на них посмотрела» на уроке физкультуры.
В их обвинении могла быть доля правды. В старших классах Франсин почти все время смотрела куда-то в пустоту, особенно на уроках физкультуры. Почти всю подростковую пору она провела в полузабытьи: училась без какого-либо энтузиазма или интереса, а после уроков подолгу сидела одна у себя в комнате. Она избегала матери; избегала близняшек; избегала встреч с собственным отражением в зеркале. Она казалась себе толстой уродиной. Одиночество в общем и целом ее устраивало, но мысль о том, что жизнь может быть лучше, не давала покоя.
И жизнь действительно могла быть лучше. Устав от Мидоудейла, Франсин упросила родителей потратить часть «учебниковых» денег на частную школу в получасе езды от дома Кляйнов. Там она расцвела. В каждом классе было по двенадцать учеников, и все учителя имели ученые степени. Франсин начала встречаться с гениальным кларнетистом. Она могла бы грызть себя за то, что судьба подарила ей больше возможностей (чем Эйде и Айде, к примеру), но муки совести заглушало чувство, что ей еще никогда не было так весело. Так хорошо. Ведь именно тогда, в 1970 году, Франсин влюбилась в Париж.
Отчасти то была заслуга очень симпатичного молодого учителя с дипломом по французской литературе, но в большей степени влюбленность объяснялась внезапным осознанием, что Париж — это анти-Дейтон: утонченный, искушенный, интеллигентный. Он часто ей снился. Париж — целый город, посвященный одной-единственной теме! Теме Парижа! Франсин начала отрабатывать перед зеркалом французские лица, каждое из которых принадлежало доселе несознаваемым, но теперь явившим себя личностям: Задумчивый Критик, Осуждающий Наблюдатель, Брошенная Любовница. Она стала одеваться в черное и начала курить. Появление нового интереса замечательно совпало по времени с юношеским максимализмом, вызванным гормональными бурями, и растущей разочарованностью в родителях. Франсин научилась скрывать свое недовольство за умными цитатами («L’enfer, c’est les autres»){35}, вместо того чтобы вступать с родителями в открытые конфликты, как это делала ее младшая сестра.
Франсин снимала маску только рядом с бабушкой — она могла упоенно, в самых немодных и нефранцузских терминах рассказывать той, как любит язык и культуру Франции, гортанное «р», экзистенциальный феминизм… Даже унылые пейзажи со сборщицами колосьев середины XIX столетия каким-то необъяснимым образом запали ей в душу.
— Когда-нибудь, — сказала бабушка Руфь, — ты поедешь в Париж и пришлешь мне оттуда открытку.
Франсин кивнула.
— Непременно, — пообещала она. — Непременно!
В одиннадцатом классе французский у них вела тридцатилетняя Джоанна: у нее был сиплый голос и явные проблемы с границами. Казалось, она всю жизнь ждала наступления 70-х. Джоанна носила гетры и мини-юбки в клеточку, изображая, судя по всему, развратную школьницу; несколько лет спустя ее тихо уволили за растление несовершеннолетних — двое из парней, с которыми она спала, не сумели сохранить это в тайне. Франсин была заворожена умной и искушенной «француженкой». Джоанна готовила свою протеже к заветной поездке в Город Света. Следовало знать правила — но то были разумные, элегантные правила! Не дарить вино к ужину. Не надевать кроссовки на улицу. Каждый день покупать свежий хлеб. Франсин узнала, например, что ни в коем случае нельзя дарить хозяйке дома хризантемы — это символ смерти, и ими принято украшать могилы в День Всех Святых. А сколько еще ей предстояло узнать…
По французскому она, разумеется, получила высший балл и незадолго до выпускного решила, что будет изучать его в Норфолке, в Университете Уэллсли — подальше от дома и матери, которая жила с покойником (причем в прямом смысле этого слова) и потихоньку начинала сходить с ума: устраивала истерики и раздирала себе лицо.
— Ну зачем ты попрешься в такую даль? — однажды спросила ее мать, дрожащими руками поглаживая запекшуюся царапину на щеке. — Ты теперь лесбиянка?
— Нет, — ответила Франсин сквозь высокий воротник черной водолазки, который натянула до самого носа. — Там очень сильный французский.
— Неужто во всех остальных университетах между Дейтоном и Массачусетсом французский слабый?
— Это один из лучших вузов страны.
— Что же прикажешь делать, пока тебя нет?!
— Бекс еще два года пробудет здесь. И она, кстати, собиралась учиться в Огайо, помнишь?
— Реббека — глупышка. Она несерьезная. Не такая умница, как ты.
Франсин отвернулась:
— Извини.
— Обещай, что купишь себе новые наряды.
— А что не так с моими нарядами?
— Одно черное. Все черное! Почему? У тебя депрессия, что ли?
— Мам…
— Вот именно. Никакой депрессии. — Она вздрогнула, содрав корку с царапины. — Ты не имеешь права на депрессию, ясно? Слышишь меня? Не имеешь права!
Когда бабушка Руфь умерла, казалось, что только Франсин и расстроилась. Она рыдала неделю напролет — никогда еще ей не было так одиноко. Тем временем мама присвоила соседний дом и заговорила о незаконном строительстве перехода между двумя домами — чтобы получился один длинный. Никто не произносил речей, не устраивал поминок. Франсин поручили написать некролог, появившийся позднее на последней странице «Дейтон дейли ньюс»:
16 марта 1971 года, в четверг, на 74 году жизни, скончалась Руфь Кляйн, любимая мать, сестра и бабушка. Смерть наступила от естественных причин. По ней глубоко скорбят сестра, Миртл Кляйн (г. Колумбус), и сын, Дэвид Кляйн, а также его дочери, Франсин и Ребекка Кляйн (г. Дейтон).
— Слишком много запятых, — заявила миссис Кляйн, прочитав текст у нее из-за плеча. — Черт ногу сломит.
В целом Франсин не считала свое детство особо тяжелым или травматичным (сравнивать-то было не с чем), пока спустя несколько лет не начала всерьез изучать психологию. На выбор призвания повлияло, помимо прочего, знакомство со случайно забытой на столе маминой книгой «Игры, в которые играют люди».
Лето после школьного выпускного ознаменовалось двумя важными письмами. Сперва пришел опросник из Уэллсли: они подбирали для Франсин соседку по комнате в общежитии и спрашивали, когда она ложится и встает, где предпочитает готовиться к занятиям — у себя или в библиотеке, любит ли громко слушать музыку. Франсин пришла в растерянность. Как можно заранее узнать, какие привычки у тебя будут в университете? Как описать саму себя, если ты ничего о себе не знаешь? Она успела морально подготовиться, что будет изучать французский язык и культуру на Восточном побережье, но не ожидала, что ее будут учить жизни.
Один вопрос особенно ее беспокоил. Вы курите? Строго говоря, да, Франсин была курильщицей — но не всю жизнь, а только пару лет. Она не курила гораздо дольше, чем курила, и начала делать это только потому, что заинтересовалась французским. Ей было неприятно называть себя курильщицей. Она — франкофил, поэтому и курит. Кроме того, не хватало еще, чтобы мать нашла опросник и принялась третировать ее из-за сигарет. (Миссис Кляйн очень переживала, что табачные токсины могут испортить ее шедевры.) Словом, Франсин ответила «НЕТ». Она не курит.
Второе письмо пришло через месяц — оно было от Мэри Руни, которую университет подобрал ей в соседки.
Дорогая Фрэн (можно так тебя называть?).
Мне не терпится с тобой познакомиться и начать учебу в университете. Думаю, будет здорово. Моя старшая сестра тоже училась в Уэллсли, и ей очень понравилось. Я из городка Бала Синвайд, штат Пенсильвания. Люблю хоккей с мячом, но в универе играть не собираюсь: наверное, времени не будет. У меня такой вопрос: кто из нас привезет стереосистему? Хочу, чтобы у нас в комнате она была. Я могу привезти, если ты не собираешься захватить свою.
С уважением,
Мэри Руни.
Безобидное послание привело Франсин в ярость. Может, сказывались нервы, но соседкин тон ее взбесил, особенно то, как запросто она решила, будто у Франсин есть стереосистема (система у нее действительно была, но все же). Далеко не у каждого есть стерео! Что за бестактность! У многих, например у ее подруги Элли, стерео нет. Да и свою систему Франсин бы не привезла, потому что она была у них с Бекс общая, одна на двоих. Кляйны вполне могли позволить себе две стереосистемы, но очередное бредовое правило миссис Кляйн гласило: каждой вещи строго по одной.
В сентябре 1971-го Франсин переехала в Массачусетс, поклявшись себе, что домой больше не вернется — разве что приедет в гости уже полностью состоявшимся и независимым человеком. Новая Англия мгновенно ее покорила, и кампус был само совершенство — сразу чувствовалось влияние Олмстеда{36}. Озеро, ледниковый рельеф, желтеющие по осени лиственницы… Франсин была очарована. Ее комната находилась в величественном Кейзнов-холле. Даже Мэри Руни оказалась славной (хотя Франсин очень пожалела, что соврала насчет курения — теперь приходилось хранить свою привычку в тайне), а дружные соседи по коридору помогли ей удержаться на плаву во время нешуточной качки адаптационного периода. У нее появились друзья с интересными биографиями, родом из интересных мест: гениальная девушка-физик с Верхнего полуострова{37}; наследница торгово-розничной империи, не оправдавшая ожиданий родителей и оказавшаяся лесбиянкой; юная поэтесса с собственным загородным домом на таинственном Кейп-Коде. Отсутствие мужчин не представляло проблемы — как правило. Франсин скучала по парням, по их присутствию и очаровательному идиотизму, но ведь она приехала сюда учиться и добиваться признания. Уэллсли славился тем, что превращал девочек в серьезных ученых женщин. К тому же рядом был Бостон: автобус ходил прямо от кампуса и приезжал аккурат на Гарвард-Сквер — в это краснокирпичное, кованно-железное средоточие истории и интеллекта.
Время от времени Франсин ощущала уколы тоски по дому. Миссис Кляйн настаивала, чтобы дочь получила двойную специальность, поскольку «бестолковый французский на хлеб не намажешь». Франсин выбрала психологию. «Ну что ж… две бестолковые специальности лучше, чем одна», — рассудила мать. И пусть психологии как предмету не хватало шика, Франсин была для нее создана (а вот любимый французский оказался не ее коньком, в чем она сумела признаться себе лишь спустя несколько лет). «Справочник психических расстройств» стал прямо-таки картой, подсказавшей ей путь к сердцам и умам своих родителей.
Впрочем, первые годы учебы в университете вели ее к одному событию, к одному-единственному месту, где она могла применить на практике свои знания и открыто курить прямо на улице. Этим местом был, конечно, Париж. В конце второго курса она подала заявку на участие в программе по обмену студентами длительностью в два семестра.
Они сняли квартирку в Пятом округе Парижа, рядом со станцией метро «Сансье-Добантон»: по выходным Франсин просыпалась от гама и суеты базаров на улице Муфтар, от запаха свежего хлеба и чесночной колбасы, от крика лавочников, торгующих гондурасскими грейпфрутами, калифорнийскими лимонами, голубиными яйцами, крольчатиной и колбасами. Ее соседкой стала однокурсница Линда Сассман, на четверть корсиканка, получившая в Уэллсли статус СКДнК — Самой Красивой Девушки на Кампусе. Та умудрилась, заблаговременно отправив за океан несколько своих стильных фотопортретов, подцепить в Париже парня, причем еще до того, как очутилась в Европе. У Жан-Шарля оказались такие же голубые глаза, как у Линды. Отец у него был египтолог.
Их квартирка размерами не отличалась: крошка-кухня да гостиная с альковом, который мог с натяжкой сойти за спальню. Но кого это волновало? Главное — они в Париже. Каждое утро Жан-Шарль и его друг Гийом приносили свежий багет. Франсин и Линда поджидали их с горячим кофе, маслом и джемом. Эти четверо, еще два Пьера (ле Блонд и ле Брюн), а также наркоманка в завязке по имени Сесиль составляли bande d’amis[5], регулярно обедавшую в «Четырех сержантах». Официанты и прочие сотрудники «Четырех сержантов» приезжали на работу сразу после утренних занятий в Лицее Генриха IV. Отношения вышеупомянутых людей пестрили сочными подробностями: Гийом раньше встречался с Сесиль и даже помог ей завязать с наркотиками, но теперь та влюбилась в Пьера ле Блонда. Линда — обладавшая неплохим философским багажом и коннектикутским носиком — разлучила Жан-Шарля с его бывшей — сестрой Гийома. Как по-французски! Франсин обожала обеды в «Четырех сержантах» и готова была питаться одними лишь сплетнями (и эпизодическими знаками внимания от Гийома). В дальнем конце зала стоял музыкальный автомат с американской музыкой: Пьер ле Брюн время от времени включал «Johnny B. Good» и громко, с сильнейшим акцентом подпевал Чаку Берри{38}. Друзья так часто собирались в «Четырех сержантах», что хозяева заведения, месье и мадам Т., стали подходить к их столику и предлагать сигареты. Франсин всегда соглашалась — отчасти для того, чтобы услышать от вернувшегося с пачкой красных «Ротманс» месье Т. обязательное: «Rouge et mûr comme les tomates en Californie»[6].
Безусловно, американское происхождение придавало Франсин определенный налет экзотичности, но все же своей неожиданной популярностью она была обязана только сожительству с Линдой Сассман. Линда была создана для Парижа, куда приезжали «на людей посмотреть и себя показать»: недаром стулья на террасах городских кафе были развернуты к улице. Вся их компания держалась на Линде, и даже Гийом не мог долго обижаться на такую красавицу, хотя ради нее лучший друг бросил его родную сестру.
По субботам Франсин ходила в кино. Линда в этот день обычно встречалась с Жан-Шарлем или готовилась к занятиям в библиотеке Святой Женевьевы (хотя невозможно было представить это беспощадно прекрасное создание за таким анахроничным предметом, как книга), а вот Гийом с радостью составлял ей компанию — чтобы немного отдохнуть от манипулятивной и предрасположенной к зависимостям Сесиль. Они открывали журнал «Парископ» и изучали афиши. То был год знакомства Франсин с мировой культурой, год Хичкока, Антониони, Годара, Феллини. За все время, проведенное за рубежом, она посмотрела только два современных фильма: «Американское граффити» (по настоянию затосковавшей по дому Линды) и «Может ли диалектика разбивать кирпичи?» (по просьбе Гийома).
А еще в тот год Франсин получала традиционное образование, пусть и с европейским уклоном в интеллектуальное теоретизирование, которого было не встретить даже в кондовом Уэллсли. Франсин решила писать курсовую о феноменологе Морисе Мерло-Понти — не самом прославленном философе (учитывая огромный простор для выбора), однако Франсин чувствовала свою с ним солидарность. Его положение в научном мире было ей близко и понятно. Сама она тоже не отличалась честолюбием (Гийом, например, мечтал возглавить новое движение в кинематографе) и не стремилась привлекать к себе внимание окружающих, как Линда Сассман. Франсин была просто умной, и ей хватало ума понять, на что она способна, а на что нет. Она никогда не выделялась среди общей массы студентов Уэллсли, никогда не была Сартром, а только — Мерло-Понти, умной, основательной и благонадежной, вносившей свой скромный, но важный вклад в общее дело. Кроме того, ей нравилось это направление в философии: феноменология. Изучая наследие Мерло-Понти, Франсин, по сути, писала курсовую по психологии, но на французском языке.
В День перемирия вся банда «4С» погрузилась в электричку и отправилась в кафе «Кёниг» в Баден-Бадене, где, оправданные историей, они ели круассаны и громко болтали по-французски, после чего с хохотом и замиранием сердца скрывались бегством. Ночевали в Страсбурге, у родителей Гийома.
— Donc[7], Франсин, скажи мне: что ты планируешь делать со своей жизнью? — обратилась к ней его мать.
Вопрос был странный. До Франсин вдруг дошло, что родная мать никогда не спрашивала ее о таких вещах.
— Ну… — Она откашлялась. — Наверное… мне бы хотелось изучать — а потом практиковать — психологию.
Мама Гийома смутилась и что-то спросила у сына.
— А! — вдруг воскликнула она и важно кивнула. — Psychologie! Bon. Очень хорошо. Мне кажется, ты сможешь. Ты будешь просто magnifique[8].
Той зимой Франсин дважды переспала с Гийомом, но видела в нем только друга и была этому рада. Ничего иного ей и не хотелось. Сесиль бросила Пьера ле Блонда, опять села на иглу, а потом — с помощью Гийома — опять завязала. Дружба побеждала все.
Весной, когда потеплело и можно было снова путешествовать, Франсин и Линда купили билеты в Австрию. Бабушка Руфь перед смертью успела выписать чек на тысячу долларов и дрожащими руками вручить его Франсин. Та обналичила чек, но до сих пор не потратила деньги — никак не находила достойного повода. А теперь вот нашла.
За день до их отъезда Линда слегла с коклюшем. Вместо того чтобы пригласить Гийома, Франсин решила ехать одна. Хорошо побыть немного наедине с собой, подумала она, вдали от друзей.
Она впервые отправилась в самостоятельное путешествие. Сама покупала билеты, садилась в самолеты, поезда и автобусы — и была этим очень горда. До места добралась без каких-либо проволочек, быстро нашла гостиницу и принялась с удовольствием дышать так называемым «горным воздухом».
Увы, счастье длилось недолго.
Мать, находившаяся за 4500 миль от нее, каким-то чудом вычислила отель в Инсбруке, где остановилась Франсин. Администратор позвал ее с улицы в вестибюль и вручил телефонную трубку.
— Алло?..
— Франсин! Это твоя мать.
— Мам? — Она поморщилась, услышав в мамином голосе истерические нотки.
— Ну да, я же сказала! Слушай. Ты тут?
— Тут.
— Слышишь меня?
— Слышу.
— Я звоню насчет твоего отца.
— С ним все нормально?
— Нет, нет, нет! Ненормально! Твой отец болен. Это ужасно, ужасно. Ты бы его видела… Он даже глотать не мог. Понимаешь? Не мог глотать. И лицо у него стало как… каша! Язык заплетался… Франсин, он сейчас в больнице. Возвращайся домой.
— Где Бекс?
— Дома.
— Папе уже лучше?
— Да, завтра его выписывают. Но теперь все будет иначе, понимаешь? Ты должна вернуться!
— Мам. Я в Австрии.
— Тем более — покупай билет и возвращайся.
— Я не могу. Только не сейчас.
— Ну, ты же съездила в Париж, повеселилась — и хватит. Пора возвращаться. У тебя есть обязанности. Отец даже глотать не мог. У него было лицо как каша.
Мысль о возвращении в Дейтон к больному отцу была невыносима, недопустима. Провинциальность! Зашоренность! Мамины арлекины на стенах! Бабушкин дом, пустой, захваченный, переделанный — нет! Не бывать этому. До конца семестра оставалось еще два месяца. И лето… Лето в Париже!
— Извини, — сказала она в трубку. — Я не могу.
— Франсин. Не будь такой гадиной. Не бросай меня с ним одну!
— У тебя есть Бекс. Этого достаточно.
— Мне не нужна твоя сестра, мне нужна ты! Возвращайся.
Франсин произвела в уме нехитрые расчеты и поняла, что ей хватит денег дожить до конца семестра — при условии, что друзья помогут.
— Прости.
— Франсин Кляйн, ты вернешься домой. Я тебя родила и воспитала, никто мне не помогал, я кормила тебя и плачу за твое образование, поэтому ты вернешься, ясно? Ты вернешься домой! Так правильно, так нужно. Так… справедливо!
Последнее слово больно ударило под дых. «Справедливо». Слезы брызнули на веснушки. Нет, она никогда не вернется на Фолсом-драйв, справедливо это или нет.
— Нет, мама, — ответила Франсин. — Я остаюсь.
Она положила трубку, развернулась и вышла на крыльцо — там она сидела до маминого звонка. Задвинула стул, допила апельсиновый сок, стоявший на столике. За аккуратными цветными домиками городского центра возвышались безгранично величественные горы — казалось, они совсем рядом, рукой подать. Их вершины были укутаны снегом.
— Noch eins?
Она подняла голову. Перед ней стоял, показывая пальцем на пустой стакан, администратор. Франсин, видно, задумалась и растерялась — когда она начала формулировать ответ, администратор переспросил уже по-английски:
— Еще?
9
Торнадо сорвал крышу с терминала B.
Хотя ремонтники уже тридцать часов как восстановили функциональность аэропорта на восемьдесят процентов — определили, где и какие гейты лучше открыть, перегородили нужные зоны, произвели небольшой косметический ремонт, словом, сделали все, чтобы Федеральное управление авиации могло внять требованиям крупных авиаперевозчиков и дать добро на возобновление полетов, — эти заколоченные окна, затянутые желтой лентой двери и погасшие светильники могли напугать человека неместного и незнающего, не видевшего новости. А если не напугать, так встревожить. Внушить мысль, что аэропорт построен наспех и тяп-ляп. К несчастью для Артура, его детям уже не надо было доказывать, что Сент-Луис — бедный, забытый историей город, который держится на клее и скрепках.
«Предвзятость восприятия, — подумал Артур. — Да, Франсин, я в курсе, что это такое».
Пятница. Закат. «Сперо», принадлежавшая когда-то Франсин, проехала по Оверленду, вырвалась на трассу 170 и помчалась к аэропорту, точно смертоносный астероид. Салон был залит солнечным светом (много лет подряд Артур ездил на оранжевой «хонде» с продавленным капотом, но после смерти жены продал старую машину и пересел на «сперо»). Тот же послегрозовой, загадочно яркий свет сейчас понемногу захватывал центр города: вспыхивал параболой вокруг Арки и лишь потом, отразившись в хроме, падал на поваленные столбы и прочие следы урагана. Вот, думалось Артуру, вот про что должны быть эти дни после бури, вот что должно привлечь внимание детей. Сияние, а не разруха. Свет, а не руины. Пятна золота в салоне автомобиля, а не заколоченные фанерой окна аэропорта.
Увы, как только он припарковался у выхода из зала прибытия, огромное бледное облако затянуло солнце, и к Артуру вернулись прежние тревоги.
Три дня.
За это время что угодно может пойти не так.
Артур встал на место для временной парковки, опустил боковое стекло и принялся ждать. В своем и без того возбужденном состоянии он невольно подмечал все плохое, что было вокруг. Отечные, похожие на картофельное пюре ноги ожиревших путешественников. Нарочитая нарядность пилотской формы: от золотых эполетов за милю несло комплексами. Впереди стоял белый минивэн с юным пастором за рулем, а сзади — синий пикап с похабными «автояйцами» под бампером{39}. Диптих «Средний Запад».
Нервы довели бульон его мыслей до кипения. Он потянул вверх ремень безопасности, ощутил, как тот сдавливает грудь, и ненадолго предался аутоасфиксии.
По радио передавали срочную новость о взрыве в Кашмире.
В конце концов, не все так плохо. Дом вычищен до блеска: руки у Артура до сих пор пахли стерильным цитрусом. Он гордился проделанной работой, и мысль о возвращении в дом на Шуто-Плейс начала приносить ему радость. Больше того: он ликовал. Вчера он позвонил Ульрике и еще раз заверил ее, что все получится и что намерения у него самые искренние.
— Дай мне эти выходные. С пятницы по понедельник. Потом дети уедут — и дело будет в шляпе. Заживем с тобою вместе!
— Правда?
— Конечно!
— Просто мне нужно уведомить комиссию о своем решении.
— Скажи им… скажи им «нет»! Ты никуда не поедешь. В Дэнфорте ты будешь звездой, это точно.
— У меня нет ни одного друга в этом городе.
— Я тебя умоляю, у кого сейчас есть друзья?!
— Артур…
— Все будет отлично.
— Если я останусь — это навсегда, ты понимаешь?
— Как я уже говорил — на все обозримое будущее.
— На все будущее, Артур. Навсегда! Я буду здесь жить!
— Конечно! Но мы не можем загадывать наперед…
— Вот эти твои речи меня и останавливают!
— Я только говорю, что никто не мешает нам строить планы на будущее, но предсказать его невозможно.
— Значит, ты строишь планы на наше совместное будущее.
— Да.
— Мы будем жить вместе.
— Да.
— И ты в этом уверен.
— Да… Насколько человек вообще может быть уверен в будущем.
— Артур!
— Ладно, ладно. Слушай. Чего ты хочешь от жизни?
— Хочу работать. Заниматься научными исследованиями. Хочу стать профессором и заключить с университетом бессрочный контракт.
— И как можно этого добиться?
— Надо написать книгу.
— Верно. А что нужно, чтобы написать книгу?
— Время. Место.
— Вот именно! Итак. С радостью сообщаю вам, что вы приняты.
— Принята?
— В резиденцию Артура Альтера для молодых длинноногих ученых-историков.
— Артур…
— Проживание и питание включены. Сексуальные утехи не обязательны, но настоятельно рекомендуются.
Повисла долгая тишина.
— Хорошо. Я им откажу.
— Отлично.
— Артур?
— Да?
— Ты мне очень нравишься.
— Ты тоже ничего. Ладно, мне пора. До связи!
Будущее манило яркой позолотой и плюшем. Артур вызвал в уме образ Ульрики: она, обнаженная, опускает маленькую круглую попку к нему на колени, словно подушку…
Он побагровел. Отчаянно задергал пряжку ремня, ослабил его, жадно втянул воздух.
Из аэропорта потянулась тонкая струйка прилетевших: они выходили и собирались семьями на тротуаре. Каким словом лучше описать эту толпу? Стадо? Рой? Мясорубка. Да, точно: на тротуаре образовалась настоящая мясорубка из семей.
— Это первая крупная атака с тех пор, как коалиционное правительство…
Жемчужина соленого пота скатилась Артуру в глаз.
— Боевики открыли беспорядочный огонь…
— Да оставьте меня в покое! — заорал Артур и с размаху ударил ладонью по рулю. Громкий пук клаксона огласил парковку.
Среди мясорубки семей, которая понемногу начинала редеть, Артур разглядел одинокий силуэт. Человек расхаживал из стороны в сторону, то гладя себя по рукаву вязаного кардигана со сложным узором из кос, то дергая молнию саквояжа защитного цвета. Шмотки дорогие, но тело под ними все то же — Артур сразу узнал эту походку, эти ноги, словно бы прогнувшиеся под тяжестью тела.
Итан.
Артур мог сказать про Итана только одно: бывает и хуже. Некоторым его коллегам жутко не повезло с сыновьями: те выросли карьеристами и натуральными рвачами. Словно стервятники, они выжидали, когда родители начнут демонстрировать первые признаки старения — забывчивость, зависимость от тех или иных медикаментов, замороженные в криогене политические пристрастия, — после чего мгновенно заявлялись домой с ворохом красочных брошюр, вооруженные советами знакомых адвокатов о том, как лучше поступить с недвижимостью. С недвижимостью, в которой еще жили их отцы. Да, безусловно, отцы эти слегка отстали от жизни, но они не заслужили такого предательства — родные сыновья буквально взашей гнали их из дома!
Итан был другой. Итан никогда с ним так не поступит. Он для этого слишком мягок и сговорчив. Артур до сих пор видел своего сына десятилетним мальчиком, робким бейсболистом в парке Франклина, который не решался отбить легонько брошенный Артуром мяч: боялся, что от вибраций биты заболят руки. Артур и Франсин прозвали его Горшечным Растением, такой он был спокойный, неподвижный, неприметный. Может, не о таком сыне мечтает любой отец, но все же это лучше, чем вырастить хищника с ядреным эдиповым комплексом.
Впрочем, Артур и сам мог бы стать таким хищником, да не вышло: сердце его отца взорвалось аккурат накануне сорок девятого дня рождения.
Бена Альтера сгубило не пьянство, однако алкоголь, безусловно, подтолкнул его к могиле. И еще — патологические неудачи. У него это было генетическое. Гомозиготный генотип неудачника. Бен Альтер вел нищенское существование в чужих ротовых полостях. Артур не мог даже представить, каково это — ежедневно окунаться в жаркие зубастые пасти пациентов, выскабливать гниль, ставить коронки. Унизительный труд. Унизительный, но хотя бы (в теории) прибыльный. Никому не нравится быть стоматологом. А вот деньги любят все. Но Бенджамен Гурион Альтер не умел даже зарабатывать. У его семьи были проблемы, проблемы с деньгами, и Артур ничуть не сомневался, что они тоже сделали свое дело.
Долгие годы он боялся смерти вообще и отцовской смерти в частности. Почему-то ему казалось, что он умрет точно так же. Резкая боль в груди. Внезапный укол. Бах! — и ты сбит с ног какой-нибудь врожденной миопатией, лопнувшей аневризмой или оторвавшейся атеросклеротической бляшкой. Артуру исполнилось сорок шесть, потом сорок семь, сорок восемь лет… но однажды, очнувшись от тревожных снов утром своего сорокадевятилетия, он понял, что не изменился и не умер. Артур получил дар. Еще несколько лет жизни. И вместе с тем проклятие — ведь он совершенно не представлял, что с этой жизнью делать. Он никогда не боялся конечности бытия, исчезновения сознания, вечного Ничто. Нет, больше всего на свете Артура страшила вероятность внезапной кончины, после которой у него останутся незаконченные дела. Именно так умер отец. Смерть как эхо жизненных неудач. Смерть, за которой следует бюрократическая волокита и неразбериха.
Смерть должника.
Толпа на тротуаре разошлась, и Артур увидел свою дочь. Она стояла рядом с братом и хмурилась: армейская куртка, рассыпавшиеся по плечам ржаво-медные кудряшки. Она была очень похожа на мать, только без женственных объемов. Ее словно выточили из камня. Сам факт, что его воинственная дочь-святоша соизволила приехать в Сент-Луис, вселял в Артура надежду. Конечно, уговорить ее будет непросто, но она все-таки приехала — а значит, шанс есть.
— Власти пристально следят за развитием ситуации…
Он вырубил радио, посигналил.
Итан махнул рукой. Артур помахал в ответ. Пока его дети шли к машине, он открыл дверь, спрятался за нее и сплюнул на асфальт — излил остатки яда.
— Дети! — воскликнул он, поднимаясь им навстречу.
Итан раскинул руки и шагнул к нему. Артур нехотя обнял сына (и заодно надышался его одеколоном). Ему всегда казалось это странным — сжимать в объятьях взрослого мужчину.
— Рад тебя видеть, пап.
— И я рад, сынок.
Дочь закинула в багажник свой здоровенный баул. Если Итан был горшечным растением, то Мэгги — скорее одуванчиком, коварным сорняком, который способен в считаные дни занять весь сад и пробиться из-под земли в самом неподходящем месте. Хлопот от него не оберешься, да, но такой задор и упорство достойны восхищения.
— Мэгги, — сказал Артур.
— Пересел на мамину машину, смотрю.
— Добро пожаловать домой!
Она что-то пробормотала и скользнула на заднее сиденье машины.
«Значит, до сих пор пытается меня наказать, — подумал Артур. — Что ж, понимаю. Буду иметь в виду».
Он сел за руль.
— Ну, признавайтесь, — сказал он, с ревом заводя двигатель «сперо», — кто хочет есть?
Артурово увлечение «Пиггис смоукхаус», барбекю-рестораном в Мидтауне, могло своей религиозностью посоперничать с любой проверенной временем кулинарной традицией, которая только приходила на ум. Тарелка для Седера. Католическая гостия{40}. Артур всегда представлял, что начнет возвращать детей в свою жизнь именно в «Пиггис». Они будут сидеть втроем за столиком и смеяться огненно-острым, пикантным смехом, а на их языках будет пылать соус барбекю.
В «Пиггис» действительно знали толк в барбекю — то есть здесь готовили мясо так, как это принято в Мемфисе, а не в Сент-Луисе, где опускают натирание мяса особой смесью специй под названием «драй раб» и медленное копчение (ради которых все, вообще-то, и затевается). Ресторан стал святилищем Артура, его убежищем и приютом за пределами университетских стен, каким на кампусе была библиотека африканистики. (Франсин, единственная в семье, кто вел полуортодоксальный образ жизни, из-за своего консервативного воспитания упустила шанс полюбить свинину. Она ненавидела запах этого мяса и ни разу не ступила на порог «Пиггис». Артур придерживался иных воззрений. Он был иудеем лишь по темпераменту и считал бы себя агностиком, если б не один непреложный факт: он вышел из утробы иудейки.) «Пиггис» открылся в 1996-м, сразу после переезда Альтеров в Сент-Луис. Город плотоядно заключил ресторан в свои объятья; внутреннее его убранство обладало таким винтажным обаянием, что Артур долгие годы считал, будто заведение открылось десятки лет назад. Когда ему наконец объяснили, что это не так, он начал воспринимать «Пиггис» и траекторию его развития — открытие второго и третьего ресторана, постепенное появление в меню наборов-ассорти и фрито-паев{41} — как зеркальное отражение истории собственной семьи. Переезд в Сент-Луис, воспитание детей. Их учеба в университете и взросление. Артур надеялся, что в «Пиггис» они вспомнят славные вечера под деревянными балками; что мясо, кукуруза и коул-слоу в плетеных корзинках, простеленных вощеной бумагой, оживят в их памяти детскую неисчерпаемую веру в будущее, семейное тепло, беззащитность юности.
Увы, когда они вошли в простенький зал закусочной, стены которой были увешаны всевозможной фирменной атрибутикой «Пиггис», Артур получил вовсе не ту реакцию, на которую рассчитывал. Мэгги фыркнула сквозь зубы — словно сжатый воздух с шипением прошел сквозь клапаны пневмотормоза.
— «Пиггис»? Серьезно?
— А что не так?
Мэгги вскинула брови:
— Ты шутишь?
— Ничего не понимаю. Пойдемте займем столик.
Сын сел рядом с Артуром, дочь — напротив. Над столиком висела пустая пластиковая свинья-копилка. Она лениво вертелась вокруг своей оси: бечевка то закручивалась, то раскручивалась в потоках воздуха от потолочного вентилятора.
Итан отважился позвать официанта: выгнул шею и изящно протянул руку в сторону — словно Адам на потолке Сикстинской капеллы. Артур моментально обратил внимание на томность, изнеженность этого жеста и принялся теоретизировать. Вероятно, подобные штучки имеют биологическую основу: некое звено ДНК объединяет Итана с гомосексуалистами всего мира.
Он опомнился:
— Как долетели?
— Итан пересел в бизнес-класс, — ответила Мэгги, обращаясь к потолочному вентилятору.
— Вы сидели не вместе?
— Это было бесплатно. — Итан покраснел. — Авиакомпания предложила. У меня накопились мили с тех пор, как я… В общем, это такой бонус для тех, что часто летает по работе. Мне полагается…
— «Мне полагается». Хорошо сказано, — буркнула Мэгги.
— Пожалуйста, не надо, — протянул Артур, — будь умницей.
«Будь умницей» — то был его фирменный наказ, имевший множество смысловых оттенков, как то: «успокойся», «сядь ровно», «заткнись». Если Моисею потребовалось десять заповедей, чтобы вразумлять людей, то Артур Альтер обошелся одной. Единственное правило, всеобъемлющее и непостижимое. Оно не просто призывало человека быть умным, оно вынуждало гадать, что значит «умный» — и какая провинность лишает тебя сего звания.
— У вас тут буря была? — спросил Итан. — Смотрю, аэропорт раскурочило.
— Угу, буря. Да какая!
— М-м.
— Торнадо.
— Ого.
— Да.
— …Ага.
Тут к ним подоспел официант. Артур с облегчением сделал заказ: ребрышки с картофельным салатом и зеленые бобы на гриле.
— Мне то же самое, — кивнул Итан.
Мэгги попросила стакан воды.
— Мы уже делаем заказ.
— Я в курсе. — Она взглянула на официанта. — Воды, пожалуйста.
— Не хочешь есть? — спросил Артур. — Ты ужасно худая. Как палка.
— Пап!.. — осадил его Итан.
Мэгги покраснела:
— Я вегетарианка.
Официант удалился.
Артур приложил все силы, чтобы не скривить лицо:
— С каких это пор?
— С девятого класса.
Десять лет назад кафе «Пиггис» сыграло решающую роль в ее отказе от мяса. Ребенком она вынуждена была посещать это заведение вместе с Артуром: тот подолгу вещал о превратностях супружеской жизни и всячески давил на жалость, пока официант наконец не уносил его разоренную корзинку. Однажды, вернувшись из «Пиггис» — отец в тот вечер особенно бурно выражал недовольство женой, — Мэгги увидела, что у мамы перевязан палец. «Что случилось?» — спросила она. «А-а, ерунда. Прищемила», — ответила Франсин. Но Мэгги решила — и с тех пор в этом не сомневалась, — что именно злые слова Артура каким-то образом стали причиной маминой травмы. Что посредством некой метафизической силы (Мэгги ведь было десять, и весь мир представлялся ей неразберихой таких сил: как летают самолеты? почему теннисные мячики в какой-то момент перестают катиться?) яростные обвинения отца причинили маме физический вред.
Малодушная жестокость с тех пор ассоциировалась у Мэгги с запахом мяса. От него ей становилось физически плохо. Познакомившись с первым в своей жизни вегетарианцем — девушкой, создававшей костюмы для школьной постановки «Богемы»{42} (из которой топорно вырезали все упоминания ВИЧ), — она поняла, что существует идеологическая защита от потребления мяса, а значит, у нее есть уважительная причина не встречаться больше с отцом. Вскоре она сообщила Артуру, что не станет ходить в «Пиггис». Конечно, он давно об этом забыл — что служило очередным примером того, как он умудрялся портить ей жизнь, паря при этом где-то в вышине и ничего не замечая.
— Разумеется, у тебя вылетело из головы, — сказала Мэгги.
— Что? Твое вегетарианство? Я думал, это подростковое и ты давно перебесилась.
— «Перебесилась»?!
Тут Артур понял, что ступил на минное поле. Дочь вернулась в свое подростковое «я»: стала дрянной, беспощадной, задиристой девчонкой.
— Вообще-то, это был осознанный выбор. Важное решение. Оно меня сформировало как личность. Да что я распинаюсь, ты все равно не помнишь. Ты же у нас такой рассеянный, да ведь? Помнишь, как ты без конца забывал про мой день рожденья? Типа: ой, папа опять забыл, ха-ха, вот какой он у нас забывчивый, ох уж эти профессора!
— Я помню, когда у тебя день рожденья.
— Неужели?
Артур резко сменил курс:
— Но речь-то о другом. Не забывай, я знаю тебя дольше, чем ты знаешь саму себя. Ну да, я решил, что твой отказ от мяса — временное явление, и что? Как я, идиот, вообще смел подумать, будто подростки проходят через разные фазы? Вот кретин! Ведь вкусы у человека никогда не меняются!
— Это была важная составляющая моей личности! — заорала Мэгги. — Была и есть!
Итан прикрылся ладонями от словесной шрапнели. Что ж, считай, попытка цивилизованно поужинать всей семьей с треском провалилась.
Ему не нравилось положение вещей в их семье: Мэгги открыто ненавидела Артура и при любой возможности бросала ему вызов, а в итоге получала все его внимание. Итан же, напротив, никогда не возражал отцу, никогда не доставлял ему беспокойства — но не получал ничего. В благодарность за хорошее поведение Артур считал его пустым местом.
Итан наблюдал, как отец с сестрой обмениваются оскорблениями — гоняют фрустрацию туда-сюда по столу, словно шайбу, — и досадовал, что Артур не видит главного. Зачем он прицепился к вегетарианству Мэгги, к особенностям становления ее личности? Суть-то в другом: Мэгги скверно выглядит. Причем аж с самых похорон. Не надо быть психотерапевтом, чтобы произвести нехитрый анализ. Кто-кто, а Итан знал, что горе порой выбивает человека из колеи, полностью отнимает у него контроль над собственной жизнью, и нет лучше способа вернуть этот контроль, чем установить себе строгие рамки в вопросах питания. Мэгги всегда была вспыльчивой и раздражительной — унаследовала это от отца, — а разъяренный Артур уже ничего не видел за выставляемыми ею барьерами.
Итан подумал, что хорошо бы вмешаться. Но если он вступится за сестру, то рискует навлечь на себя гнев Артура. В самолете, с вожделением поглядывая на каталог «Скаймолла», Итан решил попросить у него взаймы. Совсем немного — просто чтобы встать на ноги. Да, их отношения не идеальны, однако есть надежда, что отец (подобно правительству, в котором уже столько бывших банкиров, что оставаться неангажированным оно просто не может) все-таки придет на выручку сыну и выделит немножко госсредств на поддержку местного производителя.
— Не хочу разрушать твою картину мира, Мэгги, — вещал Артур, упершись локтями в стол, — но ты — это не то, во что ты веришь. Твои убеждения и позиции не характеризуют тебя как личность.
— Приехали.
— Не существует феминистов, сионистов, энвайронменталистов. Нет коммунистов и анархистов. Представляешь? Есть — измы, но не — исты. Люди — это не идеи, Мэгги. Люди — это не занимаемые ими позиции, дорогая моя. Люди — это люди. Они сделаны из желаний, порывов, поступков. Вот что определяет личность. Люди порочны. Эгоистичны. Они всеми силами стараются избегать ударов судьбы. — Артур разошелся не на шутку. — Вся эта чушь про самоидентификацию… Каждый день я вижу в университете, как студенты отстаивают свои взгляды и убеждения… Это подростковое. Люди это перерастают. «Я — такой-то, но не такой». «Мне нравится вот это, а не это». Ментальность в духе «выбери свой топпинг». Это все маркетинг, понимаешь? Удобный способ втюхать тебе побольше компакт-дисков.
— Компакт-дисков?! Ты хоть слышишь, что несешь?
— Я сожалею, — (нет, он не сожалел), — но это так.
Мэгги окончательно вышла из себя. У нее было бесчисленное множество причин не любить отца: он был эмоциональным скрягой; он предал мать; своим цинизмом он испортил ей жизнь (как капля мочи в только что наполненном бассейне), но самое обидное — не принимая никакого участия в ее жизни, он продолжал задавать ей форму. Если Мэгги бунтовала, то бунтовала против него. Она намеренно стала его полной противоположностью. Отец был слепком, формирующим ее личность. Или слепком была она? Мама, вот кто смог бы ответить на этот вопрос, она ведь разбиралась в гештальтпсихологии.
— То есть гипотетически, если человек, ну не знаю, например, предал жену, это еще не делает его предателем, так? Потому что самоидентификация — чушь собачья, верно? Мы — это наши желания и порывы, да? Хм-м. Да, я тебя понимаю. Звучит очень умно — и удобно.
Артур увидел свое отражение в оконном стекле за спиной Мэгги: его лицо напряглось. У линии роста волос выступили капли пота. На лбу вздулась мясистая вена. Не прошло еще и часа с момента их встречи, а дочь уже его подловила.
Он открыл было рот — не зная, какие слова из него выйдут, — но тут вернулся официант и поставил на клетчатую хлопчатобумажную скатерть корзинку с темным, восхитительным, некошерным мясом.
10
Пьянство, однажды сказала Франсин Альтер сыну, евреям несвойственно. Она сказала это в 1997 году, когда Итан вдруг стал подростком и в его жизни откуда ни возьмись появились вечеринки: вечеринки в подвалах и гаражах, вечеринки с распитием украденного у родителей пива и саке (саке — единственный алкогольный напиток, который среднезападные профессора держали у себя в барах, но никогда не пили). Любые директивы лучше воспринимаются подростками под видом комментария на остросоциальную тему. Но теперь ему было за тридцать, мать два года как умерла, а он потел в темноте перед домашним баром в коридоре.
Итан схватил чекушку польской картофельной водки и сделал глоток. «Пиггис» он пережил так же, как пережил детство: с опущенной головой. Делая вид, что его не существует. Отец и сестра не разорвали друг друга на куски — нет, пока они только разогревались перед решающей схваткой. То был аперитив, тизер-трейлер к апогею их взаимной антипатии. Оба сейчас спали в своих комнатах на втором этаже. Но он не сможет избегать их все выходные, не сможет игнорировать свое текущее положение. А положение вот какое: он дома.
Получив папино письмо, Итан вознамерился раз и навсегда закрыть для себя кое-какие темы. В идеале, конечно, надо поговорить с Чарли, добиться от него извинений или хотя бы объяснений — вот тогда-то, рассудил Итан, тогда он точно сможет жить дальше. Именно неразрешенность и неопределенность финала первой любви мешает ему завязывать с людьми по-настоящему близкие отношения. После второго курса у него начался период физического и эмоционального целибата. К выпускному он почти оклемался, почти пришел в себя — но в ботаническом саду вновь повстречал Чарли, и Чарли его потрогал. Это прикосновение затянуло Итана обратно в болото. Он по-прежнему ощущал на своем ухе фантомные пальцы. И больше не позволял себе испытывать глубокие чувства к парням. Потому Шону и казалось, что Итан ему изменяет. В ту пору он думал, что Шон просто проецирует на него собственную ветреность. Но его холеный белокурый любовник оказался прав: сердце Итана принадлежало другому. И тогда, в 2012-м, очередная встреча с Чарли — случившаяся, как всегда, в самое неподходящее время — затянула Итана обратно в водоворот страданий, боли и любви.
В декабре Франсин диагностировали рак, и Итан прилетел из Бостона ее повидать. Огромная косматая туча висела над городом, лишая его света и жизни. Как это часто бывает в воспоминаниях, погода в точности соответствовала настроению семьи. Однажды ночью, когда все уснули, страдая от одиночества и бессонницы, Итан прыгнул в машину и отправился — просто так, без особой цели — в клуб «Плотоядные».
Гей-сообщество Сент-Луиса обретается в Гроуве — деловом районе на юго-востоке Форест-парка, в дальнем конце Манчестер-авеню. Есть что-то непреложно миссурийское — незамысловатое, приземленное, синеворотничковое{43} — в здешних клубах, существующих на стыке исконно американского и фриково-извращенного. Так, в любом заведении Гроува вам приготовят превосходный двойной чизбургер с беконом, но подадут его не на тарелке, а в собачьей миске, и официант будет одет в обтягивающий костюм из черной кожи.
«Плотоядные», одинокий гей-бар рядом с ботаническим садом, держался несколько в стороне от себе подобных и чуть ниже по улице, как более тяжелое яичко в мошонке. Истинный рай для одиноких бродяг, которым не хватает ни желания, ни задора гнаться за легкомысленными толпами Гроува, вариться в этих трансвеститских драмах и следить за злобными перепалками хозяев соперничающих клубов. В «Плотоядных» царили покой и благодать. Бар стоял на тихом углу двух улиц с односторонним движением, в жилом квартале, одной стороной выходившем на автостраду. Над входом болталась жестяная табличка: «Королевское пиво». Только мерцающая неоновая вывеска в окне — четыре рукописных слова — выдавала заведение: «La cage aux carnivores»[9].
Итан был разгромлен физически и эмоционально, в голове крутились образы ближайшего будущего: напряженные беседы, медицинские термины, абсолютная беспомощность и неопределенность. Хотелось срочно сменить обстановку. Выпить, наконец.
Он вошел в бар: внутри никого. На двух табуретах не хватало подушек. Оба телевизора над барной стойкой показывали «Жареные зеленые помидоры». Еще над баром помещался большой постер с надписью, отдававшей дань уважения одновременно веселым попойкам и эсхатологии племени майя: «Конец света начнется здесь».
Итан присел за стойку. Здоровяк-бармен оказался компанейским и очень болтливым. «У меня два пса, — ни с того ни с сего сообщил он хриплым и эластичным голосом. — Вот, мля, шкоды! Но уж больно симпатичные. Так и хочется их слопать. Не пойми неправильно: я их люблю, но иногда…» Он сделал вид, что душит сам себя. Итан с трудом кивнул. Сент-Луис — сущий ад.
Разливного пива в «Плотоядных» не оказалось, только «фирменные» коктейли и пиво в бутылках. Один коктейль назывался «Голубые (воротнички) на Гавайях» — местная версия тропического напитка, состоявшая из двойной порции рома и «Кул-эйд голубая малина» вместо «кюрасао». Итан заказал его и поднес бокал ко рту — в горло хлынула шипучая сладость. Опустошив бокал в несколько глотков, Итан заказал второй. Бармен напевал под нос «Барбекю Бесс»{44}.
— Туалет? — спросил Итан.
— До конца по коридору, — ответил бармен. — И это… поаккуратней там.
Итан соскользнул с табурета. По телику Кэти Бейтс сходила с ума на парковке.
Он шел по коридору, облизывая зубы — они были сладкие на вкус. Коридор оказался неожиданно длинный, в конце стояла темнота. Из-за двери мужского туалета вроде бы доносились приглушенные стоны.
Непонятно, что на него нашло — алкоголь, бессонница или новости о маминой болезни, — но Итан зачем-то взял и открыл дверь.
Вот что он увидел в бледно-зеленом туалетном свете.
Капающий кран. Муха нарезает круги в воздухе. Толстошеий парняга в игровом свитере клуба «Сент-Луис Блюз» стонет на унитазе, левой рукой держась за раковину, а правую прижимая к стене. Далеко не сразу Итан приметил второго мужчину — тот стоял на коленях между раздвинутых ног хоккейного фаната. Итан мгновенно его узнал и остолбенел от ужаса: огромная буква «А» красовалась у него на куртке, а в ее створе — символ Америки, белоголовый орлан. Мужчина обернулся. Итану хватило доли секунды: увидев мельком зеленые глаза, он стремглав выбежал из туалета. Швырнув на стойку несколько мятых купюр, он помчался домой и несколько раз проехал на красный. Утром он позвонил Тедди, в Нью-Йорк, и порвал с ним.
Через пять лет после того, как Чарли потрогал ему ухо, заронив тем самым новую надежду в его душу, Итан почти примирился с мыслью, что тот сделал это по ошибке, спьяну, да и вообще ничего такого не имел в виду. Чарли был гетеросексуален и открыт всему новому; так уж сложилось, что Итан стал полем его экспериментов. И вот — опять. Той ночью в «Плотоядных» ему больше всего на свете хотелось заявиться к Чарли домой и попросить — нет, потребовать — объяснений. Но надо было ехать к матери.
Сегодня, впервые очутившись дома после похорон, Итан (изрядно подвыпивший) наконец почувствовал, что готов. Теперь все будет иначе. Теперь он доведет дело до конца.
Итан глотнул еще водки.
И еще.
Прижавшись спиной к бару, он сполз на пол. Посидел там немного, глядя на дверь в бывший мамин кабинет. «ДОКТОР ФРАНСИН АЛЬТЕР. СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ». Именно здесь Итан впервые услышал слова «дистимическая депрессия», «паническое расстройство» и «тревожный невроз», а впоследствии осознал (с растущей паникой и тревогой), что все эти термины — про него. Именно здесь, в коридоре, происходило становление его личности. Он взрослел, подслушивая маминых пациентов — их было слышно, несмотря на звукоизоляцию, особенно если посильнее прижаться ухом к двери. От супругов, которые ни на минуту не расставались, он узнал о важности границ. От женщины, которая без конца изменяла мужу, он узнал, что такое предательство. А ее муж, пытавшийся из последних сил спасти брак, продемонстрировал, что значит уметь прощать и закрывать глаза на очевидное. Одна пара — Пфеферы, постоянные клиенты Франсин, — особенно много дала Итану. Сами того не ведая, они научили его идти на компромиссы (когда, например, речь зашла о количестве детей), скорбеть (когда Джерри Пфефер умер от инсульта), справляться с ужасами полномасштабной депрессии (когда Лорен осталась одна).
Итан глазел на табличку. «ФРАНСИН АЛЬТЕР». На самом деле никаких слов на двери не было. Буквы представляли собой пустоты, выгравированные лазером в — или на — металле. Выемки. Углубления. «СЕМЕЙНЫЙ ПСИХОЛОГ». Буквы были лишь иллюзией: контуры им придавало отсутствие материала.
— Угостишь?
Итан испуганно вскинул голову. Над ним стояла, глазея на водку, его сестра.
— А то! — ответил Итан. — Гадость ужасная.
Мэгги нагнулась, взяла у него чекушку и осторожно глотнула.
— Фу. Буэ. Кошмар.
— Я предупреждал.
— Польская картофельная водка?
Итан уставился в пустоту:
— Почему бы и нет? Своеобразная дань уважения нашим предкам.
Она села рядом и понюхала горлышко:
— Мы разве родом из Польши?
Итан забрал у нее чекушку:
— Не знаю. Запросто.
— Откуда-то оттуда.
— Из государств-сателлитов.
— Ага.
— Из тех мест, где у человека рождается комплекс преследования.
— Ага, ага. — Мэгги потянулась за чекушкой. — Странно быть дома, да?
Итан кивнул.
Мэгги хлебнула водки и поморщилась:
— Все стало каким-то другим. Сразу чувствуется, что мамы нет. Слишком чисто, и… какая-то странная чистота, да?
— Липовая.
— Все растения засохли, и пахнет «Уиндексом».
— Жуть, ага. Мне кажется, папа тут что-то менял, двигал. Точно не скажу…
— Менял, менял, это точно!
— И тишина ужасная.
— Вот именно! Тишина! Хотя ведь и мама никогда не была болтушкой.
— Фон создавала не она, — сказал Итан. — А ее пациенты. Люди, которые к ней приходили. В коридоре постоянно кто-нибудь ошивался.
— Да. Скучаю по тем временам.
— По гулу разговоров.
Мэгги сделала еще глоток.
— Полегче, может? — сказал Итан. — Голодный желудок и все такое.
Она прижала бутылку к груди:
— За мой желудок не волнуйся. Это не твоя забота, ясно?
— Ясно.
Мэгги ссутулилась:
— Думаешь, мама была хорошим психологом?
— Хм. — Итан громко выдохнул воздух через нос. — А это имеет значение?
— Нет, наверное. Просто хочется думать, что она была профи.
— Она знала подход к отцу. А это уже немало.
— И еще она была умная, правда?
— Да. Но какое это имеет значение?
— Я хочу запомнить ее умным и компетентным человеком, настоящим профессионалом. Теперь, когда ее не стало, она может быть какой угодно… И наш долг — запомнить ее правильно. Если не мы, то кто? Страшно ведь ошибиться. Какой мы ее запомним, такой она и будет, понимаешь? Нам нести это бремя. Я не хочу продешевить. Хочу, чтобы получилось объективно, а не так: «Вот кем была для меня мама». Хочу запомнить, какой она была на самом деле, а не только для нас. Но и обожествлять ее не хочется. Очень легко ошибиться, когда пытаешься описать человека. Я много об этом думаю.
— Ты слишком загоняешься.
— Чья бы корова мычала.
— О’кей, о’кей, согласен.
— Ты никогда не рассказывал, почему ушел, — заметила Мэгги.
— Откуда?
— С работы.
— А. Вон ты про что. — Итан покачал головой. — Да просто не мое это было. Такая ответственность. К тому же в половине случаев меня привлекали, чтобы оправдать уже принятые решения. Они мной прикрывались.
— Я всегда говорила, что ты заслуживаешь большего.
— Дело не в этом, Мэгги. Я про другое.
Она поскребла водочную этикетку:
— По-моему, мы с тобой первый раз это делаем.
— Что?
— Пьем. Болтаем. Как взрослые.
— Да, наверное.
— Мне кажется, это папа виноват… Что мы так обособились. Я не говорю «стали независимыми», потому что независимость — это вроде как хорошо и папа даже молодец. Но он никогда не пытался нас подружить, сблизить.
— У нас слишком большая разница в возрасте.
— Я к тому, что нас вообще не учили общаться с другими людьми. Включая друг друга.
— Ты пытаешься повесить на отца всех собак.
— Но он же виноват!
— Почему?
— Просто виноват, и все. — Мэгги рыгнула.
Итан засмеялся:
— Тебе точно хватит.
Мэгги поставила полупустую чекушку на кружок лунного света на полу. Они еще немного посидели рядом. Водка щекотала желудок. Из спальни, текстурируя тишину, доносился скрипучий храп Артура, а Итан и Мэгги смотрели на медную табличку с маминым именем.
— Хочу украсть тебя на денек.
Утро субботы. Итан сидел за кухонным островом напротив отца. Между ними стояло блюдо с шоколадными мини-пончиками «Донетт» и пакет грейпфрутового сока: Артур в последний момент смотался на заправку «Сёркл-кей» на бульваре Дельмар и впопыхах, с осознанностью, какую в вопросах питания проявляли охотники-собиратели эпохи палеолита, закупил там странной еды.
Похмельный Итан ответил:
— Хорошо.
Значит, к Чарли придется наведаться завтра.
Он посмотрел на свой откушенный мини-пончик и проклял себя за хроническую уступчивость. Почему он всегда так рабски послушен с отцом? Почему не может постоять за себя?
Итан сделал глубокий живительный вдох. В общем-то, побыть наедине с отцом будет даже полезно. Можно наконец поднять щекотливую тему: попросить денег в долг. Тема действительно деликатная, ведь мать завещала Итану крупную сумму… А что, в конце концов, может сделать Артур? Не откажет же он своему старшему ребенку и единственному сыну!
Итан знал, зачем ему нужен отец, а вот зачем он понадобился отцу? Впрочем, не важно: он просто ему нужен и это уже хорошо. Итан допил сок, представляя, как тот очистительным потоком проходит сквозь его тело и смывает стресс, тошноту, похмелье, а затем вышел на улицу и сел в машину.
Университет Миссури в Сент-Луисе (он же УМСЛ) и Дэнфортский университет с давних пор состояли в детско-сопернических отношениях (причем о существовании этого соперничества один из детей, как водится, даже не догадывался). Дэнфорт — подобно несдержанному и амбициозному старшему ребенку в семье — был основан почти на целый век раньше и мог похвастаться семимиллиардным целевым капиталом, одним из десяти лучших медицинских факультетов страны и сознательным отказом от борьбы за региональное первенство. Медицинская школа и подготовительные медицинские курсы были главной гордостью Дэнфорта: университетский журнал регулярно пел оды здешнему современному оборудованию и «головокружительному разнообразию» лапароскопической, эндоваскулярной и дистанционно управляемой аппаратуры, достижениям сотрудников в области малоинвазивной хирургии и их чудесному дару удалять воспалившийся аппендикс через рот. Вся эта аппаратура, конечно, закупалась на деньги студентов, которые платили за обучение по шестьдесят тысяч долларов в год (если им не посчастливилось иметь родителей в педсоставе). Малоимущим семьям рассчитывать на сколько-нибудь значимую финансовую помощь со стороны университета не приходилось. Хотя недостаток экономического разнообразия среди студентов был общепризнанным упущением Дэнфорта, руководству, по крайней мере, удалось решить проблему расового разнообразия: вместо афроамериканцев, склонных ходатайствовать о получении финансовой помощи, они стали с охотой зачислять детей богатых нигерийских аристократов. «Главное, чтобы были черные», — пробормотал в 2013 году один член ученого совета прямо в закрепленный на лацкане микрофон, забыв, что он включен. Ежегодный доклад о положении дел в университете наделал тогда много шума.
Дела УМСЛ обстояли не столь радужно. Университет Миссури ушел в минус на восемь миллионов долларов и недавно объединил колледж изобразительных искусств, центр медиаобразования и факультет бизнес-администрирования в централизованный Институт бизнеса и искусств. Если в Дэнфорте учились наследники международных империй и дети семей с Восточного побережья, то государственный УМСЛ обслуживал главным образом миссурийцев. Несмотря на эти отличия, университеты стояли практически рядом: их разделяло всего шесть миль, пятнадцать минут езды на «сперо». На этих шести милях расположились крошечные городишки Уэллстон, Хиллсдейл, Беверли-Хиллз и Нормандия.
— Зачем мы сюда приехали? — спросил Итан, когда отец въехал на парковку Центра сценических искусств УМСЛ.
— Увидишь.
Итан вышел из машины и поплелся за отцом. На стенах вестибюля висели убогие подобия «абстрактных» и «современных» картин. Окна были запо́ллочены голубиными какашками{45}. В центре Итан приметил картонный стенд — двухмерную девушку в сиреневом платье и пуантах, сцепившую руки над головой.
Ее размеры наводили жуть. Она была маленькая, ростом около четырех с половиной футов, но при этом не карлик и не ребенок. На лице — бездушная улыбка.
— Еще раз: что мы тут… — начал было Итан, но тут к ним приковыляла седовласая капельдинерша с плантарным фасциитом{46} и повела их по вестибюлю к дверям концертного зала.
— Вы опоздали! — с упреком произнесла она. — Чуть все не пропустили!
Итан опустился на потрепанное сиденье. Зал наполовину пустовал.
— Слушай… Я хотел попросить тебя об одолжении.
— Пфф. О каком? — фыркнул Артур: шипастый звук больно ткнул Итана в ребра.
— Это трудно.
— Так?..
— Я хотел попросить…
Артур приподнял одну бровь:
— Ну…
Понимание того, что сейчас придется облечь свое отчаяние в слова, парализовывало. Итан ненавидел просить, ненавидел говорить о своих потребностях и нуждах, а тут еще придется признаться отцу в своих неудачах…
— Ты… Ты заметил, что Мэгги плохо выглядит? — Итан слился. — У нее что-то со здоровьем…
Отец зашикал:
— Начинается!
Внезапно все вокруг перешли на шепот. Зал огласил пронзительный писк настраиваемых музыкальных инструментов. Где-то в глубине темнеющего пространства гундосо завывал гобой.
В полдень Мэгги проснулась от колокольного звона.
Или… нет-нет, ее разбудил не сам звук, а тишина вокруг него. Ржавый перезвон летел по Шуто-Плейс, не встречая на своем пути никаких препятствий. В субботу колокола еще не так лютовали, как в воскресенье, но все же отбивали каждые полчаса, и их чистый, непреклонный звон заставил Мэгги выскочить из постели. В Риджвуде тоже имелись церкви, ирландские, и итальянские, и немецко-католические, но издаваемые ими звуки были лишь крошечным составным элементом огромной системы, этно-амбиентного коллажа из свистков, пуэрто-риканских димбо-риддимов{47} и рева курьеров-мотоциклистов, развозивших китайскую еду. Общий звуковой ландшафт получался таким густым и неумолчным, что все остальное теперь настораживало Мэгги. Она совсем забыла эту угнетающую тишину среднезападных пригородов. Да-да, именно угнетающую, жестокую: такого рода величие (подобно величию пирамид, построенных, быть может, далекими предками Мэгги) обходилось дорогой ценой. Чтобы здесь царила такая благодать, где-то должно быть неспокойно. Кто-то платит за этот покой. Кто-то прямо сейчас страдает, чтобы в здешних краях царила чудесная тишина, нарушаемая только денежным шелестом листьев.
В доме тоже было тихо. Отец и Итан куда-то пропали. Мэгги, громко топая по бежевой ковровой дорожке, спустилась в кухню. На столе лежал желтый блокнот с небрежными каракулями Артура: «Уехал с Итаном».
Оставшись дома одна — впереди у нее был целый день, — Мэгги взялась за перераспределение семейного богатства.
Она прочесала дом в поисках подходящих предметов — то есть представляющих либо сентиментальную, либо фактическую ценность. Освободила в сумке местечко для любимой плюшевой слонихи по имени Сюзан Б., которую Артур положил в изножье ее кровати, и черепаховой заколки, которую она носила, не снимая, в младших классах (оба этих предмета имели, разумеется, сентиментальную ценность). Также Мэгги прихватила золотые запонки, которые отец на ее памяти ни разу не надевал (они представляли фактическую ценность). Стащила наличные из выдвижного ящика для носков. Взяла из шкафа для белья льняную наволочку, завернула в нее четыре хрустальных бокала и припрятала их в рюкзак (два она оставит себе, чтобы из них пить, два заложит в ломбард).
За сортировкой и перераспределением вещей Мэгги чувствовала, что ненадолго обретает контроль над своей жизнью. Что она способна влиять на судьбу, придавать ей форму. Мамины деньги — наследство — были совершенно недосягаемы. Незаслуженное и непрошеное состояние. Что прикажете делать с такими деньжищами — получать от них удовольствие?! То есть в буквальном смысле наживаться на самом страшном событии в своей жизни? Да и кто сказал, что деньги все исправят? Итана они до добра не довели.
Мэгги презирала тунеядцев и пиявок, дармоедов, которым родители с готовностью покрывали расходы на театральные постановки и студийную запись дебильных альбомов в жанре инди-фолк. Но и к людям, устроившимся на хорошую работу, она тоже относилась скептически. У любого, кто достойно зарабатывает на достойной работе, руки в крови. Если ты получаешь хорошие деньги, значит ты кого-то эксплуатируешь. Это факт. На одном из уровней корпоративной структуры кто-то страдает, причем по-крупному. Малоимущие. Природа. Мэгги не хотела иметь к этому отношения. Поэтому ей приходилось время от времени красть и перераспределять богатства. Да, ее жизненные принципы могли на первый взгляд показаться запутанными и противоречивыми, но принципы экономики гораздо запутанней — вот уж где сам черт ногу сломит!
Мэгги продолжала поиски. Суперпризом — вещью, ради которой она сюда приехала, — были мамины часики «Тиффани». Квадратный, усыпанный бриллиантами циферблат на черном бархатном ремешке, римские цифры белого золота. На вкус Мэгги, часы были слишком броские и пафосные, такое скорее носила бы Бекс, чем мама, но все же они обладали именно сентиментальной, а не фактической ценностью. В своем стремлении к аскетичному образу жизни и владению как можно меньшим количеством вещей Мэгги совсем забыла взять в Нью-Йорк какой-нибудь сувенир на память о матери. И теперь решила, что таким сувениром должны стать часы.
Одно время — пока Мэгги училась в старших классах, и по причинам, оставшимся для нее загадкой, — мама дружила с женой главного тренера бейсбольной команды «Сент-Луис Кардиналс» (или та дружила с ней). Мэгги не знала, как так вышло, но дочка тренера была ее одноклассницей, и вот Франсин вдруг начала ходить по самым дорогим ресторанам города: «Тонис» (итальянская кухня), «Элс» (стейкхаус), «Мортонс» (стейкхаус) и «Флемингс» (стейкхаус).
Жена тренера и ее подружки были лет на десять старше Франсин: все как одна платиновые блондинки с вызывающе белой кожей и консервативными политическими взглядами. Мэгги подозревала — или надеялась, — что мама подружилась с ними из научного, антропологического интереса. Или же ей просто нравились стейки, которые почти всегда присутствовали на этих встречах.
Словом, то были люди совсем не маминого круга.
И вот во время этой странной дружбы, продлившейся около десяти месяцев, жена тренера организовала благотворительную вечеринку в гостинице «Чейз-парк-плаза» — сбор средств в пользу Общества помощи людям с БАС{48}. Вход на мероприятие стоил триста долларов, и жены бейсболистов — как на подбор, топ-модели — целый час бродили по вестибюлю, попивали коктейли с благотворителями и изящно хихикали, не разжимая губ.
Франсин притащила с собой Артура. Он был в коричневом костюме.
— Как думаешь, в какое количество исследовательских грантов обошлось это мероприятие? — спросил он.
— Ш-ш-ш, — ответила Франсин. — Согласись: чтобы уметь зарабатывать, надо уметь тратить.
Когда Артур ушел в туалет, она тайком купила лотерейный билет за сто долларов.
После торжественной речи тренерской жены и ужасающего видеоролика о болезни моторных нейронов жена шорт-стопа{49}, голландка-танцовщица, в которую шорт-стоп предположительно влюбился в ходе постчемпионатной пьянки в Амстердаме, вышла на сцену и зачитала вслух некую последовательность цифр: точно такие же цифры значились на билетике Франсин. Она даже не сразу поняла, что выиграла.
Мэгги хорошо помнила тот вечер: ее мама влетела в кухню, довольная и раскрасневшаяся, ее усыпанное пайетками платье отбрасывало во все стороны сумасшедшие блики. В руке она сжимала стеклянный чехол.
— Правда, красивые? — Она сняла крышку и показала Мэгги (тогда шестнадцатилетней) выигранные часы.
— Ну да… — ответила она. — Слегка перебор… нет?
— Ох, не говори! — простонал Артур.
Франсин их и не слышала. Она молча разглядывала часы, очень дорогие на вид, но совершенно «не ее».
— Ты плачешь? — спросила Мэгги.
В глазах матери сияли слезы.
— Вы не понимаете, — произнесла она слабым, дрожащим голосом, — я ведь никогда ничего не выигрываю!
Мэгги ни разу прежде не слышала, чтобы мама так говорила — чтобы она вообще употребляла применительно к себе или близким слова, обозначающие победу или поражение. Не была она склонна и к самокритике. Мэгги инстинктивно захотелось защитить мать, но как защитить ее от нее самой? Такая красивая, мудрая и изворотливая женщина, как Франсин, — само совершенство! — думает, что никогда не выигрывает? Как это ее характеризует? И как это характеризует Мэгги, с детства пытавшуюся подражать матери?
Эти вопросы до сих пор не давали ей покоя.
Но где же часы? Ни в полупустой шкатулке для драгоценностей, ни под родительской кроватью, ни среди рассыпанных по письменному столу ручек и морских раковин их не оказалось. Мэгги все рыскала по дому, но безрезультатно. Наконец ей пришло в голову заглянуть в какой-нибудь неожиданный уголок — последнее место, где могли бы оказаться часы. Но таких в огромном доме было слишком много. Он целиком состоял из «последних» мест.
Мэгги спустилась в подвал — первое «последнее» место. Среди примятых кресел-мешков, потемневших ножек столика для пинг-понга и за гребным тренажером, притащенным Артуром с помойки возле школы Мэгги, часов не оказалось. Как и в постирочной, которую до сих пор не отремонтировали (за стиральной машинкой чернело пятно во всю стену). Часов не было ни в третьем, ни в четвертом «последнем» месте.
Пятым местом Мэгги назначила столовую. Роясь в красивом буфете и перебирая фамильное серебро, она вдруг вспорола палец столовым ножом с монограммой на ручке. От боли она резко развернулась на месте и увидела на стене перед собой отцовское послание.
11
Пока Артур жил в Зимбабве, Франсин разработала план потакания своим прихотям. Некому было считать каждый потраченный цент, скрупулезно записывать все доходы и расходы, устраивать ей скупердяйские допросы («Я только из душа: у нас два мыла. Ты купила новое? Мало одного, что ли?»), и Франсин устроила себе небольшую передышку от режима строгой экономии. Она ходила в кино, купила себе пуховик, посетила музей изобразительных искусств и принесла из сувенирной лавки глянцевую репродукцию картины Томаса Гарта Бентона{50}. Вставила ее в рамку и повесила в гостиной над новым стильным креслом, также купленным в отсутствие Артура. Словом, не слишком-то и потратилась. Но Артур, чей гений заключался в умении навязывать свою волю близким, оказался начисто лишен потребительского инстинкта, придававшего осмысленность американской жизни. На свете было очень мало вещей, которые он не считал непозволительной роскошью.
Одиночество стало единственным излишеством, на которое у Франсин не хватало ни эмоциональных, ни материальных ресурсов. Она скучала по Артуру — искренне скучала, — но в одиночку ей было не потянуть аренду квартиры: аспирантской стипендии с трудом хватало на жизнь.
Франсин попыталась сдать кому-нибудь вторую спальню, где у них с Артуром раньше был кабинет, и развесила по Кенмор-Сквер соответствующие объявления. Целую неделю, которой, казалось, не будет конца, ее квартира полнилась нервными панками, марафонцами, ирландскими католиками, фанатами «Ред Сокс», без пяти минут студентами, художниками с Форт-Пойнта и гроссмейстерами с Гарвард-Сквер. Ни один из кандидатов не понравился Франсин, все были какие-то не такие: слишком наглые, слишком напористые, слишком ненадежные. Пожилая женщина шестидесяти лет спросила, куда можно поставить ее коллекцию фарфоровых сов. Объективно красивый юноша с характерной южной самонадеянностью сообщил, что в целях экономии места готов разделить постель с Франсин. Когда она уже смирилась с мыслью, что будет платить за квартиру одна и весь год питаться консервами, ей подвернулась девушка, которая в лестном свете ее отчаяния выглядела практически идеальной соседкой.
У идеальной соседки была простодушная улыбка, широко расставленные глаза, а самое главное — поручители. Марла Блох тоже оказалась будущим психологом, как и Франсин, но только начинала учебу в аспирантуре. Обе приехали из Огайо. Марла родилась в Цинциннати и — поразительно! — ни капли не стыдилась своей малой родины. Она открыто признавалась, что ее обескураживают новоанглийские зимы, дурные манеры бостонцев и вся аспирантура в целом. Она облекала в слова мысли, которые Франсин никогда бы не посмела озвучить, дабы не утратить поверхностный восточно-побережный лоск: «Ну и книга — чувствую себя тупицей!», «Как приятно встретить землячку!» или: «Я не знаю, как пишется „амигдала“!» Причем она ведь была права: книги им задавали действительно зубодробительные, среднезападные манеры Марлы очень радовали, а латинское название крошечной миндалевидной области мозга в самом деле представляло из себя орфографическую загадку, — но Франсин давно научилась не говорить о таких вещах вслух. Марла Блох говорила что в голову взбредет — без малейших стеснений резала правду-матку, и ее раскованность приятно напоминала Франсин о доме.
Марла выписала чек на предъявителя для оплаты коммунальных услуг, и девушки пожали друг другу руки.
Если Артур даже Норт-Энд считал заманиловкой для туристов, то Марла в первый же день повесила на холодильник список — настоящий список — десяти достопримечательностей, которые ей хотелось посетить за время учебы в аспирантуре. Увидев его, Франсин захихикала.
— Ой, прости! — опомнилась она. — Что это со мной?!
— Тебя насмешил мой список, — растерянно сказала Марла.
— Нет-нет, прости, пожалуйста. Список отличный, давай прямо сейчас выберем какой-нибудь пункт!
— Но что в нем смешного?
— Я не хотела смеяться, честное слово. Просто подумала, что бы сказал на это мой парень.
— Что?
Франсин с трудом удержалась от едкого комментария:
— Ничего. Он бы оценил. Ну все, давай сходим в Старый Капитолий. Я там никогда не была!
С искренней и жизнерадостной Марлой Франсин открыла для себя Бостон. Новая соседка без всякого стыда ходила по улицам города с картой в руках и спрашивала у местных дорогу. В отличие от Артура, она не жалела денег на входные билеты в музеи и церкви. А когда слишком близко наклонялась к картине или входила в церковь посреди службы, то тут же смеялась над собой — подразумевая, что не очень-то ей и стыдно. Франсин считала, что за таким поведением кроется бездна немудрящего самоуважения.
Марла была болтушкой. Но болтала она не так, как мать Франсин — словно бы пытаясь прикончить тишину, пока та не прикончила ее. Нет, она болтала, чтобы скоротать время. Просто говорила обо всем, что приходило в голову. А в голову ей приходил главным образом секс. Она рассказывала, как сохла по парню из школы, с которым у нее были «шуры-муры миллион лет назад». Как они «отрывались в постели», и какой у него был «большой», и какие чувства он в ней будил. Эта смесь откровенности и ребячества совершенно сбивала Франсин с толку. В Уэллсли секс носил политический характер, эдакий феминистский уклон. Артур предпочитал заниматься сексом — с толком и удовольствием, — нежели говорить о нем. А жизнерадостная Марла Блох готова была часами болтать на эту тему, и скудный запас эвфемизмов ей ничуть не мешал.
Франсин хотела бы вовсе забыть о сексе, пока Артура нет рядом. Целиком посвятить себя научной деятельности и воздержанию. Но Марла жаждала говорить. «Трепаться» о «мальчиках». Не раз, распив на пару с соседкой бутылку игристого, Франсин ложилась спать с мыслью, что эта девушка не так проста, как кажется. Надо быть с ней начеку.
Тем временем Артур потихоньку ее покидал.
Франсин начала его забывать. Сначала забыла рот: представляя лицо любимого, она видела только верхнюю часть, а нижнюю как будто стерли ластиком. Его глаза из светло-карих превратились в темные, а ведь они были именно светлые — проницательные, нервозно-карие. Лишь когда от нее начал ускользать нос Артура — превращаясь в идею носа, схематичную черточку, — Франсин осознала, что и его уши — закругленные или заостренные? мочки сросшиеся или свободные? — тоже незаметно испарились из ее памяти.
Но все-таки. В отсутствие Артура и даже сколько-нибудь четкого образа Артура ее любовь к нему крепла. Франсин очень тосковала. И размытый образ любимого даже ей нравился — он был еще лучше самого человека.
После сессии Марла устроила вечеринку. Со всего потока ей одной хватило простодушия это сделать. «Хочу погулять от души, как в Огайо», — сказала она. Какое-то время Марла обдумывала тему мероприятия и наконец попросила Франсин отксерить готовые приглашения.
Сердечно приглашаем
На первую ежегодную вечеринку Марлы Блох
Тема: обнаженка по Фрейду
Дресс-код: только нижнее белье
Нет рубашек, туфель, брюк — нет проблем!
Приводите друзей и любимых
— Марла, это бред, — сказала Франсин. — Никто не придет на… бельевую вечеринку!
— Ошибаешься!
— Тебе не кажется, что нам уже… поздновато? Мне двадцать девять, а Дэвиду из нашей группы вообще сорок!
— Нет, людям как раз такого и не хватает.
— У него и дети есть.
Марла накрутила на палец кудряшку Франсин.
— Фрэн, — многозначительно прошептала она, — милая, невинная Фрэн! Послушай меня. Мы — девушки. И мы даем другим девушкам и парням возможность увидеть друг друга голышом. Увидеть чужие тела. Поверь мне: это будет успех.
— Мы уже не школьники.
— Народу соберется тьма!
— И даже не студенты.
— Франсин Кляйн. Вечеринка состоится. Всем людям, слышишь, всем, — тут Марла выгнула спину, — любопытно смотреть, как в контролируемых условиях ломают табу.
Неделю спустя в квартире на Кенмор-Сквер состоялось первое общественное мероприятие с того дня, как Артур Альтер поставил свою подпись на договоре аренды.
За полчаса до вечеринки Франсин пила вино одна, у себя в комнате, одевшись… нет, скорее, раздевшись до скромной ночной сорочки, которая могла запросто сойти за обычную одежду для сна в случае, если вечеринка не удастся. В девять часов вечера на диване в гостиной, стыдливо прикрывая область паха подушками, сидели лишь несколько нервных аспирантов первого года обучения.
— Верь в меня! — сказала Марла через дверь, за которой Франсин якобы читала. — Просто верь! И не смей ложиться в кровать — по крайней мере, одна.
Естественно, к одиннадцати гостиная уже кишела полуголыми гостями, многим из которых было порядком за тридцать: они выпивали и беседовали, придумывая поводы потереться о чье-нибудь бедро или плечо.
Когда Франсин вышла из спальни — заключив по шуму из гостиной, что вечеринка все-таки состоялась, — уже изрядно поддатая Марла Блох в коротеньком шелковом кимоно закричала:
— Поприветствуем Франсин Кляйн!
Раздались и почти сразу стихли робкие аплодисменты.
Атмосфера была напряженная: голая кожа и ид{51}. В закоулках крошечной квартирки вовсю материализовывались подсознательные желания. Чересчур одетые юнгианцы в платьях и перчатках плясали под Принса. Какая-то первокурсница и ассистент кафедры сплелись в объятьях на диване: ее соски и его эрекция уверенно выпирали из-под блестящей материи нижнего белья. Изголодавшаяся по любви Франсин поддалась всеобщему волнению: ее голые ноги терлись друг о друга под длинной сорочкой, разжигая на щеках характерный румянец.
— Это ваша квартира?
В кухне, прислонившись спиной к холодильнику, стоял незнакомец в повязанной через плечо белой простыне. Она доходила ему до середины голени, откуда внезапно начинались парадные черные носки.
— Мы знакомы? — спросила Франсин, доставая из холодильника пиво.
— Я приятель Марлы. — Он кивнул в сторону гостиной, где парень с фермерским загаром внимательно щупал ткань ее кимоно.
— А, Марла… Наш массовик-затейник. Только не говорите, что вы из…
— …Цинциннати.
— А я из Дейтона.
— Шутите?
— Неужели все здешние огайцы друг друга знают?
— О да, нас тут целая диаспора. Как раз хотел сказать, что ни разу не видел вас на наших встречах.
— Ха. Видимо, меня не приглашали.
— Считайте, что теперь пригласили. Мы собираемся по воскресеньям на борту «Конститьюшена» и играем в юкер{52}. — Он легонько ударил своей банкой по банке Франсин. — Меня зовут Дейв.
— Франсин.
— Месснер.
— Кляйн.
Дейв Месснер напоминал ей по меньшей мере трех мальчиков из синагоги «Бет-Авраам» в Дейтоне. У него были крупные уши и широкий лоб. На нижней части лица доминировали ноздри. Ему было двадцать восемь, и он уже начал лысеть (примерно по третьему типу шкалы Гамильтона-Норвуда{53}). Но стоило ему улыбнуться — а сейчас он улыбался, — как черты его лица становились мягче и приятней.
Месснер изучал финансы.
— Без стрессов, конечно, не обходится, — сказал он, — зато какая стимуляция интеллекта!
Франсин услышала только слово «стимуляция».
— Пока что я работаю в бостонском филиале узкоспециализированной брокерской конторы… Ха. Попробуйте-ка сказать это быстро и три раза подряд!
— Бостонская узкоспециализированная бро… — с трудом ворочая языком, проговорила Франсин. — Уф.
— Еще пива?
— Ой, нет. У меня пока… — Она потрясла банкой. Оказалось, пива там уже нет.
— А у вас неплохая скорость — для нашего племени.
Франсин покраснела.
— Простите! Простите, я пошутил. Честное слово. Вот, позвольте загладить вину. — Месснер достал из холодильника бутылку и попытался открыть ее зубами. Пена ударила ему в нос и залила лицо. Франсин засмеялась.
— Ах, вам смешно?
— Немножко.
— Тогда я беру назад свои извинения.
Она снова засмеялась и вытерла ему лицо кухонным полотенцем.
— Берете назад или нет — вы прощены.
— Премного благодарен. — Он улыбнулся.
— Вот и славно.
Они окинули взглядом квартиру, полную подвыпивших и осмелевших гостей. Четверо аспирантов в семейных трусах написали на бумажках имена известных ученых и прилепили их на свои потные лбы: Б. Ф. Скиннер, Вильгельм Вундт, два Эрика Эриксона{54}.
— Вам, возможно, придется разгонять толпу, — сказал Месснер, — и другого шанса мне уже не представится. Поэтому спрашиваю сейчас: можно вам позвонить?
— Позвонить?
— Ну да. Поболтаем как-нибудь.
— Так я ведь здесь. С вами. Болтаю.
— Да, но у вас вечеринка в самом разгаре. Вдруг вы куда-нибудь умчитесь…
— В такой крошечной квартирке далеко не умчусь.
— …Или какое важное дело появится. Мало ли. Ну так что? Можно вам позвонить?
Хороший вопрос. Они с Артуром договорились, что на время его отъезда Франсин будет фактически свободна. Временно одинока — до его возвращения. Вольна встречаться с кем угодно и экспериментировать сколько хочет. А хочет ли она? Артур у себя в пустыне (Франсин представила фотографии из журнала «Нэшнл джиографик» и сцены из фильма «Боги, наверное, сошли с ума») явно ни с кем не спит. А ей, выходит, можно?
— Да, позвоните мне. Я не возражаю.
Он снял колпачок с ручки, болтавшейся на дверце холодильника, — этой ручкой Марла писала «КУИНСИ-МАРКЕТ», «ЛОДКИ-ЛЕБЕДИ» и «СТАРАЯ СЕВЕРНАЯ ЦЕРКОВЬ» — и нацарапал на ладони номер Франсин.
— Обязательно позвоню, — сказал он.
— Не сомневаюсь.
Бостон за окном был идеально черный: рекламный щит «Ситго» уже третий год не горел{55}, и звезды мерцали в небе подобно вспышкам нервных импульсов в нейронных сетях.
К началу июня они стали созваниваться регулярно. А в конце июня начали «встречаться», как называл это Месснер. Он водил ее на свидания. Уже одно это было Франсин в новинку. На свиданиях он всегда за нее платил. Даже в ресторанах. Он был самоотверженным и внимательным джентльменом, общительным и воспитанным — то есть полной противоположностью Артура. Он искренне интересовался учебой Франсин и рад был побаловать и себя, и ее. Месснер обладал скромностью мальчика, которого травили в школе, и уверенностью мужчины, который, несмотря на травлю, пробился в люди. Он быстро привязался к Франсин, потакал всем ее прихотям, запросто считывал и расшифровывал каждое микровыражение ее лица. Говорил, что больше ему ничего не нужно — только Франсин и работа, именно в такой последовательности. «Я еще никогда не был так счастлив, — признавался он. — Утром иду на работу, а вечером вижусь с тобой». То был серьезный человек с большим добрым сердцем. Серьезность: вот что объединяло их с Артуром. Но если серьезность Месснера позволила ему добиться успеха, который можно было выразить в надежной американской валюте, то Артурова заполошная рассудительность превращала его в нелепого персонажа, жителя подземелья, громко порицающего небеса.
Франсин не понимала, какую роль в происходящем играл Артур. Ее отношения с Месснером стремительно набирали силу, и она не знала, как к этому относиться. Да, сейчас она свободна — но это временно. Можно ли вообще называть временную свободу — свободой? Разве может у свободы быть срок годности? Время от времени она разговаривала с Артуром по телефону, и они писали друг другу письма. Но телефонные беседы выходили натужными — их портила необходимость извлечь максимум из нескольких минут общения, — а письма шли неделями.
— Вы с Дейви такие лапочки, — однажды сказала Марла, когда Франсин вернулась одна после ужина с Месснером. Живот приятно грели капеллини с морскими гребешками. — Он про твоего жениха-то знает?
— Ты меня поджидала, чтобы это спросить?
— Знает или нет?
Франсин вздохнула:
— Нет. И я буду тебе очень признательна, Марла, если ты ничего ему не скажешь.
— Ну что ты! Никогда. — Она улыбнулась. — Это будет наша тайна.
— Хорошо.
— Я только хотела спросить. Он уже?..
— Уже что?
— Понятно. Значит, пока нет.
— В смысле?!
— Раз ты не понимаешь, о чем я говорю, значит ничего не было. — Она заулыбалась, как чеширский кот. — Дейви — славный парень. Но с особенностями.
Вскоре Франсин узнала, что имела в виду ее соседка. Ясным летним днем, когда солнечный свет безапелляционно заявлял о себе яркими вспышками на поверхности реки Чарльз, Франсин — по просьбе Месснера — заткнула ему рот резиновым мячиком и принялась осторожно его душить, одновременно поливая горячим воском широкую гладкую грудь.
Когда Артур только уехал, Франсин почувствовала, что качество ее работы и жизни (для девушки со столь научным складом ума работа и жизнь были неразрывно связаны) резко пошло в гору. Каждое утро она просыпалась в каком-то странном взбудораженном состоянии — взвинченной, наэлектризованной. Целая прорва свободного времени! Можно учиться и работать допоздна, есть и спать когда захочется. Больше не надо нянчить Артурово уязвленное на работе эго. Не надо ездить в армейские/военно-морские магазины за поношенными носками (где платишь два доллара и берешь, сколько сможешь унести). Франсин завела друзей и устроилась ассистенткой к энергичному молодому профессору, который носил джинсы и вел курс, посвященный методичному опровержению истин, изложенных в книге Уилсона «О природе человека»{56}.
Но после знакомства с Месснером Франсин стала хуже учиться. Он отнял у нее все вечера — то есть половину отведенного на учебу времени. И она стала тем же середнячком, каким была при Артуре.
Молодой профессор однажды пригласил ее на разговор.
— У вас все хорошо? — спросил он. — В последнее время вы… отвлекаетесь. — Он окинул Франсин взглядом и кивнул. — Да-да. Отвлекаетесь.
— Все хорошо. Просто было много дел…
— Проблемы с парнем?
— Э-м…
— Помните, — сказал профессор, положив ладонь ей на запястье, — у вас огромный потенциал.
— Ага.
Он заглянул ей в глаза:
— Вы достойны большего.
Хотя учитель открылся ей с новой — распутной — стороны (Франсин знала, что, если мужчина говорит: «Ты достойна большего», он имеет в виду себя), в каком-то смысле он был прав. Она действительно отвлеклась. Месснер захватил все ее мысли. Неужели такова цена любых романтических отношений? Неужели обязательно нужно забыть об амбициях, поставить на паузу раскрытие своего потенциала? Но и Марла была права: Месснер — славный. Даже слишком, подумала Франсин. Он буквально затравил ее своей добротой, подарками, приятными сюрпризами… Он давал ей непрошеные финансовые советы, причем всегда во время прелюдии, что придавало происходящему налет деловой сделки.
Он был из тех, кто не терпит тишины. Например, когда они гуляли по Франклин-парку и Франсин тихо любовалась пейзажами — ей всегда нравились спокойные зеленые местечки, где принято молчать, — он поворачивался к ней и спрашивал: «Все нормально? Все хорошо?» Ему постоянно требовались заверения. И он обижался, когда Франсин выражала недовольство. «Ну извини, что мне не все равно, — говорил он. — Извини, что пытаюсь быть тебе хорошим парнем». Да, еще он постоянно называл себя «ее парнем».
В августе умер отец Франсин. Среди бездны последовавших за этим осложнений — две поездки домой, на Фолсом-драйв, мучительные перепады маминого настроения, прерывистые телефонные соболезнования от Артура, вынужденный уход из лаборатории, куда она устроилась на работу тем летом, — ей пришлось сообщить Месснеру, что она нуждается в передышке.
— Что? В чем дело? — спросил он по телефону. — Я сейчас приеду.
— Не надо. Слушай. Кое-что случилось.
Она покачала головой и рассказала ему о смерти отца.
— Ох, Франсин. Спасибо, что сказала, — спасибо за доверие. Я сейчас же приеду!
— Дейв…
Через двадцать минут он был у нее.
— Разве ты не на работе?
— Сбежал.
— А так можно?
— Это важнее. Я твой парень. И я помогу тебе справиться с этой… этой… трагедией.
— Дейв, ты не… Слушай, дело не только в отце, понимаешь? Я давно хотела с тобой поговорить.
— Смерть близкого — это всегда удар.
— Да, но…
— Не волнуйся. Не волнуйся. — Он встал и заходил по комнате. — Я тебе помогу. Сейчас тебе необходим рядом спокойный, уравновешенный человек.
— Я хочу разобраться с этим сама.
— Ты не понимаешь, что говоришь. Приляг.
— Я все прекрасно понимаю.
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо.
— Воды?
— Нет, спасибо.
— Я сбегаю в магазин за салфетками. И чаем. Ты пьешь чай? Какой ты любишь?
— Дейв. Дейв! Папа умер две недели назад.
Он замер на месте:
— Две… недели?! Что же ты раньше не сказала?
— Была занята. Много всего навалилось, как ты понимаешь. — Франсин усилием воли заставила себя успокоиться. — И теперь мне надо побыть одной. Подумать.
— Быть одной тебе сейчас никак нельзя. Наоборот, нужна поддержка. Близкие и любимые люди…
— Не надо решать за меня, что мне сейчас нужно.
— Но я…
— Пожалуйста. Уходи. Я позвоню тебе через несколько недель.
— Твои желания могут идти вразрез с истинными потребностями…
— Уходи.
Она указала ему на дверь.
— Хорошо. — Он попятился, взялся за дверную ручку. — Только один вопрос: ты получила деньги?
— В смысле?
— Он завещал тебе какие-нибудь деньги? Ответь, пожалуйста, на вопрос. Это важно. Понимаю, что неуместно…
— Уходи сейчас же.
— Сначала ответь!
— Уходи!
— Мне дали наводку.
Она громко выдохнула:
— Какую.
Месснер отпустил дверную ручку:
— Ты можешь меня выгнать, но сперва выслушай. Мне кое-что подсказали. И я хочу тебе помочь. Хочу поделиться. Если отец завещал тебе деньги, ты должна меня выслушать! Хорошо?
— У тебя пять минут.
Месснер торопливо рассказал, что другу одного его коллеги стало известно о больших переменах в делах недооцененной «З-групп», крупного конгломерата с дочерними компаниями во всех областях производства от микропроцессоров до продуктов питания. Если Франсин ему позволит, Месснер инвестирует ее деньги и тем самым обеспечит ей портфель акций с неплохой стабильной доходностью на долгосрочный период. Точно так же он поступит и со своими деньгами.
— Такая информация на дороге не валяется. Она меняет судьбы. Deus ex machina[10] или вроде того. Лет через пятнадцать-двадцать скажешь мне спасибо. Пожалуйста, поверь мне — не прячь деньги под кровать.
— Ты закончил?
— Да.
Франсин вздохнула:
— Деньги будут.
Месснер вытаращил глаза:
— Так и знал!
— Но не очень большие. Можно сказать — маленькие. Большую часть денег он завещал матери.
— Недолго им оставаться маленькими.
— Ответь мне на один вопрос, Дейв.
— Запросто.
— Только честно.
— По-другому я не умею!
Франсин выдохнула:
— Ты хороший маклер?
Месснер улыбнулся:
— Лучший!
— И ты действительно знаешь, о чем говоришь?
— Конечно.
— Портфель будет открыт на мое имя, деньги будут под моим присмотром?
— Фрэн. Фрэн. Ну конечно! Да, да и да. Верь мне!
— Хорошо. Хорошо. Приходи завтра — мы поговорим. А сейчас мне нужно побыть одной. Я по-прежнему считаю, что нам надо сделать перерыв.
— Как скажешь. — Он улыбнулся. — Если передумаешь — сразу звони.
Чувство вины дает метастазы. Мутирует. Перемещается по организму. Вверив свое финансовое будущее в способные руки Месснера, Франсин поняла, что от чувства вины ей теперь не избавиться: оно курсировало по ее кровеносным сосудам и принимало причудливые, злокачественные формы. Она винила себя за то, что проводит мало времени с Марлой, что слишком много ест. Что не пишет диссертацию или что пишет диссертацию, вместо того чтобы заниматься другими делами. Франсин винила себя даже за само это чувство вины. Ей стало казаться, что первоначальная вина — та, из которой выросли все остальные, — объяснялась тем фактом, что она не способна быть человеком без чувства вины, беззаботной и ни о чем не жалеющей прожигательницей жизни. О той вине, которую внушил ей Месснер в обмен на помощь с отцовским наследством, Франсин не задумывалась. Она не допускала даже мысли, что он мог сделать это нарочно — сыграть на ее совестливости, дабы удержать ее. Ведь чем дольше он будет распоряжаться деньгами, тем больше они будут расти в цене и тем сильнее ее станет грызть совесть. Она окажется в плену. И вновь начнет терзаться чувством вины, заставляя себя проводить с Месснером больше времени. Словом, когда промозглым, слякотно-серым декабрьским днем Франсин садилась в «форд-вендженс» Марлы, чтобы ехать в аэропорт встречать Артура, вся ее жизнь превратилась в одно сплошное угрызение совести.
Увидев Артура у выхода из аэропорта — он стоял на подернутом снегом тротуаре в облаке своего теплого дыхания, — Франсин испытала доселе невиданный по силе и нежности укол вины. Месснер никогда не вызывал в ней таких чувств. Она смотрела сквозь обледенелое окно автомобиля на живого, настоящего Артура и с любовью вспоминала его решимость, его страсть, то, как он очертя голову бросался навстречу жизни и выставлял напоказ все свои изъяны и неудачи. Он был прямой противоположностью ласкового, обманчиво заботливого Месснера. Франсин искренне любила этого ненормального.
Она поманила его в машину. Он поприветствовал ее холодным поцелуем.
— Ты замерз.
— Да, — кивнул Артур.
Франсин боялась этой встречи и списала сдержанность Артура на непривычный климат: в Зимбабве он привык к другому. А может, столь холодный прием был кармическим воздаянием за ее связь с Месснером. Всю осень она честно пыталась уйти от Месснера, но стоило ей сказать ему о своем желании поговорить, как обязательно что-нибудь подворачивалось — билеты в нью-йоркский театр, бронь в модном ресторане, — и Франсин приходилось откладывать беседу и продолжать какое-то время терпеть осточертевшего любовника, мириться с его знаками внимания и странностями.
Она поклялась расстаться с ним завтра же утром.
По дороге домой через заснеженный Бостон она пыталась втянуть Артура в беседу.
— Последний наш телефонный разговор без конца прерывали. Что у тебя стряслось? Я не ждала тебя так рано! То есть я очень рада, конечно, но это так неожиданно.
Артур молча смотрел в окно.
— Кстати, я сдала одну комнату, — сообщила Франсин, когда они приехали и стали подниматься по лестнице. — Соседка обещала съехать к концу недели, но просит несколько дней на поиск нового жилья.
— Хорошо.
Что-то было неладно. Артур терпеть не мог чужих людей. Почему он не возмущается? Что с ним стряслось?
Франсин открыла дверь и вошла в пространство, которое сразу же показалось ей враждебным. Сидевшая на диване Марла громко охнула. По гостиной расхаживал туда-сюда Месснер.
— Что ты тут делаешь? — спросила его Франсин.
— Ты говорила, что уезжаешь из города на все выходные.
— Мне нужно было время…
— Это еще кто?
Артур сделал шаг вперед и вышел из тумана, который окружал его с момента приземления в Бостоне.
— Кто я? А вы кто?
— Ух ты, — вновь охнула Марла. — Схватка века!
— Я ее друг, — ответил Месснер, показывая на Марлу, — и ее парень. — Его палец уперся во Франсин.
— Это вряд ли.
— Вряд ли?!
Артур смерил Франсин долгим понимающим взглядом, затем обернулся к Месснеру.
— Вряд ли ты ее парень, — сказал он голосом мужчины, в которого она когда-то влюбилась, — потому что я — ее жених.
Месснер всплеснул руками:
— Жених?!
Франсин обомлела:
— Я… э-э…
— Вам пора уходить, — сказал Артур.
— Вот дерьмо! — Месснер выругался. — Полный бред! Ты не говорила, что обручена!
— Но я…
— Да, она обручена.
— Погоди-погоди-погоди. А где он пропадал столько времени?
— Уезжал, — пробормотала Франсин. — В Африку. В Зимбабве.
— И что он там делал, черт подери?!
Она посмотрела в его налитые кровью глаза:
— Помогал людям.
— Не верю своим ушам. Просто не могу поверить, мать твою. — Он обернулся к Марле. — Ты знала?..
— Э-э…
— Знала! Вот дерьмо, ты все знала! Только я и не знал. Выходит, я идиот, так? Самый настоящий болван!
— Ты не идиот, — сказала Франсин. — Позволь, я объясню…
— Нечего тут объяснять. Ты врунья и ужасный человек! Слышишь?! Ужасный человек!
— Ух ты, — восхитилась Марла. — Не каждый день такое увидишь. Можно всю жизнь прожить — и не увидеть.
— Я не хотела тебя расстраивать, — сказала Франсин.
— Это невероятно. Просто не верю своим ушам!
— Уж поверь, — прорычал Артур.
— Нет, пусть она сама скажет, хочу услышать это от нее. — Месснер раздул ноздри. — Ты выйдешь замуж за этого придурка?
Марла забарабанила пальцами по бедрам.
Артур с надеждой посмотрел на Франсин.
Она вдохнула. Выдохнула. Расправила плечи. И как можно убедительнее произнесла:
— Выйду.
Ни разу за всю их поначалу фиктивную — а затем уже и настоящую — помолвку и ни разу за всю жизнь в браке Артур не задавал ей вопросов о Месснере. Кто он такой, как они познакомились, что между ними было. Он не желал ничего знать. И Франсин была безмерно ему признательна. Что может быть правильнее и милосерднее, чем не задавать вопросов? Это самый трудный и самый прекрасный подарок, какой можно сделать своему спутнику жизни: абсолютный и безусловный второй шанс.
Той ночью, лежа в постели — после того, как Месснер навсегда покинул их жизнь, — Артур со слезами на глазах поведал ей свою историю. Про Мойо, Рафтера, Джемролла, сонную болезнь и мух цеце — про все. Когда он закончил (Франсин к тому времени уже и сама рыдала: да, ей было больно за любимого, но больнее всего — за африканскую деревушку, которая приняла на себя всю тяжесть его амбиций, и жителям которой теперь предстояло годами за это расплачиваться; и как незначительны были ее собственные страдания по сравнению с тем, что происходило с Артуром!), она вытерла глаза и спокойно отвела его в ванную. Там она уложила его в горячую воду, перегнулась через фарфоровый край узенькой ванны размером с гроб и принялась его растирать. Слезы Артура текли в мыльную воду. Она сказала ему, что все будет хорошо. Что он хотел как лучше. В благодарность за молчание по поводу Месснера она заверила его, что мухи цеце были обстоятельством непредвиденной и непреодолимой силы. Никто не мог предсказать их появление. Человек не в силах полностью подчинить себе природу. «Ты не виноват, Артур, — повторяла она, хотя сама считала иначе, — ты ни в чем не виноват».
После ванны Франсин сказала Артуру, что приготовила для него сюрприз. Она вытерла его полотенцем и уложила на кровать. Крепко завязала ему глаза галстуком.
Когда первая капля горячего воска упала на его волосатую грудь, он взвизгнул.
12
Назад ехали в мужской тишине: напряженной, тупой, одинокой. За окном со стороны Артура три примыкающих друг к другу кладбища делили один зеленый простор цвета гольф-поля, сокрытый от любопытных взглядов кустами, телефонными столбами, бессмысленными знаками («), поваленными линиями электропередачи. В Миссури сельская местность начинается сразу — даже не надо выезжать из пригорода, думал Итан, глядя прямо перед собой, дабы соблюсти первое правило мужской тишины: не смотреть на собеседника.
Артур не выдержал:
— Неплохая постановка.
Итан кивнул:
— М-м.
— Такая… со вкусом.
— Угу.
Молчание, как известно, — рассадник печали. Оглянуться не успеешь, как в голову начинают лезть воспоминания, но пока Итан думал лишь о зрелище, которое только что предстало его глазам. Охота, чародей, птицы, роковой прыжок. За окном проплывали пустующие, не по разу заложенные фермы на склоне холма.
— Ну?.. — сказал Артур. — Что думаешь?
— Что думаю?..
— Да.
— Об умсловской постановке «Лебединого озера»?
— Да.
Итан потрясенно покачал головой:
— Да ничего не думаю. Что это было?
— Ну да, малость переборщили…
— Нет, я не про то… Пап. Зачем мы вообще пошли на балет?
Артур кашлянул:
— Я думал, тебе понравится.
— Балет?
— Ну да.
— Это твое новое увлечение, что ли?
— Нет.
— Тогда зачем мы два с половиной часа его смотрели?
— Я хотел тебя порадовать.
— Меня?
— Ну да.
— Не понимаю.
— Хочу, чтобы мы стали ближе. Вот. Демонстрирую свой интерес.
— Интерес ко мне?.. — недоумевал Итан. — Но почему ты…
Внезапно его осенило.
Итан рассмеялся.
У его смеха не было исходной точки и не было особого повода. Тем не менее он сотрясал все его тело, каждый орган, задевал каждую струнку.
Артур напрягся:
— Что? Что тут смешного?
Итан попытался ответить, но его смех был замкнутой системой. Сплошная обратная связь. Он питал сам себя и полностью забивал речь.
— В чем дело?
Нет, ответить не было никакой возможности. Итана сотрясали спазмы могучего хохота, который не имел отношения к языку и речи и уже полностью оторвался от своего источника: то был акусматический смех, солипсический, нескромный, нецивилизованный.
— Да что смешного?! — рявкнул Артур.
Что смешного? Что смешного?! Да вот что: хотя кабинет Артура находился в одном крыле с факультетом гендерологии, и уж к этому времени он должен был понять разницу между полом и гендером, уяснить, что такое навязанные обществом стандарты красоты — нормативные фантазмы, понуждающие людей к обоюдонеприятному соитию, — несмотря на знакомство с теорией гомосексуализма, Артур совершенно не понимал гомосексуалистов. В грандиозном приступе смеха Итан осознал, что отец не понимал его. Зато ход мысли Артура теперь был предельно ясен:
Геи → Балет
Это было так ошибочно, необдуманно и поразительно примитивно, что Итану оставалось лишь одно: рассмеяться.
Он никогда не проявлял ни малейшего интереса к танцам. Никогда. «Лебединое озеро», господи! В УМСЛ! Какой абсурд! Слезы заструились по его щекам. Попытка Артура сблизиться с ним посредством балета говорила не только о его полном непонимании Итана как личности, она указывала на некий фундаментальной изъян, дыру в Артуровых доспехах, конструктивную недоработку, и это тоже — годы, проведенные в благоговейном трепете и страхе перед человеком настолько дефективным, настолько плохо разбирающемся в собственном сыне и вообще в людях, — вызывало у Итана безудержный смех.
— Итан!
Нет, он не мог ничего сказать. Его уже не было в машине. Артур тем временем крепко стискивал руль побелевшими пальцами.
Бостон, 1994 год. Конец лета. Солнце грело снизу брюхастые тучи, и на всех домах и тротуарах лежало его медовое сияние. Улица Йоуки-уэй пестрела навесами, ветер мел по асфальту фантики и арахисовые скорлупки, обдувая сутолоку человеческих тел, нес бормотание перекупщиков («Билеты, покупаем билеты») и смазанный говорок нераскаявшихся массачусетцев. В кипящих котлах варились сосиски. Куда ни глянь — всюду толпы болельщиков в красных куртках и красных кепках — под цвет флагов, реющих над кирпичным фасадом и зияющими зелеными воротами стадиона «Фенуэй-парк».
Итан знал, что его десятый день рожденья будет особенным, но такого и представить не мог. Важный бейсбольный матч — билеты пришлось покупать сильно заранее — и неожиданный физический контакт с отцом. Прикосновения: ведя Итана на стадион, Артур крепко держал его ладонь в своей руке, темной и волосатой.
— Наши места — на галерке, — сказал он.
Поход на бейсбольный матч был идеей Артура. Он всегда следил за новостями бейсбола и смотрел его по телевизору, но за несколько недель до решающего матча его интерес приобретал оттенок религиозного чувства. За ужином он переставал жаловаться на неувязки в строительстве Большого Бостонского тоннеля — бесконечные переговоры строительной компании с городскими властями, коррумпированные подрядчики, нецелевое расходование средств — и вместо этого принимался петь оды драгоценным «Ред Соксам», которых с каждым поражением любил еще сильнее: команда, обреченная проигрывать, обладала в его глазах особым обаянием.
— Когда смотришь игру «Соксов», то борешься не с другой командой, — вещал Артур за столом, — а с собственным разочарованием. Сезон за сезоном они проигрывают, но ты все равно смотришь, хотя исход матча уже известен. И когда они вновь терпят поражение, тебе больно не потому, что твою команду обыграли. Тебе больно, потому что ты с самого начала все знал, но зачем-то вновь тешил себя пустыми, глупыми надеждами. Итан, на стадионе ты увидишь все собственными глазами. Это не борьба наших против чужих. Это борьба каждого отдельно взятого фаната с самим собой. Борьба целого города с самим собой! Если б нам хватило ума, мы бы уже давно сделали своим талисманом Билла Бакнера{57}. Символом штата! Бостон — это ноги, между которыми вновь и вновь проскальзывает мяч победы. Чем не повод посмотреть игру? Разве битва с самим собой не интересней стандартной битвы с противником, этой варварской концепции «наши против чужих», навязываемой остальными видами спорта?
Франсин перевела:
— Он очень рад, что вы идете вместе. Десять лет — шутка ли дело! Ты теперь совсем взрослый.
С Артуром время от времени случались подобные приступы энтузиазма: короткие периоды бешеной радости сменялись долгими отрезками черной тоски. Но на сей раз все было иначе. Итану впервые предстояло разделить с отцом его восторг. И ведь отец сам его выбрал, сам решил, что Итан этого достоин. Может, не такой уж он и равнодушный родитель. Может, он просто ждал, когда сын повзрослеет, чтобы полноценно включиться в отношения.
— Хочу посвятить тебя в одну тайну, — сказал Артур, когда настал долгожданный день матча.
Тайну! Ничего себе! Итан просиял.
— Цены на еду и напитки на стадионе просто грабительские. Наценка сумасшедшая: обычное пиво в «Фенуэй-парке» обойдется тебе на четыре доллара дороже, чем в соседнем баре.
— Почему?
— Потому что стадион устанавливает собственные цены. Это вроде как независимое государство.
— А мама говорила, что надо обязательно попробовать их фирменный хот-дог — «Фенуэй Фрэнк».
Артур покачал головой:
— Она-то, может, и говорила, но мы же не хотим, чтобы стадион на нас наживался? Тебе повезло: твой отец не настолько глуп.
Он собрал два бумажных пакета с бубликами, нарезанным яблоком и картофельными чипсами «Кейп-код», а для сына захватил упаковку сока. Итан подивился папиной находчивости.
— Тащи сюда зимнюю куртку, — велел Артур.
— Зачем? На улице жара!
— Неси, говорю.
Итан принес из шкафа в прихожей свой пуховик.
— Надевай.
Куртка мгновенно окутала Итана жаром его собственного тела. Артур застегнул молнию до середины и спрятал внутрь бумажные пакеты.
— Ребенка обыскивать не станут, — ухмыльнулся он.
Наконец они добрались до своих мест на трибунах с правой стороны поля. Да, основное действие происходило где-то далеко — до домашней базы, казалось, было несколько миль, — но Итан даже порадовался, что они сидят в самом дальнем углу стадиона, где меньше претендентов на папино внимание. Им было лучше виден клетчатый аутфилд, чем собственно площадка. Из-за пустой изумрудной морды Зеленого Монстра{58} выглядывал краешек знака «Ситго».
— Доставай ужин, — скомандовал Артур.
Итан снял куртку и передал ему один бумажный пакет: изнутри его приятно грело чувство сопричастности. Они с папой вместе нарушили правило, пронесли на стадион еду, и Итан поклялся, что унесет эту тайну в могилу.
Артур откусил бублик.
— Надо отдать тебя в Малую лигу, — сказал он с набитым ртом. — Будешь носить форму и стоять вон там, на месте бэттера. Зрители не сводят с тебя глаз. Накал страстей. Предельное напряжение. Да, так и сделаем! Вот посмотришь сегодня игру и решишь, нравится тебе или нет. Я буду тебя тренировать. Помогать тебе.
Предельное напряжение было совершенно не про Итана — да и накал страстей, чего уж там, — но если Артур всегда будет такой радостный, взбудораженный, заинтересованный, то он готов на что угодно. Воткнув соломинку в упаковку сока, он сделал первый глоток.
Иннинги шли один за другим.
— То, что мы видим в бейсболе, отражает общее положение дел в стране, — сказал Артур. — Упадок американской мужественности. Заметь, я говорю это без намека на осуждение, просто отмечаю, что мы живем в историческое время. Мы еще думаем, что бейсбол — это наше национальное развлечение, но мир меняется. Меняется состав команд. Конечно, миграция — дело не новое. Твои прапрапрадеды тоже были мигрантами. Но теперь мы живем в мире НАФТА, и «Фенуэй-парк» наглядно это демонстрирует. Доминиканская республика вовсю штампует перспективных бейсболистов. Это огромный бизнес. Мальчишки — почти твои ровесники — бросают учебу в двенадцать, тринадцать, четырнадцать лет, думая, что в Штатах их ждет успех. Главная бейсбольная лига открыла там академию. Странно, что Япония до сих пор не радует игроками — ведь в бейсбол там играют с начала девятнадцатого века. Не стану особо распространяться на эту тему, но у меня есть гипотеза, что здесь не обойтись без определенных физических данных, а японцы просто не вышли размерами.
Итан почти не обращал внимания на содержание этих речей, но ему нравилось, что отец в принципе с ним разговаривает. Он был рад, что Артур рад и что он сыграл определенную роль в отцовской радости, ведь потратиться на билеты решили в честь его дня рождения.
Еще он подметил — ясным и зорким взглядом ребенка, который большую часть времени проводит в одиночестве, — что остальные мужчины на трибунах, даже те, что пришли с маленькими сыновьями, не ораторствовали, как его отец. Они не говорили, а орали. Швыряли одобрительные и грубые выкрики в сторону поля либо громко требовали пива у разносчиков. Артур тоже иногда кричал, но как-то неловко и неубедительно. Итан вообще помалкивал и только хлопал в ладоши: ему почему-то казалось, что это более цивилизованный способ выражения радости — издавать шум одними руками. Еще чуть-чуть, и он бы нашел в себе смелость немного покричать.
В конце пятого иннинга мячик взмыл в небо над аутфилдом и на долю секунды завис над головой отца.
— Пап. Пап! — прошипел Итан, дернул Артура за рукав и показал ему пальцем на летящий мяч. Тот описал дугу в воздухе и со звуком «чвак» приземлился в раскрытую перчатку райт-филдера. Артур засмеялся.
— Никогда не путай поп-ап с хоум-раном{59}, — сказал он. — Это тебе урок на будущее!
В перерыве седьмого иннинга Артур встал{60}.
— Поднимайся, — сказал он Итану. — Сейчас можно немного размять ноги.
Мимо них по проходу шла пара — одна из многих в общем потоке устремившихся к туалетам зрителей. Человек, шедший следом за ними, сказал кому-то:
— Подержи-ка мое пиво.
Из колонок на стадионе гремели имена спонсоров матча. Вдруг что-то мокрое и холодное пролилось Итану на затылок, а оттуда потекло за шиворот. Он потрогал пальцами макушку, где волосы у него закручивались по часовой стрелке.
— Пап…
Артур опустил глаза:
— Господи! Чем ты обли…
Итан проследил за отцовским взглядом и увидел высокого голубоглазого качка в обтягивающей футболке, трещавшей на плечах и бицепсах, пока он их разминал. Рядом с ним стоял веснушчатый мальчик примерно одного с Итаном возраста. В руках у него был большой пластиковый стакан, почти до краев наполненный пивом.
Артур нагнулся к мальчику:
— Это ты сделал? — Он показал на Итана.
Мальчик потряс головой.
— Это ты облил моего сына? — снова спросил его Артур. — Ничего страшного, но тебе следует признаться и извиниться.
Качок в футболке опустил глаза на Артура:
— Ты с моим пацаном разговариваешь?
— Он облил пивом моего сына.
— Нефиг разговаривать с моим пацаном.
— Пусть извинится. Посмотрите — у него все волосы мокрые. — Артур погладил Итана по голове. — Даже за шиворот потекло!
— Пошел нах, — сказал качок.
— Пап…
— Эй! — окликнула их тетка, сидевшая в двух местах от Итана. — Чего там такое?
— Этот извращенец пристает к моему пацану, — ответил качок.
— Извращенец! — сказала тетка Артуру.
— Я не извращенец. Я хочу, чтобы ваш сын извинился перед моим. За то, что облил его вашим пивом.
— Пошел нах, извращенец, — сказал качок.
Артур потрепал Итана за шею.
— Извинись, — велел он мальчику.
Итан напрягся:
— Пап, все нормально.
— Твой пацан дело говорит, слушай его, — усмехнувшись, сказал качок.
Итан забегал глазами по стадиону, пытаясь найти какую-нибудь точку, на которую можно было смотреть, пока эта унизительная перепалка не закончится. Он встретился взглядом с веснушчатым мальчиком: тот с отвращением кривил губы.
— Я жду извинений.
— Извращенец ты, вот кто.
— А вы болван!
— Выйдем на улицу, поговорим?
— Мы и так на улице.
Качок сплюнул и закатал рукава:
— А ну пошли!
— Никуда я не пойду.
Качок вскинул кулаки и резко подался вперед. Артур скорчился, подняв руки… и покосился на красного, как рак, сына.
— Хе-хе, теперь понятно, из чего сделан этот крутыш.
— Ладно, ладно, мы уходим.
Артур стал толкать Итана вперед по проходу и сам пошел следом.
— Вот и правильно! — крикнул им вслед качок. — Пидор!
Итан весь съежился от стыда, ему перехватило дыхание.
Всю дорогу домой Артур молчал. Когда Франсин встретила их на пороге и спросила: «А что так рано?», он молча протолкнулся мимо нее по коридору и исчез в спальне. Громко хлопнула дверь.
— Что случилось? — спросила Фрасин, но слезы уже градом катились по лицу Итана. Он почему-то понял, что это конец: никаких походов с отцом на бейсбол и вообще куда-либо больше не будет.
И вот такой поход случился.
Двадцать один год спустя они вместе катили по пригороду Сент-Луиса, и Итан утирал слезы. Он сделал долгий, медленный вдох.
— Пап, — сказал он голосом, полным не страха, но любви и жалости.
Щеки отца пылали от досады.
— Ты молодец, — сказал Итан. Эти слова удивили его не меньше, чем Артура. — Ты молодец.
13
Мэгги решила прогуляться в Форест-парке, чтобы проветрить голову. Маршрут у нее всегда был один и тот же — с тех самых пор, когда она собирала мячики для гольфа: через всю территорию Дэнфорта мимо строительных кранов, библиотеки Зейделя, «Старбакса» и студенческого центра. Рука с перевязанным пальцем болталась вдоль тела. Ветер завывал в готических арках. Солнце куда-то спряталось. Общежития по случаю весенних каникул пустовали: в кампусе остались только будущие студенты-медики и юристы, у которых экзамены были еще впереди. Они, подобно призракам, населяли все укромные уголки кампуса и тихо бормотали себе под нос ответы на вопросы вступительных тестов.
Мэгги никак не могла взять в толк, зачем отец повесил в столовой те фотографии. Четыре штуки, в рамочках напротив стола. В голове не укладывалось…
На всех четырех снимках был запечатлен незнакомый пейзаж, терра инкогнита — бежевая пыль с клочками желтоватой травы. Поросшие деревьями холмы на заднем плане.
А на переднем — два человека перед некой цилиндрической бетонной постройкой. Артур: молодой, кучеряво-чернявый, с вызовом в глазах и выбивающимися из-под воротника рубашки волосами. А рядом с ним мальчик, черный, тощий, улыбчивый, со впадиной в форме каноэ на груди.
Четыре фотографии, четыре позы:
1. Артур стоит на коленях и одной рукой обнимает мальчика.
2. Артур держит мальчика на плечах.
3. Мальчик и Артур стоят спина к спине.
4. Мальчик сидит у Артура на коленях.
Отец на снимках улыбался так, как на памяти Мэгги не улыбался никогда. К тому же — он трогал мальчика, а тот трогал его. Это Артур-то, избегавший любых объятий по любым, даже самым уважительным поводам! Вокруг его тела, казалось, постоянно висело силовое поле. Однако вот же он, довольный, обнимается с мальчиком. И мальчик тоже счастлив: позирует так, словно рядом — его близкий друг. Или старший брат. Или отец.
Мэгги с Артуром грызлись практически с тех пор, как она научилась говорить. Но лишь в конце первого курса, когда Франсин рассказала ей про поездку отца в Зимбабве, Мэгги начала его бояться. Точнее — бояться того, что она могла унаследовать от отца, в кого могла превратиться. Если Артур когда-то был похож на нее — своей решимостью, филантропическими взглядами, — значит ли это, что и она однажды станет похожа на него, начнет использовать свои благие намерения в качестве оружия против тех самых людей, которым так хочет помогать? Мороз шел по коже от этой мысли. Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы выкинуть ее из головы. И тогда она осталась один на один с Артуровыми промахами — точнее, преступлениями. Он явно хотел, чтобы Мэгги увидела фотографии. Именно она, а не Итан. Но зачем? На снимках был запечатлен счастливый молодой человек, непорочный человек, любящий человек в полном расцвете сил. Но Мэгги знала правду. Знала, чем закончилась та поездка. То были фотографии про жизнь «ДО». В курсе ли Артур, что ей все известно и про «ПОСЛЕ»? Мэгги никогда не разговаривала с ним о той поре. Боялась, что отец подтвердит рассказанную мамой историю или того хуже — без обиняков скажет, что его ошибка привела к смерти многих людей. У Мэгги раскалывалась голова. Она не могла раскусить лицемерие Артура, разложить его по полочкам. Зачем он повесил эти фотографии?! Чего он добивается?
Она помотала головой и зашагала дальше.
Форест-парк представлял собой огромный центр культуры и отдыха площадью в тринадцать сотен акров. На его территории расположились снежные горки, Художественный музей, фонтаны, зоопарк, каток и Музей истории штата, где куда больше внимания уделялось не Миссурийскому компромиссу, а Всемирной выставке{61}, проходившей когда-то (сто одиннадцать лет назад) в этих местах. Мэгги сперва шла вдоль поля для гольфа, потея от растерянности и стресса, затем поднялась на вершину холма к Художественному музею. Напротив входа, в центре небольшого павильона, стояла бронзовая статуя Людовика IX верхом на коне. Памятник назывался «Апофеоз святого Людовика», а под ним находился пруд с фонтаном. Стоя на вершине холма и глядя вниз, на людей, что устраивали пикники и катались на водных велосипедах, Мэгги, внутренне содрогаясь от мысли о фотографиях в столовой, почувствовала, что и сама достигла некоего апофеоза, только наоборот: расплата была уже не за горами.
Она повернулась лицом к бронзовому коню. И надо же, кто стоял под ним!
— Ди!..
— Мэгги?!
— Привет!
Ди Холл и Мэгги учились в одной школе, но не особо-то дружили. Отец Ди был директором школы, а Мэгги к шестому классу уже побаивалась сильных мира сего, даже если сильный в данном случае принадлежал к исторически угнетаемому меньшинству: директор Холл был единственным чернокожим из школьного руководства. А раз уж отец Ди имел такую власть над школьниками, Мэгги решила, что и к самой Ди не подступиться.
— Какими судьбами в Сент-Луисе? — спросила Ди, в последний момент удержавшись от объятий. Вместо этого она потянула за поводок своего норовившего убежать бигля.
— Да так, в гости приехала. У-у, хороший! — Мэгги нагнулась, погладила собаку по ушам и тут же резко выпрямилась.
Ди поступила в Стенфорд, получив теннисную стипендию и полностью оправдав тем самым усилия отца, который часами бросал дочке мячи, критиковал ее топ-спины и возвращал подачи. Артур всерьез (хоть и ненадолго) заинтересовался Ди, когда увидел ее игру в Шоу-парке. В 2006 году он целый месяц говорил только о Ди, о ее феноменальном ударе слева и прекрасной физической форме, причем — в присутствии дочери, которая никогда не становилась объектом подобного его восхищения.
Еще один факт из жизни Ди заслуживал внимания: когда они с Мэгги учились в седьмом классе, у нее умерла мать. От рака груди. Как Франсин — хотя в то время Мэгги еще ничего не знала о раке груди и не догадывалась, что много лет спустя станет его косвенной жертвой. Теперь же она решила, что пора простить Ди ее теннисные успехи. У них появилась общая травма — ключ к алгоритму Кевина Кисмета, — и Мэгги поспешила сообщить об этом Ди.
— Сто лет не виделись! Наверное, с тех пор как умерла… моя мама?.. — Ей было неловко использовать Франсин для затравки, но слишком уж она радовалась, что нашла товарища по несчастью.
— Ах да. Я слышала, — ответила Ди без ожидаемого сочувствия в голосе. Она заправила за ухо прядь волос и добавила: — Это ужасно.
— Да, спасибо… Я ведь помню — ну, что случилось с твоей мамой. И подумала… в общем, да. Конечно. Ужасно. Теперь я понимаю. Твоя мама, кстати, учила меня играть на пианино.
— Угу.
Бигль громко тявкнул.
— Да! Правда, я потом забросила это дело. Не из-за твоей мамы, конечно. Просто руки у меня оказались кривые.
Ди кивнула и окинула взглядом парк. По травке неподалеку от них вышагивал забавный малыш. За ним, изображая страшного монстра, шел папа.
— Чем сейчас занимаешься? — спросила Мэгги.
— Да вот, вернулась в Сент-Луис. Живу тут уже несколько месяцев.
— У-у, ясно…
— Я сама так захотела.
— Да?
Ди поставила одну руку на пояс:
— Я училась на Западе, но потом решила вернуться.
— Почему?
— Мне казалось, что это мой долг — после того, что случилось.
— Хм-м. Понятно. — Мэгги помолчала. — Извини, а что именно случилось?
— Волнения.
— А-а.
— Протесты!..
— Ну да, да, я в курсе. Значит, они еще не утихли?..
Ди прищурилась.
— Я-то сейчас живу в Нью-Йорке, — пояснила Мэгги. — В Куинсе и как бы в Бруклине. Прямо на границе между двумя районами.
— Ясно.
— Работы-работы у меня нет, но я понемногу помогаю соседям — людям, которые не очень хорошо знают английский. Хожу с ними по инстанциям, помогаю объясняться и все такое.
Мэгги очень хотелось подружиться с Ди — хоть с кем-нибудь подружиться в Сент-Луисе. Иметь здесь друга, который спас бы ее от семьи.
— Эй, — сказала она, — а приезжай-ка в гости! В Нью-Йорк! — Мэгги придала своим словам немного бродвейского блеска, растопырив пальцы и изобразив таким образом мерцание огней.
— Здесь еще очень много работы.
— Ну да, ну да.
— Слушай, мне пора…
— Ты отлично выглядишь, кстати.
— Спасибо.
— Все еще играешь в теннис?
Ди вздохнула:
— Нет. Нет, я получила травму. — Она добавила что-то про вращательные мышцы плеча. — Было очень тяжело. Но я многое переосмыслила в своей жизни.
— Слушай, — сказала Мэгги, почуяв, что Ди ускользает. — Тогда я, наверное, тебе не говорила… Но скажу сейчас: прими мои соболезнования. Насчет мамы. Теперь я понимаю, каково это…
Ди помрачнела:
— Опомнилась!
— Э-э… в смысле?
— Мэгги, ты забыла? Когда маме поставили диагноз, я устроила кампанию… Пыталась привлечь внимание общественности к проблеме рака молочных желез.
— Да, да, помню, конечно.
— Я наделала футболок и бейсболок и продавала их…
— …На свободном уроке, точно. Помню твой стенд. Розовый такой.
— Да. Розовые бейсболки, футболки и все прочее. Выручку я перечислила на онкологические исследования.
— Ага.
— Помнишь, что ты мне сказала?
Мэгги помотала головой.
— Ты сказала… Черт, Мэгги, ты правда забыла? Подошла к моему стенду и говоришь: «Ты хоть знаешь, откуда взялись эти футболки?»
— Так…
— А потом сама же и ответила: «Они из Китая. „Сделано в Китае“ значит „Сделано рабами“. Эти футболки шили в подвалах бедные дети, причем за гроши!» Ты принялась меня отчитывать — у всех на виду. За то, что я продавала футболки. Чтобы привлечь внимание людей к проблеме рака! А моя мать тем временем умирала. Если честно, я просто обалдела: как так можно?!
— Ну, я… Э-э, да. В смысле, это правда, но ты меня прости, я не хотела тебя обижать.
Ди покачала головой:
— Ты поступила ужасно мерзко.
— Я же извинилась!
— Потом я рассказала про это папе. И знаешь, что он ответил?
— Директор Холл?
— Он сказал: «Не принимай близко к сердцу, милая. Она же из Альтеров».
— В смысле?..
— В смысле все члены вашей семьи самолюбивы и зациклены на самих себе!
— Ого. Ну, ладно.
Бигль зарычал.
— Ты без конца с чем-то боролась, Мэгги. И всегда мимо кассы. Ты вечно возмущалась не тем, чем стоило.
— Зачем ты так… — пробормотала Мэгги.
— «Сделано рабами»! Господи! В нескольких милях к северу отсюда мир разваливается на части. Присяжные собираются оправдать этого копа — народ негодует{62}. Я негодую. А ты даже не в курсе. Ты понятия не имеешь, что происходит.
— Вообще-то, я в курсе!
Ди дернула поводок:
— Идем, Сампрас{63}. Нам пора.
И они скрылись за статуей Людовика.
Мэгги срочно нужна была доза одобрения. Бальзам — чтобы смазать ожог. Она выудила из кармана телефон и открыла в мессенджере переписку с Эммой.
Сб, 28 марта, 18:24
Ты приедешь?
Уже в пути.
Ура!!
Сб, 28 марта, 22:32
Ты дома? Как добралась?
Мэгги?!
Сб, 28 марта, 23:46
Позвони, пжлст.
Воскр, 29 марта, 12:03
Все нормально?
МЭГС
Вт, 31 марта, 15:29
???
Она нажала кнопку вызова и поднесла телефон к уху.
— Алло.
— Эмма, привет! Это Мэгги. Ну, то есть у тебя определился номер, разумеется… В общем, да. Привет.
— Привет.
— Как дела?
— Да никак.
— Как Нью-Йорк? Я сейчас в Сент-Луисе. Помнишь Ди? Ди Холл?
— Э-э, да. Погоди. — В трубке что-то зашуршало. — Дочка директора?
— Точно! Она самая. Я ее только что встретила, представляешь.
— И?
— Надо было спросить, помнит ли она тебя!
— Надо было.
— Угу.
— Да.
— Ну… что у вас там еще творится?
Эмма фыркнула:
— Ты серьезно?
— А что?
— Господи… Мэгги, я же за тебя волновалась!
— Не поняла?
— А тебе все равно! Когда ты рухнула в обморок у меня дома, я… я запаниковала! Но потом ты очнулась, сказала, что все хорошо и что ты мне напишешь, как только доберешься до дома…
— Ой. Точно. Прости, из головы вылетело!
— Почему ты не отвечала на мои сообщения?! Я тебе писала, звонила. Уже несколько недель прошло!
— Да, я просто забыла, прости, пожалуйста. Слушай, можно задать тебе один вопрос?
— Какой?
— Я приятный человек?
— В смысле?!
— Я приятный человек — да или нет?
— Что за… не понимаю… Мэгги! Нашла время спрашивать — я очень обижена и злюсь!
— Да, но попробуй забыть об этом на минутку.
— Ладно. Ладно. Да, конечно.
— Что «конечно»?
— Да, ты мне нравишься.
— Это как раз понятно. Я спрашиваю, приятный ли я человек. Не только для друзей, а в общем и целом. Есть ли у меня качества, которые делают меня приятным человеком?
— Ты бредишь. Детский сад какой-то.
— А вот и нет!
— «А вот и нет». Ты себя вообще слышишь? Так говорят дети, когда закатывают истерику.
— Я не закатываю истерик.
Эмма фыркнула:
— Ты только этим и занимаешься.
Мэгги разозлилась:
— Знаешь что, Эмма?! Вот эта твоя «доброта» — она показная. В детстве ты всем мозги этим пудрила, но меня не проведешь. Не бывает таких идеальных людей! Я и тогда знала, и сейчас знаю. Какая ты на самом деле.
— Мэгги?
— Что?..
— Не звони мне больше. Ладно? Слышать тебя не хочу.
— Ты чего… — (Но Эмма уже повесила трубку.) — Да что за день такой?! — пробормотала Мэгги и сунула телефон обратно в карман. Подумала позвонить Майки, но не рискнула: раз уж она такой ужасный человек, от которого все отворачиваются, лучше никому не звонить. Да, подумала она, лучше буду одна, чтобы не портить людям жизнь.
Она помчалась вниз по холму Искусств. На травке, любуясь друг другом, лежали влюбленные парочки. Молодые родители по очереди следили за малолетними детьми, давая друг другу подремать на солнышке. Какой-то лабрадор вдруг бросился бежать и сиганул в пруд у подножия холма, преградив путь водному велосипеду.
Мэгги пнула камешек. Почему все такие трудные? И почему Мэгги пытается быть добра и щедра к малознакомым людям — обездоленным и не только, — но при этом совершенно не способна поддерживать позитивные отношения с близкими, которых можно по пальцам пересчитать? Ей куда проще общаться с натурализовавшимися жителями Риджвуда, нежели со своей семьей и друзьями. Миссис Вонг без ее помощи не способна заполнить налоговые формы. Польский младенец осваивает с ней азы английского. А мальчики! Для Бруно и Алекса она стала прямо-таки старшей сестрой. Матерью. Ментором. Образцом для подражания.
Мэгги спустилась к подножию холма и постояла у пруда, глядя на слабенькие струи редких фонтанов. Обернулась. Величественный музей с колоннами и широкими каменными крыльями чем-то напомнил ей лондонскую Национальную галерею — а заодно первую и единственную семейную поездку Альтеров за рубеж. (Ежегодно они совершали небольшие вылазки в пределах страны — посещали национальные парки, известные каньоны, гейзеры и пещеры соседних штатов; Мэгги вспомнила, как отец однажды устроил разнос хипповатому торговцу хрустальными шарами в Седоне, осмелившемуся войти за ними в кафе, дабы сообщить Артуру, что у того побледнели чакры.) Но Лондон стал исключением. В первый год нового тысячелетия Артур забронировал отель в Белгравии и купил театральные билеты на некий знаменитый фарс. Как Мэгги потом поняла, причиной поездки стал прошлогодний пожар, случившийся по недосмотру Артура (ведь любая аномалия в жизни семьи непременно имела скрытый смысл и причину). Его халатное отношение к домашним обязанностям чуть не обанкротило семью. Разумеется, этой поездкой отец пытался загладить вину — не мог же он просто так раскошелиться на трансатлантический перелет.
В Англию они поехали весной 2001-го. Мэгги было одиннадцать лет. Ночь Альтеры проспали в самолете, утром приземлились в Лондоне и поехали в гостиницу — регистрироваться и завтракать, — а потом сразу в Национальную галерею, надеясь таким образом обмануть биоритмы и адаптироваться к местному времени. Каждый член семьи отправился на поиски собственных удовольствий: Франсин — к импрессионистам, Итан — к Тициану, Артур — к Тернеру. Мэгги застряла в зале религиозной живописи: ее заворожили кровавые изображения Иисуса Христа. В полубреду усталости Альтеры оказались совершенно беззащитны перед силой искусства. То был их лучший день в Лондоне. Каждый провел его наедине с собой, восхищаясь собственными гениями и сознавая, что через час-другой они встретятся в музейном кафетерии и расскажут друг другу об увиденном. Обособление и воссоединение — они нуждались и в том и в другом. Да, равновесие (в данном случае возможность побыть отдельной личностью и одновременно — частью целого) всегда украшает жизнь, но тут дело было еще и в другом: осознание скорой встречи освобождало каждому Альтеру время на самого себя, да и совместный досуг переносить гораздо проще, если знаешь, что потом можно снова разойтись.
— Корабль Тесея видно издалека, — сказал Итан, когда они сели за столик в кафе. Он восхищенно покачал головой. — И небо такое голубое. Я просто… Да уж. — Он громко выдохнул.
Франсин улыбнулась:
— В детстве ты обожал древнегреческие мифы.
— Правда?
— Ага! Каждый вечер упрашивал меня почитать их тебе перед сном. И всегда одну и ту же книгу — с иллюстрациями Д’Олеров. Кажется, мы ее сохранили…
— А еще ты целую неделю разгуливал по дому в одной простыне, — сказал Артур, хмуро уставясь в меню. — Что такое «американо»?
— Хм-м, — протянул Итан. — Мне нравились мифы, надо же… — Он задумался. В шестнадцать лет Итана больше всего интересовал он сам и версии его личности, предшествующие нынешней. — Хм-м. Здорово. Здорово, что мне это нравилось.
— Я хочу просто кофе, — проворчал Артур.
— Мэгги? — обратилась к ней Франсин. — Все хорошо? Ты что-то притихла.
Та нахмурилась:
— Иисуса убили иудеи?
Артур громко фыркнул.
— Мэгги! — воскликнула Франсин. — Откуда ты это взяла?
Она взяла это в школе — причем уже довольно давно, несколько месяцев назад, — но дошло до нее только сегодня, перед картиной с распятием. Иисус, худощавый и бледный, почти скелет, висел на кресте в окружении почитателей и предателей. Из его ран сочилась кровь. Мэгги и раньше знала, что Иисуса распяли, но это слово было практически лишено смысла — пока она не увидела своими глазами гвозди в его ладонях и ступнях, не ощутила фантомную боль в тех местах, где могли бы открыться стигматы.
— Это правда? — спросила она. — Они его убили? Мы его убили?
— Нет, — ответила Франсин. — Его убили римляне. Понтий Пилат.
Артур засмеялся:
— Убили-то римляне, ага. А мы сдали его со всеми потрохами. Такие дела. Мы не убийцы, а всего лишь трусы и предатели.
— Не говори так! — с упреком осадила его Франсин. И обратилась к Мэгги: — Историю о том, что иудеи виноваты в смерти Христа, часто эксплуатируют для оправдания антисемитизма.
Мэгги скрутило живот.
— Как-то мне… нехорошо.
— А вот и фирменное еврейское чувство вины.
— Что это?
— То, что делает нас евреями, — ответил отец.
— Артур! — Франсин шлепнула его по руке. — Вовсе не это делает нас евреями!
— А у католиков чувство вины бывает? — спросила Мэгги.
— Кто тебе это сказал?
— Католики сперли свое чувство вины у нас, — ответил Артур. — Самоуничижение нынче в моде, понимаешь? Нельзя же допустить, чтобы оно осталось прерогативой евреев! Нет, нет, у каждой религии должна быть своя версия. Всем должно быть плохо и стыдно по-своему.
— Католики испытывают чувство вины, когда подводят Бога, — сказал Итан. — А евреи — когда подводят родителей.
Дальше все пошло под откос. Артур пытал семью музеями, Тауэрским мостом, Гайд-парком, стараясь выжать из каждого дня по максимуму. Перед Музеем Виктории и Альберта они окончательно рассорились.
— Знаешь, нам бы немного поспать, — сказала Франсин, — от этого еще никто не умирал.
Но мысль о том, чтобы проспать дорогущий отпуск, была неприемлема и недопустима.
А еще постоянно шел дождь. В последний мокрый лондонский вечер, пока родители после фарса пытались вызвать такси, Мэгги отпустила мамину руку и подошла к залитой дождем неоновой витрине. Она положила ладонь на влажное стекло и оказалась лицом к лицу с головой манекена, подсвеченной ярко-красным светом. На голове была черная резиновая маска: нос превратился в свиное рыло, сверху торчали два уха. Рот был застегнут на молнию.
— Мэгги! — окликнула ее Франсин. — Вернись! — Она подбежала к дочери и утащила ее обратно к Артуру и Итану. — Ты меня напугала! Нельзя так убегать, слышишь? И магазин не детский.
— Там продаются женатые маски.
— Что?
— Женатые маски. Как на том дяде, который приходил к тебе вместе с женой, когда папа поджег дом.
— Я ничего не поджигал! — сказал Артур.
— На каком еще дяде?
Мэгги высунула язык и тяжело задышала.
Франсин вспыхнула:
— А-а! Ну да… Мэгги… не все женатые люди носят такие маски.
— Разве?
Итан рассмеялся.
— Нет, солнышко, — ответила Франсин.
Она повернулась к Артуру, но тот уже выскочил на дорогу. Дождь втихомолку пропитывал его вельветовый пиджак, пока сам он, как маньяк, догонял такси.
Сидевшая на водном велосипеде Ульрика Блау изнемогала от жары. Именно ее велосипеду преградил путь тот лабрадор.
— Ого! Осторожно! — крикнул ее спутник, когда вымещенная вода оросила их лица.
— Спасибо, — ответила Ульрика, — все хорошо.
Рядом с ней сидел Грег Мод, студент-магистрант исторического факультета. Она не была его научным руководителем, но он все равно хотел задать ей несколько вопросов по курсовой. Свободны у него были только субботы, а поскольку на выходные все кабинеты кафедры закрывались, он предложил встретиться в парке. Но его вопрос, как оказалось, носил административный характер, и ответ на него занял всего пару минут.
— Ну что ж, — сказал Мод, — не пропадать же такому прекрасному дню! Может, покатаемся на водном велосипеде?
Ульрика, боясь его расстроить, согласилась (она слышала массу историй про недовольных американских студентов и власть, которую они имели над преподавательским составом — петиции, протесты…)
— А что, даже весело! — сказал Мод, глядя на проплывающего мимо лабрадора. — Не находите?
— Нахожу.
— А как вас, кстати, занесло в Дэнфорт?
Мод прилежно изучал европейскую историю и имел выпяченную нижнюю губу, как у Габсбургов. Брови у него всегда были вскинуты — или с рождения расположились слишком высоко на лбу, — из-за чего лицо постоянно выражало либо Удивление, либо Интерес. Точно Ульрика сказать не могла, но сейчас его брови вроде бы зависли в районе Интереса.
— Видите ли, Грег, — она произнесла его имя как «Грейг», с отчетливым [эй] в середине, чем вызвала у молодого человека Удивление, — я уже давно хочу где-то осесть. Найти удобное место для работы.
— И вы его нашли? Здесь?
— Возможно.
— О, это здорово! Просто прекрасно!
— Вы так думаете?
— Ну, я хотел бы… то есть… будет здорово проводить с вами больше времени. В смысле — учиться у вас. Вы такая талантливая. — Мод слегка повернул голову и задумчиво посмотрел на холм Искусств. В этом ракурсе он был не так уж некрасив. — Словом, я рад, что вы решили остаться.
— Почему?
— Как я уже сказал, вы талантливый ученый — и замечательный лектор. «Рекреационная политика придворной жизни четырнадцатого века» — вот это была сенсация! Феноменальный успех! А я, поверьте, знаю толк в сенсациях. Я вам говорил, что вырос в Брансоне? Брансон, штат Миссури{64}. Вся моя семья оттуда. Так что я способен оценить по достоинству хорошее представление.
— Спасибо.
— В вас, наверное, все парни на потоке влюблены.
— Ну что вы.
— Не скромничайте! Я знаю по меньшей мере одного.
— Кто же это?
Мод покраснел и принялся усиленно крутить педали, разворачивая пластиковый велосипед в сторону берега.
Ульрика подивилась его самоуверенности. Артур редко позволял себе комплименты в ее адрес, и внимание юноши ей даже польстило. Сам Грег не слишком ей нравился, но последние два года она видела себя исключительно глазами Артура. Приятно было для разнообразия почувствовать на себе восхищенный взгляд другого мужчины.
— Мне льстит ваше внимание, Грейг, однако мне нравятся другие мужчины… постарше.
— Хм. — Мод почесал крупный подбородок. — Интересно, почему?
— Поверьте: вам не нужно это знать.
Мод перестал крутить педали и заглянул ей в глаза. Положил ладонь на пластиковую перегородку между сиденьями:
— Нужно.
Ульрика помедлила:
— В основе моих предпочтений — длительная и деструктивная связь с отцом подруги.
— Поподробнее, пожалуйста.
Она подумала об Артуре, его собственнических замашках и мелкодушии.
— Мужчинам не нравится слушать эту историю. Она… — Ульрика попыталась подобрать верное слово. — Она их пугает. Лучше не просите меня продолжать.
— Прошу.
— Не надо.
— Пожалуйста!
— Вам действительно любопытно?
Его брови вернулись в исходное положение: лицо снова выражало Интерес.
— Да. Очень.
Вечером Артур кормил их запеченной семгой. Мэгги весь ужин глазела на фотографии, переводя взгляд с цветущего и жизнерадостного юноши на осунувшегося, краснолицего, громко жующего мужчину, который сидел рядом. Время не пощадило ее отца. Время — и коварные биологически активные вещества, сочащиеся из желез, — радикально его изменило. Мэгги была потрясена этой тридцатитрехлетней пропастью между юношей на фотографиях и человеком перед ней. Неужели только она это замечает? Если Итан и замечает, то виду не подает.
— Где вы сегодня были? — спросила Мэгги.
— Ходили на балет.
— На балет?
— Да. На «Лебединое озеро».
Мэгги повернулась к Итану и беззвучно, одними губами произнесла: «Балет?!» Тот улыбнулся и пожал плечами.
— Что ты сейчас преподаешь, пап? — спросил он.
— Веду курс «Инженерия социальных перемен». И специальный тематический курс для старших студентов.
— Всего два?
— Да.
— Это нормально? Помню, раньше у тебя была огромная нагрузка.
— Факультет сейчас переживает трудные времена. — Артур похрустел костяшками пальцев. — Зато у меня появилось время на другие занятия.
— Какие, например?
— Не столь важно, что именно я делаю со своим временем — главное, оно у меня есть.
Мэгги попыталась переглянуться с братом и привлечь его внимание к фотографиям на стене. Но Итан жевал, сосредоточенно глядя в тарелку и лишь изредка кивая Артуру. Мэгги оказалась в неловком положении: ей совершенно не с кем было обмениваться издевательскими взглядами.
— В прошлом году я вел жуткий курс, — продолжал Артур. — Вдумайтесь: «Разработка техдокументации для иноязычных студентов». — Он фыркнул. — Это ж какое надо иметь терпение!
— Мэгги, — сказал Итан, — ты вроде чем-то подобным занималась? Не техдокументацией, конечно… Ты помогала приезжим, которые плохо знают английский, да?
— Я… э-э…
Неужели никто ничего не скажет об этих фотографиях?!
— Ну да, — выдавила она наконец.
— Что ж, молодец, — сказал Артур, обращаясь напрямую к Мэгги. — Я серьезно. Приезжим надо помогать — им очень нелегко.
Итан кивнул:
— Согласен.
— Тебе не понравилась семга? — спросил ее Артур.
— Я вегетарианка… — пробормотала Мэгги.
— Рыба — не мясо.
— А что же?
— Ну а у тебя как дела? — спросил Артур. — Как работа?
Мэгги кашлянула.
— Да… нормально, — промямлил Итан. — Как обычно.
— Тебя давно должны были повысить. Так ведь? — Он взглянул на Мэгги.
— Ага… Ну да. — Она ухмыльнулась. — Я слышала, Итан у себя в конторе просто звезда. Давно пора просить о повышении.
— Ну, не знаю, — сказал Итан. — Меня и так все устраивает.
— Чушь! — воскликнул Артур. — Решено. Как только вернешься, сразу идешь к начальству и просишь — нет, требуешь — повышения. И зарплату пусть повышают. Никогда не отказывайтесь от заслуженного. — Он сунул в рот кусок рыбы. — Я вас с детства этому учу.
14
Для людей робких и забитых свадьба — пропащее дело. Заранее ясно, что ничего хорошего не выйдет. Вот и бракосочетание Франсин и Артура было заведомо обречено на провал. Ну ничего, успокаивала себя потом невеста, то, что случилось на свадьбе, рано или поздно все равно бы случилось.
Изначально она представляла себе скромный праздник для родителей и двух-трех друзей. Мероприятие со вкусом: звон изящных бокалов в красивом зале со свечами. Тосты, танцы, маленькое джазовое трио. Контрабас, рояль, ударные.
Главное — масштабы. Они не могли позволить себе большую шумную свадьбу с кучей гостей (от одной мысли об этом Артура хватал удар), но если пригласить всего несколько человек и не разбрасываться деньгами, то получится замечательный праздник для самых близких. С такими мыслями Франсин договаривалась о просмотре зала в отеле «Копли-плаза». «О да, — думала она, проходя под сводчатыми потолками, царскими люстрами и золоченой лепниной „Аллеи павлинов“, — это то, что нужно. Красиво и со вкусом».
Она спросила, сколько стоит аренда. Ей назвали расценки.
Если не считать денег, которые Месснер уже инвестировал от ее имени, Франсин могла пригласить в «Копли-плаза» ровно двух человек: саму себя и Артура.
— Ну что ж, придется умерить аппетиты, — сказал он, когда она тем вечером вернулась домой.
— Знаю, — ответила она, вытирая слезы. — Знаю. Вот глупая… думала, нам это по карману.
— Ну, ну, — запричитал Артур. — Я же не говорил, что ты «глупая»!..
— Банкетный зал, музыка… Вот размечталась-то!
— Естественно, такую свадьбу мы никогда не смогли бы себе позволить… Но твое желание мне понятно.
— Правда?
— Конечно. В твоей мечте нет ничего дурного. Но что поделать — мы живем в реальном мире.
Она скинула с плеча его руку.
— Позвони маме, — предложил Артур. — Вдруг она поможет?
— Не нужна мне ее помощь.
— Я бы позвонил своей, но…
— …У нее все равно нет таких денег, — вздохнула Франсин. — Знаю.
Его отец умер несколько лет назад, пока Артур еще учился в университете. С тех пор мать жила в Шароне одна, зарабатывая на хлеб конторской работой в городской казне. Боль утраты уже притупилась, но Артур попытался войти в положение Франсин: та потеряла отца меньше года назад. Понять ее чувства оказалось не так-то просто. Все-таки ситуации у них разные, нечего и сравнивать. Миссис Кляйн осталась весьма обеспеченной вдовой — учебник по матанализу по-прежнему неплохо продавался, — а следовательно, ей куда проще выносить одиночество.
— Это единственное, что восхищает меня в матери, — сказал он. — Она способна сама себя прокормить. Не каждая вдова может этим похвастаться. Но у малоимущих просто нет другого выхода, их никто не спрашивает…
— Она — пример для всех нас.
— Мне кажется или я слышу в твоих словах сарказм?
— Ну, если читать между строк, то моя мать не в состоянии себя прокормить. А стало быть, и восхищения она не достойна.
— Порой я забываю, что выбрал в жены мозгоправа. Слушай. Не всегда между строк что-то есть. Порой нужно читать только… сами строки. Знаешь, я видел твои заметки… «Возможное направление научной деятельности: герменевтика подозрений?» Иногда мне кажется, что мы бы ладили куда лучше, если бы ты воспринимала меня более поверхностно. Ты слишком глубоко копаешь, слишком критична…
— Я не «мозгоправ». Но я понимаю, куда ты клонишь. Твоя мать — которая, между прочим, не одобряет твой выбор…
— Что? Одобряет! Еще как!
— Ты бы слышал, каким унылым тоном она меня поздравляла, Артур. И то я ей сама позвонила. Практически напросилась на поздравления.
— Она ничего не имеет против тебя. Просто ей непонятно, зачем мы женимся, зачем вообще люди женятся. Им с отцом непросто жилось. Вот она и думает, что все остальные будут так же несчастливы в браке.
— Точнее, она хочет, чтобы все были несчастливы.
— Франсин.
— Говорю тебе, я ей не нравлюсь.
— Ей вообще никто не нравится, — сказал Артур.
— Включая тебя!
— Включая меня.
Они переглянулись и захохотали.
— Бред, — сказал он.
— Не то слово!
— Позвони своей маме. Посмотрим, что она скажет.
— Ладно. — Франсин покачала головой. — Позвоню.
Мама Франсин согласилась оплатить всю свадьбу. Целиком. Конечно-конечно, без проблем — только при одном условии. Свадьбу надо сыграть в Дейтоне. Франсин сказала, что подумает.
— О чем тут думать? — вопрошал Артур, расхаживая туда-сюда по комнате и массируя виски. — Она предлагает взять на себя все расходы!
— Да, но я не хочу возвращаться в Дейтон. Это должен быть наш день, а она хочет устроить праздник для себя. Поверь мне, она не умеет быть бескорыстной.
— Франсин…
— Вот увидишь. Она присвоит себе наш праздник. Сама все спланирует и организует. Соберет там половину Дейтона.
— Какая разница, кто придет? И какая разница, где будет свадьба? Она же берет на себя все расходы!
— Но это наш день!
— Неужели? После свадьбы все дни будут наши, да. А этот… этот не про нас. Он про то, как не дать твоей семье переубивать мою семью и нас самих. И наоборот. Так пусть этим займется твоя мать, раз ей так хочется!
Почему-то раньше Франсин не задумывалась о преимуществах делегирования. Она совершенно закопалась в кандидатской по этической теории Мерло-Понти, и времени на организацию свадьбы — тем более в такие короткие сроки — у нее действительно не было. Помолвка состоялась, и теперь дело шло к заветному дню бракосочетания. Франсин считала, что действовать нужно без отлагательств: если сейчас сбавить темпы, Артур будет тянуть волынку вечно. Но все же она не переставала лелеять надежду на красивую церемонию, непринужденный банкет и последующее безболезненное бегство в жизнь, которая — наконец-то — будет принадлежать только ей.
Она взглянула на Артура. Его лоб и виски блестели от пота.
Порой ей казалось, что в нем живет два человека. Один озлобленный и мелочный — настолько, что скрыть эту озлобленность и мелочность было невозможно: они проступали у него на лбу в виде обильного и вонючего пота. А второй человек — добрый, щедрый и заботливый. Именно он уехал в Африку помогать людям. Именно он во время их недавнего возвращения из Сан-Франциско тайком заглянул к стюардессам и попросил сообщить ему — посредством кодовой фразы, — когда самолет будет пролетать над Огайо. Через некоторое время стюардесса действительно подошла и спросила Артура, не проголодался ли он (Франсин это показалось странным, ведь еду еще даже не начали развозить). В ответ Артур подмигнул, кивнул многозначительно, расстегнул ремень безопасности и прямо в проходе опустился перед Франсин на одно колено, чтобы сделать любимой предложение в тысяче футов над ее родиной — отдав этим красивым жестом косвенную дань уважения истокам, не вынуждая ее к ним возвращаться. То, что самолет при этом двигался над Огайо в сторону Бостона, тоже было своеобразным кивком ее прошлому и решительным указанием в будущее. «Я знаю, кто ты, — как бы говорил Артур. — И знаю, кем ты хочешь быть». Франсин согласилась практически сразу.
И где теперь этот человек?
Желая получить второе мнение, она позвонила сестре.
Бекс сказала:
— Нашей маме доверять нельзя.
— Я тоже так думаю.
— С другой стороны, — добавила Бекс, — если у тебя связаны руки, то ничего не поделаешь.
Миссис Кляйн пришла в неописуемый восторг, когда ее попросили организовать свадьбу. Она пригласила двоюродную, троюродную и четвероюродную сестру, а также целую орду теток из всевозможных обществ, в которых она состояла. Дабы вместить такое количество гостей, миссис Кляйн арендовала гостиницу «Мариотт» в центре Дейтона, которая делила парковку с штаб-квартирой Национальной компании по производству контрольно-кассовых машин и итальянским рестораном. Она заказала викторианские приглашения в двух цветах: пепельно-розовом и бирюзовом. Именно эти цвета нравились Франсин меньше всего, но сообразить, что это — акт агрессии со стороны матери или проявление ее дурного вкуса, — она не смогла.
— А еще мне пришла в голову забавная идея, — однажды сказала та по телефону. — Почему бы вам с Артуром не сесть за разные столы?
— Это еще зачем?!
— Ну, Артуру наверняка захочется провести время с семьей…
— Не захочется. С его стороны почти никто и не приедет.
— А ты разве не хочешь побыть с нами?
— Это же наша свадьба. Мы жених и невеста и должны сидеть вместе!
— Ладно, ладно.
— Обещаешь?
— Что?
— Что на свадьбе я буду сидеть рядом с женихом.
— Ладно, ладно.
— Скажи нормально.
— Что сказать?
— Что посадишь нас рядом.
— Хорошо.
— Не «хорошо» и не «ладно, ладно»! Скажи, что посадишь нас рядом! Господи.
— Как тебе угодно.
Франсин в ярости бросила трубку.
Один-единственный раз она слетала домой, чтобы решить несколько важных вопросов, которые без ее участия не решались. Дом почти не изменился. Да, отца не стало, но он и при жизни почти не выходил из кабинета — в этом смысле мало что изменилось. По-настоящему больно было увидеть знак «Продается» на лужайке перед домом Руфи.
— Представляешь, не могу его продать! — пожаловалась миссис Кляйн. — И оформить его как пристройку тоже нельзя. — Она покачала головой. — Эта женщина даже после смерти находит способы мне досадить.
Они вместе поехали обсуждать праздничное меню с представителем кейтеринговой компании. На стене за его спиной висел синий флажок Дейтонского университета.
— Мы можем предложить вашим гостям семгу на гриле, салат, спаржу и хлебную корзинку на каждый стол. — Он перевел взгляд с дочери на мать и обратно. — Устраивает?
— Нужен еще какой-то гарнир, — сказала Франсин. — Люди успеют проголодаться.
— А я бы обошлась без гарнира. — Мама покачала головой. — Хлеб же есть.
— Хлеб — не гарнир.
— Хлеб — это крахмал. Он сытный.
— Может, рис с пряностями?
— Фрэн, рис и хлеб — одно и то же. Продукты из одной категории. Зачем повторяться? Не хочу платить лишние деньги за очередное крахмальное сытное блюдо.
— Неужели рис так сильно ударит тебя по карману?
— Не ори на меня! Тем более при людях!
— Я и не ору!
— Орешь! Теперь точно орешь!
— Какой бред, мать твою, господи…
— Не выражайся!
— Это моя свадьба. Я не хочу, чтобы на моей свадьбе гости голодали.
— А вот и не твоя! Размечталась! Взгляни на чеки, Франсин, и прочитай, чье имя там стоит. Прочитай имя!
— Вам нужно поговорить? — вежливо осведомился представитель кейтеринговой компании.
Франсин пришла в ужас, но ее мать осталась непреклонна. Судя по всему, единственное, что она оставила на усмотрение дочери, — это выбор жениха.
На следующее утро миссис Кляйн спросила Франсин, когда они поедут в «Свадебный бутик».
— Вообще не поедем, — ответила Франсин. — Я не буду покупать там платье.
— А чем плох «Свадебный бутик»? Дебби Симковитц покупала там свое. Ты ведь помнишь Дебби?
— Смутно.
— Она играет в симфоническом оркестре Цинциннати. Вторая скрипка. У этой девочки всегда был талант.
— Молодец Дебби!
— Хотя ее папаша — крупный меценат и покровитель искусств. Так что кто знает… Ладно, не важно. Чем плох «Свадебный бутик»?
— Там одна безвкусица.
— По-твоему, у Дебби Симковитц нет вкуса?
— Да.
Миссис Кляйн охнула.
— Слушай, мам, у меня уже есть платье.
— Правда?
Нет, на самом деле платья не было.
— Да, правда. Я уже заказала его в Бостоне. На этой неделе первая примерка.
— Ну хорошо, — пробурчала мать. — Будь по-твоему.
На следующий же день после возвращения в Бостон Франсин договорилась о визите в семейное ателье по пошиву свадебных платьев в Бэк-бэй. Ателье располагалось на первом этаже красивого викторианского дома из песчаника, но в самой лавке царил бардак: всюду висели недошитые платья и валялись груды тряпок. Из противоположного угла комнаты на Франсин смотрело трюмо.
Ей навстречу вышла женщина с толстым пучком седеющих волос.
— Хотите заказать платье?
Франсин кивнула.
— А где остальные?
— Остальные?..
— Ну да. Мать, сестра, подруга или с кем там обычно невесты приходят.
— А-а! — Франсин похлопала себя по карманам, словно там мог кто-нибудь заваляться. — Нет, я одна.
Женщина вскинула брови:
— Одна?! Что ж. Ладно. Давайте начнем.
Франсин остановилась на скромном, но модном платье с пышными рукавами в стиле принцессы Дианы, которые собирались складками на локтях, с длинным, пристегивающимся сзади шлейфом и глубоким декольте, которое она попросила оторочить широкой кружевной тесьмой, дабы не шокировать среднезападную публику. Корсаж решили расшить мелким жемчугом, а глубокий вырез на спине прикрыть длинной фатой. Франсин пришлось дважды приезжать на примерки, чтобы платье село в точности так, как надо.
— Вам завернуть? Или прямо в нем пойдете? — хихикнула портниха.
— Нет, спасибо, — ответила Франсин. — Отправьте его, пожалуйста, в Дейтон. Дейтон, штат Огайо.
Репетицию ужина решили не проводить. Потом, вспоминая свою свадьбу, Франсин иногда думала, что тут они допустили ошибку. Но разве можно отрепетировать катастрофу, навести лоск на хаос? Кроме того, им стоило больших усилий уговорить маму Артура приехать на Средний Запад. И она бы точно не стала кормить за свой счет бесчисленных Кляйнов и единичных Альтеров.
Вероятно, это было даже к лучшему. Хлопот и так хватало. Платье благополучно прибыло в Дейтон, но оказалось, что к нему нет шелковой нижней сорочки. Когда Франсин позвонила в ателье пожаловаться, портниха буркнула: «Ну и истерички эти невесты». Пришлось срочно мчаться в универмаг «Элдер и Бирмен», чтобы успеть до закрытия, и покупать там сорочку.
Вечером накануне церемонии миссис Кляйн подошла к дочери и спросила:
— Как ты относишься к лимузинам? — Ее напомаженные губы расплылись в клоунской улыбке.
— В смысле?
— Вы с Артуром могли бы доехать из синагоги в гостиницу на лимузине.
— Что? Ни в коем случае.
— Я думала, это было бы приятно.
— А я думала, у нас нет денег на рис.
— Хочу сделать вам такой подарок на свадьбу. Лимузин!
— Не надо.
— Да почему же?!
— Если бы ты хоть чуть-чуть меня знала, то давно бы заметила, что я не люблю быть в центре внимания. Лимузин — это не про меня. Совсем.
— Хорошо, — прошипела миссис Кляйн. — Будь по-твоему! И удачи завтра.
С этими словами она оставила Франсин одну — в комнате ее детства.
Несколько минут спустя в дверь постучалась Бекс:
— Все нормально?
Франсин высморкалась:
— Успокой меня, скажи, что я поступаю правильно.
— Правильно?
— Я выбрала правильного мужа?
Бекс скрестила руки на груди и, поджав губы, кивнула. Ее недавно эффектно бросил знаменитый и очень богатый галерист (и по совместительству — эротоман), в которого она до сих пор была влюблена.
— По-моему, «правильных» людей не бывает.
Франсин всхлипнула.
— Ну ладно, ладно! Да. Ты все делаешь правильно. Артур — умный, так ведь? Ему должно хватить ума, чтобы хорошо с тобой обращаться.
Они поженились воскресным мартовским утром. После подписания ктубы{65} все собрались в святилище. Ровно в 10:31, когда минутная стрелка часов начала оптимистичный подъем, мама Артура проковыляла по центральному проходу и заняла свое место. За ней последовал Артур. Он взошел на виму, нервно вонзая ноготь в бедро. Миссис Кляйн с гордо поднятым подбородком прошествовала мимо многочисленных гостей, собравшихся здесь лишь благодаря знакомству с нею. Бекс и Рик Питш, бывший сосед Артура по общежитию, замыкали процессию.
Наконец пришел черед Франсин. На ней было жемчужное колье и жемчужные серьги с крошечными бриллиантами. Ее вел под руку дядя Рон, мамин брат, вот только его присутствия она почти не заметила и потом, спустя годы, рассказывала, что шла под венец одна.
Рядом с Артуром ее ждал рабби Каплан, битва за которого состоялась за несколько месяцев до церемонии. Вообще-то, Каплан не вел церемоний и не читал проповедей, он был религиозным директором синагоги «Бет-Авраам». Много лет назад именно он помогал ей выучить отрывок из Торы на бат-мицву. Дома у него всегда пахло теплым хлебом, а жена Каплана после каждого занятия угощала ее чаем и мандельбротом. Рабби беседовал с ней исключительно добрым и чистым голосом, как будто не знал ни единого слова порицания — и даже не догадывался, что голос можно использовать для дурных целей. При этом он не был наивен, нет. Каплан знал и глубоко понимал жизнь. Его сын Лен страдал церебральным параличом и большую часть времени проводил на больничной койке, стоявшей в небольшой комнате рядом с кухней. Умственно и психически Лен был совершенно здоров, но его тело напоминало тонкую и кривую ветвь засохшего дерева. В конце урока Каплан всегда говорил: «Ты сегодня прекрасно поработала! Хочешь заглянуть к Лену? Он тебя очень ждал!» И так с первого дня: «Лену не терпится с тобой познакомиться». Франсин чувствовала свою значимость: все-таки она помогала больному ребенку, хоть немного скрашивала его дни. А лицо у Каплана было сама искренность. Франсин проходила через кухню в комнату Лена, где он лежал на белой койке с коричневым изголовьем и изножьем. При виде Франсин он улыбался во весь рот и мотал головой вверх-вниз, раскинув руки и выгнув шею. «Он очень рад тебя видеть», — переводил рабби Каплан. В его доме Франсин была не пустым местом.
Узнав, что из «Бет-Аврама» недавно выгнали прежнего раввина (он, видите ли, был «слишком интеллектуален»), а на его место взяли рабби Крантца, который «умел расположить к себе», — идиота с рыбьими мозгами и лысиной, на которую он зачесывал сбоку крашеные, иссиня-черные волосы, — Франсин начала кампанию по замене Крантца Капланом. У них с матерью состоялся долгий, мучительный спор по телефонным кабелям, протянувшимся через полстраны. Франсин хотела, чтобы церемонию вел знакомый и приятный ей человек, а не какой-то остолоп. Мать сказала, что Каплан не ведет свадебные церемонии, «так не принято», и вообще: подобная смена ролей неизбежно породит в тесном еврейском сообществе Дейтона массу слухов. В конце концов Франсин одержала верх. «Только при условии, что Крантц будет присутствовать и стоять на виме, — сказала миссис Кляйн. — Не хочу мутить воду и возмущать членов конгрегации. К тому же Крантц очень неплох. Да и Каплан, конечно, хорош».
Сама церемония прошла быстро и душевно. Каплан сказал о Франсин несколько добрых слов — мол, мужчина, которого она выбрала в мужья, должен считать себя самым счастливым человеком на свете. (На мгновение она задалась вопросом: почему она не выбрала Каплана?) Молодожены обменялись кольцами. Руки у Артура были мокрые и скользкие, кольцо легко наделось ему на палец.
Дальше Артуру предстояло произнести одну-единственную фразу на иврите. Ему дали транслитерированный текст и попросили выучить его наизусть: «Арей ат мекудешет ли бе-табаат з оке-дат Моше ве-Исраэль». Одно предложение. «Вот, ты посвящаешься этим кольцом мне в жены по закону Моше и Израиля». Буквально несколько слогов. Горстка согласных и гласных. Франсин выжидающе смотрела на жениха.
— А… — Артур откашлялся. — А…арей…
Каплан дал ему подсказку:
— Арей ат мекудешет…
— А…
— Арей ат…
— Арей… Ар…
Он в панике взглянул на Франсин и покачал головой. Та в ужасе уставилась в пол, а потом допустила роковую ошибку — покосилась в сторону и увидела, как ее мать высоко вскинула одну бровь.
— Арей ат мекудешет ли бе-табаат з оке-дат Моше ве-Исраэль, — прошептал Каплан.
Артур с трудом выдавил что-то похожее.
— Арей ата мкудаш ли бе-табаат з оке-дат Моше ве-Исраэль, — отозвалась Франсин.
Так, под какофонию слов на ломаном иврите, они стали мужем и женой. Когда молодожены вышли из синагоги и с трудом пробрались сквозь толпу незнакомых людей, Франсин потрясенно обнаружила у тротуара белый лимузин. Рядом стояла ее хохочущая мать.
Гостиница представляла собой массивное здание в духе советской архитектуры. Зал оказался битком набит людьми, которых Франсин видела впервые в жизни — и точно знала, что больше никогда не увидит. Миссис Кляйн властно потащила молодоженов по залу, представляя их друзьям и знакомым.
Подали обед. (Было в этом что-то неподобающее: обед вместо ужина, яркий дневной свет вместо магического и щадящего вечернего.) Еда оказалась не слишком вкусной, но Франсин старательно набивала рот — дабы не шпынять маму, вознамерившуюся испортить самый важный день в ее жизни, и жениха, который в данный момент с насмерть перепуганным лицом жевал стебелек спаржи.
Внезапно мать Артура встала: в одной руке у нее был полупустой стакан с водой, в другой — суповая ложка. Болтовня за столом стихла. Люди перестали жевать, вилки замерли в воздухе. Франсин моментально покраснела. «Что ты делаешь?! — мысленно вопила она, пытаясь усилием воли усадить свекровь на место. — Сядь. СЯДЬ!»
— Как мать жениха-а, — произнесла та, зловеще смакуя последний слог, — хочу поздравить молодых с днем бракосочетания. Церемония была чудесная, не так ли?
В ее голосе явственно слышался сарказм. «Вот интересно, она нарочно выбрала этот тон или всегда так говорит?»
— Я вами горжусь!
«Ладно. Может, она действительно хочет сказать нам что-то приятное».
— Однако…
«Нет!»
— Однако я нахожу весьма странным их решение узаконить брак. В конце концов, они уже живут вместе. Так на что, спрашивается, корова — коль молоко дают бесплатно?
По залу пополз шепоток. Четвероюродные сестры уронили вилки. Миссис Кляйн предусмотрительно не стала рассказывать наиболее консервативной дейтонской публике — то есть людям, которых Франсин и не подумала бы приглашать на свадьбу, — о совместном проживании молодоженов. Кто-то закашлял. На пол с тихим шелестом слетела салфетка.
Франсин извинилась и вышла из-за стола. Прибежав в уборную, она оперлась на раковину и зарыдала. Она, конечно, понимала, что имел в виду Артур, говоря: «Главное — пережить этот день». Свадьба была не про них и не для них, нет. Она была для ее матери и маминых знакомых. «Если у меня когда-нибудь будут дети, — думала Франсин, уже беременная Итаном (хотя никто об этом пока не знал, даже она сама), — если у меня будут дети, я не стану ими командовать. Пусть сами прокладывают себе путь в этом мире, на свой страх и риск». Она посмотрела на себя в зеркало. Бледное лицо, куски туши на ресницах…
Дверь открылась, и вошла Бекс.
— Ох, Фрэнни! — воскликнула она, обнимая сестру.
— Все не так! — рыдала Франсин. — Все должно быть по-другому! Я знала, что мама подпортит мне нервы, но даже представить не могла… — между всхлипами она икала, — что кому-то придет в голову… это так унизительно…
— Ну, ну, — ворковала Бекс, потирая сестре спину. — Все будет хорошо. Один день — подумаешь! Один-единственный день — это ерунда по сравнению с целой жизнью.
Тут в уборную вломился Артур.
— Знаю, что мне сюда нельзя. — Он замер на пороге. — Но вы нужны в зале. Мамаши сцепились не на шутку, и мне одному с ними не справиться.
15
Воскресным утром Мэгги проснулась за секунду до колокольного звона и обнаружила у своих ног Артура.
— Что… который час? — спросила она, роняя голову обратно на подушку.
— Я хотел извиниться.
— За?..
— За «Пиггис». Не надо было вести вас туда. Мне следовало подумать, поступить мудрее и добрее.
Мэгги зевнула и стерла с губ засохшую слюну.
— Давай проведем этот день вместе. Как папа и дочка…
Она пробубнила в подушку:
— Который час?!
Ответ был ей известен: шесть утра. У отца имелся внутренний будильник: каждое утро он просыпался в пять тридцать, а в шесть, помывшись и одевшись, уже будил детей, чтобы сообщить им какую-нибудь несрочную новость. В Риджвуде Мэгги привыкла просыпаться вместе с началом строительных работ на котловане — то есть в девять. А тут отец, утренний деспот, вздумал спозаранку забрасывать ее идиотскими предложениями! Она не знала, что ему ответить. Он устроил ей западню.
Мэгги встала и поморгала, чтобы окончательно проснуться. Артур уже был одет по-воскресному: белая, впитывающая пот футболка с воротничком и коричневые брюки. Не джинсы, не штаны хаки, а именно брюки — сшитые из неопознанного материала и продаваемые в магазинах, известных только отцам.
— Что думаешь делать? — спросила его Мэгги сквозь ком засохших в горле соплей. — Я бы съездила на мамину могилу.
— Обязательно, но как-нибудь потом. Будет еще время. Сегодня я хочу побыть с тобой. Пожалуйста.
— Ладно, ладно. Пойду оденусь.
Он вышел и затворил за собой дверь. Она встала с постели и потянулась. Сон понемногу покидал тело, но на смену ему из самого нутра поднималось нервное, трусоватое предчувствие недоброго. Воскресенья были для Мэгги одним сплошным колдовским часом. Открытым порталом в ад; беспросветным кошмаром, во время которого отзвуки перенесенного горя наслаивались на ее вполне заурядную тревожность. Воскресенья в Сент-Луисе давались Мэгги особенно тяжело. Город затихал, а ничто так не манило ее монстров, как тишина. Она вздрогнула при мысли о предстоящем пустом дне и решила провести его с Артуром.
По дороге в ванную она встретила в коридоре Итана:
— Нам надо обсудить фотографии.
— Какие фотографии?
— В столовой. На стене.
— А, эти… Из поездки в Замбию?
— В Зимбабве. Мама тебе не рассказывала?
Итан пожал плечами.
— О боже! Там такая история… Потом расскажу.
— Мне они показались милыми.
— Милыми?! А может, все-таки самовлюбленными? Эгоистичными? Мегаломаниакальными? Скажи хотя бы, что они странные и жуткие. Папа на них — эдакий белый спаситель.
— Зато у него довольный вид.
— В самом деле.
— Никогда не видел его таким счастливым.
Мэгги кивнула:
— И я.
— Ну, поэтому они мне и нравятся.
— Слушай, может, я сумасшедшая? Чувствую себя сумасшедшей. Он тебе мозги промыл, что ли? На балете?
— Он просто человек, — ответил Итан. — И мне кажется, в этот раз он действительно старается. Ты сама говорила, что все иначе. Разве мы не затем приехали?
— Ну да, ну да, — согласилась Мэгги. — В этот раз все иначе.
Она была настроена скептически. А куда деваться? Стоит потерять бдительность, сразу станешь уязвим — и, чего доброго, клюнешь на очередной коварный план отца. А тот явно что-то задумал. Что-то недоброе. Поэтому два часа спустя Мэгги крайне осторожно села в мамину старую машину.
— Позавтракала? — спросил ее Артур.
— Ага.
— Как следует подкрепилась? Домой мы еще не скоро вернемся.
— Откуда?
— Увидишь.
Она держалась целую минуту, пока отец выруливал на дорогу. С каждой секундой нервы сдавали все сильнее.
— Пап? Можно спросить тебя про… э-э… новый декор? В столовой?
— Конечно. Рад, что ты обратила внимание, — ответил он.
— Правда?
— Ну да. Я всегда хотел рассказать тебе про поездку в Африку.
Мэгги заморгала:
— Правда?
— Мне кажется, тебе это может быть интересно.
Она ощутила пульсацию в шее, в запястьях.
— Расскажи.
Артур почесал голову.
— В молодости, — начал он, — я хотел одного: быть хорошим человеком. Знаешь, даже забавно, ты ведь это унаследовала. У нас много общего, хотя ты пока думаешь иначе. Увы, с возрастом эмпатия дается все сложнее. Нужная мышца атрофируется. Ты поймешь, когда заведешь семью. Начинаешь думать только о себе, о своей ячейке, и вскоре забываешь, как это — думать о других. Но в юности я мечтал сделать что-то хорошее. Оставить след. Таким я был человеком. Мы с твоей мамой уже встречались, но еще не поженились. Я работал в инженерной фирме и придумал такой… э-э… строительный материал, который оказался никому не нужен в Штатах. — Артур опустил солнцезащитный козырек. — Я много читал о Зимбабве. У одного моего коллеги осталась там семья — родители. И я подумал: «Вот куда надо ехать. Вот где пригодится моя помощь!» Видишь ли, я хотел найти применение своему материалу. Он был дешев в производстве, а строить в сельской местности там гораздо проще: не нужны контракты, патенты, разрешения. Строй себе, сколько влезет. Вот я и строил. Общественные туалеты. Да, престижа в этом немного, зато дело действительно нужное, а работы я не боялся. Санитария. Если подумать, это ведь краеугольный камень любой цивилизации. Я получил грант. Может быть, ты видела мое предложение? Оно есть в библиотеке африканистики — небольшая книжка в твердом переплете. Раньше у нас и дома было несколько экземпляров, но все они сгорели в пожаре. — Артур помотал головой. — Словом, я пробыл там почти год. Строил недорогие, прочные, гигиеничные туалеты. Таков был замысел. Опыт оказался бесценный: у меня буквально открылись глаза. Никогда в жизни я не чувствовал такого душевного подъема, жизнь наконец обрела цель и смысл! Рос я, как ты знаешь, в бедной семье. Отец много работал и без конца пил — нет, кулаки не распускал, но и образцовым родителем его назвать было нельзя. Мы едва сводили концы с концами. По этому поводу у меня была затаенная обида на родителей, даже в университете — особенно в университете! Я это к чему? Мне казалось, я знаю, что такое нищета, но на самом деле до поездки в Зимбабве я и понятия не имел. И с тех пор мне кажется странным, как люди могут разбрасываться деньгами, зная, в каких условиях живут другие. Даже если они не видели, они же знают, все знают! Тем более теперь, в эпоху интернета. А я это видел собственными глазами и забыть уже не могу. Такой опыт полностью меняет человека. Все то время, пока я там был, я думал о тебе. То есть ты еще не родилась, конечно, но я думал о своих будущих детях. Как бы мне хотелось, чтобы они брали пример с меня. Гордились бы мной. Чтобы они выросли хорошими людьми. И сам я тоже хотел творить добрые дела. Я не приемлю лицемерия. Мы с тобой не такие уж и разные, Мэгги…
Пока Артур говорил, она ждала, когда же история примет неожиданный поворот. Когда все пойдет наперекосяк. Но вот отец уже остановил машину и выжидающе смотрел на нее — мол, я закончил, скажи что-нибудь.
— Что там за мальчик, — выдавила Мэгги.
— Не понял?
— Тот мальчик на фотографиях. Кто он.
Артур важно кивнул:
— Ах да. Рядом с нашей станцией жила семья, и у них был сын. Он к нам иногда заглядывал. Понимать друг друга мы не понимали, но это не мешало нам славно проводить время вместе. Хороший был мальчонка: просто приходил и смотрел, как я работаю. Мы с ним подружились, можно сказать. А те фотографии сделал мой коллега. На старый пленочный фотоаппарат. Недавно я их оцифровал и распечатал. Мне кажется, они немного оживляют дом, а ты как думаешь?
Немного оживляют дом.
Мэгги затрясло.
— Нет.
Артур вырубил двигатель:
— В смысле?
— Нет. Ты ошибаешься. Они не оживляют дом. По-моему, все ровно наоборот.
— Что ты такое говоришь?
— Я все знаю. Знаю, что там случилось.
Артур напрягся:
— Поясни.
— Я знаю про мух, пап! И про сонную болезнь!
Ее слова повисли в воздухе. Артур откашлялся:
— Итан тоже знает?
— Нет. Но должен бы. Не понимаю, как ты с этим живешь! Серьезно. Столько бед натворил… Наслал чуму на целую деревню — пусть и ненарочно, — а потом просто взял и уехал. Безнаказанно…
— Безнаказанно? — перебил он. — Безнаказанно?! А тебе не приходило в голову, что с тех пор я сам себя казню — каждый божий день?
— Это не одно и то же!
— Знаю, что не одно и то же! Знаю, черт подери! Я ждал кары всю жизнь! Каждое утро я просыпался и прислушивался… — Он хлопнул в ладоши. — Но нет! Ничего не менялось! Я по-прежнему чувствовал себя последним гадом! Но вот что я тебе скажу, дорогая моя. Когда день расплаты наконец настанет, приговор выносить будешь не ты. Можешь что угодно обо мне думать, таить на меня любые обиды, но ради бога — не суди меня за это! Ты просто не имеешь права. Тебя там не было.
Мэгги приросла к сиденью. Она и раньше слышала, как отец орет, но такого надрыва и самобичевания прежде за ним не замечала.
— Пойдем, — помотав головой, сказал он. — Давай постараемся не испортить утро.
Мэгги выглянула в окно. Она была так поглощена его историей, что даже не смотрела, куда они едут.
Приют для бездомных животных «Будущий друг» расположился в районе Хилл — итальянском квартале с пекарнями, церквями и пожарными гидрантами, раскрашенными в итальянский триколор. На углу Уилсон- и Маркони-стрит возвышалась во всем своем кирпично-терракотовом великолепии римско-католическая церковь Святого Амвросия. В миле от нее находился парк Саблетт, где некогда работал Женский дом призрения — в XIX веке там лечили и обучали необходимым для жизни навыкам проституток.
Мэгги хорошо знала эти места: в юности она почти все свободное время проводила в приюте, вмещавшем около четырехсот бездомных животных (кроме того, там проводили недорогие операции по кастрации/стерилизации и бесплатно раздавали малоимущим корм для животных). Она с детства была неравнодушна к зверью, особенно к собакам. (Кошки — слишком самовлюбленные, критичные и независимые, слишком похожие на людей — не отвечали Мэгги взаимной любовью, а значит, и возиться с ними не стоило. Кроме того, они были чересчур умные, а Мэгги, дитя университетского профессора, ум не ценила.) Собаки были ее слабостью, ахиллесовым животным: одним взмахом глупого, пушистого хвоста они вмиг рассеивали ее черную тоску.
Долгие годы она работала волонтером в приюте: каждое воскресенье приезжала туда кормить, ласкать и развлекать бездомных псов. Однако нагрузка в университете и растущий интерес к людским страданиям не позволили ей заниматься этим и дальше. Она скучала по зверям. В Дэнфорте ее общение с животными ограничивалось контактным зоопарком, который открывался в кампусе во время сессий — для снятия студенческого стресса. В Риджвуде у нее был только Цветик, несчастный лабрадор семьи Накахара, сутками напролет сидевший в своем захламленном углу.
Вслед за отцом Мэгги вошла в приют. Факт признания им своей вины ставил ее в непростое положение. Как можно стыдить того, кто и сам прекрасно себя стыдит? Артурово самобичевание лишало ее удовольствия, которое она получала, бичуя его. Где этот человек пропадал всю жизнь? И зачем они приехали в приют?
Когда дверь за ними захлопнулась, с потолка на входе посыпалась штукатурка. Администратор за стойкой — женщина с кучерявыми волосами — извинилась перед ними за разруху.
Мэгги вздохнула. «Будущему другу» давно и катастрофически не хватало средств: приходилось сражаться за гранты и пожертвования с двумя другими приютами, расположенными неподалеку. Пару лет назад один из них (проводивший эвтаназию тем бездомным животным, которых никто не брал) распространил по району клеветнические листовки: мол, «Будущий друг» отмывает деньги. Да было бы что отмывать! «Господи, — подумала Мэгги, вспоминая ту историю, — на что только не идут люди ради возможности душить собак».
— Меня зовут Артур Альтер. Я вам звонил — говорил с Сюзанной…
— Да, это я.
— А, здравствуйте! — Он как-то жутко улыбнулся. — Вы говорили, что нам с дочерью можно у вас поработать…
— Да-да.
— Тогда рассказывайте, что делать.
Она открыла ящик, достала оттуда две собачьи расчески и положила их на стойку. То были комбинированные щетки: с одной стороны металлические зубья, с другой — щетина.
— Для новичков у нас не так много работы, — сказала Сюзанна. — Начнем с самого простого. Ступайте к вольерам и по очереди вычесывайте всех зверей. У нас много линяющих собак, а они должны выглядеть презентабельно, опрятно и супермило, чтобы их захотелось забрать домой сразу и навсегда. — Она улыбнулась, и на ее круглых румяных щеках словно поселились солнечные зайчики.
— А я не новичок, — сказала Мэгги. — Я здесь раньше работала.
— Правда? — смутилась женщина. — Что-то не узнаю вас.
— Работала, волонтерила — не важно. Давно было дело. В общем, я знаю, где находятся вольеры. — Она повернулась к Артуру. — Идем.
— Веди!
Они прошли по узкому коридору в освещенное лампами дневного света помещение, где держали собак. По обе стороны от прохода располагались индивидуальные вольеры с шлакоблочными стенами и решетчатыми дверями. Когда Мэгги только начала здесь бывать и спросила, почему собак содержат в тюремных условиях, ей ответили, что подобная обстановка не только малозатратна, но и, как ни странно, способствует пристрою животных. «Если собачкам будет здесь хорошо и привольно, никому не придет в голову их забирать, — объяснила ей тогда сотрудница приюта. — Мы играем на людской совести».
Мэгги вошла в вольер к желтому лабрадору. Комнатка была крохотная — раскинув руки в стороны, можно было почти дотянуться до стен. Артур вошел в соседнее помещение. Видеть его она не видела, но стенка из шлакоблока не доходила до потолка. Мэгги присела рядом с лабрадором и прижалась носом к его носу. Он тут же лизнул ей лицо и принялся глупо, радостно дышать с высунутым языком. «Сохраняй скептический настрой!» — мысленно велела себе Мэгги.
— Пап, — сказала она. Через щель под потолком ее голос без проблем проник в соседний вольер. — Помнишь Селин Дефолт?
— Дочку Гая Дефолта?
— Ага.
Дети дэнфортской профессуры входили в своеобразную негласную коалицию. Они все знали друг друга, все страдали одинаковыми комплексами по поводу своих умственных способностей и редко взаимодействовали на людях, боясь, как бы окружающие не подумали, что их зачислили в университет «по блату». Селин могла похвастаться двойным достоянием, если «достоянием» можно назвать родителей, пишущих заказные хвалебные статьи во славу учреждения, которое положено именовать «Гарвардом Среднего Запада» и никак иначе. Оба богатые, Гай и Матильда Дефолт преподавали на французском факультете: он — теорию языка, она — практику.
— Ты знал, — спросила Мэгги, — что ее отец написал книгу?
— Ну, неудивительно, — ответил из-за стенки Артур.
— Не научный труд. Роман.
— Роман?
— Ага. Издал его за свой счет.
— Да ладно!
— Вот-вот. Он его написал, когда они с матерью Селин временно разъехались. Вышло ужасно неловко: это очень, очень условно завуалированная история его супружеской измены.
Лабрадор дышал, обдавая шею Мэгги своим горячим дыханием.
— Хм.
— Да. Матильда выставлена в романе эдаким истеричным чудовищем. А персонаж Гая, разумеется, — несчастный страдалец, взваливший на себя семейное бремя и оплакивающий свою юность. Стандартный джентльменский набор, короче. И там есть целых две — две! — сцены, в которых он стоит перед зеркалом и… ну, в общем, рассматривает себя.
— В смысле?
— В смысле — любуется на свой пенис, — ответила Мэгги. Она села на пол и принялась расчесывать бледно-желтый мех лабрадора.
— Ого.
— Размер как метафора…
— Я понял.
— Во-от.
— И что?
— Что — что?
— К чему ты мне это рассказала?
— А. Не знаю. Просто в голову пришло.
Она понимала, что надо бы остановиться, но не могла.
— Мне подумалось, что супружеская неверность — обязательный атрибут профессора-бессрочника.
Артур молчал.
— Сечешь?
Последовала долгая пауза. Через стенку доносился только размеренный скребущий звук — Артур методично расчесывал собаку.
— Со мной бессрочный контракт так и не заключили.
— Ну да, — ответила Мэгги, борясь с внезапно подступившей к горлу жалостью. Несмотря на воинственность и навязчивое желание постоянно ставить отца на место, жестокой она все же не была.
Она встала на ящик и заглянула в щель. Артур сидел на коленях перед коричневым питбулем с белым «галстуком» на груди.
— Э-э, пап?
— Что?
— Щетина.
— Не понял?
— Переверни щетку. Ты чешешь его зубьями.
— А! — Он перевернул расческу. — Так надо было щетиной…
Когда они вышли из приюта, Мэгги отказалась от обеда (хотя отец и хихикнул виновато: «Конечно, мы не в „Пиггис“ пойдем!») и попросила вместо этого отвезти ее в ботанический сад.
Сад был любимым маминым местом в городе. Она просто его обожала и по весне ездила туда каждое воскресенье (причем без Мэгги — дочь она брала с собой только раз или два за сезон). Куда чаще Франсин бывала там одна и по возвращении всегда источала покой, теплую радость, которая длилась от силы около часа — то есть до тех пор, покуда Артур не находил очередной повод покипятиться. Сейчас, шагнув в эту зелень, Мэгги пожалела, что не поехала обедать с отцом. Голова пошла кругом — от воспоминаний и пониженного сахара в крови.
Сад был поделен на несколько зон; создатели самых впечатляющих из них черпали вдохновение в садоводческих шедеврах других стран. Франсин обожала Китайский садик с его сливовыми деревьями, пионами и лотосами; краснокирпичный Викторианский квартал с зеленым лабиринтом; альпийские горки с невзрачными карликовыми кустарниками и разнотравье Баварского сада; элегантные японские островки. Тот факт, что любимое мамино место было таким непохожим на Сент-Луис, лишь подкрепляло убеждение Мэгги, что Франсин не сумела найти свое счастье. В восемнадцать лет она покинула Средний Запад, только чтобы потом вернуться сюда против собственной воли. Маме пришлось отказаться от жизни в Бостоне, полной свежих морепродуктов и профессиональных успехов, ради города, знакомого и опостылевшего ей до мозга костей.
Больше всего Франсин нравилось в Климатроне, массивной оранжерее под стеклянным геодезическим куполом. Сама Мэгги это место никогда не любила. Огромный пузырь из панелей, напоминающих пчелиные соты, возвышался над зеленой травой как… ну, как киста, огромная рукотворная киста, техноопухоль, сдерживаемая каркасом из алюминиевых трубок. Так выглядели восьмидесятые в представлении шестидесятых. Холистические окружности и амниотические оболочки, символизирующие бесконечную гармонию будущего. Вот только шестидесятые ошиблись, и теперь ретрофутуристическая конструкция указывала на пору, которая так и не наступила, населенную людьми, которых не было. Атмосфера внутри купола тоже не радовала. Под стеклянными панелями стояла влажность, как в джунглях бассейна Амазонки. Папоротники и прочая зелень заполняли все пространство, и единственными пятнами неумиротворяющих цветов были четыре скульптуры Дейла Чихули: стеклянные трубки и пузыри компенсировали однообразие неприукрашенной дикой природы{66}. Все вместе очень напоминало тематический парк. Мэгги хотелось понять, чем Климатрон приглянулся маме, но та унесла объяснение в могилу — вместе с миллиардом прочих фактов, воспоминаний и интересов, накопленных за всю жизнь.
Перед смертью Франсин попросила, чтобы ее труп кремировали, но так и не сказала, где следует развеять прах. После похорон он несколько дней хранился в маленькой черной урне на письменном столе Артура — тот старался на него не смотреть. Мэгги, разочарованная отцовским бездействием, взяла это дело на себя. Однажды вечером она тайком пересыпала прах в сигарный ящик, залепила его клейкой лентой, сунула в рюкзак и поехала в ботанический сад.
Где же развеять мамины останки? В Викторианском квартале? В засухоустойчивом Османском саду, в Доме бабочек? В Климатроне?
Да. В Климатроне.
Как выяснилось, развеять прах внутри стеклянной достопримечательности было непросто. Мэгги долго искала укромный уголок вдали от посетителей оранжереи и бдительных сотрудников сада — все тщетно, ведь под круглым куполом (самоочевидно!) не могло быть никаких углов. Она бродила и бродила по кругу, но ее было прекрасно видно практически из любой точки.
Голос из динамиков над головой объявил о скором закрытии оранжереи. Мэгги достала из рюкзака сигарный ящичек. Найдя относительное тихое место, она сошла с гравийной дорожки и присела на влажный валун, а рюкзак поставила перед собой. За ее спиной небольшой искусственный водопад обрушивал чистую прозрачную воду в ручей, проходивший по центру оранжереи. Мэгги осмотрелась, завела руку с сигарным ящичком за спину и высыпала прах в воду.
Отец пришел в ярость.
— Где-где ты его развеяла? В ботаническом саду?! — вопил он. — Тоже мне, могила!
Однако совесть Мэгги была чиста. В последовавшие за смертью матери дни она услышала массу затасканных истин, но одна из них показалась ей по-настоящему мудрой: «Не бывает неправильных способов переживать горе». Иными словами, горе — это такой жизненный этап, на котором человек имеет право на самые примитивные помыслы и желания, может безнаказанно предаваться эгоизму, особенно если вышеупомянутые желания непосредственным образом связаны с горем. Мэгги сказала отцу, что развеяла прах по всему парку, как того хотела Франсин. Она решила, что знание о точном месте, где упокоилась мать, будет принадлежать ей одной. И в этом нет ничего дурного: она ведь действительно любила маму больше всех остальных.
Теперь, войдя в Климатрон спустя почти два года, покрываясь испариной в этих искусственных джунглях, оглашаемых журчанием воды, шорохом листьев и MP3-криками тропических птиц, Мэгги почувствовала себя как-то странно. Странность поднималась из самых ее глубин, овладевала всем телом — даже кровь как будто потекла по венам вспять, когда Мэгги вошла в автоматически открывшиеся двери купола. Может, дело в адской влажности? Или?.. Рядом с ухом прожужжала муха. Мэгги не могла понять, то ли ей мерещится, то ли она действительно чувствует присутствие матери в этом журчащем и шелестящем пространстве. «Господи, как тут жарко, — подумала она. — Слишком много всего. Бзззз. Ух ты. Господи. Иногда всего бывает так много. Как люди вообще с этим живут? Изо дня в день? Эй-эй, полегче! Тут же растения! Очень, очень влажно. И жарко. Чей-то голос сверху… Мамин? Нет. Запись. Ботанический сад Миссури приветствует вас. Бзззз. Добро пожаловать в ботанический сад Миссури…»
16
Нажимая кнопку звонка под фамилией «Багби» — адрес он нашел в интернете, — Итан вдруг представил, что не просто звонит в дверь некой квартиры в Сентрал-Уэст-Энде, а пытается получить доступ к следующему этапу собственной жизни. Прошлое стояло на страже будущего. Дверной замок щелкнул почти в ту же секунду, что лишь усилило ощущение: судьба явно его ждала. Поднимаясь по лестнице, он морально готовился к предстоящей встрече. Молодой парень, которого он знал в университете, не стал бы жить в этом районе — однажды он долго распинался о своей ненависти к этим местам, — но, с другой стороны, именно тот парень безжалостно разбил Итану сердце. Если он изменился, это даже хорошо. Добрый знак: перемены, пусть и небольшие, все-таки возможны.
Открывший ему дверь человек был одновременно и Чарли, и нет. Как будто кто-то запихнул Чарли в бочку и десять лет подряд спускал ее с горы. Лоб остался прежним — широким, словно экран проектора, — но слегка покрылся морщинами. Несмотря на короткую стрижку, спереди все еще просматривался вихор (особенно если знать, где искать). И глаза. Глаза, несомненно, были глазами Чарли, но годы будто сделали их чуть бледнее, разбавили цвет — некогда цвет зеленых чайных листьев, — парой капель молока. Как связать того мальчика с этим мужчиной, если он любил мальчика за его мальчишескую душу? Итана лишили возможности взрослеть рядом с любимым, видеть в нем перемены и приспосабливаться к ним. Если ностальгия — это история без зубов{67}, то встреча с нынешним Чарли — это одни зубы и никакой истории.
— Итан?
— Чарли.
— Вот черт!
На две бесконечных секунды Чарли замер, потом наконец шагнул вперед и ненадолго заключил Итана в объятья, после чего трижды похлопал его по спине.
— Из Дэнфорта!
— Ага.
Чарли выглянул в подъезд, осмотрелся по сторонам и сказал:
— Может… зайдешь?
Итан вошел в квартиру. Он был так напуган радушным приемом (и объятьями! объятьями!), что почти не обратил внимания на обстановку. Квартира напоминала студенческое общежитие: бежевые стены, икеевская мебель.
— Чаю? Кофе?
Было утро, однако по дороге сюда Итан успел тайком выпить бутылочку пива, предусмотрительно спрятанную в бумажный пакет.
— Нет, спасибо.
Он пришел не за кофе. Он пришел, чтобы услышать объяснения, извинения: два кодовых слова — «Прости меня» — должны были открыть замок, не пускавший его в будущее. Но теперь, когда Чарли сам пригласил его в дом, Итан невольно задумался о большем. Может, он недостаточно амбициозен? Не стоит ограничиваться одними извинениями. Вдруг в ходе разговора Чарли вспомнит, чем они так нравились друг другу… И тему придется не закрыть, а вовсе даже наоборот…
Чарли сел на диван с серой синтетической обивкой и указал Итану на белый пластиковый стул возле кухонной стойки.
— Итан… Итан Альтер, верно? Ну надо же! Сколько лет прошло… десять? — Он прищурился, чтобы рассмотреть глаза Итана.
— Скорее, восемь.
— Да, да. Восемь, точно.
Секунду-другую они молчали.
— Как дела, чем занимаешься?
Итан сбивчиво ввел Чарли в курс дела. Живет он в Нью-Йорке, на здоровье не жалуется, с работы ушел. Руки Итана, лежавшие на коленях, мелко дрожали. Казалось, за него говорил кто-то другой. Итану не нравилось звучание слов, которые срывались с его губ. Не нравилось, как звучит его жизнь.
— Да уж, — сказал Чарли. — Бывает…
Итан мысленно отметил, что его собеседник закинул ногу на ногу.
— А ты, значит, в Сент-Луисе остался?
— Вообще-то, я сперва уехал в Техас. Если помнишь, я по образованию физик. — («Еще бы не помнить».) — Вся моя семья работала в «Анхойзере». — («Да разве я мог такое забыть?!») — С одной стороны, мне не хотелось уезжать из города, оставлять тут братьев, но отец настоял. Он считал, что у меня впереди большое будущее. В результате я устроился на работу в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне.
— Ого! И что ты там делал?
— Управлял полетами. Слыхал что-нибудь про телеметрию?
Итан покачал головой. Чарли описал зал управления полетами, свою работу: он сидел за пультом и следил за движением космических станций и спутников — «прям как в кино». Он постоянно пересыпал речь профессиональными терминами и аббревиатурами вроде МДМ, СПП и ГЗУ.
— Продержался я там довольно долго: моей работой были довольны, да и платили хорошо. Но через шесть-семь месяцев после того, как мы выпустились из универа, все рухнуло.
Итан кивнул:
— Финансовый кризис.
— Да, это тоже. Но я имел в виду другое: в ноябре «Анхойзер-Буш» купили.
Чарли рассказал, как в 2008 году акции «Анхойзера» выкупила бельгийско-бразильская пивоваренная компания «ИнБев». В результате сделки на пятьдесят два миллиарда долларов «ИнБев» получила обширную сеть сбыта в США, а компания «Анхойзер-Буш ИнБев» стала крупнейшим производителем пива за всю историю пивоварения. Однако из-за экономического кризиса продажи «Бад лайт» и «Будвайзера» резко упали.
— Вместо того чтобы как-то исправлять ситуацию, выводить из кризиса две свои главные марки, они принялись сокращать штат. Увольнять давних, проверенных сотрудников — да всех подряд. И угадай, кому пришлось хуже всего.
Он описал панику, царившую в сент-луисской штаб-квартире: самые матерые и верные сотрудники (такие, как его братья) внезапно обнаруживали, что их пропуска больше не действуют, а личные вещи уже собраны в коробки и ждут на стойке администрации у входа.
— Я не смог остаться в Хьюстоне, когда тут такое творилось. Отец просил не бросать работу, но потом заболел.
— Ох, Чарли…
Тот опустил глаза и пожал плечами:
— Да не, все нормально. Ладно хоть мучился недолго… После его смерти я решил вернуться в Сент-Луис. Мать осталась одна, братья без работы… Выбора у меня и не было.
— И чем ты тут занимаешься?
— Устроился в «Боинг». Как выяснилось, там очень любят выпускников Дэнфорта.
— Повезло!
— Да, работа нормальная — не корабли в космос отправлять, конечно. Меня тут вернули… на Землю. Но главное, что я пару раз в неделю навещаю маму.
— Ты молодец.
— Долг есть долг.
— Я очень удивился, что ты живешь рядом с кампусом, — сказал Итан.
— А мне тут нравится. — Чарли улыбнулся уголком рта. — Когда живешь рядом с универом… Короче, есть тут свои фишки.
— Ну да, ну да. — Итан осмелел. Ему стало казаться, что они снова сидят в комнате Чарли в общаге и болтают обо всем на свете. — Ты, наверное, не знаешь… Да и с чего тебе знать… У меня мама умерла. От рака груди. Около двух лет назад.
— Кошмар.
— Да… Все очень быстро случилось. Ее болезнь застала нас врасплох.
— Хреново.
— Да уж…
И вдруг Итана понесло. Он рассказал все: про измену Артура, про болезнь Франсин, про свое добровольное затворничество в бостонской квартире. Про мамино наследство и свое безудержное мотовство. Про долги. Про чувство, что он всю свою взрослую жизнь был пленником: своего тела, своего класса. События последних двух лет хлынули из него, как пиво из кега. От облегчения закружилась голова.
— Не знаю, — наконец пробормотал он, потупив взгляд, — не знаю, что я творю. Но ты не представляешь, как это здорово — наконец-то выговориться.
Итан поднял голову. Чарли будто хотел что-то сказать, его губы приоткрылись, оформляя некую мысль, но потом снова вытянулись в струнку. Секунду он молчал, затем выдавил:
— Соболезную твоей утрате.
Услышать от Чарли даже такую простую, избитую фразу было приятно. Внутри потеплело.
— Спасибо, — сказал Итан.
Чарли кивнул:
— А ты какими судьбами в Сент-Луисе?
— Папа позвал в гости. Ну, это был такой предлог. На самом деле… Чарли, не пойми меня неправильно… я вернулся из-за тебя.
— Из-за меня?
— Да. Ты — истинная причина моего возвращения. Я хотел повидать тебя, поговорить. В последнее время я много думаю о нашей последней встрече…
— Это какой?
— Ну, в ботаническом саду. За неделю до выпускного…
Чарли пожал плечами.
У Итана зачесалась мочка уха.
— Ты еще сказал, что мечтаешь свалить из Сент-Луиса?..
— Я тогда вовсю бухал…
— Брось! Неужели не помнишь?
— Тяжелое было время.
Тут за его спиной хлопнула дверь. Чарли встал.
— О, привет, — сказал он.
Внезапно атмосфера в комнате переменилась. В поле зрения Итана прошаркала девица в обтягивающем розовом платье. От нее несло болотом — дешевой травкой.
— Я ночевала у Мэдди, — сказала она, замерев на пороге комнаты.
— У тебя разве нет сегодня занятий?
— Через час начнутся. А это кто?
— Это Итан. Мы с ним жили вместе в общаге.
— Привет.
Итан проследил за взглядом Чарли: тот пялился на ее веснушчатое декольте. Сердце моментально ухнуло куда-то вниз.
— Привет.
Девица кивнула и скрылась в коридоре. Минуту спустя Итана окатило звуком журчащей воды и дробью капель по шторке в ванной.
Он повернулся к Чарли.
— Мы жили в соседних комнатах, — сказал он.
— Чего?
— Ты сказал, что мы жили вместе, но это не так. Мы были соседями по коридору.
— А, ну да. — Он подошел к Итану почти вплотную, навис над ним. — Так что ты тут делаешь? И откуда знаешь мой адрес?
— Хотел тебя повидать.
— Да, но зачем.
— Я… я надеялся… — проронил Итан. А правда, что он тут делает? — Я хотел поговорить о том, что случилось.
— Что случилось.
— В Питтсбурге.
— Слушай, друг, — прошептал Чарли, — я вообще не понимаю, что за пургу ты несешь.
Из ванной донеслось пение.
— Кто это?
— Кто?
— Ну, она. — Итан показал на коридор.
— А, Линдси-то? Просто девушка. Никто.
— Она тут живет? С тобой?
— Не твое дело.
— Она же ребенок!
— Ей двадцать два.
— Мы обязаны поговорить, Чарли. О нас.
Чарли тихо произнес:
— Уходи.
— Почему?!
— Нельзя просто так вламываться к человеку… спустя десять лет… с обвинениями…
— Да я тебя ни в чем не обвиняю! Только хочу, чтобы ты признался себе и мне в том, что было…
— Я вообще не понимаю, о чем ты.
Итан закрыл глаза, втянул носом воздух, открыл глаза:
— Я тебя видел.
— Что-что?
— В «Плотоядных». Три года назад. Я тебя видел. В мужском туалете…
— Пошел вон из моей квартиры.
— НЕТ!
Сила его голоса так поразила Чарли, что он на секунду обмер.
— Детка? — раздался настороженный голос из ванной.
— Ты не имеешь права! — воскликнул Итан. — Не имеешь права отрицать! Конечно, ты можешь вышвырнуть меня из дома, но не говори, что ничего не было! — Он уже стоял, хотя не помнил, как вскочил на ноги. Стоял, потел и грозил Чарли пальцем. — Идиот! Неужели ты не понимаешь, что я хочу тебе помочь? Ты… ты лжец! Вся твоя жизнь — ложь, и тебе кажется, что никто, кроме тебя, от этого не страдает, но это не так! Господи… Столько времени прошло. Почему ты не признаешься? Почему честно не скажешь самому себе, кто ты? Господи, Чарли. Какой же ты идиот, мать твою. Я ведь хочу помочь!
Стоило этим словам сорваться с его языка, он понял, что больше никогда и ничего не скажет Чарли. Его «ближний» пошел на него с кулаками. В мозгу что-то полыхнуло, перед глазами замелькали огоньки. Долгожданное закрытие темы произошло несколько секунд спустя, когда Итан очутился в подъезде, и дверь захлопнулась прямо у него перед носом. Во рту стоял вкус железа. Из-за двери доносились крики. Кровь из носа капнула прямо на коврик.
Он кое-как слетел по лестнице и ввалился в соседнюю дверь — за нею оказался японский ресторан. Итан подошел к официантке и спросил, где туалет. Она отшатнулась:
— Господи, что у вас с лицом?
— Мне нужен туалет. Пожалуйста.
— Он только для посетителей… Но если уж кому и сделать исключение, так это вам. Боже!
Итан вошел в уборную и осмотрел себя в зеркале. Лицо адски болело ровно посередине: багровый нос имел странную форму. Переносица резко сворачивала в сторону, как будто шла куда-то, а потом передумала. Кровь мешала дышать. Прежде с Итаном такого не случалось. За всю жизнь он ни разу ничего не ломал, а самый серьезный ущерб здоровью нанес себе самостоятельно (как это обычно и бывает): в подростковом возрасте заработал карпальный тоннельный синдром. Он всегда дистанцировался от любых конфликтов, не лез на рожон. А тут такое. Пришлось собрать в кулак всю волю, чтобы оторвать взгляд от фиолетового бугра на лице, пульсировавшего мучительной, атональной болью.
Он осторожно дотронулся до него пальцем и вздрогнул.
В мерцающем свете уборной Итан осмотрел свой нос со всех сторон. Зрелище было неприглядное, даже тошнотворное. Человека неподготовленного — привыкшего видеть на этом месте что-то чистое и орлиное — запросто могло бы стошнить. Однако Итану даже понравился свой внешний вид. Вид калеки.
Почему ему не стало хуже? Обида ушла на второй план, все затмили боль и адреналиновый кураж. Пропускной способности его нервов не хватало даже на грусть. Он чувствовал облегчение. Избавление от бремени. И невероятный прилив сил. Понемногу приходя в себя, Итан чувствовал, что летаргия, к которой он так привык в Нью-Йорке, наконец его отпускает. Сердце забилось быстрее. Со сломанным носом и электричеством в жилах, он вышел из туалета, потом из ресторана на улицу — в ослепительно-яркий день.
Если верить охраннику Климатрона в неоново-салатном жилете, Мэгги пролежала без сознания почти две минуты. Подозрительно долгая отключка. Охранник стоял неподалеку и услышал характерный стук падающего тела. «Этот звук ни с чем не спутаешь», — добавил он бывалым тоном человека, который, как говорится, всякое повидал в жизни. Его пожелтевшие от никотина усы расплылись в улыбке. Ветеран, наверное. Мэгги села, гадая, сколько ему лет и где он мог воевать. В Корее? Во Вьетнаме? В голове все перемешалось, разве тут вспомнишь что-нибудь…
— Вам надо поесть, — сказал охранник. — Побольше белка. И воды. Выпейте много воды, хорошо?
Мэгги кивнула.
Охранник вывел ее на улицу и проводил до кафе «Флора». Там, по его настоянию, она заказала две колбаски, три кусочка бекона, картошку и два яйца — слегка поджаренные с двух сторон.
— Так-то лучше, — сказал он и вернулся на пост.
Когда принесли еду, она уставилась на тарелку. Там, поблескивая растопленным свиным салом, лежала еще скворчащая картошка, подрагивающие водянистые яйца, толстые колбаски — то есть все, что вызывало у нее внутренний протест: промышленное животноводство, потребление мертвой плоти, потребление как таковое… Она попыталась вспомнить, когда все изменилось. Когда еда перестала ее привлекать? Когда она начала пропускать приемы пищи и буквально раздувалась от ужаса, если приходилось делить трапезу с другими? Эти неизбежные допросы — «Ты что, не голодная?», «Не будешь доедать?» — и тысячи обращенных на нее недоумевающих взглядов. Мысли о собственном теле. Огромные площади у нее в мозгу были заняты подобными мыслями: чтобы прогнать их, требовалось прилагать колоссальные усилия. И еще этот стыд. Стыд за свое нежелание удовлетворять основную человеческую потребность. Если она осмеливалась об этом заикнуться, люди вроде ее отца неизменно отвечали: «Знаешь, у кого нет никаких закидонов по поводу приемов пищи? У голодающего населения Африки».
Мэгги подумала о матери. Франсин Альтер — женщина с пышными формами, сильными ногами и крепким телосложением. Солидная и величавая. Могучая. В вечернем платье она всегда смотрелась как нельзя более органично, источала женственность, царственность и материнский авторитет. Однако, заболев, Франсин в считаные месяцы ослабла, зачахла, уменьшилась. «Ну же, взгляни на меня, — говорила Франсин. — Я хочу на тебя посмотреть». Слезы застилали Мэгги глаза и не давали видеть родную мать в таком жалком состоянии. Она потеряла аппетит: постоянный стресс и мысли о маминой болезни мешали ей получать какое-либо удовольствие от жизни. Мэгги осознала, что ей стало чуждо собственное тело, еда, солнце, секс. Она уменьшалась вместе с матерью, из солидарности.
Похороны уничтожили остатки ее контроля над собственной жизнью. Горе каким-то образом следовало уложить в строгие рамки условностей. Артур был в неадеквате, Итан окончательно замкнулся в себе, и Мэгги осталась один на один с хаосом. Как быть? Как жить? Ладно хоть вопрос с едой решался очень просто. Она без труда контролировала свое потребление пищи — подобно диктатору, нормирующему выдачу хлеба и молока в военное время. Уж это право у нее никто не отнимет.
Мэгги окинула взглядом кафе. Парочки за столами без малейшего зазрения совести набивали рты едой. Она насадила колбаску на вилку. Охранник велел ей поесть, так? Мэгги сделала глубокий вдох, содрогнулась на выдохе и откусила кусочек.
После еды она нашла в тени у пруда свободную скамейку. Пища проходила сквозь нее и делала свое дело. Растворялась в желудке, трансформируясь в чистую энергию. Мэгги было тяжело, она явно переела, изо рта несло мертвечиной, но в голове немного прояснилось. На поверхности пруда парили стеклянные, узорчатые листья кувшинок.
Еще пара недель — и наступит май. Жизнь в Сент-Луисе станет невыносимой. Здешнее лето всегда причиняло Мэгги — бледнокожему аллергику с непокорными, склонными к пушению волосами — массу страданий. Ее тело требовало ухода и не было приспособлено к влажным миссурийским августам.
Всплеск. Крик. Мэгги подняла голову: в пруд упал какой-то мальчик.
— Помогите! — крикнула стоявшая рядом женщина. — Брэдли! Вылезай оттуда!.. На помощь!
Мальчику по имени Брэдли было лет девять. По мнению Мэгги, его жизни ничего не угрожало. Он плескался в пруду и хохотал. Стоял, правда, на цыпочках. Вода доходила ему до ключиц.
Мать все еще вопила и звала на помощь:
— Пожалуйста! Помогите!
Она стояла на краю пруда, прямо над ним.
Это напомнило Мэгги об одном мысленном эксперименте, про который ей рассказывала коллега-волонтер. Эксперимент очень известный. Представьте: вы идете на занятия и проходите мимо мелкого пруда, в котором барахтается ребенок. Он явно тонет. Вы можете прыгнуть в пруд и спасти ребенка, но тогда пропустите занятия — одежда-то намокнет. Или вы можете бросить его умирать. Разумеется, вы спасете утопающего. Но давайте предположим, что ребенок тонет в полумиле от берега. Все равно поплывете его доставать? Вероятно, да. А если в двух милях? На другом берегу океана? На другом конце света? Давайте представим, что он тонет на другом конце света. Или не тонет, а просто умирает — от болезни, жажды, голода. Вы по-прежнему можете ему помочь — достаточно лишь сделать небольшое денежное пожертвование, вам это практически ничего не стоит. «Ну и вот, представь себе, — сказала Мэггина коллега, — это происходит постоянно. Такова наша реальность».
Однако этот мальчик не тонул, нет, с ним все было хорошо. Он плескался и смеялся. А его мать орала так, словно его жизни действительно угрожала смертельная опасность.
— Тут неглубоко, — сказала Мэгги женщине. — Не волнуйтесь так. С ним все хорошо.
Та на долю секунды умолкла, оскалилась на Мэгги, потом снова принялась кричать. Какой-то театр, подумала Мэгги. Бессовестное притворство.
Мальчик лег на спину и поплыл.
— Тут неглубоко, — повторила Мэгги.
17
Доктор Саад Малуф был самым привлекательным акушером-гинекологом Бостона. А также хорошим врачом, но это волновало ее куда меньше. Густые волосы с аккуратным пробором. Тяжелые веки, создававшие впечатление, что он щурится — то есть улыбается. Безупречные зубы, ухоженные и мужественные усы с легкой проседью.
Доктор Малуф был занятой человек. Пациентки неизменно рекомендовали его подругам. Те приходили с накрашенными губами и глазами, надеясь произвести хорошее впечатление. И уходили с чувством, что произвели. Он был крайне внимателен и тактичен, а его теплый голос, казалось, не умел сообщать плохие новости. Франсин тоже пришла по рекомендации подруги — и та посоветовала ей накраситься перед приемом. «Какая нелепость», — подумала Франсин, однако советом не пренебрегла и теперь была очень этому рада.
— Франсин Альтер?
Она покраснела:
— Да, это я.
— Приятно познакомиться. — Доктор улыбнулся, и возникшие на его щеках ямочки словно бы заключили усы в скобки. — Значит, так. Я посмотрел ваши УЗИ и рекомендую кесарево сечение.
Франсин закусила губу:
— В прошлый раз мне делали кесарево, и я чуть не умерла.
— Со мной это исключено, — произнес доктор Малуф уверенным тоном, какой бывает только у очень красивых мужчин.
— Как я могу быть уверена?
— Ну, — ответил Малуф, — в прошлый раз у вас не было меня.
Шесть лет назад, когда Франсин забеременела Итаном, она ко многому оказалась не готова: к отекшим и потемневшим лодыжкам, похожим на подгорелые булочки, к мечтам о странных продуктах и блюдах — о подгорелых булочках, например. Роды начались так ужасно, что в ответ на вопрос жизнерадостной медсестрички родильного отделения: «Ну как? Готовы к встрече с малышом?» Франсин завопила: «НЕТ! Я готова к эпидуралке!»
Она не думала, что может быть так больно. Голова у Итана оказалась большая, и он таранил ею путь. Франсин видела только красное, красное, красное.
Схватки длились весь вечер. Казалось, кто-то стоит сзади с зубилом в руках и бьет молотком по тупому концу, острым концом рассекая ей череп. «Мммфгтхмтсмммм!» — кричала она. Анестезиолог промахнулся: эпидуралка заморозила Франсин лицо и губы, а все остальные части ее тела сохранили полную чувствительность. В голове стучалась одна мысль: «Больше никогда!» В юности она ни разу не задумывалась о самоубийстве — несмотря на множество прочитанных французских романов и просмотренных французских фильмов — но тут ее поглотила тьма. Ей было дурно. Тошно. Если бы ей дали нож, она бы вспорола себе живот. Кроме того, Франсин боялась, что эти черные мысли каким-то образом отразятся на ребенке. Можно ли роженице спокойно помышлять о самоубийстве — или смерть непременно просочится из разума в грудь, отравит молоко?
К двум часам утра сердце Итана начало отказывать. Тут подоспел ее врач — дар свыше, имя которого Франсин поклялась никогда не забывать (Фил Уолш! Фил Уолш! Фил Уолш!). Он правильно ввел анестезию и срочно ее прокесарил, чем спас жизнь матери и ребенку. Очнулась Франсин в отделении реанимации. Закрыла и открыла глаза — нет, не сон. Она понемногу возвращалась в сознание: свет и звук просачивались сквозь тонкую завесу наркоза. Первым она увидела Артура: тот стоял у стены напротив и укачивал на руках младенца. Перед глазами все темнело и туманилось. Руки дрожали. Она не могла вымолвить ни слова — не было сил. Франсин вновь закрыла глаза и позволила себе уснуть, решив, что муж в состоянии позаботиться об их сыне.
Однако час спустя она очнулась — в страхе.
— Можно мы еще тут побудем? — спросила она Фила Уолша, державшего Итана в своих уверенных руках. Артур был в коридоре: пинал автомат с закусками и напитками. — Всего одну ночь, пожалуйста! Я пока не хочу домой. Я не знаю, что делать!
— Все будет хорошо, не переживайте, — сказал Фил Уолш.
— Я… — Ей срочно надо было кому-то признаться. — Мне страшно. — На глаза навернулись слезы. — Только ничего не говорите мужу. Он наверняка боится еще больше, чем я. Из нас двоих мне следует быть храброй. Только я совсем не храбрая, доктор Уолш. Я ужасно боюсь!
— Все будет замечательно, — сказал Фил Уолш. — Вы все сможете и станете прекрасной матерью.
Франсин сделала глубокий вдох.
— Послушайте. Плач ребенка может означать только три вещи: либо он голоден, либо хочет на ручки, либо ему надо поменять подгузник. Уж с этим-то вы справитесь, не так ли?
Она кивнула. В палату как раз вошел Артур.
— Вот и замечательно.
Франсин посмотрела на мужа.
— Нервы? — спросил тот.
Она кивнула.
— Мы справимся. Обещаю. — Он протянул ей какой-то сверток. — Хочешь «Миндальную радость»?
Уверенность мужа ее очень обрадовала. После Зимбабве Артур несколько месяцев не выходил из депрессии. Свадьба прошла чудовищно, да и перспектива отцовства не слишком его манила. Но Франсин всегда хотела детей и лелеяла надежду, что Артур подключится к их воспитанию, когда придет время. Сейчас ей впервые показалось, что он в самом деле на это способен.
Когда они вернулись домой — в самом начале ее беременности они переехали с Кенмор-Сквер в дом из бурого песчаника рядом с прудом Джамайка, — Франсин взяла Итана на колени и села на диван, а Артур пошел варить кофе. Она ждала пробуждения материнского инстинкта — и он благополучно проснулся. Она знала, что захочет окружить ребенка заботой — и захотела. Но Франсин и подумать не могла, что этот младенец с удивленными глазами вызовет в ней такое чувство — ей показалось, что они с Итаном не просто мать и дитя, а друзья. Родственные души. Между ними сразу возникло удивительное согласие, взаимная приязнь. Франсин увидела в сыне истинного Кляйна. Ему не было еще и дня, а она уже знала, что у них много общего. Итан заплакал — и она тоже. Когда Артур вошел в комнату посмотреть, что стряслось, он с удивлением, а потом и облегчением обнаружил на лице жены улыбку. Восемь дней спустя в этой же комнате собралась толпа коллег и родственников: кантор Арнольд Песеров взял в руки нож и ввел Итана в смятенный мир еврейских мужчин.
Назвать появление Мэгги на свет ошибкой было бы неправильно. Они зачали ее в любви, во время уик-энда, проведенного в домике под Хартфордом, штат Вермонт, куда Артур вывез жену на отдых спустя полгода неустанной работы и родительства. Итана они оставили с соседом, пережившим холокост, которому Франсин безоговорочно доверяла.
Уик-энд полностью оправдал ожидания: леса, деревянные хижины, крытые мостики. Они гуляли по заснеженным рощам и заглядывали в антикварные лавки. Ночью спали в обнимку, под четырьмя одеялами.
До Вермонта Альтеры считали, что «завязали» с детьми. Когда спустя несколько недель Франсин узнала о беременности, новость эта мгновенно нарушила идиллию, установившуюся в семье после отдыха на шерстяных пледах мотеля с видом на ущелье Куичи.
— Если честно, я всегда думала, что у нас будет двое детей, — сказала Франсин, опустив тест-полоску с положительным результатом на раковину.
— Не знаю… По-моему, у нас и так полно забот. Денег хватает, да, но и ребенок пока один. А ведь ему еще нужно дать образование.
— Как-нибудь справимся.
— А время? У нас нет времени на двоих детей.
— Если ты будешь чуть больше времени уделять сыну, все получится…
— Куда уж больше! Твоей гиперопеки более чем достаточно.
— Гиперопеки?!
— Ну да. Растишь из сына рохлю.
— Если даже я гиперопекаю, так это потому, что ты недоопекаешь! Я просто пытаюсь восполнить то, что он не получает от тебя.
— Да все он получает!
— Ш-ш-ш.
— Он нас не слышит. А если и слышит, то не понимает.
— Ты его недооцениваешь.
— Ребенку пять лет от роду!
— Он прекрасно все понимает. Я же вижу. Не смей его недооценивать!
За пять лет между рождением Итана и зачатием Мэгги она успела немного разочароваться в муже. Артур выполнял отцовские обязанности, — ограничиваясь необходимым минимумом, — но личность сына его практически не интересовала. Примерно на третий год, когда Итан немного подрос и у него начал формироваться характер, Артур как будто решил, что на этом его работа закончена. Он прекрасно ладил с младенцами, но не с развитыми личностями. Он обеспечивал сына едой, водой и безопасностью, но, как только тот начал карабкаться вверх по пирамиде потребностей Маслоу{68}, моментально откланялся. Подрастающий Итан хотел любви, признания и самореализации, и с этим Артур не мог ему помочь. Вероятно, то были не самые идеальные условия для появления в семье второго ребенка, но Артур решил не настаивать на аборте. Жена забеременела и хотела рожать, это ее тело — так и быть, она победила.
— Ладно, — вздохнул он, но Франсин услышала в его ответе другое: «За тобой должок».
В основе их брака лежала модель бартерной экономики. Домашние обязанности в нем были деньгами. Активное родительство могло быть деньгами. Деньги тоже были деньгами. Я приготовлю ужин, если ты сходишь в магазин. Я сделаю и то и другое, если ты почитаешь Итану. Все в каком-то смысле продавалось и покупалось. В те годы Артур зарабатывал больше Франсин, и это накладывало определенный отпечаток на их отношения. Франсин больше времени проводила с сыном, что тоже накладывало отпечаток, только другой, одновременно более и менее значительный, чем доходы Артура. Долги накапливались. Что-то они прощали друг другу, что-то нет, но ни о чем не забывали. Франсин всегда помнила о наследстве отца и особенно часто вспоминала о нем во время подобных переговоров. Она так и не рассказала Артуру о наследстве, потому что он никогда не спрашивал — то есть он никогда не спрашивал о Месснере. Поначалу она была ему даже признательна, но теперь это начало ее беспокоить. Разве мужу не хочется знать, чем она занималась целый год? Разве его совсем не волнует этот незнакомый мужчина, которого он обнаружил в квартире любимой? «Будь по-твоему, — время от времени думала Франсин. — Я ничего тебе не расскажу. Ничего».
Оплатой всех семейных счетов и налогов занималась Франсин, что и позволило ей сохранить инвестиционный портфель в тайне. План Месснера работал. Купленные им акции с каждым годом росли, а во время экономического бума и вовсе превратились в состояние. Когда в семейных отношениях царил мир, Франсин грызла совесть. Что она за человек, если скрывает от мужа такое — особенно учитывая, как они живут? Тратят на детей все, что имеют, — подобно большинству своих знакомых. Однако в плохие дни — когда они с Артуром скандалили — деньги были ее единственной отрадой и успокоением. В случае развода Франсин будет финансово обеспечена. Ее дети будут обеспечены. А потом вновь наступал хороший день: Артур показывал Итану, как чинить игрушечный будильник, тот изумленно смотрел на разложенные перед ним пластиковые детальки, а Франсин думала: «Зачем мне вообще нужны эти деньги?»
Во второй раз все было иначе. Франсин заранее сделала маникюр и педикюр, пять ночей кряду спала по десять часов в сутки и одним ясным октябрьским утром практически без боли произвела на свет Мэгги Руфь Альтер. На сей раз она знала, что ее ждет, и задала все нужные вопросы про анестезию. Присутствие доктора Малуфа превратило родовую палату в более чем приятное место, где она была не прочь провести какое-то время и где ей хотелось показать себя с лучшей стороны (решение косметических вопросов неожиданно эффективно отвлекло ее от физической боли).
— Она красавица, — подмигнул доктор Малуф, когда все закончилось. — Совсем как мама.
— Полегче, — буркнул Артур.
Хотя прежние достижения мужа на поприще отцовства были весьма сомнительными, Франсин вновь в него поверила. Ей просто ничего больше не оставалось. Когда пришло время, Артур действительно подсуетился: в день появления Мэгги на свет подарил Итану набор небольших египетских фигурок из сувенирной лавки при Музее изобразительных искусств.
— Это тебе подарок от сестры, — сказал он доверчивому шестилетнему сыну. — Так она благодарит тебя за то, что ты впустил ее в нашу семью.
Франсин ничуть не расстроилась, что эту фразу и сам приемчик он позаимствовал из книжки про воспитание детей. Получается, он все-таки читает эти книжки! Замечательно! Она даже не стала придираться к подарку: бронзовые фараончики оказались совсем мелкие, и ребенок мог запросто их проглотить. Забота Артура ее тронула. И слова про «нашу семью» тоже. Ночью Итан забрался к ним в кровать, и под грохот батарей, по которым бродили пузыри воздуха, они спали все вместе, грея друг дружку.
Франсин была счастлива, что у нее родилась дочь, и испытала похожее чувство духовного родства — как в тот день, когда на свет появился Итан. Все-таки два — очень хорошее число, подумала она. Хотя у Итана уже появились некоторые черты единственного ребенка, теперь у него есть сестра. Франсин прямо млела от счастья, когда он просил у нее коляску и катал сестренку вокруг пруда Джамайка. «Нарезать круги», так он это называл.
Дети, впрочем, оказались совершенно разными. Подрастая, Мэгги становилась все воинственней и задиристей. Мать она слушалась, а вот с отцом всячески (и с большим удовольствием) испытывала границы дозволенного. Там, где Итан уступал, она своевольничала. Артуру волей-неволей пришлось активнее принимать участие в ее воспитании. Итан был совершенно самодостаточным ребенком, мог часами сидеть неподвижно и думать о чем-то своем. Мэгги же ни на минуту не оставляла Артура в покое, донимала его бесконечными «Почему?» в ответ на любые его слова — он видел в этом не просто детское любопытство, а желание во что бы то ни стало вывести его на чистую воду. Многие дети считают своих родителей всезнающими и всемогущими небожителями, но Мэгги поставила себе целью найти и обозначить пределы отцовских знаний (при этом она совершенно точно обожествляла мать). Если Артур и принимал ее вызов, то делал это неохотно, скрепя сердце, однако Франсин радовалась уже тому, что они просто проводят время вместе.
Несмотря на явные различия между детьми, она тщательно насаждала в семье бабушкину философию. Домашние обязанности, карманные деньги, кукурузные хлопья — все это распределялось строго поровну, хотя Итан был намного старше Мэгги. Лишь после своего одиннадцатого дня рождения Итан поинтересовался, почему он должен укладываться спать в одно время с шестилетней сестрой. Присутствие бабушки Руфи столь явственно ощущалось в их доме, что, когда Артура пригласили работать в Сент-Луис, ее призрак, казалось, втолковал Франсин: уж коли ты получила двоих детей, как и хотела, то будь добра теперь согласиться на переезд. Так будет по справедливости.
Они взяли в аренду трейлер и поехали через полстраны. Франсин всю дорогу смотрела в окно: по мере того как ландшафт вокруг становился площе и ровнее, ее понемногу охватывал ужас.
— Мам? — спросила Мэгги с заднего сиденья.
— Да, зайка?
— Что это такое?
Франсин обернулась. Дочь держала в руках рамку с дипломом, замотанную в пузырчатую пленку. Они решили, что в чемоданах рамка может треснуть, поэтому взяли ее в салон.
— Это мамин диплом, — ответил Итан. — Из университета. Да ведь?
— Да, сынок.
— Что значит «университет»?
— Тебе пока рано об этом думать, — ответил Артур. — Мы еще не накопили денег на ваше образование.
— Это место, где человек получает профессию, — сказала Франсин. — Становится самым лучшим специалистом в своей области.
— То есть ты — самый лучший специалист?
— Ну да, что-то вроде. Я училась на психолога. Можно сказать, что я специалист в этой области.
— То есть ты знаешь больше, чем папа?
Франсин засмеялась:
— О психологии — да.
Артур фыркнул.
— А если еще кто-нибудь пойдет учиться в университет? — не унималась Мэгги.
— Он тоже станет специалистом.
— И что, многие становятся специалистами? Все подряд?
— Нет, их не очень много.
— Десять?
— Больше.
— Сто?
— Больше.
Мэгги нахмурилась:
— Как-то многовато. Самых лучших столько не должно быть.
— Ну да, наверное.
Перед ними тянулось пустое, длинное шоссе.
— Ты знаешь больше, чем я, — рассудила Мэгги.
— Пока — да.
— И папа тоже.
— Да.
— О’кей. — Мэгги немного поразмыслила над этим. — Хорошо.
Было решено не гнать лошадей и доехать за два дня, переночевав в мотеле города Колумбус, Огайо. Артур долго возмущался ненужными тратами на гостиницу — что за бред, теща ведь живет совсем рядом! — но Франсин отказалась заезжать домой. Возвращение на Средний Запад и так далось ей непросто. Она здесь родилась и все детство мечтала отсюда сбежать. Впереди была долгая жизнь, однако, когда наутро они пересекли границу Миссури и въехали в город, Франсин пришла в голову леденящая мысль: здесь она и умрет.
18
К последнему ужину Альтеров в Сент-Луисе Артур приготовил вегетарианский чили. Вообще-то, в рецепте была еще и курица, не преминул сообщить он, однако ему хватило чуткости и такта ее исключить. «Прекрасно, — подумала про себя Мэгги. — Если он совершает какой-то добрый поступок, весь мир должен об этом узнать». Ей очень хотелось поговорить с Итаном. Она видела, что брат постепенно поддается на ухаживания (да, словечко так себе, но Мэгги просто не знала, как еще это описать: отцовство очень странно и жутко смотрелось на Артуре, будто супергеройский плащ или обтягивающие плавки). Надо каким-то образом напомнить Итану, что отцу доверять нельзя — пусть он и хорошо вел себя в приюте. Брат вернулся домой на закате — облака в стиле Возрождения крали остатки солнечного света, — с таким лицом, что любые разговоры показались неуместными.
— Ох ты ж блин…
— Итан вернулся? — спросил Артур из кухни. — Расскажи ему про чили.
Он вошел в столовую с перекинутым через плечо кухонным полотенцем.
— Господи!
Половник выпал у него из рук и грохнулся на пол.
— Что?
— Твое лицо! — хором ответили Артур и Мэгги.
— Я… э-э…
Сестра выпучила глаза:
— Тебя…
— …Отвергли.
— Что?! — не понял Артур.
— Меня отвергли. — Итан уронил голову. Кобальтовые фингалы темнели у него под глазами, нос скособочило, и вдобавок он гнусавил.
— Ты о чем вообще?! — воскликнула Мэгги. — У тебя нос всмятку!
— Болит? — спросил Артур.
— Не особо.
— Так что с тобой стряслось?
— Да ничего.
Мэгги всплеснула руками:
— Тебе не надо показаться кому-нибудь? Врачу там?
— Само заживет.
— Да, но кости могут срастись неправильно!
— Раз он говорит, что все нормально, значит все нормально, — дрожащим голосом проговорил Артур. А потом с надеждой спросил: — Может, он не хочет это обсуждать?
Итан пожал плечами:
— Как срастется, так срастется…
— Я ужин приготовил, — сказал Артур, нагибаясь за половником. — Может, начнем…
— Бред какой-то. — Мэгги помотала головой.
— Все уже готово. Давайте садиться.
Итан ушел в ванную и вернулся с торчащими из ноздрей белоснежными цветочками туалетной бумаги. Все сели за стол. Мэгги демонстративно повернулась спиной к фотографиям. Артур водрузил кастрюлю на подставку для горячего и половником разложил по мискам чили.
— Вкусно, — сказал Итан, взяв в рот одну ложку.
— Может, от горячего хоть нос немного разложит, — сказал Артур. — Рад, что тебе нравится. А тебе как, Мэгги?
— Ну да, — вздохнула та. — Неплохо.
После ужина Артур настоял, чтобы все сели в машину.
— А куда мы едем? — спросила Мэгги. — Скажи, что в больницу!
— Со мной все хорошо.
— Слышала? С ним все хорошо, — буркнул Артур. — Нет, нет, я выбрал местечко повеселей.
— Ладно. Но я поеду сзади, рядом с Итаном. Не нравится мне все это. Ему явно надавали по башке. Хочу рассмотреть поближе.
Артур ехал на юг, а дети перешептывались на заднем сиденье. Они, сами того не ведая, заняли традиционную семейную позу: отец впереди, дети позади. Только пустое пассажирское кресло напоминало, что чего-то не хватает.
Мэгги щупала Итана, пытаясь понять, что у него с носом. Тот отбивался стандартными «не волнуйся» и «все хорошо». Однако стоило им свернуть на Арсенал-стрит и проехать по мосту над сортировочной станцией и дренажным каналом, перепалка сзади резко прекратилась. Артур готов был поклясться, что дети разинули рты от удивления. Они поняли, куда едут. Артур выехал на Мать Дорог — шоссе 66, — пролетел мимо магазина «Католик супплай» и студии загара, после чего свернул на крошечную парковку перед гордым ларьком, торговавшим замороженным заварным кремом.
Сколько раз он ездил по этому пятнадцатиминутному маршруту? Вперед-назад, туда-обратно? У их семьи была такая традиция: в понедельник вечером они ели вкуснейшее мороженое из этой лавки, чтобы как-то скрасить возвращение в школу и на работу. Традицию придумала Франсин.
Артур ездил сюда тысячи раз. Даже подумать страшно. Мир так огромен и разнообразен, в нем столько новых мест и людей, однако Артур провел изрядную часть своей жизни, курсируя туда-сюда по одному короткому маршруту. Скинкер, Маккосланд, Арсенал, Джемисон. Джемисон, Арсенал, Маккосланд, Скинкер. Открытое небо, редкие деревья, парковки. Массивные бетонные эстакады. Сколько часов в общей сложности он провел на этой дороге? Сколько потратил времени? Что мог бы успеть за эти часы, если бы распорядился ими иначе? Чего мог добиться, кем мог стать, что мог увидеть вместо этих четырех асфальтных полос, искусственных насыпей и глыбистых эстакад? А ведь огромная часть взрослой жизни, родительства состоит из одних и тех же четырех-пяти действий, повторяемых снова, снова и снова. Почему? Почему люди так живут?
— Кто первый?
Артур едва успел припарковаться, как дети уже выскочили на улицу и помчались к ларьку.
Время между десятью вечера и пятью утра было источником вечных тревог для жителей Шуто-Плейс, на которых лежало нелегкое бремя охраны порядка в собственном районе. Ночь вызывала у людей массу противоречивых мыслей, правила без конца пересматривались. Соседи десятилетиями спорили из-за уровня шума: какое количество децибелов считается допустимым после захода солнца? Этот стандарт касается только проигрываемой музыки или домашних ссор тоже? И можно ли вообще принудить людей к тишине в темное время суток? А как быть с уличными вечеринками? Сосед шел войной на соседа ради права стеречь его сон. Один такой давний спор на днях разрешился (впрочем, без малейшего участия Артура, который даже не голосовал): конкурирующие проблемы уличной безопасности и светового загрязнения окружающей среды удалось решить посредством полного демонтажа фонарей и установки двадцати шести телефонов для вызова экстренных служб, освещающих ночную тьму насыщенным лазурным светом.
Артур откинулся на спинку сиденья, впервые за долгое время ощутив некое подобие облегчения. Удовлетворения. Весенние каникулы закончились, уик-энд тоже. Завтра дети уедут. Пока он был доволен тем, как развивались события. День с Итаном прошел хорошо, пусть причины ему до конца неясны (Артур считал, что ему не за что было просить прощения, но ладно, так и быть, прощение заслужено), а с Мэгги… Попробуй разберись. Вроде бы она неплохо провела время в приюте, да, определенно неплохо, и фотографии, кажется, попали в цель. Удалось рассказать ей про Зимбабве — тоже плюс. Хотя она и так все знала, рассказ о тех событиях от лица самого Артура дорогого стоит. Главный посыл: оптимизм и надежда. Желание творить добрые дела. Быть добрым. У них с дочкой много общего. Вернее, было много общего — до того, как она появилась на свет. Какая странная трагедия, что этим людям — тридцатилетнему Артуру и двадцатилетней Мэгги — так и не довелось встретиться…
Артур представил жизнь после выплаты ипотечного кредита. Ульрика переедет к нему, он окончательно смирится с отказом университета заключать с ним бессрочный контракт и будет пожинать плоды ее успеха, наблюдая, как она занимает все более высокие места в замысловатой дэнфортской иерархии. Он выдернул телефон из зарядки и набрал Ульрику.
— Алло, — сонно, сквозь ком мокроты простонала та в трубку. — Артур, что случилось?
— Этот дом… Просто нечто. Зачем я вообще оттуда уехал? Он такой большой! В сто раз больше твоей квартирки. Знаешь, я смогу работать в одной комнате, а ты в другой — мы и видеть-то друг друга не будем!
— Артур… — Ульрика зевнула. — Сейчас полпятого утра!
— Застекленная комната — полностью в твоем распоряжении. У тебя будет свой кабинет, представляешь!
— Так вот чего ты хотел? — Она откашлялась. — Спрятаться от меня? Сделать вид, что меня нет? Если ты хочешь, чтобы мы жили вместе, не вздумай от меня прятаться.
— Нет-нет! Я так сказал — что мы можем жить вместе и не видеть друг друга — просто для наглядности… Чтобы ты лучше представила размеры дома.
— По-твоему, все сложится, Артур?
— Ну конечно сложится! Думаю, их денег хватит, чтобы полностью закрыть кредит…
— Артур. Нет. Я про другое — про нас. У нас-то — сложится? Если честно, иногда меня это волнует. Я волнуюсь за наши отношения. Нам надо увидеться. Поговорить, понять, сможем ли мы жить вместе. Ответь, пожалуйста, иначе я сойду с ума! Сможем? Сможем?
Этот вопрос его сейчас не волновал. Куда больше его волновало, как разрешится встреча с детьми. Что будет с домом. Заглядывать в будущее больше чем на пару часов он не мог.
— Конечно сможем, — ответил он, надеясь этим успокоить Ульрику. — Почему нет? Что нам мешает?
Наутро он проснулся и увидел в окно неопределившееся небо. Что-то назревало, но что именно — гроза, дождь, град, — предсказать было невозможно. Погода на Среднем Западе всегда славилась непредсказуемостью.
Перед тем как принять душ, он решил достать подходящую одежду. Выглядеть нужно соответствующе. Безобидно. Эдакий дружелюбный и отзывчивый отец семейства. Как говорила одна неприятная тетка, его коллега по имени Джоан Веллум (специалист по медиаведению): «Двадцать первый век углубил озабоченность двадцатого всем внешним и поверхностным». Тут Артур понял, что вся его одежда — серых и коричневых оттенков. Горчичные вельветовые брюки. Твидовые пиджаки. Его гардероб был решен в янтарных, бобровых, бежевых и буйволиных цветах. Дымчатый топаз, песок пустыни. Почему до сих пор никто ему на это не указал? Надо указывать людям на такие вещи. Он разложил одежду на кровати. Рубашка фирмы «Кирклэнд сигначе» из магазина «Костко» на трассе I-55. Вельветовые брюки и пиджак. Нет, слишком мрачно. Джинсы… где-то ведь есть джинсы! Артур нашел их в глубине шкафа и заменил ими брюки. Он стоял у кровати в одних носках и трусах, разглядывая свой далекий от идеала наряд. Плоские, сдувшиеся вещи — их хозяина как будто унесло в рай (или в ад), как на рекламных щитах с апокалиптическими картинами, установленных по всему городу.
После окончания каникул университет вновь ожил. Студенты воссоединялись так, словно не видели друг друга целую вечность. По всему кампусу юноши и девушки обнимались столь страстно и крепко, что Артур невольно морщился: какая мелодрама! Или нет?.. Зрелище почему-то деморализовывало. Да что с ним такое? Долгие годы он был убежден, что это радушие, облегчение студентов при виде друг друга после недельных каникул во Флоренции или Пунта-Кане — преувеличенные и напускные. Теперь же их объятья кажутся ему трогательными: эти ребята ведут себя словно близкие родственники, разлученные страшным международным конфликтом и уже не чаявшие увидеться.
По понедельникам у него была только одна лекция, а потом несколько рабочих часов, которые он проводил у себя в кабинете. Лекция была для студентов старших курсов: «МЕХ АНГЛ 400: Актуальные проблемы: Вычислительная техника в криминалистической экспертизе и анализе неисправностей». Согласно каталогу, в рамках данного курса студенты должны были пройти следующие темы:
1) метод конечных элементов;
2) расследование причин аварий;
3) фрактографические исследования;
4) применение вычислительной техники для диагностики неисправностей;
5) роль этики в анализе неисправностей.
Артур мог бы прочитать эту лекцию с завязанными глазами. И руками. Территория хорошо знакомая, а учить инженеров-четверокурсников — сплошное удовольствие. Тихие и скромные ребята, которых видно, но не слышно, внимательные и уже знающие механику текучих сред, но так и не освоившие простую арифметику утраты девственности. На учебу после каникул они вернулись подозрительно незагорелыми.
На лекции Артур предложил студентам задачку: выяснить, почему прохудилась труба из углеродистой стали, по которой подается газ. «Или, — сказал он, — давайте поднимем ставки: газ ядовитый. Смертельно ядовитый. Ваша задача — установить причину протечки. Не отремонтировать трубу, не разработать более совершенную трубу — нет. Просто понять, почему она прохудилась». Артур рассказал студентам, что можно сделать, предложил различные методы: визуальный осмотр, контроль проникающими веществами, магнитно-порошковая дефектоскопия, микроструктурный анализ. Упомянул вероятность того, что в свете полученной с помощью различных тестов сведений протечка связана с — допустим — трещиной в трубе, причем скорее всего продольной. То есть она может увеличиваться в размерах.
Где-то в дальнем конце зала над рядами голов поднялась одинокая рука.
— Да?
Рука опустилась. Артур не видел, кому она принадлежала — очередному безымянному девственнику.
— У меня вопрос…
Он прекрасно знал, какой будет вопрос — кто-нибудь неизменно, из года в год, его задавал. Артур находил утешение в этой предсказуемости. Он не мог представить себе будущего без ежегодного ответа на этот идиотский вопрос.
— Дерзайте.
— Как… э-э… как может трещина увеличиваться сама по себе?
— Давайте подумаем. Вот труба с трещиной. По ней по-прежнему осуществляется подача газа.
— Ну да…
— Проходя сквозь трещину, газ оказывает на нее давление, в результате чего трещина увеличивается. Через нее начинает выходить еще больше газа, давление растет — и трещина тоже.
— То есть сила давления газа и размеры трещины…
— Взаимосвязаны. И то и другое играет непосредственную роль в поломке трубы.
— Она ломается сама собой!
— В каком-то смысле — да. Совершенно верно.
Выйдя во двор, наливающийся теплом и зеленью, Артур стал мысленно готовить небольшую речь, которую он хотел произнести для детей перед их отъездом в Бостон. Он побрел по кампусу к себе в кабинет, то и дело останавливаясь полюбоваться лоснящимися голыми ногами первокурсниц.
— Уф, — выдохнул он себе под нос и отер пот со лба.
Кабинет Артура находился в здании «Корнелл Хейнс», которое сейчас вовсю реставрировали в рамках дэнфортской программы «Шаг вперед» — мультимиллионного проекта, призванного полностью заменить внутренности нескольким старейшим университетским зданиям. Над «Хейнсом» висел дамоклов меч подъемного крана. Приблизившись к двойным дверям, Артур увидел на пороге декана Гупту — тот как раз взмахнул зонтом, точно королевским скипетром. Артур нырнул за стойку для велосипедов, постоял там, скрючившись, минуту-другую, после чего стал медленно пробираться вдоль кустов ко второму входу. Добираться до кабинета пришлось кружным путем, то и дело натыкаясь на огороженные строительной лентой участки и лестничные проемы.
Артур делил кабинет с молодой аспиранткой-гендерологом, носившей сережку в носу. Но сейчас ее там не оказалось — стало быть, вся комната в распоряжении Артура. Он сел и разбудил монитор компьютера, шлепнув его по боковой стенке. Живительный солнечный свет пробивался сквозь жалюзи, отбрасывая на экран серые полоски. Артур размял шею, покрутил головой и начал печатать:
Оказываясь в критической ситуации, мужчина вынужден
действовать: у него нет другого выбора, он должен защищать
себя и свою семью. Медлить нельзя. Держа в уме этот
бесспорный факт, я хочу попросить вас…
Он разом стер все написанное.
В критической ситуации мужчина вынужден действовать.
Он обязан сделать все, что в его силах, дабы защитить свою
семью, ведь как отец он несет ответственность…
Опять мимо.
Что такое дом? Дом — это место…
Ничего не выходит.
Словарь Вебстера так определяет слово «дом»…
Артур мог без труда прочитать лекцию сотне студентов, но пасовал перед собственными детьми. Почему? «Хватит, — скомандовал он себе. — Просто скажи все, как есть».
В критической ситуации отец семейства
В критической ситуации
Отец семейства
Перед лицом неурядиц мужчина
прзззгркп
аракзцкрптцу
гзетц езпцрз
Как вы знаете, жилье стоит денег
Давайте поговорим об ипотеке
Я обращаюсь к вам с просьбой
Я в тупике
Как человек в критической ситуации
Я нуждаюсь в вашей помощи
Только ваша поддержка
Я обращаюсь к вам с просьбой
В трудные времена
Штука в том, что человек в кризисной ситуации
Человек в кризисной ситуации
В трудное время отец семейства
Человек
Артур ударил по клавиатуре и тихо выругался. Одно дело — знать, чего хочешь. Куда сложнее об этом просить.
Итан оделся и пешком пошел к университету, решив напоследок на него взглянуть. Он поднялся по каменным ступеням и шагнул под высокую арку здания приемной комиссии, откуда вышел на аккуратно стриженный главный кампус. Лимонно-зеленая лужайка была поделена на части тремя краснокирпичными дорожками. Итан выбрал центральную и добрался по ней до библиотеки. Дэнфорт теперь выглядел куда симпатичнее, гостеприимнее и гораздо пригоднее для жизни, чем ему помнилось. То ли университет изменился, то ли сам Итан? Кто-то прицепил огромную связку красных воздушных сердечек к указателю рядом с часовней Шлэфли. Он решил посмотреть, что там такое.
Двери в часовню были прикрыты, но не заперты. Итан осторожно вошел.
Часовня была битком забита. Само количество людей поражало: ни разу за четыре года Итан не видел в этих стенах такого скопления народа. Подобных толп не собирал здесь никто, ни дочь бывшего президента, приехавшая с визитом в университет, ни русский гроссмейстер, ни магический реалист еврейского происхождения, зачитывавший студентам отрывок из второго романа. Однако часовня была высока и величественна: казалось, в ней всегда царит таинственная пустота. Итан стоял в самом конце зала вместе с остальными опоздавшими и потому не видел, кто говорит. В вакууме свободно парил молодой мужской голос:
— …Вас будут закармливать избитыми истинами и максимами. «Что было, то прошло». «Страдания не определяют вас как личность». Под этим имеется в виду, что не надо зацикливаться на плохом. Отпусти ситуацию и живи дальше. Что ж, я могу это понять. Никто не хочет снова и снова возвращаться к своим травмам. Предательство. Зависимость. Боди-шейминг. Разве нормальный человек хочет, чтобы его определяли подобные слова? Разве нормальный человек не захочет все это преодолеть и забыть как страшный сон?
Публика забормотала.
— …Но я пришел сюда, чтобы спросить вас: а почему, собственно, нет? Зачем скрывать прошлое? Это ведь так просто — знаю, что многие меня осудят за эти слова, — возможно, травматический опыт все-таки оказывает влияние на нашу личность и формирует ее, как никакой другой. Страдания действительно нас определяют.
— Гениально! — прошептала девушка, стоявшая рядом с Итаном.
— Кто это вообще?
Она бросила на Итана осуждающий взгляд и тут же смягчилась, увидев его сломанный нос.
— Э-м… — Она потупилась. — Он тут раньше учился. А потом разбогател.
— Расскажу вам одну историю про мою жизнь, — вещал голос. — В старших классах школы я был заучкой, мало кто хотел со мной общаться. Знаю, знаю, в это трудно поверить — компьютерный гик не может найти себе подружку на выпускной! Какой бред! — (В зале засмеялись.) — Друзей у меня почти не было, подружек не было совсем. Можно даже сказать, что меня травили. Не стану вдаваться в подробности, но приятного в этом мало, поверьте. Впрочем, как и уникального. Обычные школьные дела. Мои обидчики оказались не слишком изобретательны, но много вы знаете изобретательных хулиганов? — (Опять дружный смех.) — Так проходила моя юность. Я рос забитым, неуклюжим мальчиком и думал, что ничего лучше мне не светит. В коридорах я вечно озирался по сторонам. Обедал в пустых кабинетах, чтобы не ходить в столовую — там меня всегда дразнили. В общем, я был самой настоящей жертвой — лучше слова и не подберу… Долгие годы я мечтал забыть все это как страшный сон. После выпускного меня прямо распирало от радости: наконец-то школа позади! Можно начать с чистого листа! В университете никто меня не знает, там у меня будет новая жизнь. Увы, прошлое не всегда нас отпускает. Вместе со мной в этот самый университет поступил мой давний школьный знакомый — не из тех, кто меня задирал, но из их круга, из той же компашки…
Итан огляделся по сторонам. Все слушали затаив дыхание. Лишь поскрипывали в тишине скамейки, и уверенный голос оглашал зал часовни. Сквозь витражное окно лился солнечный свет, озаряя головы слушателей синим, красным и желтым сиянием.
— …Я должен был принять непростое решение. Четыре года прятаться от этого парня из школы? Или стать другим человеком, измениться до неузнаваемости? Внезапно меня осенило. Нет, не нужно ни от кого прятаться. Не нужно меняться. Надо просто быть собой. Обыкновенным собой — ботаником, жертвой. Почему нельзя свыкнуться со своей травмой, признать ее? Постепенно я начал заводить друзей и выяснил, что таких, как я, много. Подобное притягивает подобное, и вскоре я уже вовсю обменивался байками о школьной травле с моими однокурсниками и соседями по общежитию. Эти истории нас сплотили. Помню, как вечерами в библиотеке мы спорили, кому в школе пришлось хуже. Было здорово. Такое облегчение. Но лишь на третьем курсе, когда у нас появился предмет «Разработка мобильных приложений», я осознал: всем этим страданиям, всей этой информации можно найти применение…
Итан вышел на улицу. Закрыл глаза и подставил лицо солнцу. А когда открыл, то увидел бегущего по двору отца. Итан поднял руку и думал его окликнуть, но не стал. Почему-то вспомнилась мать. Судя по всему, Итан унаследовал ее слабость к мужчинам, которые не отвечают ему взаимностью. Наблюдая, как папа семенит по кампусу с той же пристыженной поспешностью, с какой его покидал Чарли — причем уже не один, а два раза, — Итан решил больше не гадать, почему ему вечно хочется только недоступного. Вокруг миллионы невидимых насекомых уже несли пыльцу на готовые к опылению пестики дорогих цветов.
19
— В критической ситуации человеку необходимо действовать, — произнес Артур.
Альтеры собрались в гостиной. По несчастному стечению обстоятельств именно эта часть дома у всех присутствующих была самым тесным образом связана со смертью. Именно здесь родители сообщили детям о смерти мамы Артура (инсульт), двоюродного дедушки Франсин (сердечный приступ) и седовласого старичка, пережившего холокост, их соседа по дому у пруда Джамайка (естественные причины, усугубленные болезнью Паркинсона). Именно здесь Франсин мягко объяснила детям, почему ее близкая подруга, с которой они делили комнату в студенческом общежитии, совершила самоубийство (она жила в округе Марин с шестью морскими свинками и биполярным расстройством). И именно на этом диване Итан и Мэгги сидели в ожидании отца, несшего им печальную весть из больницы, а за несколько месяцев до того Франсин, изо всех сил стискивая ладонь Артура, поведала им о своем диагнозе.
— …А когда кризис угрожает его семье, действовать нужно немедля.
— Э-э… пап? — встрял Итан.
Артур умолк.
— Пока ты не начал…
— Что?
— Пока ты не сказал… ну, то, что собираешься сказать, — я хотел поблагодарить тебя за гостеприимство.
— За гос… А. Понял. Ну, хорошо. Я всегда вам рад.
— Я серьезно, пап. Мне не очень-то хотелось ехать… Но вышло неплохо.
— Несмотря на… — Артур покрутил пальцем в воздухе у своего носа.
— Даже несмотря на это.
Мэгги подняла голову:
— Поддерживаю.
— Правда? — удивился Артур.
— Ну… да. Приятно было снова тут побывать… Увидеть город и все такое. Ночью у меня прямо… Не знаю, я замороженный крем лет сто не ела! А раньше ты нас постоянно туда возил.
— Возил. — У Артура внутри все задрожало.
— В общем — да, спасибо тебе. Я согласна с Итаном. Хороший получился уик-энд.
На тебе.
Черт. И вот как тут задать сакраментальный вопрос? Нет, сейчас не получится. Артур поставил себе целью заслужить доверие детей, задобрить их, и вот цель достигнута — а его как будто парализовало. Он слишком привык к неудачам. Успех его ошарашил. Он стиснул подлокотник зеленого кресла, в котором сидел. Вот они. Его дети. Вернулись в Сент-Луис, чтобы его повидать. Да теперь еще рассыпаются в благодарностях!
Артур сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Когда воздух покинул легкие, плечи его опустились.
— Вы даже не представляете… — тихо произнес он. — Не представляете…
— Чего не представляем? — спросил Итан.
Артур помотал головой:
— Ничего… Ничего. — Он ссутулился и выдавил себе под нос тихий смешок. — Знаете, я тоже очень рад, что вы приехали. Вы могли и не приезжать — могли проигнорировать мое письмо. Дети так обычно и поступают. Вы мне ничего не должны, честное слово.
— Да все нормально, пап, — сказал Итан. — Мы сами захотели.
— Нет, нет. Я должен выговориться. — Его пьянила бесконечная признательность: она грела сердце и развязывала язык. — Я давно хотел сказать. И вот говорю: мне кажется, что я вас не знаю. Ни того ни другого. Понимаете? Мне больно это признавать. Но это правда. Я вас не знаю. В какой-то момент я сложил с себя обязательства по вашему воспитанию, выключился из родительства. Перестал даже думать об этом. — Он откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. — А потом так и не смог включиться обратно. Чем дольше я ждал, тем труднее становилось принимать участие в вашей жизни. Все время казалось, что я уже упустил свой шанс, опоздал. Да, да, вот именно: я всюду опоздал. Такое меня преследовало чувство. Я не мог с вами сблизиться, потому что было слишком поздно. Тут ведь какая штука: если ты решил, что уже поздно, то тебе всегда будет поздно — и с каждым днем все позднее.
— Пап, все хорошо, правда, — сказала Мэгги. — Ни к чему…
— Дай мне закончить… Дай мне закончить. — Артур подался вперед и уперся локтями в колени. Столько всего еще предстояло сказать. — Долгие годы… долгие годы я чувствовал, что живу под одной крышей с чужими людьми. Незнакомыми. Я прятался, скрывался от вас! Возможно, со стороны казалось, что я просто рассеянный или не в себе, но нет. Я знал, что делаю — и чего не делаю. Я не занимался вами. Просто торчал у себя в кабинете и не работал. Часами просиживал в библиотеках и не читал. Львиную долю своей жизни я провел в неделании. В избегании. Мою взрослую жизнь можно озаглавить так: «То, чего я не сделал».
— Пап, не надо…
— Я только хочу сказать, что как родитель я потерпел полный крах. Я был тщеславен, безрассуден, излишне требователен. Думал о себе, пренебрегал своими прямыми обязанностями. Но теперь я готов. Я готов это признать. Какое облегчение! Просто не передать словами. Даже страшно вспомнить, как я себя вел… Почему мне раньше не приходило в голову, что это недопустимо? Наверное, должен был наступить такой переломный момент, час расплаты. Раньше я всегда мог к чему-то вернуться, у меня были резервы: когда не оправдались амбиции, осталась работа. Когда не вышло с карьерой, осталась ваша мама. Когда я потерял ее — остались вы. Когда я потерял вас, у меня был хотя бы дом… А без дома у меня ничего не останется.
— Без дома? — переспросил Итан.
— Да, — кивнул Артур. — Да. Об этом я и хотел с вами поговорить. Слушайте… мне очень неприятно вам это сообщать, но скоро мы потеряем дом.
— Погоди, — не понял Итан. — А что стряслось?
Артур пожал плечами:
— Ничего. Я просто не могу за него расплатиться.
— И что дальше? — спросила Мэгги. — Нам пора собирать вещи? К этому все идет?
— Штука вот в чем… — тихо, но так, чтобы все услышали, произнес Артур. — Я хотел его спасти.
— Спасти? Как?
Артур улыбнулся:
— Мэгги. Итан. Мне так не терпится узнать вас поближе.
«Что с ним случилось? Почему он так странно разговаривает?» — шепотом спросила Мэгги брата.
«Не знаю».
— Забавно… У меня ведь был план.
— План?!
— Скажем так: наша встреча могла закончиться на совсем другой ноте.
— Пап. — Итан склонил голову набок. — Мы вообще ничего не понимаем. Что ты пытаешься сказать?
— Ничего… Ничего. Знаете, я избавил вас от весьма неприятного разговора.
Мэгги закрыла глаза:
— Объясни толком, в чем дело!
— Я хотел попросить, — засмеялся Артур, — чтобы вы помогли мне выкупить дом. Вот, даже речь придумал! — Он сунул руку в карман и достал оттуда сложенный листок бумаги. — Но теперь… теперь я понял, как это было глупо с моей стороны. Теперь, когда вы здесь, разговариваете со мной, я сознаю, что все это не имеет значения. Вы, мои дети, семья — вот что важно. За меня не волнуйтесь. Я найду себе жилье. Без крыши над головой не останусь. — Он сунул речь обратно в карман.
— Что-что ты хотел сделать?! — вопросила Мэгги.
— Каким образом мы должны были тебе помочь? — уточнил Итан.
— Деньгами вашей матери, разумеется.
— Мамиными деньгами?
— Да. Брось, сынок. Ни к чему эти игры. Ты все понимаешь.
— Нет, честно, какими деньгами я должен тебе помочь? — спросил Итан.
— Теми, что завещала тебе Франсин.
— Но я на мели, — сказал Итан.
— Что-что?
Мэгги хлопнула себя по бедру:
— Так и знала!
— Я все потратил. У меня нет денег, — сказал Итан.
В воцарившейся тишине Артур впервые услышал, что на улице идет дождь. Видимо, он шел уже давно, с самого начала их разговора: холодные капли барабанили по окнам дома.
— Не понимаю…
Итан покачал головой:
— А что тут непонятного? Я потратил все деньги. Купил квартиру в Нью-Йорке, в Кэрролл-гарденс. А потом ушел из фирмы.
— То есть — с работы.
— Ну да.
— Так ты не работаешь? — Артур был вдвойне озадачен. Естественный ход вещей нарушен: сын вышел на пенсию раньше отца!
— Да. Уволился.
— Но…
— Не «но». А «и».
Артур подался вперед:
— И?..
— И я в долгах.
— В долгах… — Артур потрясенно смотрел на сына, а именно — на его распухший фиолетовый нос.
— Да. Квартира-то в историческом районе. Такое жилье стоит денег. Я могу снова устроиться на работу — ну, то есть мне придется это сделать, причем в ближайшее время. Но я все тянул, ждал чего-то — сам не знаю чего. Но больше не жду. Я даже хотел попросить у тебя взаймы… Теперь, конечно, не стану…
В сердце Артура царило смятение. Он не привык бороться с несколькими чувствами одновременно. Нежность переросла в шок. И гнев. А еще он испытывал облегчение: выходит, сыну он тоже нужен!
Но в основном, конечно, его обуревал гнев.
— Как можно было потратить такую сумму? Да еще уволиться? О чем ты думал? Как ты живешь?
— Как-то живу.
— Нью-Йорк — дорогой город! — выплюнул Артур. — Что ты… что ты ешь?
Итан повесил голову. Артур наблюдал, как его сын ссутуливается, скрючивается, словно строчная «р» в слове «надрыв». Он повернулся к Мэгги:
— А ты?
— Что я?
— Только не говори, что тоже потратила деньги!
— Мамины?
— Да! Мамины деньги!
— Нет, что ты. Нет-нет.
На шее Артура вздулась толстая вена.
— Хорошо, — сказал он, отирая лоб. — Отлично… Но ты, конечно, не поможешь мне выкупить дом?
— Я отказываюсь от наследства.
— Не понял?
— Хочу все раздать.
Гнев вспыхнул с новой силой. Он множился и порождал новый гнев. Не выпуская его наружу, Артур выдавил одно-единственное слово:
— Почему?
Мэгги всплеснула руками и уронила их на колени.
— Да от этих денег никакого толку! Посмотри, что они сделали с Итаном. Это же ходячая катастрофа! — Она повернулась к брату. — Без обид. У тебя кровь течет из носа. На диван.
Тот промокнул нос салфеткой.
— А ты?! — продолжала Мэгги. — Пап, я не хочу такой жизни. Не хочу покупать дом, который изначально был для нас слишком велик. В элитном районе. Зачем он? Послушай. Шуто-Плейс не имеет никакого отношения к реальному миру.
— Мэгги…
— Тебе самому-то хоть здесь нравится? Работу ты ненавидишь, это я уже поняла. Слушай. Я не знаю, что сделаю с мамиными деньгами, но на себя их точно не стану тратить.
— Так потрать их на дом!
— Нет. Извини.
— Ты не понимаешь! — вскричал Артур. — Ты. Можешь. Спасти. Наш. Дом. Господи… я ведь передумал вас просить! Хотел избавить вас от неприятного разговора!
— Это не мой дом. Я здесь больше не живу. И Итан тоже.
В животе у Артура все перевернулось, к горлу подступила и сразу отхлынула тошнота. В конце XIX века его предки сбежали от негласно разрешенных властями одесских погромов и каким-то чудом пережили все тяготы путешествия через океан без гроша за душой. Артуров прапрадед торговал вразнос вонючей рыбой в Нижнем Ист-Сайде, чтобы его сын сумел открыть крошечную обувную лавку, а внук — стать стоматологом, правнук — инженером, а праправнук смог… что? Погрязнуть в долгах? А праправнучка — разбазарить наследство?
— Неужели этим все и закончится? — вопросил Артур. — Мы просто тихо зачахнем в нищете? А?
— Ты не откажешься от денег, — сказал Итан.
— Еще как откажусь.
— Легко сказать.
— Почему все думают, что я на это не способна?! — возмутилась Мэгги.
— Дочь, — сказал Артур, подавив рвотный позыв, — ты не ведаешь, что творишь.
— А мне кажется, ведаю.
И тут картинка наконец сложилась. Фотографии. Приют. Балет. Все фрагменты уик-энда встали на свои места. Странный запах, преследовавший ее повсюду… Она наконец смогла понять, чем пахло в доме. Мэгги с колотящимся сердцем вспомнила одну Артурову фишку из ее детства. Папину Пошлину. Началось все с безобидной хеллоуиновской шутки: «Дай-ка сюда эту „Миндальную радость“, детка, пришла пора заплатить Папину Пошлину», но с годами она переросла в патологическую перверсию. Артур взимал Папину Пошлину со всего, что она когда-либо получала или выигрывала. Когда Мэгги соглашалась посидеть с соседскими детьми, он брал с нее плату за посреднические услуги — процент за наводку. Ей пришлось отдать отцу 15 % от своего первого летнего заработка (она устроилась кассиром в магазин игрушек) — «за бензин», ведь он возил ее с утра на работу. Он таскал еду с ее тарелки, хотя на столе и так было всего достаточно — просто чтобы лишний раз напомнить, кто в семье главный добытчик. И все четыре года в Дэнфорте, до самой смерти Франсин, Артур регулярно давал Мэгги понять, что после окончания университета она начнет выплачивать ему сумму, вложенную в ее образование. «За тобой должок», — сказал он ей открытым текстом. Выходит, за отцовство полагается какая-то плата?! А дети — это такое капитальное вложение, которое должно окупиться сторицей и желательно в виде наличных?
— Погоди-ка… — сказала Мэгги. — Так ты для этого нас позвал? Да? Хотел получить мамины денежки? Все затевалось с одной-единственной целью…
— Мэгги. Мэгги, постой…
— О господи.
— Не все, слышишь? Не все…
— Мало того, что ты заточил маму в этой клетке, в этом городе, мало того, что ты ей изменял — пока она лежала на смертном одре! Теперь ты решил захапать и ее деньги!
— Я никого никуда не заточал.
— Мы, вообще-то, тебе нужны? Вот эта семья?..
— Кто-то стучит? — спросил Итан.
— Нет! — рявкнула Мэгги. — Это дождь.
— Кто-то стучит.
— Просто дождь барабанит… Пап?!
Артур уставился в пустоту между своими детьми. Затем с изнуренным вздохом ответил:
— И то и другое.
— Пап, что здесь творится?!
Стук разнесся по всему дому. С пневмонийным хрипом открылась и закрылась москитная сетка.
— Пап?
На пороге стояла женщина.
Не Франсин.
Конечно, ясное дело — не Франсин.
Однако Альтерам, взиравшим сейчас на эту женщину, бросилась в глаза именно ее абсолютная непохожесть на Франсин. Она была высокая, прямоволосая, вороноглазая. С мальчишеским телосложением и длинными мускулистыми ногами. То есть — вообще не Франсин. Что-то, кто-то совсем другой.
— Я уезжаю в Бостон, — молвила женщина. Немецкий акцент плавал в ее водянистом, подрагивающем голосе.
Артур ударил себя по лбу:
— Что ты тут делаешь?
— Кто это? — спросил Итан. Из его носа капнула кровь.
— Я решила принять приглашение. Пока не поздно. И я еще могу найти человека, который… Ох, Артур. Мы бы не смогли тут жить. Ты ведь и сам это понимаешь. Мы с тобой — в вашем семейном гнезде?.. Артур, я тебе не жена… Понятия не имею, кто я тебе. Но ясно, что так продолжаться не может. Я больше не могу тратить время… А тебе надо угомониться и разобраться в себе, это твой долг.
— Что вообще происходит? — спросил Итан.
— Тебе шестьдесят пять лет, Артур! — воскликнула женщина. — Что со мной будет, когда ты уйдешь?
— Да я никуда не собира… А. Господи. Подожди минутку, дай собраться с мыслями.
У Мэгги отвисла челюсть. Она не верила своим глазам.
Часы.
Усыпанные бриллиантами часы для торжественных случаев.
Мамины. На запястье у этой женщины.
— Это. Просто. Невероятно.
— Так, ладно. — Артур встал. — Дети? Нам с ней нужно поговорить. Это не… мы не… она не…
— Видишь? — спросила Ульрика. — Сплошные «не, не, не». Я тебе не нужна, Артур. Тебе просто нужна компаньонка. А я не хочу быть компаньонкой…
Женщина зарыдала.
Мэгги посмотрела на нее, затем на отца, затем снова на нее.
Стремительно прошла в столовую, задев немку плечом, и сняла с гвоздя одну фотографию. «Человек стоит на коленях, одной рукой обнимая мальчика». И грохнула ее об пол.
— Мэгги… — сказал Итан.
— Это не твое! — заорала Мэгги и разбила вторую фотографию. «Человек держит мальчика на плечах». Осколки стекла рассыпались у ее ног.
— Прекрати! — велел Артур.
— Что? — спросила Ульрика.
«Человек и мальчик стоят спина к спине». БАХ! «Мальчик сидит у человека на коленях». БАХ!
Итан и Ульрика поспешили к ней.
— Ты в своем уме? — спросила Ульрика.
— Часы! Отдай их! — завопила Мэгги и схватила ее запястье.
— Они мои! — умоляюще воскликнула Ульрика, выдирая руку. — Это подарок от вашего отца!
— Он не имел права! Часы были не его!
— Подарки не забирают!
Итан обернулся:
— А где папа?
Но объект его интереса и негодования его сестры бесследно исчез.
Он бежит сквозь непогоду, дождь хлещет практически горизонтально земле, капли впиваются в кожу, и он чувствует каждую в отдельности — необычайная кара. Смотрите же, как он вылетает за ворота — символ Шуто-Плейс — и пересекает реку машин: ум его совершенно пуст; время размывается, словно вода, которую гоняют по окнам стеклоочистители проезжающих мимо машин. Дома и люди превращаются в одно сплошное пятно. Впереди, уже совсем рядом, — главный кампус. Артур продирается между парочкой влюбленных студентов, разбивая их сцепленные руки, и взлетает по ступеням Гринлиф-холла. Делает короткую передышку под сводами арки, каменный пол которой украшен эмблемой университета. Затем бежит дальше, прямо по эмблеме (плохая примета, как говорят университетские экскурсоводы), снова выскакивает под дождь и наконец врывается в ворота библиотеки африканистики. На уме — лишь одно.
Артур роется на полках, сбрасывая книги на пол. Целые народы, истории, языки, мировые проблемы и страшные болезни — все летит ему под ноги. Африкаанс. AIDS (СПИД). Алжир. Где же она?! Нигде. Ее нигде нет. Если он сейчас же не найдет свою книжку, то взорвется.
— Профессор?..
Он оборачивается — с него течет вода, из груди идет утробный рык — и видит молоденького библиотекаря. Студента. Вежливого и готового услужить. Прячущего беспокойство за дрожащей улыбкой. Мальчика, чья робость никак не вяжется с татуировкой готическим шрифтом на левом бицепсе: «LOREM IPSUM»{69}. Будущий дизайнер, стало быть.
— Я сразу подумал, что это вы. В прошлом году я ходил на ваши лекции о социальных переменах.
— Так.
— Здорово было! Прикладная инженерия, «социальная ответственность строителя и созидателя» — очень интересно. Отличный факультатив. Я многое тогда переосмыслил…
— Что ж, — сказал Артур. — Этого я и добивался. — Тень наползает на стеллажи, проглатывая полоску света. — Где же она?
— Что?
— Да книга, мать ее! Ищу одну книгу и никак не могу найти!
— А. Ну да. Пойдемте на стойку выдачи, я поищу ее в базе.
Парень ведет его к стойке и садится за компьютер. Правым бедром задевает степлер и роняет его на пол.
— Черт. Аргх.
— Книжка совсем маленькая…
— Да-да. Название?
Артур пыхтит:
— «К вопросу о новой системе санитарной гигиены в независимой республике Зимбабве».
Паренек вбивает название в строку поиска:
— Автор?
— Автор…
— Нашел — Артур Альтер… Постойте! Так это ваша книга, профессор!
— Да.
— Странно!
— Говорите, где она.
— Ну, просто это так…
— Говорите!
— Ладно-ладно, смотрю… Ой, вы знаете, она помечена.
— Помечена?
— То есть числится утраченной.
— Стало быть, не «помечена», а «утрачена».
— Помечена как утраченная, да.
— Вот дерьмо. — Артур принимается ходить туда-сюда. — Дерьмо!
— Э-э, профессор?
Пот течет у него со лба. Где-то возле виска жужжит муха.
— А зачем вам своя же книга?
— Не понял.
— Ну, просто как-то это странно… Нет? Это же ваша книга.
Артур ощетинивается. И, сам того не замечая, слегка приседает — заводит пружину.
— Слушай сюда. Слушай. Мне очень нужна эта книга. Очень!
— Неужели у вас нет собственного экземпляра? Ну… типа дома?
— Все сгорело в пожаре.
— В каком пожаре?
— Да просто найди мою книгу, черт подери!
— Я ужасно сожалею, профессор, но помочь вам ничем не могу.
Артур умоляюще сцепляет ладони, выставляя вверх большие пальцы:
— Она была здесь совсем недавно — несколько недель назад! У вас должно быть отмечено, кому ее выдавали в последний раз.
— Увы, нет! Книгу никому не выдавали. Она просто потерялась или…
— Или?..
— Или ее украли.
Впрочем, Артуру уже и так ясно: все пропало. Конец. Ни к чему хорошему это не приведет. Это существование. Оно никогда не приводило ни к чему хорошему.
— Мне бы очень хотелось помочь, честное слово…
Не успевает он договорить, как Артур наносит удар.
Странное, должно быть, зрелище явилось взору студентов, которые болтались по кампусу тем апрельским днем — перемещаясь между библиотеками, митингами, встречами оргкомитетов, флешмобами и семинарами: препод с факультета машиностроения сидит на мокрой траве у библиотеки африканистики, перекинув через плечо твидовый пиджак. Было что-то противоестественное в том, что взрослый человек — ученый — сидит на земле. Особенно в столь изнуренно-непокоренной позе ребенка на последней стадии истерики, вставшего на долгий и мучительный путь к признанию своего поражения. Он сидел, скрестив ноги. Закрыв лицо ладонями. Издалека могло даже показаться, что он упал. Но любому, кто отваживался присмотреться, было ясно: этот человек просто решил присесть.
Возле него полукругом стояли: Итан, Мэгги, LOREM IPSUM и один весьма дюжий представитель дэнфортской службы безопасности. Все в состоянии боевой готовности — как расстрельная команда.
После долгих переговоров, упрашиваний и клятвенного обещания проспонсировать пошив новой формы для сотрудников службы безопасности Итану все же удалось уговорить охранника не задерживать Артура. Будущий дизайнер остался цел и невредим: каким-то чудом на его теле не было ни единой царапины, синяка и иных следов происшествия. Отделался легким испугом. Артур сбивчиво принес необходимые извинения — сперва парню (за недоразумение), затем охраннику (за то, что тому пришлось под проливным дождем тащиться сюда на сегвее). Все это время над Артуром висело укоризненное лицо покойной жены, в роли которой выступила его единственная дочь.
Пока он плескался на газоне, Итан отвел Мэгги в сторонку.
— Что будем делать? — спросил он. — Как нам теперь быть?
— Нам с тобой?
— Да. Тебе и мне.
Мэгги нахмурилась, поставила руки на пояс и окинула взглядом университет — средоточие их семейной жизни. Университет, который мечтал лишь об одном: чтобы страна наконец признала его достойным учебным заведением.
— Мы уедем.
— Так.
— И что будет с папой? — Кривой нос Итана засвистел.
— Все с ним будет хорошо.
Они дружно обернулись на отца, который все еще сидел на земле в мокрых насквозь джинсах. Мэгги покачала головой:
— Рано или поздно он оклемается. Вот увидишь.
Часть III
20
Район Юниверсити-Сити был не чужд страстей, одолевающих всех обитателей давшего ему имя учебного заведения. Май в Дэнфорте был месяцем, когда люди строили планы, ложно скромничали и без конца проверяли почту. Будущие выпускники отчаянно пили и заранее предавались ностальгии. Юные пары распадались или — с нездоровым оптимизмом членов секты конца света — решали попытать счастья в любви на расстоянии. Любому косому взгляду и малейшим переменам погоды присваивался излишне глубокий смысл. Непростой был месяц. Кругом одни сплошные метафоры. Многие открыто плакали: от чувств, от пыльцы.
Для небогатых сыновей и дочерей среднезападного Гарварда годы ободряющих хлопков по спине и позитивного подкрепления подошли к резкому и неотвратимому концу. Если у студентов, приехавших с Восточного побережья, были связи в банках, а у сокурсников с Запада — знакомые в Кремниевой долине, то у подавляющего большинства выпускников Дэнфорта не было ни того ни другого. Они присмирели и начали морально готовиться к жизни в стране с разрушенной экономикой, о которой им рассказывали на протяжении четырех лет. Раньше родители напутствовали: «Меть высоко». А когда дело дошло до поиска работы, стали говорить: «Умерь ожидания». Увлеченность и амбиции больше никого не волновали. Зато соцпакет — еще как. Но в общем и целом студенты по весне были полны надежд, предвкушения новой жизни. Перспектива работы «от звонка до звонка» пока еще интриговала. А этот волшебный день зарплаты! Для выпускника филологического факультета, которому посчастливилось устроиться на работу в Фонд Поэзии, начальные тридцать тысяч долларов в год казались фантастической суммой — столько денег и потратить-то нельзя! Массово рассылались резюме, добывались рекомендательные письма. Фулбрайт. «Амери-Корпус». Тридцать выпускников обрели заветную должность в приемной комиссии университета: они интервьюировали юных абитуриентов с горящими глазами и учили телефонному этикету первокурсников, которым было поручено обзванивать спонсоров. Племя несчастных с диагнозом «клиническая депрессия» — а таких среди студенчества набиралось до 15 % — наконец почувствовало едва ощутимое облегчение.
За несколько дней до вручения дипломов один популярный член еврейского братства поскользнулся на крыше общаги и сорвался вниз, чем едва не вверг весь Дэнфорт в публичный траур. К счастью, юноше удалось избежать смерти — он отделался растяжением запястья. Братья и сестры по факультету подписали для него несколько открыток и направили их по адресу городской многопрофильной больницы, где пострадавшему накладывали гипс, после чего с облегчением вернулись к своим делам. Будущее, казалось, было совсем близко — рукой подать.
В студенческой газете «Дэнфортский журнал» вышел материал о стычке Артура с библиотекарем. Заголовок, выделенный «капслоком», гласил: «ПРОФЕССОР НАПАЛ НА СТУДЕНТА ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ». Небольшую размолвку — к ужасу Артура — они назвали «нападением». Татуированный библиотекарь вдруг превратился в «студента из малоимущей семьи»! Можно подумать, классовая принадлежность и достаток потерпевшего имели какое-то отношение к ссоре.
Прежде чем Артур успел отчитать главного редактора газетенки, прозванной в народе «Ди-журом», ему пришло электронное письмо от секретаря декана Гупты. Напоминание о намеченной встрече. «Когда вам удобно подойти?» Артур обрушил кулаки на клавиатуру, вылетел из кабинета, стремительно прошагал по двору главного кампуса и вломился к декану.
— Только не говорите, что он подал в суд!
Гупта поднял голову:
— Простите?
— С парнем все нормально, — сказал Артур. — На нем ни царапинки!
Вслед за Артуром в кабинет вошла молодая женщина на каблуках и в юбке-карандаш. Она старалась шагать как можно шире, но наряд не позволял.
— Прошу прощения, декан Гупта! — воскликнула она. Ее грудь колыхалась под тонкой блузкой. — Он ворвался без ра…
— Все хорошо, Лола. Артур, присаживайтесь.
Секретарша злобно уставилась на Артура, потом развернулась на каблуках и вышла. «Силы небесные, — подумал он, подняв взгляд от круглых полумесяцев под ее юбкой к сводчатому потолку кабинета и случайно унюхав мощный аромат декановой туалетной воды с нотами кедра и кардамона. — Лола!»
Гупта ворошил бумаги на письменном столе, без конца перебирая их своими руками-щупальцами. На переносице у него сидело изящное пенсне.
— Вы слышали, что пропала моя книга? Из библиотеки?
— Артур, Артур… — молвил декан. — Присаживайтесь. Отдышитесь.
Он сел, дрожа от праведного гнева. Гупта продолжал неспешно наводить порядок на своем столе, обрамленном высокими книжными шкафами. Спустя сорок полных ярости секунд — Артур сосчитал — Гупта наконец выудил из вороха бумаг желтую папку и вручил ее Артуру.
— Что это?
— Прочтите.
Тревога охватила его. Желудок как будто узнал о содержимом папки раньше, чем он сам. Артур медленно открыл папку и, щурясь, чтобы не принять весь удар сразу, пробежал взглядом по тексту.
— Вам не нужно меня увольнять. Я готов преподавать что угодно. Любой предмет. Можете платить мне гроши — я не стану обузой.
— Артур, прошу вас.
— Не увольняйте меня! Я столько сделал для университета!..
— Мы вас не увольняем. Просто мы пока не продлеваем контракт на следующий год, — сухо ответил декан.
— Прочтите статью, Сахил. «Нет видимых травм и повреждений». Парнишка цел и невредим!
— Дело не только в этом, Артур. Хотя мы, разумеется, не одобряем причинение физического вреда студентам без особой на то необходимости.
— А в чем тогда дело?
— Артур. Вы сами понимали, к чему все идет. В прошлом семестре вы вели… Сколько? Два курса? Те же деньги мы платим аспирантам. Конечно, вы знали, что так продолжаться не может. Если честно, я удивлен, что вы столько тянули…
— Я отдал годы…
— Вас взяли на временную должность.
— Столько сил вложил…
— Я ожидал от вас большего. Время и силы — это одно. Вы ведь не опубликовали ни одного научного труда, Артур! Ни единой публикации за столько лет!
— Да, я полностью посвятил себя преподаванию!
— Студенты дают вам очень низкие оценки. Признаться, Артур, я никогда не видел такого количества отзывов с одной звездой.
— Ко мне нужно привыкнуть. И что это за звездочки, в конце концов? Судьба профессуры теперь в руках восемнадцатилетних? Они пишут на нас рецензии, как на фильмы?
— Студентам очень нравится рейтинговая система. Мы стали получать гораздо больше оценок.
— Сахил. Выслушайте меня. Вы совершаете ужасную ошибку.
— Мне очень жаль, Артур. Я ничем не могу вам помочь. А в свете недавнего… инцидента… — Гупта взял со стола номер «Ди-жура» и помахал им у него перед носом. После чего произнес самые унизительные слова, на какие только способен представитель ректората: — Профессор Альтер. Мы решили, что вам пора уйти.
Артур проклял свою карьеру. Проклял университетскую политику бессрочных контрактов и годы, проведенные под ее дамокловым мечом. Проклял тонкокожее студенческое племя, которое в силу потребительского менталитета и чудовищной стоимости обучения имело одни лишь права, но не обязанности. Проклял Генриха Фергузена, нобелевского лауреата по химии и заслуженного дэнфортского профессора, который без зазрения совести и малейших последствий для репутации спал с пятерыми из шести своих ассистенток, включая собственных учениц и нанятых с улицы девушек. Проклял поставляемые в столовые суши и ортопедические матрасы фирмы «Темпур» в общежитиях первокурсников. Проклял Совет попечителей, эту шайку магнатов угольной и биотехнологической промышленности, выступающих против минимальной оплаты труда в размере пятнадцать долларов в час для работников университетского общепита, которые вставали затемно и часами добирались до кампуса с восточных окраин Сент-Луиса. Проклял лицемерное дэнфортское руководство, гордо принимавшее на работу физиков и математиков женского пола, но при этом наградившее почетным званием Филлис Шлэфли{70}. Проклял китайскую и нигерийскую элиту, платившую баснословные деньги за образование своих детей, которых зачисляли с единственной целью: чтобы их фотопортреты появились в рекламных брошюрах мультикультурного университета. Проклял заведение, уничтожившее прекрасный факультет социологии на том лишь основании, что педсостав имел «марксистские взгляды». Проклял недавно возникший «Левый Кампус» за их воинствующее скудоумие. Проклял трусость ректоров, не желающих принимать против этих идиотов никаких мер и пасующих перед любыми контактами с остальными неудобоваримыми братствами. Проклял раздутое эго Дэнфорта, его одержимость общественным мнением и пиаром. Он сыпал и сыпал проклятьями, покуда его запал не иссяк и проклинать стало некого. Артура силой вышвырнули из здания администрации и настойчиво попросили никогда не возвращаться в кампус.
Увольнение из Дэнфорта означало, что последняя надежда Артура умерла. Он покорился судьбе. Выставил на продажу дом. Через три недели его купили. К его вящему удивлению, покупатели — красивая молодая пара с тройняшками — не имели никакого отношения к университету.
— А кто они такие? — спросил Артур риелтора.
— Работают в частном секторе, — ответил тот. Пфф. Как будто это что-то объясняет.
Итан и Мэгги снова приехали из Бостона, чтобы помочь отцу с переездом и помянуть Франсин: годовщина ее смерти совпала с продажей дома. Мэгги сказала, что они приехали для «моральной поддержки» — Артур терпеть не мог это выражение. Он нуждался не в моральной, а в реальной — физической — помощи. В такие смутные времена крепкие руки ценятся на вес золота. Те коллеги, которые раньше охотно перекидывались с ним словечком, исчезли с радаров, как только до них дошли слухи о его обличительной речи в кабинете Гупты. Он не получил ни единого сообщения, ни одного приглашения обсудить случившееся за кружечкой пива. Вот еще один побочный эффект переезда: сразу видно, кто тебе настоящий друг, а кто нет.
Он попросил детей помочь ему делом — и они помогли. От их холодного профессионализма Артуру делалось не по себе. Итан и Мэгги беседовали с ним исключительно по логистическим вопросам. Простили они его или нет, все-таки они вернулись — и, наверное, за это он должен их благодарить.
Как-то раз у него закончился малярный скотч. Он пошел на звук приглушенных голосов и оказался в спальне Мэгги. Там никого не было, но с потолка спускалась лесенка с красными ступенями. Дети сидели на чердаке и оживленно что-то обсуждали.
— Я за него волнуюсь. — Голос Итана. — Как он будет жить?
— Это его проблемы.
— Мэгги…
— Понимаешь, в том-то и дело. Ты вечно ему все прощаешь. Как будто он неразумное дитя и сам не ведает, что творит. Но он — взрослый человек, Итан. Хуже того. Он — анахронизм.
— Да, согласен, он немного оторван от жизни. И что? Как ему с этим быть? Разве мы не обязаны о нем позаботиться? Убедиться, что он нормально перенесет удар?
— Лично я — нет.
— Обязана. Мы оба обязаны.
Мэгги фыркнула:
— Ну-ну.
— В какой-то момент ты просто решила, что он твой враг. Это стало твоей идеологией. Все, что не соответствует твоим представлениям о нем, ты просто отметаешь как несущественное. Но он же живой человек. Живой и непростой. А каково, по-твоему, мне? С самого детства он отдавал тебе все свое внимание!
— Что? Ты шутишь?
— Он спорит с тобой из уважения. Потому что видит в тебе достойного оппонента. А во мне… не знаю, кого он во мне видит, но уж точно не человека, которого можно воспринимать всерьез.
— Несмотря на это, ты продолжаешь его выгораживать!
— Я его не выгораживаю. Я прошу тебя подумать и вспомнить все, что он для нас сделал. Не только его пренебрежение и равнодушие, а вообще — все…
Артур стоял в дверях. Он знал, что должен тихо выйти из комнаты, но не мог. Сердце возмущенно заходилось от каждого подслушанного слова. Он все стоял, минуты шли, а он с обидой и негодованием — и с немалой долей самолюбия — слушал, как дети спорят о его вкладе в их жизнь.
На следующий день — в годовщину маминой смерти — Мэгги повела Итана в Климатрон. Они вместе прошли по садикам разных стран мира: все было в пышном цвету. Торжественно прошествовали мимо зарослей кизила под сенью дубов английского сада. Погладили «драконьи изгибы» декоративных стен в Нанкинском саду дружбы. Шли молча, дабы почтить тишиной память усопшей, но пронзительные крики детей, солнечная зелень с вкраплениями желтого, голубого и красного — все это настойчиво свидетельствовало, что здесь — место живых.
Сент-Луис в мае — это невыносимая жара, просто адское пекло. Даже в садах, где сезонную лихорадку природы немного смягчает сень деревьев, вязкий зной просачивается сквозь одежду к коже рук, ног и туловища, оставляя за собой влажные следы. Руки Итана блестели от пота, когда они проходили мимо пруда, возле которого Чарли когда-то потер его мочку. Впереди замаячил геокупол Климатрона.
Когда за ними мягко закрылись автоматические двери, Итан и Мэгги попали в другой мир. Зелень каскадами струилась с плотных зарослей по бокам от дорожки. То здесь, то там через равные промежутки времени включались автоматические генераторы тумана. Мэгги провела Итана сквозь хижину с соломенной крышей, затем мимо плиссированных листьев сейшельской пальмы и зарослей пассифлоры, перешагнула через опорные корни громадного дерева. Наконец свернула с дорожки и показала брату ручей, куда два года назад вытряхнула прах матери.
— Что, прямо в воду? — с ноткой беспокойства в голосе уточнил Итан.
Мэгги кивнула:
— Мне хотелось, чтобы она тут… циркулировала.
Итан проследил за ее взглядом до самого края купола, поднял глаза к треугольным панелям и каркасу из алюминиевых труб:
— Понятно.
Они постояли на коленях у ручья, затем нашли скамейку в ярко-зеленой роще, среди папоротников, кустов и странных скульптур Чихули. Звуки дикой природы из динамиков сливались в один протяжный крик, а брат и сестра просто сидели под ненадолго приютившим их огромным стеклянным куполом.
После продажи дома Артур закрыл кредит, а на оставшиеся деньги снял номер в гостинице «Чейз-парк плаза» и наконец смог позволить себе самую большую роскошь — время. Избавившись от дома, он испытал неожиданное облегчение, декомпрессию тревожности, как после смерти человека, много лет боровшегося с болезнью. Вдвойне приятнее становилось от осознания, что больше не надо читать лекции, ходить на собрания: отныне он свободен от всех прелестей университетской жизни.
Его номер в «Плазе» был меблирован, мини-бар забит под завязку, и каждое утро он завтракал в «Чейз-клабе». Вестибюль отеля заменил ему гостиную, бассейн — ванную. Он стригся и брился в гостиничной парикмахерской, где женщина в укороченном топе с неприлично притягательным пупком укладывала горячее полотенце ему на лицо, а в руку вставляла стакан с холодным виски. Он провел в гостинице четыре чудесные недели. А потом пришел ежемесячный счет — и стресс вернулся. Люди его возраста были своего рода пионерами — первым поколением мужчин, стабильно доживавших до восьмидесяти и девяноста лет. На что он будет жить все эти годы?
Район сильно изменился с тех пор, как Артур переехал в Сент-Луис. Новый Сентрал-Уэст-Энд с его водка-барами, круглосуточными службами доставки печенья, арт-галереями и магазинами повседневной одежды спортивного стиля был целиком ориентирован на возмутительно молодую и незаслуженно богатую аудиторию. Артур наблюдал за ними из окна, словно горбун с колокольни. Студенты университетов и востребованные молодые специалисты. Все они без конца что-то покупали. Что-то ели. Ну не могут же они целыми днями только этим и заниматься, думал Артур. Должно быть в жизни человека что-то еще! Его трясло от презрения. А порой, проявляя недюжинную благосклонность, он прощал людям их консюмеризм и винил во всем систему, поощряющую подобное поведение. В такие дни он гадал, каково приходится молодым и преуспевающим в Америке.
Вернувшись в Риджвуд, Мэгги продолжила работать с мальчиками Накахара, но летом те чувствовали себя неприкаянными. Она занимала их, как могла. Они ели пиццу в переоборудованном гараже в Бушвике и гуляли по кладбищу Маунт-Хоуп в Глендейле. Дважды пытались поехать на Кони-Айленд, но оба раза поездка срывалась по независящим от них причинам. Сперва электричку остановили из-за того, что какому-то пассажиру стало плохо. На следующей неделе на путях что-то загорелось.
Когда в Нью-Йорке наконец легализовали смешанные единоборства, Бруно упросил Мэгги сводить его на бои.
— Ну пожалуйста, Мэгги, пожалуйста-пожалуйста! Что, блин, за лето! Мы скоро подохнем от скуки!
— Не выражайся. Деньги в банку. Сейчас же.
— Вообще, он прав, — добавил Алекс. — Мне тоже не хватает какого-то стимула в жизни.
В августе она сдалась и перепрофилировала банку в культпоходный фонд. Получив разрешение Оксаны (и загадочный кивок от ее мужа-японца), Мэгги повела мальчиков в «Барклайс-центр». В тот вечер им без конца попадались строительные и дорожные работы: казалось, весь Бруклин решили перестроить. Огромные пласты асфальта разбивали отбойным молотком в щебень. Тракторы без водителей отбрасывали зловещие тени на огороженные лентой участки. Над многоквартирными домами средней величины, впиваясь когтями в темно-синее небо, возвышались подъемные краны. Выйдя из метро, мальчики разинули рты и медленно, завороженно двинулись в сторону спортивной арены с зависшим над ней огромным сияющим пончиком.
Места у них были на галерке, головокружительно высоко и далеко от самой арены. Мэгги окинула взглядом толпу. Она почти целиком состояла из… мужчин, от одного взгляда на которых в голову приходил вопрос: чем отличается скинхед от обычного лысого дядьки с наколками? Узнавать не очень-то и хотелось. Слишком много тестостерона в одном помещении. Это скопище самцов, казалось, и так было на грани.
Впрочем, Бруно и Алекс прекрасно проводили время, и окружение их ничуть не смущало. С такого расстояния они не могли ничего увидеть внизу и поэтому уставились на гигантский дисплей, когда по ярко освещенному проходу зашагал первый боец, широкоплечий белый мужик. Под бурные овации зрителей он стянул с себя футболку и шагнул на огороженную сеткой арену. Удары бас-барабана огласили трибуны, после чего пропитанный антигистаминным и «спрайтом» голос принялся читать рэп. В этой композиции Мэгги наконец признала саундтрек с той вечеринки по случаю дня рождения Эммы. У второго бойца была темная кожа и борода. Он двинулся на арену с противоположного выхода, и всю дорогу публика нещадно его освистывала. Он высунул язык, ухмыльнулся зрителям и принялся размахивать красным флагом в такт замиксованным берберским барабанам.
Ведущий с мелированной прической долго представлял бойцов: откуда они родом, сколько весят, сколько боев выиграли и проиграли.
— Хороший урок о том, как живут «другие», — прошептала Мэгги мальчикам. — Точнее, плохой.
Те ее не услышали, слишком были увлечены зрелищем. Она наблюдала, как они кричат и ликуют, взбудораженные донельзя, и вдруг до нее дошло: скоро они вырастут и она будет им не нужна. Мэгги промокнула глаза футболкой.
Бруно пихнул ее в бок:
— Все норм?
— Ага. — Она поморщилась. — Все супер!
Мэгги медленно откинулась на спинку сиденья и стала не без удовольствия смотреть, как бойцы лупят друг друга.
В сентябре отмечал бар-мицву Эзра Голдин. Семья пригласила на праздник триста гостей. Артура среди них не было.
Мэгги не могла обойтись без спутника, а Итан в таких вопросах доверия не заслуживал. Хоть брат и клялся, что приедет, в последний момент он запросто мог остаться дома, бросив ее на произвол судьбы — бродить в гордом одиночестве по минному полю дома Голдинов, возмущаясь неприкрытому обжорству и непрошеным карьерным советам. В конце концов она решила взять с собой Майки. Не в качестве парня — она ясно дала это понять, — а в качестве друга. Она осознала, что все эти годы была к нему несправедлива. Его политические взгляды далеки от идеала, кто бы спорил, но над ними ведь можно поработать. Главное, что он хорошо к ней относится. Он за нее горой, а это дорогого стоит.
Бекс встретила Мэгги у входа в святилище — «Чмок, чмок, ты восхитительна!» — а Леви подверг Майки энергичному рукопожатию. Голдины явно решили блеснуть: патриархи обменивались поцелуями, как мафиози, на женских плечах красовались норковые манто. Мэгги села с Кляйнами, которые нервно ерзали в своих талесах и без конца заглядывали в телефоны — проверить, как играют «Джетс». Прочие прихожане, не имевшие отношения к вышеупомянутым семьям, усаживались куда придется и молились в собственном темпе.
Предполагалось, что Эзра разделит праздник со своим одноклассником, но Леви недавно подарил синагоге новую Тору, и раввин на неделю перенес церемонию второго мальчика. Эзра теперь торопливо читал текст со свитка, давая петуха на древних кантилляциях. Мэгги не понимала эти напевы, но они, теплые и хорошо знакомые, окутывали ее подобно одеялу и убаюкивали. Когда она очнулась, сестринство синагоги уже вручало Эзре серебряный бокал для кидуша, а на коленях у нее лежали три леденца «Санкист фрут джемс» в индивидуальной упаковке. Хруст целлофана огласил зал, и сотни леденцов взлетели в воздух. Мэгги бросила свой с излишним рвением; через долю секунды Эзра завопил: «Блин! Мой глаз, блин!» Майки с укором взглянул на Мэгги.
— Не смотри на меня так! — прошептала она. — В расстрельной команде виноваты все.
Когда служба подошла к концу, раввин начал вести молитву. Он благословил Эзру, после чего призвал всех присутствующих благословить Вооруженные силы США и Армию обороны Израиля. Мэгги возмущенно поджала губы и не проронила ни слова.
Затем все встали и прочли кадиш, гимн смерти. Тех, кто нес траур по недавно усопшим, после кадиша попросили не садиться, чтобы остальные увидели скорбящих в своих рядах. Мэгги не села. Она приподнялась на цыпочки и поискала взглядом брата, но его не было в зале.
Вечером, перед праздничным ужином в гостинице «Тинэк Мариотт», Мэгги подошла к Майки. На ней было голубое приталенное платье с пышной юбкой и кашемировая шаль, которую он подарил ей еще в университете.
За последние месяцы она набрала несколько фунтов и радовалась этой новой плотности своего тела. Приятно было вновь крепко стоять на ногах. Она оплакивала мать бесконечно долго, голодала в знак протеста, смысл которого теперь от нее ускользал, и в итоге сильно подорвала здоровье. Пришла пора всерьез взяться за свою жизнь.
Совершенно независимо от нее Майки начал какие-то нелепые домашние тренировки, популяризованные ультраконсервативным спикером палаты представителей конгресса. Он выглядел подтянутым и элегантным: однотонный темно-серый костюм (купленный после того, как Мэгги запретила ему даже думать о тонкой полоске), светло-голубая рубашка, красный галстук и запонки.
— Ну, идем, — сказала она и поспешила к банкетному залу.
Для своих детей Бекс не жалела ничего. После церемонной утренней службы в синагоге гостям предлагалось окунуться в атмосферу тель-авивского ночного клуба. Вестибюль тонул в неоновом сиянии красных и голубых светодиодных лент. Посередине возвышалась колоссальных размеров барная стойка, на которой сверкала хрустальная пирамида из перевернутых бокалов для мартини.
— В этой сцене, — сказала Мэгги, — в ворота должна вломиться разъяренная беднота, и мы все получим по заслугам.
Две девицы на ходулях в переливающихся блестками костюмах проводили их ко входу в банкетный зал. Мэгги сразу заметила за столиком у бара (на котором стоял вытесанный изо льда бюст Эзры) знакомый силуэт: торчащие вверх напряженные и сутулые плечи, опущенная голова.
— Итан! — крикнула она и пояснила для Майки: — Это мой брат. Пойду поздороваюсь. А ты пока стой здесь.
Она подбежала к Итану и обняла его. Нос брата приобрел прежнюю форму, лишь во внутренних уголках его глаз до сих пор лежали едва заметные темные тени.
— Отлично выглядишь, — сказала она.
— Спасибо. — Он залпом прикончил свой напиток.
— Что это?
Итан покрутил в руках стакан:
— Содовая. Пытаюсь избавляться от вредных привычек.
Мэгги кивнула. Сверкающие девицы на ходулях прошествовали в зал и стали фотографироваться с гостями.
— Слушай, а утром тебя почему не было?
— Вообще-то, я почти передумал приходить… Понятия не имею, как разговаривать с этими людьми. Мне тридцать один. Я безработный и нищий.
— У половины присутствующих есть долги, — сказала Мэгги, — и покрупнее твоих. Они же как-то научились с этим жить.
— Не с этим, а вопреки.
— Жить, положив на это большой и толстый.
— Возможно, ты права.
Мэгги кивнула:
— Спасибо, кстати, что не просишь помочь тебе деньгами.
Итан засмеялся:
— Я бы не посмел.
Мимо, проливая ярко-красные безалкогольные коктейли, пронесся табун подростков: они преследовали мальчишку, который стащил у какой-то девицы туфли на каблуках.
— Я решила получить еще одно образование, — сказала Мэгги.
— Да ладно. Какое?
— Хочу быть учителем. Средней школы, наверное. В некоторых штатах для этого достаточно иметь степень бакалавра.
— Ты уедешь из Нью-Йорка?
— Да. Надоел он мне. Слишком все дорого.
Итан склонил голову набок.
— Чтобы жить на Манхэттене, нужно быть олигархом, — продолжала она. — И потом, я не хочу смотреть, как Бруклин застраивают небоскребами.
— Куда поедешь?
— В Вермонт. Такой пока план.
Итан кивнул:
— Я тоже думал поучиться.
— Серьезно?
— Ага… Точнее, уже все придумал. И поступил.
— Ого! Итан! Куда? На какую специальность?
— В Институте Пратта есть магистратура по дизайну интерьеров. Получу степень магистра изобразительных искусств.
— Ну да, ведь такие специалисты очень востребованы на рынке труда.
— Смешно. Папа сказал ровно то же самое.
Мэгги закатила глаза:
— Подумаешь.
— Квартиру придется продать, — сказал Итан.
— А где будешь жить?
— Устроюсь в общагу советником-консьержем. Буду присматривать за студентами, а за это мне предоставят комнату.
— Ты же понимаешь, что тебе придется не только за ними «присматривать»?
— Понимаю.
— Придется решать все их мелкие проблемы и…
— Я это понимаю, Мэгги. Понимаю.
Дымчатый свет приобрел насыщенный сиреневый оттенок. Мимо прошел человек в смокинге: он нес в руках деревянный брусок, к которому были примотаны три металлических колокольчика. Он ласково стучал по ним молотком и говорил:
— Дамы и господа! Приглашаю вас пройти со мной в главный зал.
— А этот разве не главный? — удивился Итан.
— Займи мне место, — сказала Мэгги. — Два.
Она отправилась на поиски Майки и нашла его в обществе тарелки, полной японской еды.
— Представляешь, встретил в туалете ребят с работы, — сказал он с набитым ртом. — Они там элитный кокаин нюхали, судя по всему. Как тесен мир, а?
— Слишком тесен. Ну, идем искать наш столик.
На потолок банкетного зала проецировалось начертанное курсивом имя Эзры. На ламинате танцпола тряслись аниматоры в диско-жилетах. С одной стороны танцпол ограничивало стадо белых кожаных диванчиков, а на противоположном конце зала два бармена в разноцветных бликах стробоскопа ловко разливали напитки. Над ними, на высокой платформе, разместились диджей, скрипачка и саксофонист. Гремела ритмичная электронная музыка. Над басами шипели и искрились голоса гостей.
Мэгги пробралась сквозь толпу и нашла своего брата за длинным столиком. Представила его Майки.
— Наконец-то познакомились, — сказал Итан.
— Ага. Мэгги столько о тебе рассказывала!
Музыка стала громче: зазвучал гимн Израиля с наложенным поверх битом и синтезатором. Ведущий включил микрофон на своей гарнитуре и принялся гавкать на гостей:
— Габы и господа, гальчики и гевочки, — кричал он. — Прошу всех на танцпол! Да-да, пора танцевать хору!
Танцующие быстро построились в круг. Леви подошел к племяннице и племяннику, выдернул из-под них стулья и вытолкал их на танцпол. В ту же секунду их затянуло в хоровод, завертевшийся подобно маховому колесу вокруг виновника торжества. С потолка посыпались долларовые банкноты: они парили в воздухе, точно конфетти, медленно оседая на пол. Мэгги присмотрелась к бумажкам и увидела, что на них изображен портрет Эзры. Вскоре она потеряла из виду и брата, и Майки. В хороводе кружились уже все собравшиеся: старики, дети, дальние родственники и партнеры по бизнесу. За несколько мгновений до того, как Эзру усадили на стул и понесли над головами обожаемых родных и близких, Мэгги — положив руки на плечи двух воротил из мира коммерческой недвижимости — вдруг почувствовала, как отрывается от земли.
Праздник заставил Мэгги задуматься. О деньгах. Она бы никогда не стала вести такой образ жизни, какой вела дядина семья. Но и мысль, что мамино наследство лежит мертвым грузом в холодном банковском хранилище, не принося никому пользы, тоже ее не радовала. Впрочем, оно там не просто лежит, верно? Деньги крутятся, множатся и успешно инвестируются ребятами вроде тех любителей кокса с работы Майка, на бешеной скорости проносясь по условным коридорам международной коммерции.
Идея «фиктивного капитала», насколько Мэгги ее понимала, вызывала у нее стойкое отторжение. Особенно бесило слово «фиктивный». Получается, те, кто у руля, просто все выдумывают? Прямо на ходу? («Экономика, — вспомнила она слова одного престарелого дэнфортского профессора, — это фикция. Вопрос толкования. Экзегеза».) Мэгги не находила себе покоя. Чем дольше мамино состояние обреталось в сфере воображаемого, тем дольше на нем наживались люди куда более ушлые, чем она. Раз уж деньги остаются при ней — пока она не отказалась от них окончательно, — пусть они лучше существуют в реальном мире. В материальной сфере. Нет, Мэгги не собиралась вступать в ряды безумцев-палеоконсерваторов, выступающих за возвращение к золотому стандарту и прочим истокам. Но впервые в жизни она осознала, что ее пониманию доступно далеко не все.
В октябре она получила положительное решение от комитета по образованию штата Вермонт. Учеба начиналась весной. Согласно принятому решению Мэгги ликвидировала траст и купила десять акров земли под Вудстоком, штат Вермонт, на холме под названием Хармони-Ридж. На этой территории расположились двухэтажный дом с тремя спальнями и двумя ванными, меблированный амбар, уличный туалет в деревенском стиле и пятиакровое пастбище с навесом для лошадей.
Прежде чем переехать на север, она отложила небольшую сумму, которой ей должно было хватить на год жизни до получения учительской лицензии, а оставшиеся деньги пожертвовала службе медицинской помощи студентам Дэнфорта. Деньги она перевела от имени матери, с припиской, что они должны обязательно пойти на помощь студентам с анемией и психическими заболеваниями. Она знала, что медицинской службе не хватает финансирования. Раз университет не желает выделять деньги на здоровье своих учащихся, об этом должны позаботиться частные спонсоры. «Используйте средства так, как сочтете нужным, при условии соблюдения вышеуказанных требований, — написала она. Ей понравилось, как важно и тяжеловесно звучали эти слова. — Если вы не найдете деньгам достойного применения, рекомендую нанять квалифицированных постоянных сотрудников». Наверняка в Дэнфорте немало студентов, рассудила Мэгги, чью жизнь может спасти такой человек, как ее мать.
Купленное имение оказалось очень большим, и управиться с ним в одиночку она не могла, а скоро ей и вовсе предстояло целыми днями пропадать на учебе. Мэгги наняла местного бродягу в дырявых «биркенстоках» по имени Бо. У Бо не было ни мобильного, ни иных средств связи (он не хотел, чтобы его прослушивали спецслужбы), так что поговорить с ним получалось, только пока он находился на рабочем месте.
Мэгги и ведать не ведала, что однажды станет чьим-то начальником. Теперь же она твердо решила быть добрым работодателем, таким, которого полное и безоговорочное послушание только смущает, а не радует. Ей хотелось править легко и непринужденно. Демонстрировать подчиненному не ежовые рукавицы, а либерально оттопыренный вверх большой палец. На практике все вышло иначе. Бо оказался ненадежным работником, а дел было невпроворот. Счета, поваленные деревья, нашествие термитов. Сломанный бойлер, слабый напор воды. Да мало ли что могло случиться на такой огромной площади! В конце ноября молния ударила в сахарный клен во дворе. Он упал и раскурочил канализационную трубу, шедшую от дома к септику. На следующий день Бо позвонил Мэгги.
— Тут настоящая катастрофа, — равнодушным, ничуть не обеспокоенным тоном произнес он. — В траве пузырятся фекалии. Может, вызвать профессионалов? Пусть посмотрят?
— Хмм. — Мэгги задумалась и провела рукой по рыжим кудряшкам. — Нет, — наконец сказала она. — Кажется, я знаю, кто сможет все исправить.
Артур прибыл в Хармони-Ридж ветреным декабрьским вечером: из единственной серой тучи, припорашивая имение его дочери, падал снег. «Сперо» медленно ползла вперед, фары выхватывали из темноты лишь несколько футов дороги. Артур поднимался по склону, ориентируясь на низкий каменный забор с двух сторон. Когда забор кончился, а дорога впереди слилась с полем — все кругом накрыло коварное белое одеяло, — Артур поехал просто на свет венецианских окон гигантского дома и неверное сияние уличных фонарей на каменном фасаде. Наконец он остановил машину и вырубил двигатель. Немного посидел в салоне просевшего автомобиля. Багажник был под завязку набит сумками и завернутыми в пузырчатую пленку хрупкими вещами. Тепло потихоньку выветривалось из машины, внутрь просачивался холод. Артур вновь переоценил свои силы: после девятнадцати часов в пути он не мог пальцем пошевелить от усталости. Между лобовым стеклом и приборной доской лежал пустой бумажный пакет в жирных пятнах. Артур купил в Колумбусе картошку фри и всю дорогу только ею и питался. Поначалу он был даже горд собой: картошка приятно напомнила о том, сколь малым он может довольствоваться, но теперь желудок урчал от дичайшего голода.
Уехать из Сент-Луиса оказалось проще, чем он думал. Поводом для тревог должно быть будущее, а не прошлое. Что толку тратить время на пустые сожаления? Если он станет зацикливаться на том, что оставляет позади — не только дом, но и эти коварные, незаметно проникающие в подкорку американские ценности: статус и финансовая стабильность, гордое владение недвижимостью, надежды на успешную карьеру, — он непременно кончит так же, как отец. И все же Артуру было трудно смотреть на этот уединенный сельский особняк и сознавать, что он принадлежит его дочери, а у него самого нет за душой ничего, кроме содержимого «сперо». В конце концов, это ведь обычное дело: стареющий отец приезжает жить к своей взрослой дочке. Но разве у таких отцов по-прежнему ясный и трезвый ум? И разве они должны работать за еду и крышу над головой? Артур взял себя в руки и вышел на мороз.
Мэгги открыла дверь. Она была в черных леггинсах, шерстяных носках и длинном растянутом свитере.
— Папа! — воскликнула она, обнимая его. — Я уж думала, тебя снегом занесло по дороге!
— Шоссе Ай-девяносто в такую погоду — гиблое место.
— Да, да. Ну, проходи.
Он вошел в дом.
Гостиная была просторная, с высокими потолками. Лакированные деревянные бревна в сучках и неровностях обрамляли каменные стены.
— Пару идей Итан подкинул, — сказала Мэгги, кивнув на черную кованую люстру, и провела отца в смежную столовую. — Завтра устрою тебе большую экскурсию. Ты увидишь, что основная проблема здесь — это септик. Он древний. Но и других хлопот хватает. Поваленные деревья — это меньшее из зол, тем более сейчас, зимой. Кстати, как ты относишься к лошадям? Я пока только подумываю…
Ему стало дурно от этого нарочитого изобилия и достатка. Дом был слишком большой, Артурово положение в нем — слишком шаткое, вся ситуация — слишком странная. Он не ожидал, что Мэгги купит себе такое помпезное жилище и запросто в нем устроится. Она явно чувствовала себя как дома.
— Немного… перебор, не находишь? — спросил он.
— Обычный фермерский дом.
— Скорее, лыжная база.
Мэгги улыбнулась:
— Ты будешь жить в амбаре.
— Как скотина.
— Ничего подобного. Там есть мебель и отопление. Полотенца, постельное белье — я все принесла. Вот увидишь, так будет лучше, это фактически отдельное жилье. Пойдем, помогу тебе устроиться.
Они снова вышли в прихожую. Артур увидел на полу мокрые коричневые следы, оставленные его скрипучими кедами.
— Мэгги.
— Что?
Тогда он посмотрел ей в глаза — кажется, впервые за много лет, впервые с тех пор, как она была ребенком, бьющимся в истерике и беззащитным. Он открыл было рот, но не смог выдавить ни звука.
— Ладно, не важно. Ни о чем не волнуйся, хорошо? — сказала Мэгги. — Обживайся. Устраивайся поудобнее.
Артур кивнул и вышел в снежную бурю.
Добрел до машины, открыл багажник, взвалил на правое плечо тяжелый баул. Чтобы перетащить в дом все вещи, придется сделать три-четыре ходки к машине — если, конечно, не набрать сразу побольше сумок. Артур наклонился и взвалил на левое плечо второй баул. Колени едва не подогнулись, но все же выдержали. Бедра затряслись от напряжения. Он увидел на другом конце поля амбар и двинулся к нему. Шаг, еще шаг… Артур шел медленно и упрямо. Тащил свои пожитки сквозь темноту. Снежинки застревали и скапливались в волосах.
Амбар был построен в том же стиле, что и дом, из отполированных узловатых бревен. Одна огромная комната — словно перевернутый корпус судна. Ручки сумок больно впивались в плечи. Тусклые ретролампы Эдисона указали ему путь к большой кровати с кованым изголовьем, стоявшей впритык к дальней стене.
«Устраивайся поудобнее». Какая меткая характеристика этой поры его жизни! Лучший призыв к капитулянту. Но нет, он не таков. Он не поддастся соблазну, не покорится комфорту и изобилию. По крайней мере, не сейчас. Сперва нужно вернуть кое-какие долги.
Лишь поставив сумки на пол, потянувшись и сев на край кровати, Артур увидел, что́ Мэгги оставила ему на подушке. Книгу. В твердом красном переплете, с его именем на обложке. Артуру стало нехорошо. Раньше при виде этого томика он успокаивался и млел, но сейчас его бросило в липкий и колючий жар. Щеки вспыхнули. Он торопливо запихнул книгу в ящик прикроватной тумбочки.
Пять месяцев спустя, на третью годовщину смерти Франсин, к ним приехал на автобусе Итан. Он спал в гостевой комнате, дизайн которой разработал сам, на большой кровати, амбициозно предназначенной для двоих. На тумбочке стояла фотография, 35-миллиметровый слайд которой он нашел на чердаке сент-луисского дома: Франсин на больничной койке в ореоле темно-рыжих волос. На руках у нее — извивающийся розовый младенец. Артур, в голубом медицинском халате, пригнулся, чтобы поместиться в кадр, и держал одну руку в резиновой перчатке на плече новорожденного Итана.
Там, где нет цивилизации, ее приходится изобретать. В деревенской глуши, среди пастбищ и покрытых молодой листвой кленов, Альтеры нащупывали путь к новому семейному устройству. Тем вечером они собрались у костра, разведенного на полянке за домом. Когда пламя начало затухать, Итан предложил сходить за растопкой. Артур покачал головой, достал из кармана красную книжку и без лишних раздумий бросил ее в огонь. Их костер под пасмурным небом был единственной точкой света на многие мили вокруг.
От автора
Автор выражает признательность
Эрин Сэллерс, Оливеру Мандею, Николасу Томпсону, Питеру Мендельзунду, Дженнифер Олсен, Сонни Мехта, Дэну Фрэнку, Михалу Шавиту, Ане Флетчер, Питеру Штраусу и Эллисон Лорентцен
за помощь в создании и подготовке этой книги.
Комментарии Е. Романова
1
Принцип jus soli — правило, по которому гражданство ребенка определяется по месту его рождения. Согласно 14-й поправке к Конституции США, принятой в 1868 году, «все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают».
(обратно)2
Речь идет о компьютерной проблеме, связанной с тем, что разработчики некоторых программ использовали два знака для обозначения года в датах. Таким образом, 00 год интерпретировался старыми программами как 1900 год, что могло привести к серьезным сбоям в работе систем управления технологическими процессами и финансовых программ.
(обратно)3
Бессрочный контракт (tenure) — разновидность договора между представителем профессорско-преподавательского состава и высшим учебным заведением, предусматривающая пожизненное занятие должности при вузе. Младшие преподаватели работают только по временным контрактам.
(обратно)4
Стиль крафтсман был особенно популярен в США в начале XX века. Такие дома строились исключительно из натуральных материалов (камень, дерево, черепица), имели невысокую многоскатную крышу с широкими свесами, конические колонны, деревянные декоративные элементы (наличники, балки, карнизы), каменные дымоходы и открытую террасу.
(обратно)5
«AmeriCorps» (по аналогии с «Peace Corps» — «Корпус мира») — волонтерская программа в США, учрежденная в 1993 году президентом Биллом Клинтоном. Молодые люди от 18 до 24 лет (целевая аудитория программы) на добровольных началах принимают участие в решении проблем в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды и т. д., получая за это либо небольшую заработную плату в размере прожиточного минимума, либо денежное возмещение расходов на жилье, либо частичное списание задолженности по кредиту на образование.
(обратно)6
Бедфорд-Стайвесант (сокращенно — Бед-Стай) — район на севере Бруклина. Большая часть населения представлена афроамериканцами и потомками приезжих из стран Карибского бассейна, в том числе Гаити.
(обратно)7
Франсуа-Доминик Туссен-Лувертюр (1743–1803) — лидер Гаитянской революции, в результате которой Гаити стало первым независимым государством Латинской Америки.
(обратно)8
Андерсон Купер (р. 1967) — американский журналист и популярный телеведущий, главный ведущий новостного шоу на канале CNN «Андерсон Купер 360».
(обратно)9
Лицо со Шрамом — кубинский гангстер, главный герой одноименного фильма Брайана де Пальмы, выпущенного в 1983 году; его роль исполнил Аль Пачино. Фильм представлял собой осовремененный римейк одноименной картины Джона Хоукса (1932). У Ридкера же имеется в виду одноименная кукла-марионетка, вместе со своим хозяином Чревовещателем выступающая антагонистом Бэтмена в комиксах вселенной DC.
(обратно)10
В «Алхимии финансов» (1987) Джордж Сорос раскрывает свои секреты игры на бирже и дает анализ общественно-политических событий 1985–1986 годов. Книга «Слово в защиту Израиля» (2003) профессора Гарвардского университета Алана Дершовица посвящена разбору наиболее часто встречающихся обвинений в адрес Израиля (автор доказывает несостоятельность каждого из них).
(обратно)11
Маккабиада — международные спортивные соревнования по образцу Олимпийских игр, которые раз в четыре года проводятся в Израиле Всемирным спортивным обществом «Маккаби».
(обратно)12
Чартерная школа — бесплатная муниципальная школа, которая работает по контракту или «чартеру». Как и обычная школа, она финансируется государством, но привлекаются и частные средства.
(обратно)13
Лайф-коучи ставят своей целью помогать обучающимся достигать неких жизненных или профессиональных целей посредством реализации их скрытых ресурсов и потенциала. Нью-Эйдж (New Age) — общее название совокупности различных мистических течений и движений оккультного и эзотерического характера. Нью-эйдж-организации нередко позиционируют свои учения не как религиозные, а как культурологические, оздоровительные, образовательные или спортивные.
(обратно)14
Диваны «честерфилд» имеют простеганную спинку, закрученные в верхней части подлокотники одной высоты со спинкой и небольшие ножки.
(обратно)15
Цифровые гуманитарные науки — область знаний, созданная на стыке компьютерных и гуманитарных наук. Целью исследований в данной сфере считается сохранение культурного наследия с помощью компьютерных технологий.
(обратно)16
Альфред Чарльз Кинси (1894–1956) — американский биолог и сексолог, профессор энтомологии и зоологии, основатель института по изучению секса, пола и воспроизводства при Индианском университете, носящем сейчас имя Кинси. «Отчеты Кинси» («Половое поведение самца человека» (1948), «Половое поведение самки человека» (1953)) рассматриваются многими как пусковой механизм сексуальной революции 1960-х годов и до сих пор остаются одними из наиболее продаваемых естественно-научных книг всех времен.
(обратно)17
1 июля 1997 года в рамках деколонизационного процесса Великобритания передала суверенитет над Гонконгом Китаю. С тех пор в этот день в городе ежегодно проходят массовые демонстрации.
(обратно)18
Клейдесдаль — порода ломовых лошадей. Некоторые из самых известных представителей породы принадлежат пивоварне «Будвайзер» и стали международным символом этой марки.
(обратно)19
Миззу (разг.) — Миссурийский университет в городе Колумбия, штат Миссури.
(обратно)20
Средний Запад — регион, состоящий из 12 штатов в центральной и северо-восточной части США: Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная Дакота, Огайо, Южная Дакота и Висконсин.
(обратно)21
«Гало» — научно-фантастическая компьютерная игра в жанре шутера от первого лица.
(обратно)22
Ворота Запада (часть Джефферсоновского национального мемориала) были спроектированы финско-американским архитектором Ээро Саариненом в 1947 году и построены в 1963–1965 годах. При высоте 192 м (и такой же ширине основания) являются самым высоким памятником на территории США.
(обратно)23
Слово pierogi (пироги) в английском языке обозначает «вареники».
(обратно)24
Кок-о-вен (фр. coq au vin, петух в вине) — классическое блюдо французской кухни из курятины, тушенной в вине.
(обратно)25
Шива — в иудаизме основной период траура по усопшему, длящийся семь дней со дня похорон. Кугель — традиционное блюдо еврейской кухни, представляющее собой запеканку из лапши, которое может быть как основным блюдом, так и десертом (существует картофельный, мясной, свекольный, яблочный кугель и т. д.).
(обратно)26
Аггада — талмудическая литература, содержащая религиозно-этические притчи, афоризмы, легенды и т. п.
(обратно)27
«Ратскеллер» — популярный бостонский рок-клуб, существовавший с 1974 по 1997 год, где на заре своей славы выступали такие группы, как Cars, Pixies, Police и Metallica. «Барнс энд Ноубл» — крупнейшая в США сеть книжных магазинов.
(обратно)28
Имеется в виду стихотворение «What is Africa to me?» (досл.: «Что для меня Африка?») Каунти Каллена (1903–1946), американского чернокожего поэта, писателя и переводчика, представителя культурного движения под названием «Гарлемский ренессанс».
(обратно)29
Аллюзия на песню американского композитора и музыкального исполнителя Стивенса Стиллза (р. 1945) «Love the One You Are With» («Полюби того, кто рядом с тобой», 1970).
(обратно)30
Поднятие (заклинание) змей — религиозный обряд, практикуемый в некоторых церквях США, во время которого проповедники берут голыми руками ядовитых змей, вешают их себе на шею, пьют змеиный яд и призывают прихожан следовать их примеру.
(обратно)31
«Шугар» переводится с английского как «сахар», «Блессинг» — «благословение», «Гудлайф» — «хорошая, праведная жизнь».
(обратно)32
«Опус деи» (лат. Opus Dei — Дело Божие) — религиозная организация в структуре католической церкви, возглавляемая прелатом, «тайный орден», якобы не только осуществляющий миссионерскую деятельность, но и преследующий политические цели. Сторонники различных теорий заговора считают, что организация привлекает к своей деятельности влиятельных фигур, делая их «агентами Ватикана».
(обратно)33
Исход 17: 15.
(обратно)34
Аллюзия на стихотворение английского поэта Роберта Геррика (1591–1674) «Девственницам: спешите наверстать упущенное» и картину художника Джона Уильяма Уотерхауса (1849–1917) «Срывайте розы поскорей!».
(обратно)35
«Ад — это другие» (фр.) — цитата из пьесы «За закрытыми дверями» французского философа и писателя Жан-Поля Сартра (1905–1980), ставшая известным афоризмом.
(обратно)36
Фредерик Ло Олмстед (1822–1903) — американский ландшафтный архитектор и журналист, главный архитектор нью-йоркского Центрального парка.
(обратно)37
Верхний полуостров — северная и малозаселенная часть штата Мичиган, отделенная от южной части озерами и проливом. До постройки мостов Верхний полуостров в зимний период оказывался фактически отрезан от мира. Около 15 % населения имеют финские корни.
(обратно)38
Популярная песня американского музыканта Чака Берри (1926–2017), одного из родоначальников рок-н-ролла; сингл вышел в марте 1958 года.
(обратно)39
Автояйца (truck nuts) — популярный в некоторых штатах автомобильный аксессуар в виде подвешиваемой к заднему бамперу пластиковой мошонки.
(обратно)40
Тарелка для Седера — в иудаизме пасхальная тарелка с шестью делениями, на которую кладут продукты, имеющие символическое значение. Гостия — тонкие пресные лепешки, употребляемые по католическому и протестантскому обряду для причащения.
(обратно)41
Фрито-пай — популярное в США блюдо, состоящее из кукурузных чипсов марки «Фритос» и различных добавок: мяса, сыра, лука, риса, перца халапеньо и т. д.
(обратно)42
«Богема» («The Rent», 1996) — бродвейский мюзикл Джонатана Ларсона, получивший Пулицеровскую премию и премию Тони. Основан на одноименной опере Джакомо Пуччини. Некоторые из главных героев мюзикла больны ВИЧ.
(обратно)43
«Синими воротничками» называют представителей рабочих специальностей, занятых в промышленной и производственной сфере.
(обратно)44
Имеется в виду песня американской блюзовой певицы Люсиль Боган (1897–1948) «Barbeque Bess».
(обратно)45
Джексон Поллок (1912–1956) — один из влиятельнейших американских художников, идеолог абстрактного экспрессионизма. Работал в уникальной технике: расстилал огромные холсты прямо на полу и разбрызгивал на них краску с кистей.
(обратно)46
Плантарный фасциит (пяточная шпора) — заболевание, основным симптомом которого является сильная боль в пятке, возникающая при нагрузке.
(обратно)47
Димбо-риддим (dembow riddim (от англ. rhythm, ритм)) — разновидность риддима — инструментальной версии песни, присущей ямайской музыке и различным стилям музыки стран Карибского бассейна. Риддимы обычно состоят из партии ударных и повторяющейся басовой партии.
(обратно)48
Боковой амиотрофический склероз (болезнь моторных нейронов) — редкое, медленно прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание ЦНС, приводящее к параличам и последующей атрофии мышц. Данным заболеванием страдал известный физик-теоретик Стивен Хокинг (1942–2018).
(обратно)49
Шорт-стоп — в бейсболе игрок, который страхует вторую и третью базу.
(обратно)50
Томас Гарт Бентон (1889–1975) — американский художник. Одна из самых известных его работ — серия из 13 фресок для Капитолия штата Миссури со сценами основания и истории штата.
(обратно)51
Ид (лат. id, рус. «оно») — термин в психоанализе, введенный Зигмундом Фрейдом, — бессознательная часть психики, совокупность инстинктивных влечений человека.
(обратно)52
«Конститьюшен» — старейший парусный корабль в мире из находящихся на плаву, до сих пор числится в боевом составе американского флота. В настоящее время находится в гавани Бостона, по нему проводятся экскурсии. Одна из шестнадцати точек на исторической Тропе Свободы. Юкер — популярная в США XIX века карточная игра со взятками. Сейчас в нее играют главным образом на Среднем Западе.
(обратно)53
Для третьего типа шкалы степеней облысения Гамильтона-Норвуда характерно прогрессирование залысин в височно-лобной области.
(обратно)54
Беррес Фредерик Скиннер (1904–1990) — американский психолог, изобретатель и писатель, один из самых влиятельных психологов середины XX века, внес значительный вклад в развитие и популяризацию бихевиоризма. Вильгельм Вундт (1832–1920) — немецкий врач, физиолог и психолог, один из отцов современной психологии. Эрик Эриксон (1902–1994) — эмигрировавший из Австрии в США психолог и психоаналитик, известный прежде всего своей теорией стадий психосоциального развития. Автор термина «кризис идентичности».
(обратно)55
Щит с логотипом нефтяной компании «Ситго» стал одним из символов Бостона благодаря тому, что его было всегда видно на трансляциях бейсбольных матчей «Бостон Ред Сокс» со знаменитого стадиона «Фенуэй-парк» (стадион также будет упомянут в романе).
(обратно)56
Эдвард Осборн Уилсон (р. 1929) — основоположник социобиологии. В своей книге «О природе человека», удостоенной Пулицеровской премии, он показывает, каким образом различные формы социального поведения человека могут быть объяснены при помощи биологических законов — вопреки принятым в социальных и гуманитарных дисциплинах отсылкам к воспитанию, нормам, ценностям и другим составляющим человеческой культуры.
(обратно)57
Билл Бакнер (р. 1949) — американский бейсболист, игравший в Главной бейсбольной лиге США с 1969 по 1990 год. В 1986 году, выступая за команду «Бостон Ред Сокс», Бакнер допустил роковую ошибку в десятом иннинге матча против «Нью-Йорк Метс» — шестой встречи Мировой серии. Эта ошибка и сам матч прочно вошли в американский бейсбольный фольклор.
(обратно)58
«Зеленым монстром» прозвали пустую зеленую стену стадиона «Фенуэй-парк» с левой стороны бейсбольного поля.
(обратно)59
Поп-ап — в бейсболе разновидность отбитого мяча. Мяч летит очень высоко, но преодолевает небольшое расстояние, и снизу кажется, что он опускается практически перпендикулярно земле. Обычно филдеры легко ловят такие мячи. Хоум-ран — игровая ситуация, после которой мяч покидает пределы поля, что позволяет бьющему игроку и всем его партнерам, находящимся на базах, совершить пробежку и набрать очки.
(обратно)60
Традиционно седьмой иннинг делится на две части — в коротком перерыве зрители встают и разминаются, на большинстве стадионов звучит знаменитая песня «Take Me Out to the Ball Game» («Своди меня на бейсбол», 1908), ставшая неофициальным гимном североамериканского бейсбола.
(обратно)61
Миссурийский компромисс — достигнутое в 1820 году соглашение между членами конгресса США, в соответствии с которым штат Миссури был принят в Союз как рабовладельческий, а штат Мэн как свободный. Всемирная выставка — международная выставка, которая проходит в различных городах мира с 1851 года по сей день, — открытая площадка для демонстрации различных достижений науки и техники, промышленных товаров, произведений искусства.
(обратно)62
В 2017 году в Сент-Луисе проходили массовые беспорядки и протесты в связи с оправдательным приговором, вынесенным бывшему сотруднику полиции Джейсону Стокли, который в 2011 году застрелил темнокожего Энтони Ламара Смита.
(обратно)63
Собака названа в честь Пита Сампраса (р. 1971), американского теннисиста греческого происхождения, одного из величайших теннисистов в истории спорта.
(обратно)64
Брансон — небольшой курортный город в штате Миссури, известный большим количеством театров.
(обратно)65
Ктуба — еврейский брачный договор, неотъемлемая часть традиционного еврейского брака.
(обратно)66
Дейл Чихули (р. 1941) — американский художник-стекловар, прославившийся своими необычными и технически сложными инсталляциями из стекла.
(обратно)67
Возможно, измененная цитата, приписываемая американскому профессору истории американской культуры Майклу Каммену (1936–2013): «Ностальгия — это история без чувства вины».
(обратно)68
Пирамида потребностей Абрахама Маслоу (1908–1970) — иерархическая модель потребностей человека, в основании которой лежит физиология (утоление голода, жажды и т. д.), ступенью выше — потребность в безопасности, далее — в привязанности и любви, принадлежности к какой-либо социальной группе, затем — потребность в уважении и одобрении, познавательные потребности, далее — потребность в эстетике и, наконец, последняя ступень пирамиды — стремление к раскрытию внутреннего потенциала, самореализации.
(обратно)69
Lorem Ipsum (лат.) — ничего не значащая фраза, текст-заполнитель, вставляемый в макет печатной или веб-страницы.
(обратно)70
Филлис Шлэфли (1924–2016) — американская гражданская активистка, известная своими ультраконсервативными и антифеминистическими взглядами.
(обратно)Примечания
1
Булочная, пекарня (фр.).
(обратно)2
Новый атеизм — течение, в основе которого лежит представление о религии как о болезни современного общества. Стало популярным после выхода в 2005 году книги Сэма Харриса «Конец веры», в которой говорилось о влиянии ислама на теракты 11 сентября.
(обратно)3
Страдание, несчастье (англ.).
(обратно)4
История Средневековья (нем.).
(обратно)5
Группа друзей, компания (фр.).
(обратно)6
Красные и спелые, как помидоры в Калифорнии (фр.).
(обратно)7
Так; вот (фр.).
(обратно)8
Великолепна (фр.).
(обратно)9
Клетка с хищниками (фр.).
(обратно)10
Бог из машины (лат.).
(обратно)







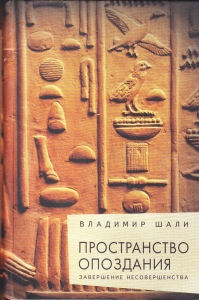
Комментарии к книге «Альтруисты», Эндрю Ридкер
Всего 0 комментариев