Гром
ПРЕДИСЛОВИЕ
Сорок лет отдал литературе прозаик Жамбын Пурэв, автор длинного ряда рассказов, повестей и романов. У монгольских читателей имели успех романы «Мелодия» (1966), «Гром» (1968), «Три узла» (1971), «Инженер Ундрах» (1975) и другие. Большому повествованию «Гнев сердца» (1982) об антиманьчжурском восстании Чингунжава, о национально-освободительном движении монголов в середине XVIII века присуждена Государственная премия МНР за 1984 год. С 1964 года творчество Ж. Пурэва знакомо и советским читателям. Двумя изданиями, в 1964 и 1981 годах, на русском языке вышла (под названием «Честь») большая повесть писателя «Авторитет», издан роман о легендарном герое монгольской революции Хас-Баторе «Три узла» (1978), очерк «Строители» и многочисленные рассказы.
По признанию Ж. Пурэва, «Гром» — трудное и потому особенно дорогое его детище, широкое полотно на историко-революционную тему, к которому обратился он после ряда этюдов — рассказов «Первый отряд», «Доверие», «Месяц». Это роман о путях в революцию бедняка-скотовода: человека из народа автор поставил в центр узловых событий истории и прослеживает судьбу своего героя на протяжении четверти века.
В первых главах романа изображена Монголия начала нашего столетия. В эти годы подросток Батбаяр, сын нищей батрачки, не имеющей ни своего скота, ни крыши над головой, вырастает в ладного, крепкого, думающего юношу. Он многое умеет и — ничего не имеет, привык к тяжелому труду и изнуряющему голоду. И вокруг него нищета, кабальный труд, унижающая зависимость батрака от скотовладельца, вечный страх бедняков остаться без чашки простокваши. Он видит, как неумолимо меняет психологию людей обретенный достаток (хозяйка Дуламхорло); как интригуют, доносят друг на друга маньчжурскому амбаню (наместнику), сживают один другого со света феодалы-крепостники и чиновники; осознает забитость и бесправие народа, засилие лам и нойонов… Но есть среди неимущих люди с ясным умом, с отзывчивым сердцем. Лишенный зрения маньчжуром чиновником скотовод Цагарик яснее иных зрячих видит: поднимется монгольский народ, изменит свою судьбу. Нужно смело идти по жизни, говорит он Батбаяру, не клонить голову перед сильными. Грамотный батрак Дашдамба, в прошлом разоренный чиновниками за то, что посмел отстаивать свое человеческое достоинство, побуждает Батбаяра постичь грамоту, научиться смотреть в корень явлений, отличать поверхностное от глубинного. Вот они — первые университеты батрацкого сына.
Волей случая Батбаяр становится телохранителем аймачного хана Намнансурэна. Был у хана в детстве толковый учитель — «из простых», научил молодого господина мыслить шире, видеть дальше, заботиться не только о своем кармане, но и о благе ближних. Получив по смерти отца высокий титул сайн-нойон-хана, Намнансурэн из собственных средств выплачивает долги своих хошунов китайским фирмам, проникается ненавистью к маньчжурам, угнетающим и обирающим Халху вот уже двести двадцать лет. Кто может помочь Монголии сбросить этот гнет? Только северный сосед, только Россия, история отношений с которой, знает Намнансурэн, не конфронтация, а торговые связи. Вот уже без малого десять лет не утихает в Халхе и в южных хошунах, во Внутренней Монголии антиманьчжурское национально-освободительное движение. Ширится борьба Аюши, не прекращаются выступления Токтохо. Используя это движение накануне падения в Китае правящей династии, аймачные князья Монголии, цинь-ван Ханддорж и некоторые высокопоставленные ламы объявляют монархом главу ламаистской церкви, наделяют марионетку светской властью и титулом «многими возведенный». Подготовке этого решения, образованию теократической автономной монархии, деятельности ее правительства, во главе которого становится Намнансурэн, посвящены в романе яркие, запоминающиеся страницы.
Монгольская автономия в действии… Феодальная знать страны при слабом и невежественном правителе, изгнав наместников маньчжурского императора, получила новые возможности, без участия южных соседей, эксплуатировать народные массы, обирать государство. Даже самые лучшие, самые прогрессивные ее представители не упускают случая крупно поживиться за счет совсем не богатой государственной казны (цинь-ван Ханддорж, министр иностранных дел и глава двух первых делегаций автономной Монголии в Петербург, произвольно и значительно завышает в отчетах стоимость приобретенного им в царской России оружия). Тщетно добивается правительство богдо-гэгэна международного признания, подлинной независимости, торговых отношений с государствами на западе, которые согласились бы видеть в Монголии равноправного партнера, а не источник наживы.
Третью правительственную делегацию в Россию возглавляет Намнансурэн. Вместе с ним попадает в Петербург его телохранитель Батбаяр, который знакомится там с людьми самых передовых взглядов, с революционером Железновым. Он получает верные понятия о классах и отношениях между ними, о классовой борьбе, о революционном движении в России, которая скоро, очень скоро должна измениться и установить с Монголией новые отношения.
Просвещенность сайн-нойон-хана, прогрессивность его мышления, его личные качества человека незаурядного несомненны для состоящего при нем и продолжающего постигать науку жизни Батбаяра. Но юноша понимает и другое: хан, служба у него, поездка с ним в Россию — это лишь благоприятное стечение обстоятельств, позволивших Батбаяру усвоить передовые идеи века. В конечном же счете, не хану, не случаю, а народу своему и велению времени обязан он своим прозрением.
Идет время. Тройственные (не трехсторонние, ибо Монголия, видите ли, не полноправная сторона) переговоры в Кяхте приходят к решениям, по которым Монголия остается бесправной. В «автономном» правительстве побеждает прокитайская группировка. Доходят слухи о крупных общественных потрясениях в России, о новой «красной» власти. Отставной премьер Намнансурэн хочет знать, чего может ждать от нее Монголия. По воле автора он совершает (вместе с Батбаяром) тайную поездку в Иркутск, узнает о революции в России, об обращении красного правительства к богдо с предложением о прекращении всех неравноправных договоров с Монголией. Особым уважением и доверием к новой власти в России проникается Батбаяр.
Вернувшийся на родину и слишком много теперь знающий Намнансурэн опасен для тех, кто сделал ставку на китайских милитаристов. Он погибает от яда. Батбаяр тоже опасен — опасен Аюуру, казначею сайн-нойон-хана, всегда умевшему поживиться за счет своего хозяина при его жизни, а теперь, после смерти хана, и вовсе собравшемуся ограбить его наследников. Обманом отдает Аюур парня, семья которого батрачит в его, казначея, хозяйстве, в руки палачей-истязателей богдогэгэновского министерства внутренних дел. И вновь случай оставляет Батбаяра в живых, а в год революции приводит пленником на строительство речной переправы в стане белого сотника — атамана Сухарева. Его признает унгерновский инспектор капитан Волков, под именем которого скрывается и успешно действует в тылу белых красный разведчик, революционер Железнов. Протянутая им Батбаяру рука помощи, указанный ему путь борьбы с белыми бандами под знаменами Сухэ-Батора — это рука помощи большевистской России всему монгольскому народу, который раз и навсегда выбрал себе дорогу. По совету замечательного командарма Батбаяр заканчивает политкурсы и возвращается в родные места в качестве уполномоченного народной власти. Сильный и благородный, как сама эта власть, он приезжает не мстить старым врагам, но устанавливать новый, справедливый порядок.
Быть может, в произведении Ж. Пурэва совпадений и разного рода случайностей немного больше, чем обычно бывает в жизни, но все они воспринимаются как условность в романтически приподнятом повествовании, как необходимые сюжетные крепи. И дело не в них, ибо образ героя, прошедшего великую школу жизни, оказавшегося выносливее, а где-то и счастливее других, безусловно удался его создателю. Проследив его путь, читатель верит и в убежденность и в силу Батбаяра, как верит он в Ширчина (Б. Ринчен, «Заря над степью»), в Еролта (Л. Тудэв, «Горный поток»), в Дугара (Н. Банзрагч, «Путь»), в подлинных героев романов Д. Намдага «Смутное время», Ч. Лодойдамбы «Прозрачный Тамир», С. Дашдэндэва «Красный восход».
Как уже понял читатель, в романе, написанном на богатом историческом материале, наряду с вымышленными героями действуют реально жившие в первое двадцатилетие нашего века и «вершившие историю» лица. Воссоздавать портрет Намнансурэна автору, по его словам, помогли дневниковые записи хана, которые вел он в течение двух месяцев пребывания в Петербурге, а также воспоминания Жамба, отца писателя, служившего у сайн-нойон-хана. Имея целью изобразить в начале романа основательность и патриархальность быта, обстановки, в которой живут не слишком далеко один от другого единокровные братья Намнансурэн и Ринчинсаш, писатель прибегает к ненавязчивым, но заметным параллелям с «Одноэтажным павильоном» В. Инжаннаша, романом середины XIX века. И надо сказать, добивается желаемых ассоциаций и впечатления. Вставные рассказы и притчи в романе также напоминают нам подчас классическую обрамленную повесть, создают у читателя именно то настроение, на которое рассчитывает автор.
Герои Пурэва меньше говорят, больше думают, и это соответствует национальному характеру монголов. Убеждает и образность, афористичность народной речи и речений, а еще — искусная символика, которой с большим чувством меры пользуется автор. Не станем говорить о вполне ясном громе, пугающем Батбаяра в начале романа и карающем его врага в конце. Вспомним о прозвищах, которые у Пурэва так удачно дополняют и углубляют образ. Горным жаворонком прозвали люди пятнадцатилетнего Батбаяра, и мы верим, что он — птица высокого полета, что ему судьбой назначено подняться высоко, увидеть и свершить многое. Розовым нойоном стали звать Намнансурэна за цвет лица хорошо знавшие его земляки. Что ж, в эпоху, когда красные стали символом добра и прогресса, а белые — синонимом косности и зла, нойон-то, пожалуй, и впрямь был розовым. А учитель его — Дагвадоной, всевидящий, все понимающий и оттого печальный? Он же и вправду Смурый, как звали его во владениях хана…
Однако достаточно. Пора читателю самому окунуться в глубины предлагаемого ему повествования.
От редакции
ГЛАВА ПЕРВАЯ ИЗГНАННЫЕ
В тот день, ближе к полудню, паутинки облаков, парившие в вышине, сбились в пухлую грозовую тучу, а белесое, выцветшее от несусветной жары небо налилось густой синевой. Сразу стало душно: вот-вот на степь, выжженную палящим солнцем, обрушатся струи теплого ливня. Наконец упали первые капли дождя, в небе громыхнуло, и тут же засвистел, завыл невесть откуда налетевший ураган. Под его порывами затрепетали, пригнулись к земле кусты караганы и саксаула. Птицы, сложив крылья, камнем попадали вниз — под защиту кустарника. Ураган взметнул в воздух красноватую пыль, сбил ее в плотную, непробиваемую стену и погнал по долине. На какое-то мгновение показалось, будто сама земля встала на дыбы и наступает конец света…
Но вот затянуло хмарью весь небосвод, по земле застучали пробившиеся сквозь ревущие порывы ветра дождевые капли, и тут из брюха чернильно-черной тучи вдруг вывалился длинный, призрачно-синий сгусток пламени и неторопливо поплыл к обширному, покрытому буро-зелеными зарослями саксаула, взгорью. Чиркнув по холму, он словно бы оттолкнулся, подскочил ввысь и сразу же все вокруг залил мертвенно-белый свет.
Застыв в изумлении, следили за происходящим женщина и мальчик, укрывшиеся от непогоды в кустах, пока расколовший небо треск не бросил их ничком на землю. Но едва отгрохотали громовые раскаты, как мальчик вскочил и снова уставился в небо.
— Мам, а мам! Это что? Это что такое с неба спускалось?
— Тихо, сынок, тихо! Боже ты мой.
— Случилось что-нибудь, мам?
— Погоди, погоди, сынок. Ом мани падме хум![1]
— А что это было, мам?
— Слышала я, иногда дракон с неба падает на землю. Видно, это и случилось. Что же еще может произойти в безлюдной степи.
— А что теперь будет?
— Больше ничего. Сейчас бояться уже нечего.
— А тот дракон? Что с ним?
— Ничего, сынок. Дракон — это ведь божий конь, и летает он всегда над облаками, во владениях небесного хана. Ну а если задремлет, так вместе с дождем падает на землю. В это время и молнии сверкают и гром гремит, землю сотрясает.
— Мам! А драконы под землей живут?
— С чего ты взял?
— Ну как же, ведь в барханах находят здоровенные такие кости и говорят, что они драконовы.
— Люди говорят, что Хан-тенгри, свирепый сахиус[2], восседая на драконе, объезжает свои заоблачные владения. С ног, головы и хвоста дракона все время сыплются синие искры, вспыхивают молнии, а мчится он быстрее стрелы. А еще говорят, когда он отряхивается, поднимается страшный ураган, начинаются наводнения…
— А что же все-таки стало с тем драконом, которого мы видели?
— Теперь уже, наверное, вернулся в небесную страну своего хана.
— А что там, в небесной стране?
— Там все, что только может пожелать человек. Нет там ни голода, ни холода, ни страданий.
— А может человек туда попасть?
— Говорят, что попадают туда в своей будущей жизни только самые добродетельные люди. Но я ни разу не слышала, чтобы там кто-нибудь побывал.
— А если ухватить того дракона за хвост да и полететь с ним наверх?
— Нельзя, сынок. Обожжет тебя молния, сбросит вниз.
Большеглазый смуглый мальчуган всматривался в клочья облаков, разносимых ветром, и думал: «Может быть, в этой самой стране все как на свадьбе в богатом аиле: по тарелкам разложены пенки, сушеный творог, а в чашках гостей ждет молоко, простокваша и холодный, пенистый, бьющий в нос кумыс…»
К полудню жара стала невыносимой. Мираж выстроил над долиной целый городок, а перед ним разлил широкое озеро. Приглядевшись, можно было различить снующих по водной глади уток и лебедей, окружающие озеро заросли камыша и рощи. Все выглядит таким настоящим. Кажется даже, будто в сухом раскаленном воздухе, напоенном резковатым запахом дикого лука и ароматом травы бударганы, разносится сладковатый привкус влаги.
Посреди долины, на пригорке, сидит высокая, лет сорока женщина. Полой дэла она утирает пот с широкого рябого лица. Рядом с нею сидит и обдирает кору с прутика карликовой караганы ее сын — смуглый и жилистый десятилетний мальчишка в стареньком тэрлике.
Далеко на севере синеют контуры гигантского хребта, и, хотя его предгорья кажутся намного ближе, добраться до них женщине с ребенком пешком, с юртой за плечами потруднее, чем погонщикам из каравана китайского купца довести своих сытых верблюдов до перевала Жанжхуу. В широкой, раскинувшейся до самого горизонта долине тихо: ни людей, ни животных, только надоедливый треск ползающей по кустам караганы саранчи да стрекот кобылок.
Женщина — ее зовут Гэрэл — молча всматривается в даль.
— Говорят, судьба иногда снисходит и к самым несчастным. Может быть, там, за этой пустыней, найдется для нас крупица счастья? — вздыхает она. — Сбегай, сынок, принеси еще один тюк, пока я арул достану, — кивает она на оставленный в отдалении груз.
Батбаяр недовольно сопит.
— Принесу один тюк, а второй все равно там останется, и снова идти придется. Давай вместе сходим, — бурчит он, отворачивая от матери лицо.
— Сходи, сыночек, сходи, а мама пока чаю вскипятит. Как вернешься, соорудим навес, отдохнем немного в тени, — упрашивает Гэрэл.
Батбаяр нехотя поднимается и, то и дело оглядываясь, отправляется за поклажей.
— Умница мой, ты, конечно, устал. Песок-то как раскалился!.. Ножки-то, наверное, еле терпят, — бормочет Гэрэл, провожая сына ласковым взглядом. Она с трудом встает и принимается собирать хворост в подол дэла.
Вдова, крепостная Гомбо бэйсэ, в страшный дзуд года мыши Гэрэл лишилась своего скота и, прибившись к княжескому двору, два года батрачила не за страх, а за совесть: только бы не выгнали, не дали умереть с голоду. Однако заработала она лишь прозвище «мерзавки с поганым языком». Откочевывая на новое место, хозяева бросили ее на старой стоянке. Надо было думать о том, как прокормиться дальше, и вот, связав в шесть тюков юрту, они с сыном отправились через Богдскую долину.
Гэрэл сложила из трех булыжников очаг, бросила туда собранный хворост. Два-три удара кремня о кресало — и затлел кусок кизяка, а еще через две минуты в степи весело потрескивал костерок. Она налила в закопченный кувшин воды и поставила его на огонь. Развязала один из тюков, достала два тонких, толщиною в палец борцока, бросила их в закипающую воду и поспешила навстречу Батбаяру. Согнувшись под связкой жердей и деревянных решеток, обернутых в рваный войлок, мальчик почти бежал, быстро перебирая тонкими ногами. Гэрэл помогла ему опустить ношу на землю.
— Мам! А тюк-то не такой уж тяжелый — спина ничуть не устала, — бойко сказал Батбаяр, усаживаясь на тюк.
— Молодец, сынок, сил у тебя, я вижу, не меньше чем у твоей матери.
— Ма-а, я схожу, принесу тот, что остался?
— Не надо, попьем чаю, отдохнем немного, и я сама за ним пойду.
— Мам, а нам сколько еще дней идти?
— Через два-три дня, надеюсь, выйдем к какому-нибудь аилу, — ответила Гэрэл.
Они подперли решетку юрты жердями, набросили сверху войлок. Жаркие лучи пробивали истертую кошму, и все-таки она защищала их от нестерпимого солнца.
С аппетитом съели размякшие в воде борцоки, запили жидким, зато горячим чаем. По телу, утомленному трехдневным переходом, разлилась слабость, и веки у них сомкнулись сами собой. Путники заснули, положив головы на тюк, как на подушку.
Гэрэл снилась жена Гомбо бэйсэ. Розовое, кукольное лицо Норжиндэжид искажено отталкивающей гримасой.
— Чем же это мы не угодили тебе? За что ты так нас поносишь? — срывается на визг ее высокий голос.
Гэрэл вздрогнула и проснулась. Сон как рукой сняло. Она лежала, устремив невидящие глаза в безоблачное, пронзительно-голубое небо, и вспоминала… «А как княгиня была ласкова с нами поначалу. Щедрая, обходительная. Нет, не зря я ее боготворила. И если бы только не моя оплошность, так прогневившая эту почтенную особу…»
Тихая, забитая женщина, потерявшая единственную опору и защиту в жизни — мужа. У нее была одна радость — сынишка рос бойким и сметливым.
«Посмотри, с какой любовью ухаживает за скотом! Такой хозяин никогда без прибытка не останется, — расхваливала Норжиндэжид мужу проворного Батбаяра, а бэйсэ только и знал, что поддакивал ей. — Если так и дальше пойдет, поставим его старшим над отарами».
«И вот как оно все обернулось. Вот оно — наказание за прегрешения. Ну почему так жесток и несправедлив наш мир!» — с горечью восклицала Гэрэл.
Весной они жили в Ар долоо хутагт. Юрта бэйсэ стояла прямо на пастбище, довольно далеко от воды. Едва брезжил рассвет, Гэрэл будила сына, помогала ему поудобнее пристроить на спине флягу, сама брала деревянную бадью, и они трусили к колодцу. Не успеешь натаскать воды — беда, хозяин осерчает… И так от зари дотемна.
Однажды в дороге их застала пыльная буря. Ее пришлось долго пережидать, отсиживаться под скалой, и они вернулись с запозданием. Гэрэл поставила оттянувшую ей руки бадью невдалеке от хозяйской юрты и выдохнула:
— Ух, чтоб тебя…
— Нет, вы только послушайте, эта негодница нас же еще и проклинает, — взвилась услышавшая эти слова Норжиндэжид и, загораясь внезапным гневом, бросилась в дверь. — Да чтоб твои проклятья пали на твою же голову. Хочешь извести нас, как Плешивый Зодов хозяев своих извел!
Батбаяр дрожал от страха, Гэрэл, не понимая, что произошло, опустилась на колени и начала бить поклоны:
— Прости и помилуй, богиня моя. Сто лет тебе жизни…
— А-а, вот как ты заговорила, попрошайка несчастная! Сначала мужа извела, теперь за нас решила приняться. Мы-то тебя пожалели, не дали с голоду околеть, да только, видно, себе на беду. Прочь отсюда немедленно, прочь, чтобы глаза мои больше тебя не видели!
На хозяйку страшно было смотреть; вокруг багрового перекосившегося от злобы лица, звеня, бились серебряные цепочки и змейки коралловых украшений, а Норжиндэжид все хлестала и хлестала Гэрэл своим длинным бархатным рукавом, готовая растоптать ее вместе с сыном. С того дня им не только запретили появляться у юрты Гомбо бэйсэ, но и отобрали трех дойных коз, а вскоре хозяева откочевали, бросив бедную женщину на произвол судьбы. Два месяца мать с сыном кормились в знакомых аилах, потом молва повсюду разнесла слова Норжиндэжид о том, что Гэрэл не только грешница, но и ведьма, приносящая горе всем, кто бы к ней ни приблизился. Оставаться здесь дальше стало невозможно. И не только потому, что теперь им не подали бы и чашки чаю. Надо было подумать о будущем единственного сына, и тогда она решила уходить из этих мест.
Старик сосед погрузил на своего вола ее старенькую юрту и до самого вечера вез, провожая их в дальнюю дорогу. На прощанье он отдал им свой бурдюк с водой.
— Ну все, теперь отправляйтесь. Станет невмоготу, спрячьте свою развалюху в какую-нибудь яму и оставьте знак. Поеду через те места, прихвачу… Это правильно, что ты решила перебраться в Хангай. Прокормиться около монастыря вам будет легче. Да будет милостива судьба к твоему сыну. — Старик поцеловал Батбаяра в щеку и поехал назад, вытирая набежавшие слезы…
«Но почему, почему те нечаянно вырвавшиеся слова восприняты были хозяйкой как проклятье?» — недоумевала Гэрэл. Хотелось поговорить об этом с сыном, но она тут же раздумала — зачем лишний раз тревожить ребенка!
Гэрэл смотрела на разметавшегося во сне сына, на капельки пота на его переносице. Ей не хотелось его будить. Батбаяр спал спокойно, как спит ребенок из благополучной семьи, у которого нет и не предвидится забот. Иногда на его лице мелькала улыбка. Может быть, он уцепился во сне за хвост дракона, прилетел в небесное царство и теперь наслаждается всеми прелестями тамошней жизни. «Только бы выдержал он эту дорогу, а там… Какая нам разница, где жить», — подумала Гэрэл и осторожно положила руку на узенькую ступню сына.
Солнце клонилось к западу, жара пошла на убыль, и тело приятно холодил легкий северный ветерок. Но когда Гэрэл оставила сына и отправилась за последним тюком, раскалившийся за день песок все так же жег ноги даже сквозь подошвы гутулов. Женщина шла и против воли думала о том, как нелегко будет им выбраться отсюда.
Возвратившись, она увидела, что Батбаяр уже встал и затягивает на тюках ремни.
— Ну что, мам, пойдем? — послышался его сиплый со сна голос.
— Вот только чуть попрохладнее станет, и пойдем, — ответила Гэрэл и посмотрела на север. Там возвышался огромный, похожий причудливыми очертаниями на монастырь бархан, а за ним до самого горизонта простиралась безмолвная, затянутая сизым туманом долина.
Батбаяр вскинул на спину один из самых больших тюков, в котором были связаны жерди и решетка юрты, и зашагал вперед. Сзади из-за тюка видны были только макушка мальчика да тонкие, как прутики, ноги. Сердце матери тоскливо сжалось:
«Тельце-то маленькое как у зайчонка. Того и гляди тюк перетянет — завалится сынок вместе с ним».
Кочевка продолжалась, если можно было назвать кочевкой это самоистязание. Они по несколько раз проходили один и тот же отрезок пути, по очереди перетаскивая на себе пожитки и ветхую юрту, на которую вряд ли бы кто польстился.
Сложив первую пару тюков, возвращались за следующей, и так до самого вечера. Казалось, ушли далеко-далеко, но так только казалось. Еще даже не исчез из виду пригорок, на котором они отдыхали днем. Гэрэл перевела дух, облизала спекшиеся губы. Хотелось все бросить, дать отдых измученному телу, но рядом уже стоял Батбаяр, то и дело подбрасывая сползающий тюк, жадно хватая воздух пересохшим ртом. И тогда Гэрэл встала и пошла дальше. Быстро темнело. В бурдюке, к которому они время от времени прикладывались, воды осталось совсем чуть-чуть.
— Может, отдохнем немного? Да и заночевать бы здесь. А то куда мы пойдем в такую темень, — предложила Гэрэл. Говорить было трудно, сухой одеревеневший язык неприятно обдирал нёбо.
— Старик с волом, что провожал нас, рассказывал — где-то здесь должен быть источник.
— А как его отыщешь в этих песках?
Батбаяр промолчал. В горле у него першило. Услышав кашель сына, Гэрэл напоила его остатками воды, свернула бурдюк и засунула его в тюк.
— Ну что, отдохнем, сынок?
— Прохладно стало. Может, пройдем еще немного?
— Оно бы, конечно, хорошо, только сможешь ли ты идти?
— Если помедленнее, то смогу, когда быстро идешь, колени подгибаться начинают.
— Ну и я тоже смогу.
И они снова пошли, шли долго, но так и не добрались до бугра, который видели невдалеке при заходе солнца.
Гэрэл начали мучить скверные предчувствия. Она огляделась: вокруг ничего нельзя было различить, и ее пронзила страшная мысль:
«Куда же я веду ребенка, ведь его так и загубить недолго».
Они сложили тюки под каким-то кустом и, взявшись за руки, пошли назад. Внезапно обострившимся в темноте слухом они уловили явственный шорох. Батбаяр бросился к матери, прижался. У Гэрэл зашлось сердце от страха.
— Что случилось, сынок? — вскрикнула она, обнимая его, и тут же заметила, как, напуганные ее криком, отпрянули в темноту две крупные тени. Тут она перепугалась уже не на шутку. Сердце забилось так, будто хотело выскочить из груди, глаза застлали слезы. Дрожал прильнувший к матери Батбаяр. Гэрэл хотела закричать, но голос куда-то пропал. Она вытерла глаза и увидела двух волков: один оставался сзади, а другой забежал вперед, преграждая дорогу.
Не помня себя, Гэрэл нагнулась, нащупала камень и что есть силы размахнулась. Волк крутнулся на месте, изогнувшись всем своим крупным, как у телка, телом, и кинулся за камнем. Батбаяр сполз вниз и забился матери в ноги. Гэрэл опомнилась.
— Ну что ты, это же всего-навсего волки, — проговорила она, стараясь успокоить сына и крикнула: — А ну, пошли.
Улучив момент, она ощупала землю и подобрала несколько камней. Волки бегали кругами, не проявляя ни малейшего желания расстаться со своей добычей, а мать и сын стояли, не смея двинуться с места. Заметив, что один из хищников, облизываясь, сел, Гэрэл швырнула камень. Волк подождал, пока катящийся камень остановится, схватил его зубами, но тут же с отвращением выплюнул.
Гэрэл обливалась холодным потом, судорожно пытаясь ответить самой себе: что делать, как поступить?
— Мам, нам бы до тюков добежать — там жерди, — негромко сказал пришедший в себя Батбаяр.
— Конечно, — ответила Гэрэл и, взяв сына за руку, опасливо двинулась вперед. Волки, словно почувствовав их страх, не спеша затрусили следом. Гэрэл прибавила шагу. Волки, догоняя, припустились рысью.
— Пошли! — заорала не своим голосом перепуганная женщина. Волки отскочили назад, потом обежали людей стороной и сели, отрезая дорогу к темневшим невдалеке тюкам. Расхрабрившийся Батбаяр поднял с земли голыш.
— Мама, давай вместе кинем.
— Давай, — согласилась Гэрэл.
Два камня, просвистев, канули в темноту. Звери неохотно поднялись и отошли в сторону. Мать и сын со всех ног бросились к тюкам, а хищники кинулись им наперерез.
— Кыш, — что есть силы закричали люди и с треском вырвали из тюка жерди. Волки отпрыгнули назад.
— Боже мой, — забормотала Гэрэл, а Батбаяр, покопавшись в тюке, выхватил щипцы для угля и погрозил ими волкам.
— Только попробуйте напасть, всажу по самую глотку.
— Ах, молодец, сынок, ведь надо же, сообразил, — порадовалась Гэрэл.
Волки разошлись и уселись по разные стороны от тюков. Они по очереди вставали и принимались кататься в пыли. Иногда зевали, и при виде их огромных зубастых пастей по телу у людей пробегал мороз.
— Почуяли, что мы с тобой совсем выбились из сил.
— Мам! А если развести костер да в них головешками? Тут же хвосты подожмут!
— Хорошо бы, да только кремень с кресалом в тех дальних тюках остались, — сказала Гэрэл. Один из волков, словно поняв смысл ее слов, встал, потянулся и подошел ближе.
Гэрэл ударила щипцами в латунный кувшин, а потом запустила им в волка. Кувшин со звоном покатился по камням, волк подпрыгнул и метнулся назад. Потом оба зверя сбежались и, облизываясь, заурчали, будто переговариваясь.
Так они долго стояли одни против других: люди, не смевшие ни на минуту сомкнуть глаз, и сторожившие их серые хищники.
Наконец Батбаяр не выдержал:
— Мам! Солнце когда встанет?
— Уже скоро, сынок.
— А вечером они снова нас найдут?
— Кто их знает…
Тут на востоке посветлел кусочек неба. Рассвет разливался все шире и шире, пока новорожденная алая заря не осветила сначала небо, потом землю. Волки нехотя поднялись, обнюхали друг друга и не спеша побежали прочь, время от времени оглядываясь на столь желанную, но так и не доставшуюся им добычу.
— Эгэ-гэй, волки, проваливайте отсюда, да поскорее, — вопил им вслед обрадованный Батбаяр.
— Что ты! Разве так можно. Духи разгневаются. Это мы смотрим — вроде бы волк. А как знать, кто это на самом деле, — одернула сына Гэрэл и принялась отбивать поклоны. Краем глаза она видела, как, сжавшись в комок, Батбаяр настороженно следил за волками, пока хищники не скрылись за бугром. И по сердцу женщины полоснула жалость к себе, боль за сына.
— Что же за судьба-злодейка выпала на нашу долю! — Она обняла, прижала к себе Батбаяра и заплакала. Мальчик подавленно молчал, не зная, как успокоить мать.
— Может, пойдем, а, мам? — наконец предложил он.
Огромное багровое солнце уже вынырнуло из-за горизонта и теперь ползло вверх по небосклону, раздвигая лучами и без того необозримо широкую долину.
И снова они двинулись в путь, подгоняемые страхом, позабыв про жажду и голод. Оставив одну пару тюков, возвращались за следующей, похожие в своем непрерывном движении на муравьев. Но сколько они ни шли, долина все не кончалась, и не было нигде никаких признаков влаги.
— Все, сынок, отдыхаем, — сказала Гэрэл.
Однако Батбаяр не откликнулся, а только прибавил шагу, словно хотел этим сказать, что им совершенно ни к чему останавливаться в этом безводном месте. Он устал. Темное от загара лицо налилось кровью, на шее и висках вздулись жилы. Жажда мучила его, но паренек не жаловался. «Зачем понапрасну тревожить мать, все равно она не в силах помочь». Пряча лицо, он все шагал и шагал вперед.
— Сынок, пить хочешь?
— Еще бы, — буркнул Батбаяр. — Даже слюна вся куда-то пропала.
Нещадно палило солнце. Ноги ступали по песку, как по раскаленным угольям. Больше всего Гэрэл хотелось сейчас поставить навес и полежать в тени, переждать полуденный зной, но Батбаяр требовал идти дальше, и она подчинялась. Она понимала: сын боится, что грядущей ночью их снова будут преследовать волки. Они продолжали путь, но Гэрэл уже изнемогала: тяжелый тюк пригибал ее к земле, ноги немели и подкашивались.
С утра они прошли уже с полуртона, но так и не встретили места, где можно было бы отыскать воду. Они сократили дальность переходов и все чаще отдыхали. И вот наступил момент, когда Батбаяр, присев передохнуть в низинке, уже не смог подняться. После нескольких неудачных попыток ему удалось привстать. Согнувшись под тяжестью тюка, он, пошатываясь, прошел шагов десять и рухнул вниз лицом. Гэрэл увидела, что сын упал, сбросила свой тюк и метнулась к нему.
— Сыночек, сыночек мой, — причитала она, высвобождая его из-под деревянных решеток, обернутых рваной кошмой.
— Ничего, мам, — едва слышно проговорил Батбаяр, снова пытаясь подняться.
«Ведь погублю этак сына. Боже, за что же такое наказанье!» — в отчаянье воскликнула про себя Гэрэл, а Батбаяр вытер ладонью лоб и снова подсел под тюк.
— Погоди, оставь, сынок, — сказала Гэрэл и погладила сына по голове. — Совсем я тебя замучила, — пробормотала она, целуя сына.
Вытерев мокрые глаза, огляделась. Два тюка лежали рядом, четыре виднелись далеко позади. Но это ее уже не волновало. Гэрэл поняла, что перетаскивать весь этот скарб дальше им не под силу, собрать в одном месте и то будет трудно. Не давала покоя одна мысль: «Где раздобыть воду? Без воды — смерть!» Она молча нагнулась и стала развязывать тюки. Вытащив старый овчинный дэл сына и свой меховой, стянула их веревкой. За пазуху сунула кремень и кресало — ими владел еще покойный муж. Ссыпав остатки творога и горсть борцоков в латунный кувшин, взяла его в руку, а сыну вручила жердь.
— Ну, все, сынок, пошли!
Батбаяр вытаращил глаза.
— Мама! Да вы что? — дрожащим голосом спросил он.
Гэрэл еще раз оглядела тюки и сказала:
— Это все мы здесь оставим. — Взяв сына за руку, она решительно двинулась прочь.
— А как же наша юрта? — спросил, оборачиваясь, Батбаяр, и в его глазах блеснули слезы.
Гэрэл остановилась, словно наткнулась на стену, и, помедлив, ответила:
— Давай пока воду поищем. А если останемся в живых, то и кров для нас найдется.
Слова матери никак не укладывались в сознании Батбаяра, и он уперся, вырывая руку.
— Без юрты не пойду.
— Ничего, ничего, сынок. Бог даст, у нас не то что эта, настоящая белая юрта будет.
— Такая же как у нашего бэйсэ, с красным хольтроком?
— Как знать, может, и такая же. Ведь еще неизвестно, кем ты станешь, если мы до жилья доберемся благополучно.
— Нет, никогда у нас не будет такой юрты.
— Почему это?
— Никто ее нам не даст. Да заведись у нас такая, бэйсэ-гуай живо прибрал бы ее к рукам так же, как иноходца Довдон-гуая, — по-взрослому и как-то брюзгливо сказал Батбаяр. Гэрэл не нашла, что возразить.
— Ну да ладно, сынок, — сказала она и тронулась дальше.
Батбаяр шел за матерью, оглядывался на брошенные среди барханов тюки, и по его щекам скатывались слезы. Шли молча. Мальчик чувствовал: стоит заговорить и он не удержится, разревется. Гэрэл, оплакивая в душе юрту, собственность, которой она лишилась навсегда, молчала, крепилась, чтобы не причинять лишних страданий сыну. Она уходила все дальше, так ни разу и не обернувшись.
Батбаяр вспомнил о шапке из черной мерлушки, единственной по-настоящему ценной их вещи. «Не взяла мама шапку. Намерзнется в холода, опять у нее зубы болеть будут! Сама же не могла нахвалиться: какая мягкая, да какая теплая».
Теперь они шли налегке. На спину не давила тяжелая ноша, не тянула на каждом шагу назад. Ноги легко несли их вперед, и казалось, сил у них столько, что шутя одолеют они не один уртон. Наконец Гэрэл не выдержала и оглянулась. Отсюда тюки, лежавшие на приметном, розового цвета бархане, были едва различимы. Она вспомнила почему-то давнее нападение дунган. Тогда люди вот так же побросали где попало пожитки и бежали куда глаза глядят… Женщина долго стояла молча, разглядывая лежащую перед ней долину, затянутую голубоватой дымкой. Вспомнила мужа, который отправился разыскивать потерянный в суматохе табун лошадей бэйсэ, был схвачен дунганами и уже не вернулся. «Будь он сейчас жив-здоров, разве пришлось бы нам так мучиться… А Гомбо бэйсэ? Ведь это из-за его лошадей погиб муж, а он прогнал нас как собак. Сын-то ничего не знает. Когда отец пропал, ему и было-то всего три года. Ну да что теперь об этом вспоминать».
— Мам, а кто такой был Плешивый Зодов? — вдруг поинтересовался Батбаяр.
— Точно не знаю, сынок, — ответила Гэрэл. «До сих пор, оказывается, помнит, как кричала тогда хозяйка Норжиндэжид», — удивилась она и ласково, стараясь отвлечь сына от тяжелых воспоминаний, погладила его. Но мысли Батбаяра были заняты уже другим.
«Вот бы сейчас попасть с тем драконом в страну хана Хурмаста[3], — думал он. — Я бы там прежде всего кумыса напился…»
— Надо, надо нам отыскать хоть каплю воды, — простонала Гэрэл и вновь тронулась с места.
Увязая в песке, падая и тяжело поднимаясь, они брели меж барханов, но воды здесь не было и в помине. Зашло солнце, и закат выкрасил полнеба в алые и багровые цвета, будто природа перед наступлением темноты спешила показаться им во всей своей красе. Всю ночь они пролежали пластом, и хотя уже не так ныли натруженные ноги, исчезла резь в глазах, но в обезвоженных их телах слишком медленно восстанавливались силы. Едва рассвело, они отправились дальше и вскоре перевалили последнюю гряду барханов, за которой снова лежала бескрайняя, до самого горизонта, долина. Теперь даже тот небольшой тюк, что несла Гэрэл, стал ей в тягость. Батбаяр, задыхаясь, хватал воздух широко открытым ртом и все чаще спотыкался.
— Как ты, сынок? — спросила Гэрэл, а мальчик молча, словно у него не осталось сил на то, чтобы говорить, повел на нее потускневшими глазами и рухнул на землю. Мать, решив, что сын умирает, в полуобморочном состоянии опустилась подле него. Но Батбаяр шевельнулся и стал подниматься.
— Пойдем. Воды бы, — едва слышно прошелестел его слабый голосок, и воспаленные жаркие губы на мгновенье прижались к материнской щеке.
— Только не умирай, только не оставляй меня, — умоляюще шептала Гэрэл, поднимаясь вслед за сыном.
Свет восходящего солнца залил долину, и теперь она лежала перед ними как на ладони: выжженная пустыня — ни людей, ни животных, ни колодцев или водоемов — нигде ни капли влаги. Идти в полуденный зной уже не было сил.
Под первым попавшимся валуном разгребли песок и легли, прижавшись грудью к прохладной земле. Долго лежали, вдыхали запах сырости, самый сладкий сейчас для них запах, пока не забылись тяжелым сном.
Проснулись с наступлением вечерней прохлады. У Гэрэл болела голова, ныло все тело. Лицо Батбаяра опухло, налилось нездоровой краснотой.
— Мам, когда же мы с тобой попьем? — прошептал он. А Гэрэл — что она могла ему ответить? Впереди, куда ни кинешь взгляд, лишь горные кручи и скалы, в долине песок, сухая галька, редкие кусты саксаула и караганы да одинокий вяз. Уже в сумерках они поднялись на возвышенность, влекомые безумной надеждой, что там, за гребнем, найдут воду наверняка. У Батбаяра провалились глаза, все тело пылало, и ослабевшие ноги уже не держали его. Сердце матери не могло этого вынести. Гэрэл подхватила сына на плечи и понесла, хотя и ее силы были на исходе. Уже через несколько шагов она перестала отдавать себе отчет, куда и зачем идет. Она вовсе не думала о том, что сама может погибнуть. Шла, спотыкаясь о камни и проваливаясь в ямы, падая и снова поднимаясь, шла и заботилась только об одном: не уронить бы, не ушибить сына о какой-нибудь камень. И трудно было сказать, откуда у нее вдруг взялось столько силы. Гэрэл карабкалась все выше в горы. Перебравшись через гребень, она выползла на небольшую площадку, со всех сторон окруженную скалами, и села, привалившись спиной к валуну. Батбаяр хрипел. Воздух с присвистом и клекотом вырывался из его легких. Обнимая сына, мать думала только об одном — придет ли откуда спасенье.
Поднявшийся ветер гудел в расселинах скал, хлестал песком.
— Дальше идти нет смысла, только его еще больше измучаешь, — пробормотала Гэрэл, склоняясь к впавшему в забытье ребенку. Ветер, неистовствуя, трепал ее волосы, припорашивая их пылью. «Вот и конец всему», — подумала она, прижимаясь мокрым от слез лицом к пышущей жаром щеке сына, и еще крепче обняла слабое тельце, стараясь прикрыть его от ветра.
Вдруг повеяло свежестью, и на лицо ей упала капля дождя.
— О, небо! — воскликнула Гэрэл, изумленно поднимая глаза. В небе вспыхнула молния, прокатился гром и зашумел ливень. — Богиня моя! Не застудился бы мой мальчик под дождем, — забеспокоилась Гэрэл, укладывая сына на землю и укрывая его дэлом. — Вот радость-то какая… Теперь-то ты не покинешь меня, — приговаривала она, подставляя кувшин под струи воды, сбегавшие со скал. А дождь все лил и лил, как из ведра.
После дождя в углублениях на спине валуна-великана скопилось изрядное количество воды, и мать с сыном несколько дней провели в тупичке среди скал Ушгуинского хребта. Набравшись сил, они пошли дальше, опираясь на посохи, сделанные из пропитанной дымом родного очага жерди.
«Теперь будем идти только от воды к воде. А дня через два, глядишь, и выйдем к людям», — радовалась Гэрэл, оглядывая лежащую вокруг местность.
У подножия горы в голубоватой дымке лежала долина Батган. Пахло диким луком, кое-где в зарослях караганы мелькали серые спины антилоп, и сразу было ясно, что где-то поблизости должна быть вода. Гэрэл шла спокойно. Батбаяр достаточно уже окреп, и можно было за него не опасаться. И все же время от времени сердце у нее щемило — что-то их ждет впереди?
— Мам, а куда мы теперь пойдем?
— Помнишь, тот дедушка, что провожал нас, советовал: «Как доберетесь до Онгинского монастыря, постарайтесь пристроиться в каком-нибудь аиле у одинокого старика или старухи. Будете пилить ламам дрова, выносить мусор, и на еду вам хватит».
— А сколько дней туда добираться?
— Конному два-три дня нужно.
— А вы там бывали?
— Один раз, когда еще жив был твой отец, возил он меня туда на поклонение в праздник Майдара[4].
За разговором время летело быстро. Когда перевалило за полдень, Батбаяр вдруг остановился.
— Мама, глядите, люди.
— Кто же это такие? Мираж, что ли?
— Нет. Я их уже давно приметил, еще когда они во-он оттуда, с севера показались. Только поначалу я думал, что это антилопы, а сейчас присмотрелся — люди, — обрадованно зачастил Батбаяр.
Как завороженные, они повернули навстречу каравану. Топот копыт слышался все ближе. Одежды конников, скакавших по бокам приближающейся коляски, горели золотым позументом, ослепительно вспыхивали в лучах солнца жинсы на высоких чиновничьих шапках.
— Не иначе как важный сановник едет, — промолвила Гэрэл и тут же принялась бить поклоны.
Мимо них, блеснув стеклами окон, пронеслась зеленая коляска, а за ней свита: лама в желтом хурэмте и золотистого цвета цаме, князья в разноцветных дэлах, затканных драконами. Батбаяр глядел на них во все глаза.
Раньше ему казалось, что таких знатных, роскошно одетых людей, как Гомбо бэйсэ, на всем белом свете — по пальцам пересчитать. Но теперь, разглядывая сопровождающую экипаж свиту, убедился, что бэйсэ ничем не отличается от любого из этих телохранителей.
Гэрэл повернулась вслед процессии и продолжала бить поклоны. Но конный поезд неожиданно остановился. Гэрэл застыла в изумлении, глядя на призывно махавшего им рукавом человека с султаном на шапке. Ошеломленная внезапным вниманием, она схватила сына за руку и поспешила к каравану. Подойдя к колесу, согнулась в поклоне. Через распахнутую дверцу коляски на нее смотрел молодой белолицый мужчина. Голова его была непокрыта, волосы заплетены в длинную косу[5].
— Чьи и откуда будете?
Перепуганная Гэрэл согнулась еще ниже.
— Крепостные бэйсэ.
— Какого бэйсэ? — переспросил кто-то из свиты.
— Хурц бэйсэ.
— А-а, это Гомбо бэйсэ?! А как в этих песках оказались? — удивленно спросил сидевший в паланкине вельможа.
— Мы, рабы его, хотели бы добраться до Онгинского монастыря.
— Зачем? На моленье?
— Думаем поселиться там.
— Сына в ламы прочишь?
— Не знаю даже, как уж выйдет.
— Сколько вас и где ваши вьючные животные?
— Нас двое, а животных у нас никаких нет.
— Сколько дней идете?
— Шесть суток уже.
— Где же твоя юрта?
— Юрты нет.
— Бросили мы ее в песках, — вставил Батбаяр.
— Что-о? Бросили юрту?
— Ага, мы с мамой ее на себе несли-несли, да так и оставили в барханах, там, на юге, — пояснил Батбаяр, показывая назад.
Мужчина вышел из коляски и стоял, с интересом приглядываясь к мальчику.
— Выходит, вы всю Бударганскую гоби пешком прошли? Живет там сейчас кто-нибудь?
— Мало того что пешком, еще и юрту на себе тащили. А людей там — ни единой души.
— Так как же вы умудрились в живых остаться?
— Смилуйтесь, почтенный мой господин, над рабами неразумными. Совсем мы измучились. Я там по дурости единственное свое дитя чуть не загубила. Спаслись только благодаря вашим молитвам[6] да покровительству неба, ниспославшего нам дождь, — пролепетала Гэрэл, склоняясь до самой земли.
— Ох и досталось же нам! Идем, а ноги не слушаются, подгибаются, в горле сушь, в животе жжет, хоть ложись и помирай. Я уж и на ногах не держался, так мама брала меня в охапку и несла… А в жару разроем песок, ляжем животом на землю и лежим… — захлебываясь рассказывал Батбаяр.
Белолицый вельможа слушал мальчика с таким вниманием, что стоявшие рядом нойоны только диву давались.
— Смерть и вправду рядом с вами ходила… А мальчишка-то находчив! — поворачиваясь к свите, произнес этот важный господин.
— Истинно так! — хором отвечали ему князья и сгибались в поклоне. Люди ловили каждое его движение, и стоило только вельможе пошевелиться, как перед ним тут же образовывалось свободное пространство.
«Уж не сам ли богоравный владыка? — подумала Гэрэл, наблюдая за свитой. — А приветлив-то как!»
— И все-таки почему вы ушли из родных мест? Бэйсэ-гуай ведь у себя, в орго? — осведомился вельможа, и Батбаяр радостно, во весь голос, затараторил:
— Все началось с песчаной бури. Погода стояла — хуже некуда. А мы с мамой воду несли. Поставила она бадью на землю и вырвалось у нее: «Ох, чтоб тебя!..» Тут из юрты госпожа наша ка-ак выскочит да как начнет ругаться: «Ты, говорит, хочешь, чтобы с нами, как с Зодовом Плешивым стало, не смей больше и близко подходить…» Ну и прогнала… Потом они откочевали, а мы с мамой, сто лет ей жизни, остались…
Вельможа помрачнел, задумался, прошелся взад и вперед.
— Ты знаешь, что за человек был Зодов? — обратился он к Батбаяру.
— Нет. Спрашивал у мамы, да она сама не знает.
— Я о таком не слышала, господин мой, — обеспокоенно произнесла Гэрэл и снова низко поклонилась.
Свита притихла. Высокий сановник потемнел лицом, опустил глаза и зашагал к коляске. Потом опять повернулся к Батбаяру.
— Ламой станешь?
Батбаяр молчал.
— Что ж, если не хочешь быть хувраком, можешь выучиться ювелирному делу.
— Я умею вязать петлю для укрюка. Могу лошадей арканить, юрту поставить.
— О-о, да ты просто молодец! — произнес вельможа, разглядывая мальчика. — Неглуп и глаз у тебя острый.
Усаживаясь в коляску, спросил у пожилого, с франтоватой ниточкой усов, князя.
— Как же мы оставим их тут одних-то?
— А-а, что они нам, мой господин, — уклончиво ответил тот, косясь на Гэрэл.
— Сейчас отсюда в Гоби все откочевали. И чем дальше на север, тем меньше у этих горемык надежды наткнуться на людей. Так что дорога у них одна — прямо в пасть волкам. Или от голода умрут… Тоже, знаете ли, вполне возможный конец, — сказал вельможа и задумался.
На высокий лоб набежали морщины, приятное, гладкое лицо помрачнело, стало жестче. Гэрэл не сводила с него взгляда. Величавость движений, живые черные глаза и белозубая улыбка делали облик этого господина настолько обаятельным, что женщину тянуло коснуться хотя бы края его одежд.
— Ну вот что, залан-гуай! Отдайте им одну из заводных лошадей. Ту, что посмирнее, — объявил свое решение вельможа, и телохранители поспешили выполнять его приказание. — А вы отправляйтесь на запад и постарайтесь добраться до озера Гун. Аилов по берегам много. Оттуда уже пойдете на север, лучше всего через Улан эргийн хосог. Там тоже всегда людей можно встретить — охраняют оставленное кочующими аилами имущество.
Телохранители подвели пузатого гнедого конька и передали повод Гэрэл.
— А что без уздечки? — осведомился вельможа.
— Нет лишней, господин.
— Не беда, уздечку и из пояса сделают. Но хоть потник-то найдется?
Дали и потник. Вельможа приветливо улыбнулся Батбаяру.
— Ну что же, удалец, заходи по осени, когда я вернусь в хурээ. Не забудешь?
— Непременно, добрый господин. Низкий поклон вам за ваше милосердие, — в один голос воскликнули Батбаяр и Гэрэл, опускаясь на колени.
Один из телохранителей — смуглый, худощавый парень высокого роста — сунул Батбаяру борцоков и сушеного творога.
— Меня зовут Содном. Понадоблюсь, ищи возле Зогойнского орго, — участливо произнес он и погладил мальчика по голове.
Коляска тронулась и покатила дальше.
— Сто лет вам жизни, — еще раз поклонилась вслед Гэрэл.
— Мам, а кто это был?
— Не знаю, сынок. Но видно, очень благородный и добродетельный господин. Может, и сам хубилган. Сто лет ему жизни! Видишь, и коляска у него красивее, чем у нашего бэйсэ. Да как их сравнивать-то? Раньше мне и в голову не могло прийти, что почтенный князь, встретив простолюдинов в степи, и поговорить с ними не погнушается, да еще и приветит вот так, как нас с тобой.
— Мне велел зайти осенью. А как узнать, к кому идти?
— Видно, это был сам Розовый нойон. Больше некому! Показывали мне его, когда я ездила на поклонение Майдару. Да только издали лица не разглядеть было, а поближе подойти не удалось: вокруг асарта, где он сидел, такая толпа собралась — того и гляди задавили бы.
Мать и сын несколько раз обошли лошадку кругом, осмотрели княжеский подарок, взнуздали ее, приладили на спину свернутые дэлы. Гэрэл подсадила мальчика, взобралась сама, и они отправились в путь. Батбаяр был в восторге. Лихо гикая, он погнал скакуна вперед. Но, проскакав немного, лошадка переходила на шаг. Видно, привыкла в свое время возить какого-нибудь старика, выпасавшего отару, или катать чьего-то изнеженного отпрыска. Уж очень была она смирной и не менее того ленивой. Как только Батбаяр переставал подгонять ее, тут же останавливалась и тянулась за ближайшим пучком травы.
Сгущались сумерки. По земле стлалась туманная дымка, и оттого, в какую сторону не посмотри, равнине, казалось, не было конца.
ГЛАВА ВТОРАЯ ГОСТИ ПРИЕХАЛИ
Широко раскинулась долина Зун Богд ар. По берегам небольших мелких озер разгуливают, надменно неся свои тугие горбы, крупные рыжие верблюды. В долине множество саксауловых рощиц. Корявые стволы растений причудливо изогнуты. Смотришь сквозь них — и вдруг начинает казаться, будто навстречу мчится стайка голеньких малышей, разметав по ветру длинные волосы.
Издалека слышится ржание, из распадка вылетает, мелькая налитыми, лоснящимися крупами, табун лошадей. Далеко по округе разносится песня табунщиков:
Тень горы Хурэн Залила всю долину, Где же теперь твои насмешки надо мной, Маленький осленок?Слушая песню, о чем-то задумалась девушка, собирающая аргал. Кони, спасаясь от слепней, заходят в воду и замирают.
И верблюды и кони принадлежат гуну Ринчинсашу.
С любого конца долины виден его хотон на берегу прозрачно-голубого озера, которое облюбовали стаи турпанов и диких гусей. Кони, стоящие в воде, обилие новорожденных жеребят — прекрасная, ласкающая взор степняка картина.
На запад и юг от белоснежного, с красным хольтроком, орго стоят еще четыре юрты: материнская, трапезная, молельная и гостевая. Неподалеку — коновязь. Вот уже который день заметно здесь скопление верховых лошадей; между юртами мечутся слуги.
Гун недавно женился. На церемонию пожаловали Цэмбэлдаш бэйлэ, Гомбо бэйсэ, высшие ламы. Вслед за ними — засвидетельствовать свое почтение, пожелать новой семье благополучия и поднести дары — вереницей потянулись все прочие хошунные тайджи, чиновники, ламы помельче. Так что свадебные торжества затянулись на полмесяца.
После ночного ливня день выдался особенно жаркий. Тавнан[7] Балбар, расположившись в холодке, обозревал в бинокль окрестности. Заметив в дальнем конце долины коляску в сопровождении всадников, насторожился. Разглядел как следует едущих и со всех ног бросился в орго.
— Сын мой, ваш старший брат, хан подъезжает, — доложил он гуну.
Ринчинсаш — высокий, худощавый юнец, которому едва минуло двадцать лет, — тут же вскочил. Поспешно облачаясь в нарядные одежды, бросил служанке:
— Мать предупреди!
Молодой княгине Нинсэндэн всего восемнадцать. Она всплеснула руками, вскочила вслед за мужем, но, не зная за что хвататься, заметалась, растерялась вконец и застыла, беспомощно озираясь по сторонам.
— Ну-у, ну-у, забегали, засуетились. В ножки ему еще упадите, — входя в юрту, презрительно скривила губы княгиня Цогтдарь.
На вид матери Ринчинсаша было лет пятьдесят. Могучие ее телеса еле вмещались в светло-коричневый шелковый дэл, лоснящийся от грязи; на пухлых белых руках поблескивали массивные золотые кольца. Она повернулась к сыну:
— Только вспомню, как он присвоил жинс и хурэмт[8] твоего отца, как «гуна» тебе «пожаловал», так вот сердце и горит.
Услыхав эти речи, стоявший за порогом Балбар поморщился, кашлянул, привлекая внимание Цогтдарь, и мигнул в сторону Нинсэндэн: «При ней, мол, об этом не стоит!»
Слова свекрови и в самом деле ошеломили молодую княгиню.
«К чему бы маме говорить такое?» — задумалась Нинсэндэн и почувствовала, как по спине пополз противный холодок. Она содрогнулась всем телом, вскинула на Цогтдарь испуганные глаза, но находившимся в юрте было не до нее, женщина постепенно успокоилась.
Отовсюду высыпала детвора, стало шумно. Сайн-нойон-хана[9] Намнансурэна вышли встречать названая мать Цогтдарь по прозвищу Мудрейшая, единокровный брат — гун Ринчинсаш, тавнан Балбар, молодая княгиня Нинсэндэн. Встав рядком, родственники согнулись в церемонном поклоне. Намнансурэн вышел из коляски. Был он в парадном хурэмте, но в простом шелковом торцоке вместо торжественного головного убора с жинсом, словно хотел показать, что прибыл сюда только как родственник. Подойдя к Цогтдарь, склонился в приветствии, и та с чувством облобызала гостя в обе щеки. Братья кланялись друг другу истово. Со стороны посмотреть — вот-вот стукнутся лбами. Нинсэндэн, расстилая по земле длинный подол парчовой накидки, опустилась на колени. Намнансурэн взял невестку за руки, поднял и залюбовался ее тонким, большеглазым лицом.
— У добродетельных родителей выросла прелестная дочь! — с теплотой сказал он.
Свита хана тем временем раскланялась с семейством гуна Ринчинсаша. Тавнан Балбар, распахнув дверь орго и простерев руки в сторону покрытого белой кошмой порога, провозгласил:
— Милости просим!
В орго гостей ждали накрытые столы, и вскоре зашумело, закипело веселое застолье. Намнансурэн выразил сожаление, что опоздал к брату на свадьбу:
— Задержали дела в Да хурээ[10]. По дороге всего на несколько часов заехал домой и сразу же сюда.
— Я слышал, богдо-гэгэну[11] нездоровилось? Как он сейчас? Все ли спокойно и благополучно в тех местах, где вы проезжали? — умиротворенно улыбаясь, расспрашивал Ринчинсаш.
— С глазами у богдо не все ладно было. Но сейчас великий наш бурхан ниспослал облегчение его страданиям. Что же до тех мест, где я проехал… Служба у амбаня и уртонная повинность по-прежнему тяжела, а так вроде бы ничего особенного, — ответил Намнансурэн, понизив голос, доверительно обратился к Нинсэндэн: — Магсар не приехала, потому что беременна. Но вы же скоро будете у нас, там и познакомитесь.
Один лишь ханский телохранитель Содном, который пил айрак, примостившись у двери, заметил, как изменилась в лице Цогтдарь, услышав о том, что жена Намнансурэна беременна; как украдкой ткнула в бок сидевшего рядом Балбара.
Намнансурэн вручил родным подарки: матери, брату и тавнану — по отрезу шелка; невестке — золотые, усыпанные жемчугами подвески в инкрустированной слоновой костью шкатулке сандалового дерева; а еще развернул длинный, в маховую сажень, белый хадак и, передавая Нинсэндэн, встал, показывая свое уважение. Согнав на мгновение улыбку с лица, провозгласил здравицу:
— Пусть добродетель твоя не знает границ и да послужит она процветанию этого дома.
— В самую точку! За то, чтоб исполнилось все непременно! — зашумели вокруг веселые голоса. Оробевшая Нинсэндэн зарделась, затрепетала. Цогтдарь с непроницаемым лицом осмотрела подарки и, думая о чем-то своем, отошла от стола.
Встреча родственников за трапезой была оживленной и благопристойной.
К вечеру веселье пошло на убыль. Гости стали готовиться ко сну, Цогтдарь, пожелав всем спокойной ночи, собралась уходить, но ее окликнул Намнансурэн.
— Подождите, мама. Я с вами.
Содном тенью выскользнул вслед за хозяином. Проводив его, тавнана и Цогтдарь до самых дверей малого орго, Мудрейшей, телохранитель остался охранять их снаружи.
Когда в юрте зажгли свечи, в глаза бросился накрытый стол: видно, здесь ждали, что хан непременно заглянет в день приезда.
— У вас отличный цвет лица. А это самый верный признак хорошего здоровья… — проговорил Намнансурэн, выкладывая специально для Цогтдарь привезенные из столицы сласти.
Потом из внутреннего кармана осторожно извлек стекла в тонкой золотой оправе и добавил:
— У вас временами глаза устают, вот я и подыскал им защиту. Стекла эти и от яркого света оберегают. Вашим глазам за ними будет покойно.
Цогтдарь тут же водрузила очки на нос.
— Как же в них все ясно видно! Сколько я о таких мечтала! Ну, ничего не скажешь, порадовал!.. — ахала она.
Передавая подарок сидящему рядом Балбару, предостерегла:
— Не разбей смотри. И чтоб ни один человек не смел до них касаться! Я их как зеницу ока хранить буду. Спасибо тебе, сынок, что за заботами великими и меня не забываешь.
— Как же не помнить о вас!.. Да… Хорошо у вас тут. Вот и невестка в дом вошла. Пригожа, скромна, серьезна. Девушка, по всей видимости, аккуратная. Настоящая княгиня будет!
— Кто знает… Поначалу-то она не очень пришлась мне по душе. Но раз уж семья Сандаги-мэйрэна, ее отца, упросила вас быть и ходатаем и сватом, я возражать не стала! Пригляделась к ней: вроде бы и покорна — слова поперек не скажет, и сердцем отзывчива. А теперь уж и сама — не невесткой, княгиней ее ставлю.
— Ну вот и ладно. Брату она будет доброй женой и верной подругой. — Подумав немного, он продолжал: — Магсар в первое время тоже на каждом шагу терялась — очень уж застенчива была. Но постепенно освоилась и теперь ни перед кем в грязь лицом не ударит: всегда подход найдет, разговор поддержит. Вы ведь скоро привезете к нам младшую невестку?
— Да уж полагаю, что раньше, чем через год, обивать чужие пороги ей не понадобится, — процедила Цогтдарь.
Намнансурэн сделал вид, что не расслышал ее слов, а Балбар, стараясь замять неловкость, оживленно заговорил о том о сем..
Телохранитель Содном между тем прислушивался к доносившимся из юрты голосам. «Ишь ты, какое у них спокойствие да согласие… А что, расскажет им хан о матери и сыне, которые одни через пустыню брели? Нет, видать, и думать о них забыл. Вот если бы нойон какой-нибудь попробовал без воды да без пищи Гоби пересечь, тут уж, конечно, разговоров было бы на месяц…»
А за столом в материнской юрте Балбар откупорил бутылку, наполнил золотую чашу душистым густым янтарным вином и протянул Намнансурэну.
— Ну и чара! — усмехнулся тот, принимая ее обеими руками. — Не хуже, чем у Угедея[12]. — Окунул безымянный палец в вино, брызнул в огонь. — Богу — богово, — и, отпив глоток, поставил на стол.
— Пей, сынок, пей. На сон грядущий полезно. Фирма Да Шэнху[13] поставляет. Прекрасное вино, — проговорила Цогтдарь.
— Всех яств не перепробуешь, всех напитков не отведаешь… Жизни на это не хватит, мама.
Близилась полночь, и Балбар проводил Намнансурэна на отдых в соседнюю юрту.
Свет в лампаде, освещавшей малое орго, едва теплился. Цогтдарь мучилась от бессонницы.
— Что не спишь, ахайтан моя. Нездоровится, что ли? — спросил Балбар и, блеснув лысиной, привстал.
— Здорова я, совсем здорова. А думы вот из головы никак не идут. Беспокойно на душе.
— Ну-у, еще бы. Как же может быть иначе, коли сын, сам владетельный хан пожаловал.
— Ну, знаешь… Пожаловал — и пожаловал. Нет, думы мои совсем о другом, да только все впустую.
— Что же тебя так занимает, ахайтан моя?
— Ты что, не слышал, что княгиня Магсар беременна?
— Слышал. Так ты беспокоишься, что роды… это самое… тяжелыми будут?
— О ней беспокоиться — только себе в убыток. Небось разродится, коли на роду ей это написано.
— Так что же тебе не дает покоя, ахайтан моя?
— Человеку всегда есть о чем поразмыслить. Да и сыночка своего бедного жалко.
— Это самое… Ринчинсаша, что ли?
— А то кого же. Не глупее он других людей. Жизнерадостный, обходительный и лицом пригож. И заносчивости-то в нем нет ни капельки, что ни скажи — все сделает. А вот нет парню счастья — и все тут.
— Ахайтан моя! Но ведь беременность княгини Магсар никак не уменьшает величия нашего гуна. Разве не так? Чего же ты изводишь себя?
— Чужой человек горе матери близко к сердцу не примет, Балбар. Но вот что ты окажешься таким простофилей недалеким — никак я не думала. Верила: ведомо тебе все тайное и явное; полагала: в науке ты сведущ; надеялась: опорой мне станешь. Видать, крепко я ошиблась, — сказала, приподнимаясь, Цогтдарь.
— Да что случилось-то, ахайтан моя? Чем же я… это самое… не угодил тебе? — пробормотал Балбар, присаживаясь рядом. Его рука шмыгнула под шелковое одеяло и легла на могучее бедро Мудрейшей.
— Вот и послушником в монастыре ты был, и у вельмож в наперсниках ходил, а все ума-разума не нажил. Супруг мой — князь, покуда пребывал в добром здравии, почитал тебя за надежного, верного человека, как к родному относился. А ты? Тебе до нас с сыном и дела нет, будто мы тебе чужие. Уж не переметнуться ли замыслил?
— Ахайтан моя! Ну откуда у меня могут взяться этакие намерения? На кого же я вас променяю! Вот что глуп — это да, согласен! — Балбар склонил перед Мудрейшей свой лысый череп и, застыв истуканом, вперил глаза в лампаду, словно хотел отмолить этот свой грех.
— Да пойми же ты наконец, чем для нас может обернуться рождение наследника у Намнансурэна. Что же, моему-то сыну так и оставаться вовек козявкой во прахе?
— Понимаю, понимаю тебя, ахайтан моя! На самом деле… Такой красавец как наш Ринчинсаш…
— А если все понимаешь, так отчего рожа у тебя постная? Или ты меня испытываешь?
— Бог с тобой, ахайтан моя. Просто набегался я с этими гостями; тому одно, этому другое; тут у кого хочешь ум за разум зайдет. Ты, милая Цогтдарь, тысячу раз права.
— Ну и подхалим же ты! Слова-то подбираешь звонкие, только пустые. На Намнансурэна ханство свалилось, так ты перед ним заискиваешь, в доверие втираешься. А мы, стало быть, для тебя вроде зубочистки: пока нужда была — пользовался, а как отпала — можно и выбросить. Но вникни ты своей головой: мой сын — такой же наследник своего отца, и достоин большего. Я тебе об этом уже и намекала и напрямик говорила. Сколько же можно… — Цогтдарь сморщилась и уронила слезу.
— Успокойся, ахайтан моя! Не скотина же я бездушная, не колодец никчемный, песком заплывший. Послушай меня. Намнансурэн не скала и престол под ним может закачаться, да еще как. Хорошо, допустим, родится у него сын. Так ведь опять же, не чудо какое-то дивное, с головы до ног закованное в стальную броню, — обычный ребенок. И пусть не дождаться мне прощения красного сахиуса, если черный лус не отлучит его от земного существования… — Лицо Балбара исказилось вдруг мерзкой гримасой. Тусклые глаза налились кровью.
— Хм, ну-ка налей пару рюмок из той бутылки, — указала Цогтдарь на вино, которым потчевала Намнансурэна.
Огонек в лампаде, висящий перед большим, в локоть[14] величиной, бурханом, вспыхнул в последний раз, осветил его тяжкую длань, сжимающую трепещущее, окровавленное сердце, и погас.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ НА НОВОМ МЕСТЕ
День проходил за днем, а мать с сыном все шли и шли, сначала на запад, потом на север, по очереди отдыхая в седле, которое Гэрэл соорудила из двух скатанных дэлов. Лошадка была на редкость смирной: садись на нее хоть с одного боку, хоть с другого — она не взбрыкнет, не шарахнется.
— Добродетельный человек пожаловал, потому такая терпеливая. Вот оно — счастье, что выпадает и самым обездоленным, — повторяла Гэрэл, готовая, кажется, встать перед лошадью на колени и благоговейно на нее молиться. А толстобрюхий конек, не понимая ее слов, смиренно пощипывал травку, когда они останавливались на привал, и пил воду из любой попавшейся по дороге лужи.
— Конь-то из бедного аила, не иначе. А к вельможе в табун попал как пожертвование, — поглядывая на гнедого, говорила Гэрэл.
Они шли, оставляя позади горы и долины, через равнины и плоскогорья. Если попадался аил — ночевали там, а утром, спросив дорогу дальше, снова шли, пока не добрались наконец до местечка Улан эргийн хосог.
Здесь стояло всего две юрты. Откочевывая на летние пастбища, иные аилы оставляли на зимнике лишнее: кошмы, хомуты, потники. За имуществом присматривали обычно несколько стариков. За работу сторожа получали немного харчей — тем и кормились. Здесь, на заброшенной стоянке, службу несли исправно: днем смотрели сами, на ночь спускали дворовых псов, и пропаж не случалось. Но, разумеется, здоровых мужчин тут не было, съестные припасы быстро таяли, и старики, потуже затянув пояса, уже считали дни до возвращения соседей.
Мать с сыном прожили в этом забытом богом хотоне два дня. Из обрывков войлока и шкур соорудили шалаш. Отдохнули сами, дали набраться сил коню. Гэрэл уже подумывала и вовсе тут остаться, но заметила, что старики видят в ней и ее сыне не товарищей по несчастью, а только лишние рты, на которые им приходится тратить и без того скудные припасы. И она решила продолжать путь.
— Вот, милая ты моя: присматриваешь вот так за чужим добром, приглядываешь, привыкнешь как к своему кровному, а взять себе или людям отдать какую малость — боязно. Эх, жизнь наша тяжкая, — брюзжала старая сторожиха и была по-своему права.
Гэрэл и Батбаяр собрались уходить и уже взнуздали свою лошадку, когда в хотон прискакал уртонный ямщик на одной лошади с каким-то стариком слепцом в потрепанном красном дэле.
— Во, гляди, Цунцугийн Цагарик пожаловал. Сейчас честить всех начнет, — зашушукались старики.
— Ну что, старые развалины, не отправились еще на вечный покой, коптите небо? Меня-то хоть признаете? Ну, то-то же. А я вот все скитаюсь… И не по своей воле, а оттого, что по-другому жить не получается. — Слепой спрыгнул с коня и довольно быстро заковылял прямо к юртам, на ходу еще что-то рассказывая о себе, гримасничая и перемежая речь ругательствами и проклятьями. Своими ужимками он напоминал умалишенного, и Батбаяр, сгорая от любопытства, двинулся за ним.
«А ну как этот безумец прибьет мальчишку!» — заволновалась Гэрэл и поспешила за сыном.
Слух у слепого был поразительный: не успели Гэрэл с Батбаяром переступить порог, а уж он повернулся в их сторону.
— Кто это вошел следом за мной? Слышу легкий детский шаг, свежее дыхание. Что за ребенок, чей, откуда?
Старик сторож почтительно расспросил слепого о здоровье и поведал ему, как появились в хотоне мать и сын.
— А-а, вот оно что?! Везде одно и то же: и в Гоби, и в Хангае, и в монастырях, и в худоне. Бродя по земле, зайдите в тысячу аилов и услышите миллион проклятий. Наскитаетесь досыта… Уши оглохнут от брани, ноги станут подгибаться, а вы все будете идти, и не будет вам ни настоящего покоя, ни надежного приюта. И не думайте, что я ругаюсь. Иди ко мне, сынок! Не бойся! Не брезгуй стариком. Хочу посмотреть, как ты выглядишь, — сказал слепец, вытягивая руку.
«Только бы не заупрямился Батбаяр, а то проклянет его старик, с него станется», — подумала Гэрэл и подтолкнула сына вперед:
— Ступай! Ступай! Подойди к дяденьке. Сто лет ему жизни!
— Дяденькой меня назвала? Добрая, видно, у тебя душа, женщина. Матерью ему будешь? Небось опасаешься: если не подойдет, в нетопыря превращу? — усмехнулся слепец.
«Ой, страсть-то какая! Без глаз, а все мысли читает. И откуда только такие берутся?» — обмерла Гэрэл.
А старик взял Батбаяра за руку, едва касаясь, провел пальцами по груди, плечам, голове, погладил щеку.
— Красивый мальчуган! Голова крупная, лоб высокий. Вырастешь сильным мужчиной с большими карими глазами и широким, смуглым лицом. Семья у тебя будет большая. И все тебе окажется по силам: в ученье пойдешь — науки постигнешь, отправишься коней пасти — ургачином станешь, доску найдешь — телегу сладишь. Страдания, которые принесешь ты бедной своей матери, не будут безмерно тяжкими, кормильцем ей будешь!
— Ну-у, не слишком ли ты далеко вперед заглядываешь? — не утерпел сидевший рядом старик сторож.
— Вы, коли не знаете, лучше не встревайте! Он вам будущее получше иного бурхана предскажет. Хоть и слепой, а все видит и знает не хуже любого зрячего, — с благоговением глядя на Цагарика, сказал ямщик. — Я и сам его испытывал. На перепутье, бывало, покружу-покружу его вместе с конем да и брошу, а он все одно — свернет куда надо. А то иной раз ссажу с коня и отъеду подальше, так он покрутится-покрутится, землю пощупает, воздух понюхает, а все же отыщет нужное направление и идет себе дальше. И где бы ни ехали, все как есть расскажет: сейчас, мол, мы там-то, а сейчас мимо такого-то места проезжаем. Лошадь на уртонном яме сменили, так он только проведет по крупу рукой и тут же назовет какой масти. Встретит человека, с которым раньше судьба сводила, так по голосу признает, ни за что не спутает! Редкая память!
— Да будет вам! Жизнь меня таким сделала. Кому охота с голоду подыхать. А покуда зрячим ходил, все у меня как у других было… Это сейчас в игрушку для людей превратился. — Цагарик вздохнул и неожиданно сжал Батбаяру руку. — Ты, сынок, подальше держись от маньчжурских амбаней, от фирмачей китайских да их порученцев. Опасные это люди. Дорога жизни трудна и извилиста. Всякое на ней может случиться. Послушай-ка, что однажды со мной приключилось.
Все притихли. Теперь в юрте был слышен лишь глухой голос слепца да изредка — чей-нибудь судорожный вздох. Затаив дыхание, слушал Батбаяр про то, как жил да поживал в прежние годы старик Цунцуу. В семье у него был достаток, и возмечтал глава семейства сделать сына своего Цагарика грамотным, образованным человеком. Часть своего небольшого состояния Цунцуу тратил на обучение сына монгольскому и маньчжурскому письму. Парень осваивал науку быстро, и вот уже сделали его писцом в хошунной канцелярии. Однажды из управления делами амбаня пришел строгий приказ, предписывающий податным и крепостным аратам хошуна в месячный срок выплатить фирме Да Шэнху все свои долги вместе с процентами, достигшими к тому времени первоначальной суммы. Переводя эту бумагу чиновнику, ведавшему монастырскими хозяйствами, Цагарик по невнимательности не доложил об указанном в ней сроке. Выплата долгов затянулась, и доверенные фирмы подали амбаню жалобу, в которой сообщали, что «податные и крепостные такого-то халхаского хошуна, сговорившись, игнорируют приказ его высокопревосходительства…». Дознание, проведенное по этому делу, усмотрело злой умысел в том, что срок выплаты долгов не был назван. Цагарик наотрез отказался признать, что при переводе высочайшего приказа извратил его смысл по каким-либо тайным соображениям. Принялись допрашивать парня с пристрастием. И тогда, опасаясь за свою жизнь, Цагарик стал «быстро терять зрение», пока не «ослеп» окончательно.
— Уж и не счесть, сколько раз меня испытывали: и в воду толкали, и неожиданно в лицо тыкали все пытались удостовериться, на самом ли деле ослеп. Но я это предвидел и все испытания прошел, ни у кого не вызвал подозрений. Через некоторое время перебрался к родным, на самый что ни на есть край света, и одиннадцать лет жил там слепее слепого. Но однажды приехал к нам разъездной торговец по имени Цагандай. Надо сказать, наведывался он частенько — забирал шерсть. И даже, как я слышал, набивался когда-то в зятья. Ну так вот, приехал он, сестра подала нам кумыс. Я, как полагается, нащупал рукой пиалу, поднес ко рту и тут, забывшись на мгновение, взял да и смахнул прилипший к ее краю волос. Лицо у Цагандая сразу вытянулось, и он, на скорую руку погрузив шерсть, укатил. Могло ли мне прийти в голову, что столько лет будет ходить рядом тайный соглядатай? А вскоре прибыл нарочный, сказал, что меня вызывают в управление Улясутайского амбаня, и он приехал за мной. Было мне тогда тридцать один год. Деваться некуда — поскакали мы с ним. Гнали без роздыху, останавливались только на уртонных станциях, чтобы сменить лошадей. В Улясутае меня сразу в тюрьму посадили. Допросы вел один и тот же китайский чиновник. Помню, ходил всегда в шелковом торцоке, лицо такое мучнисто-белое… Допросил он меня в последний раз, а потом говорит:
— Что ж, так и живи слепым! — И засыпал мне глаза медным купоросом.
Вот тут-то для меня и вправду все вокруг стало черным-черно!
— О, господи, — охнула Гэрэл. — Живи сто лет!
— А зачем столько такому, как я? С тех самых пор вот уже пятнадцать лет езжу с ямщиками от аила к аилу, кормлюсь тем, что подадут. Несчастных на нашей земле много. И все-таки помнят люди о сострадании, не оставляют меня голодать, холодать. И пусть я слеп, но много слышал, много знаю… — В голосе Цагарика зазвучала безысходная тоска. Но лучше любых слов рассказывали о его муках глубокие морщины на темном сморщенном лице. — Бездомных, сирых да голодных у нас год от году все больше. А народ сгибается перед нойонами и ростовщиками все ниже и ниже. Что же дальше-то будет?
— Попридержал бы язык. Сам знаешь небось: длинные полы в ногах заплетаются, длинный язык на шее заматывается, — вставил старик сторож.
— И так уж замотало — дальше некуда. Что у бродяги отнимешь? Разве что живот? Ты-то сам многим ли от меня отличаешься? А вот сидишь — трясешься весь. Или боишься, что и сюда амбань шпиона подослал? Кому ты нужен? Там тебя и в расчет-то никто не берет. «Льстец свои каблуки раньше других собьет» — так в народе-то говорят…
Батбаяр, не поняв смысла последних слов, удивленно захлопал глазами.
— Ты вот что, сынок, — слепой привлек мальчика к себе. — Прислушивайся к тому, что старшие говорят. Это уж я трещу все без разбору да где попало, вроде шаманского бубна. Тебе так жить негоже. Тут этот дедушка прав. Учись держать рот на замке. Все слышать, все замечать, проникать в самую суть вещей, понимать, почему люди так поступают, а не иначе. Да все это молча, молча. Бед на долю бедняка выпадает много. Не один день придется горе мыкать. А потому надобно запастись терпением. Не помысли, милок, набить утробу, пресмыкаясь перед ламами, амбанями, купцами китайскими. Как бы ни было тяжело, не пачкай рук своих делами, что послужили бы во вред родным и близким твоим, народу нашему. Да не ищи себе выгоды в доносах на спутников своих или знакомых, на таких же, как ты, горемык. Помни — рука руку моет! Сейчас мы прозябаем в нужде, извиваемся полураздавленными червяками. Но так не может продолжаться вечно, что-то должно измениться. Мне того времени не дождаться, но ты, может быть, и застанешь…
Батбаяр с круглыми от изумления глазами слушал наказ слепца.
— Бедный, сто лет тебе жизни, — скорбно вздохнув, молвила Гэрэл.
Подбелив чай щепоткой кислого творога, отдающего чем-то затхлым, они подкрепились на дорогу и разъехались: старик Цагарик на юг, а мать с сыном дальше на север.
Через два дня пути, оставив позади перевал Долон даваа, они подошли к раскинувшемуся посреди обширной долины Онгинскому монастырю. Над кварталами приземистых деревянных строений возвышались зеленые, белые, красные храмы. Горели на солнце золоченые украшения их крыш, доносились звуки гонгов. Многочисленные дороги, прочертившие долину, сходясь к монастырю, преображались в широкие улицы, по обочинам которых за высокими хашанами из неструганных жердей прятались бревенчатые избушки. В каждом дворе, напоминая пеструю безвкусицу разукрашенных цветными хадаками кукол на празднике Дой, стоял длинный шест с пучком ленточек: желтых, красных, белых. На дороге, вьющейся вокруг субурганов — огромные каменные ступы с островерхими крышами-шпилями, — там и сям виднелись распростертые фигуры молящихся, перебирающих четки старух. Лам было немного: десяток-другой гэлэнов слонялись в ожидании хайлана, остальные выехали в худон.
Гэрэл с сыном подходили уже к центру монастырского поселка, когда навстречу им попался совсем еще юный, чем-то похожий на Батбаяра послушник. Пристроившись к путникам, некоторое время он мялся, не решаясь заговорить, потом наконец спросил:
— Тетенька, это вы кому лошадь ведете? Кто-нибудь из послушников домой поедет?
— Нет, милый. Это наш конь.
— А-а, так этот мальчик хочет стать ламой?
Тут их догнали два послушника постарше.
— Ага, вот он где, бестолочь. Все никак дом свой забыть не может, — воскликнул один.
— Ах ты птенчик наш желторотый! По маме и папе никак соскучился? — насмехался другой.
— Побегал за худонскими и хватит, топай-ка теперь назад, — сказал первый и, ухватив монашка за ухо, потащил за собой.
Маленький послушник бежал следом за мучителями и оглядывался до тех пор, пока все трое не завернули за угол.
Одну-единственную мечту лелеяла Гэрэл по дороге в монастырь: только бы ламы согласились взять ее бедного сыночка к себе. Пусть даже водоносом для начала. А там со временем он и сам отыщет возможность добыть себе пропитание. Но теперь, вспоминая тоскливые глаза маленького послушника, с горечью подумала:
— Отдашь вот так сына в монастырь и осиротишь его вовсе. И будут шалопаи-послушники каждый день угощать его оплеухами да подзатыльниками. Огрубеет, зачерствеет душой без материнской ласки.
Собираясь помолиться, Гэрэл с Батбаяром бродили от храма к храму, но все они, кроме одного, были заперты. Близился вечер, все сильнее донимала жажда, живот сводило от голода, и они, привязав лошадь у хашана, вошли в первый попавшийся двор. Через распахнутую настежь дверь были видны широкие деревянные нары, покрытые тюфяками, на которых за низеньким столиком восседали, поджав под себя ноги, два ламы и, прихлебывая айрак из огромных деревянных чаш, сосредоточенно двигали шахматные фигурки. Гэрэл постояла, ожидая, что на них обратят внимание, но, так и не дождавшись, кашлянула.
Пожилой лама раздраженно покосился на нее и, не скрывая своего отвращения к попрошайкам, гаркнул:
— Нечего подать.
— Сжальтесь, выслушайте, уважаемые ламы. Мы пришли на моленье из самой Гоби. Знакомых лам здесь у нас нет, а на дворе вечер. Псы по улицам рыщут, того и гляди в клочья изорвут.
— Уж не у нас ли остановиться собираетесь? — ехидно осведомился лама помоложе. — Мы бы со всей душой, да вот ведь беда — оставлять у себя девиц на ночь запрещается. Может, соблаговолите пройти чуть подальше, к юртам мирян-простолюдинов?
— Эх, боже, ты мой, боже! Сто лет вам жизни, — сказала Гэрэл и пошла прочь.
Они попросились на ночлег к другому ламе, но и тот, подав из милости несколько заплесневелых хутгушей и ломтик одеревеневшего от старости сыра, вытолкал их со двора.
«Похоже, и вправду здесь обращаться не к кому», — подумала Гэрэл и повела сына на окраину поселка.
Быстро сгущались сумерки. Все громче рычали на мусорных свалках собаки. Вокруг не было ни души, и оттого становилось тоскливо и страшно. Заметив темневший невдалеке субурган, Гэрэл с Батбаяром обошли его кругом, выбирая место потише, и, усевшись на его подножье, прижались друг к другу, стараясь согреться. Здешние ночи совсем не походили на удушливо-жаркие гобийские. На закате пала роса, а прохладный легкий ветерок набрал силу и теперь продувал до костей. Колокольчик на субургане раскачивался под его порывами и время от времени вплетал в лай собак свой гулкий звон, пугая пасшуюся неподалеку лошадь.
Батбаяр погрыз сыра, свернулся калачиком и, положив голову на колени матери, задремал. Кроме назойливого лая собак, не доносилось ни звука, и Гэрэл временами казалось, что они сейчас одни-одинешеньки в развалинах древнего глинобитного городища, посреди огромной безлюдной равнины. Истинной правдой оборачивались недавние слова слепца: «Наш измученный народ для амбаня лишь игрушка. А потому и доля у людей, что в худоне, что в монастырях, — всюду одна: тяжелая рабская доля».
Гэрэл прикрыла ноги сына попоной, осторожно коснулась губами его холодной щеки и с тоской прошептала:
— Мне-то уж все едино. И собаки сожрут — невелико горе. А ты, сынок? И зачем только судьба наградила тебя такой матерью?
Батбаяр дремал вполглаза, часто просыпался, обеспокоенно вскидывал голову и тут же снова ронял ее на колени матери.
«Вот ночь и прошла, — подумала Гэрэл, глядя на занимающуюся зарю. — Одна-то ночь еще ладно, но разве проживешь так всю жизнь? А завтра чем я накормлю сына? А что делать послезавтра? А осенью, когда наступят холода? В каких местах придется нам околевать?» — Перед глазами женщины вставали картины занесенной снегом голодной степи и скрюченные фигурки замерзающих нищих.
На рассвете они поднялись, взнуздали лошадь и двинулись к видневшемуся неподалеку роднику. У ручейка уже толкались козы и несколько черных осликов. Наполняли свои латунные фляги послушники-водоносы. Шаркая огромными гутулами, приплелись две старухи в широких ватных штанах, а вслед за ними красноносый, мордастый лама с обмотанной орхимжи головой. Протолкавшись к роднику, он выудил из-за пазухи деревянную чашку. Пять раз зачерпнул и пять раз осушил он свою посудину. Разгоняя застоявшуюся кровь, здоровяк покрутил шеей. Заметив, что за ним наблюдает какая-то женщина и ребенок, повернулся к ним спиной и, подозвав крутившуюся у родника рыжую собачонку, стал что-то ей скармливать, ласково приговаривая:
— Ах ты рыженькая, не родня ли ты самому льву!..
— Лама-гуай, — робко окликнула его Гэрэл. — Не скажете ли, как нам разыскать княжеское орго?
Мордастый смерил ее презрительным взглядом, словно хотел сказать: «А что тебе там делать?! Сдуру собака и на луну лает», но так и не удостоил женщину ответом, пошел прочь.
— Как же так, мам? С шавкой он играет, смеется, а для нас у него и слова не нашлось, — провожая ламу взглядом, воскликнул возмущенный Батбаяр, схватил первый подвернувшийся под руку камень, запустил в рыжую собачонку.
— Зачем ты так, сынок. Сто лет ему жизни!
«Не льни к ламам, амбаням, китайским купцам», — всплыл в памяти мальчика наказ старика Цагарика.
На севере, в конце долины, виднелись грязно-серые юрты. Они стояли на отшибе, этакие нелюбимые пасынки-уродцы. «Тут, видать, миряне-то и ютятся, голытьба, что мусор из монастыря вывозит, пилит ламам дрова и кормится остатками их трапез», — подумала Гэрэл.
— Куда мы сейчас? — спросил Батбаяр.
— Во-он в те юрты пойдем. Может, хоть там найдется для нас чашка чаю.
— Мам, а зачем нам туда идти? Ведь нас сам князь к себе звал!
— Господин скорее всего из худона еще не возвратился. Околачиваясь подле его хором, мы только время зря потеряем.
— А где мы его потеряем не зря? Что с того, что еще не возвратился. Пойдем посмотрим, где его подворье. Заодно узнаем, когда приедет, — не сдавался мальчик.
«Если уж ламы нас прогнали, беднякам мы и вовсе ни к чему», — подумала Гэрэл и решила не противиться желанию сына.
Расспрашивая прохожих, они дошли до северо-восточной окраины монастыря. Там особняком, на широкой террасе стоял большой дощатый хашан, из-за которого выглядывали кумирни с изящными гнутыми крышами. Гэрэл окинула взглядом золоченые украшения на крыше миниатюрного белого храма, развевающиеся на высоких шестах желтые и синие флажки, рассмотрела среди стоящих на деревянном помосте белых с красными хольтроками юрт двойную юрту с золотым навершием-ганжиром — видимо, ханская ставка — и низко поклонилась. Меж юртами деловито сновал служивый люд — у каждого на поясе чашка в кожаном мешочке, все в хурэмтах и головных уборах с разноцветными жинсами.
«Может, уже и вернулся?» — подумала Гэрэл и, ведя за собой лошадь, двинулась вокруг хашана. Путники остановились возле широких коричневых ворот и согнулись в поклоне. Мимо проходили ламы, миряне самых разных званий и чернь, но никто не удосужился обратить внимание на женщину с мальчиком. Они стояли уже довольно долго, когда к воротам подошел большеголовый, средних лет мужчина в мешковатом дэле тибетского сукна и расшитых найманским орнаментом гутулах. Мужчина уже протянул руку к калитке и вдруг застыл на месте, заметив привязанного к хашану гнедого.
— Эй, вам чего здесь надо? — окликнул мать и сына выглянувший в это время из ворот стражник. — Если поклониться хану, так он еще не прибыл.
— Смилуйся, почтенный, выслушай. Господин сам повелел нам явиться к нему, — кланяясь, сказала Гэрэл.
— Это вам-то? Неужели так самолично и повелел? — недоверчиво переспросил стражник.
— Именно так и повелел. Сто лет ему жизни.
— Когда же это могло быть-то? Он уже давненько сюда не показывался.
— Похоже, что так оно и есть. Мы-то ему в долине Батган попались. Вот, коня пожаловал, — показала на гнедого Гэрэл.
Застывший возле гнедого большеголовый мужчина резко обернулся:
— А что, вполне может быть. Гнедой-то — сынка моего! Тот самый, что мы поднесли в дар хозяину.
— Ой, и правда, это же ваш жеребчик, бойда-гуай, — расплылся в улыбке стражник.
«Узнал хозяин лошадь-то, не отобрал бы теперь», — заволновалась Гэрэл.
Стражник пошептался о чем-то с большеголовым бойдой и с неприступным лицом прошел мимо матери и сына во двор, громко хлопнул калиткой, давая понять, что на ханском подворье делать им нечего.
— Подите-ка сюда, — кивнул Гэрэл и Батбаяру большеголовый мужчина. — Чьи будете, откуда, почему хотите попасть на прием к хану? — расспрашивал он.
Выяснив все, что его интересовало, помолчал, задумчиво переводя взгляд с Батбаяра на коня и обратно.
— Чего еще из вещей привезли?
— Больше ничего, мы же сюда на моленье, — ответила Гэрэл.
— Так это все, что у вас есть? — переспросил ошарашенный казначей, тыча пальцем в потник и свернутые дэлы.
— Ага, — кивнула Гэрэл.
— М-да, — протянул казначей и посмотрел на мальчика.
— Ну-у, а ты что думаешь делать? Сможешь ли пасти овец или, скажем, коней?
— И сделать петлю для укрюка, и заарканить ею коня, и верблюдов напоить из колодца, — блеснув глазами, выпалил Батбаяр.
— Чем-то ты приглянулся нашему хану, если он коня для тебя не пожалел, — поглаживая жеребца по крупу, задумчиво сказал большеголовый и неторопливо прошелся взад-вперед. — Ну вот что, езжайте в мой аил. Он сейчас на Орхоне, в Хоргой хурмын хормой. А уж там я позабочусь, чтоб вы не ложились спать на пустое брюхо. Как? Договорились?
— Ой, конечно. Сто лет вам жизни, — выдохнула Гэрэл и повалилась ему в ноги.
— А как же быть с велением хана? Он же сказал, чтобы мы осенью пришли к нему! — набычившись, спросил Батбаяр.
— Экий ты, право, настырный, — улыбнулся бойда. — Доложу хану, как вернется, а пока, значит, ступайте на северную дорогу. Это та, что проходит по берегу реки, — там и ждите. Мой обоз, как сгрузит шерсть для Ширвэ огорской фирмы, сразу пойдет назад. Передадите Дашдамбе — будет там такой, — что я велел ехать вместе с ним.
— Слушаюсь, — сказала Гэрэл и низко, до самой земли поклонилась, как кланялась, бывало, хозяину Гомбо.
Величественный Онон с грозным шумом нес свои зеленовато-синие, яркими бликами играющие на солнце воды. Полдня просидели на его берегу Гэрэл с Батбаяром, рассмотрели каждый храм монастыря, а обоз все не показывался. С утра не было у скитальцев во рту и маковой росинки, но это ли забота для людей, привыкших к постоянному ощущению голода! Лишь после полудня показалась на дороге медленно ползущая вереница телег.
…Неторопливо идут длиннорогие волы, но вскоре позади остались и перевал Улан даваа, и долина реки Орхон. Шагая за обозом, гобийцы поднялись на Хангайский перевал — под самые, казалось, облака, — и перед их изумленными взорами открылся бескрайний простор поросших лесом хребтов. Они жадно вдыхали живительный горный воздух, как глотает родниковую воду истомленный жаждой человек, и никак не могли надышаться.
— Мам! Чем это здесь так хорошо пахнет?
— О да, сынок. Именно таким бывает запах влаги, слившийся воедино с ароматом духовитых полевых трав. Тара — родительница всего живущего, и чистилище твое, наверное, выглядит так же, — воскликнула Гэрэл, любуясь остроконечными зубцами вершин и склонами гор, покрытых сине-зелеными одеждами лесов.
— Посмотри вон туда! Будто ковер в хойморе у нашего Гомбо бэйсэ, — воскликнул Батбаяр, зачарованно глядя на пестревшую желтыми, голубыми, белыми, красными цветами полянку.
«Не та ли это райская страна, о которой рассказывали ламы-багши», — задумалась Гэрэл, а Батбаяр, заметивший под беличьим дуплом скорлупки, задрал голову и снова закричал:
— Мама! Посмотри! Их же здесь на каждом дереве… Вон на верхушках полным-полно! В Гоби за котел орехов целого ишака дают. А я тут за один день сколько их собрать могу!..
На гребне перевала сделали привал. Дашдамба — пожилой, узкоглазый, широкоскулый арат, готовя обоз к спуску, проверил втулки колес и, утерев пот рукавом своего синего обтрепанного дэла, подошел к попутчикам.
— Ну вот, это и есть знаменитый Хангайский перевал. Вам, похоже, раньше тут бывать не доводилось, — сказал он, опускаясь на траву. — Да вы садитесь. Отдохнем немного и тронемся вниз. Теперь-то уж до наших юрт недалече. Еще до темноты доберемся.
Дашдамба помолчал, поглядывая на изможденное, до черноты загоревшее лицо женщины, усеянное бисеринками пота, на жидкие пряди ее рыжевато-бурых волос, заплетенные в косицу. Пощипывая сивую бороденку, спросил:
— Надо полагать, решили у нас обосноваться?
— Выходит, что так. Пожаловал нам хан коня, а его возьми да опознай хозяин, большеголовый такой мужчина, и говорит: «Поезжайте ко мне». Согласилась я, а теперь вот все думаю — прокормиться-то сумеем ли? — посетовала Гэрэл.
«Что же за жизнь у нее была, коли пошла скитаться, да еще и с парнишкой. С другой стороны не так, чтобы уж совсем заморенные были. Ну, и не бесовское отродье… По всему видать, люди смирные, послушные. А я-то хорош: впервые их вижу, знать о них ничего не знаю, а уж судить взялся. Чего молчанием душу-то ей бередить…» — встрепенулся Дашдамба.
— В наших краях не пропадешь. Ежели, конечно, голова на плечах имеется. А ежели ты, скажем, по дереву или по камню работать мастер, так и вовсе житье не худо. Понятное дело, бедноту на все готовое никто не ждет, но уж коли бойда зазвал к себе, надо полагать, позаботится.
— А что за аил у вашего бойды? Я же о нем ну ничегошеньки не знаю.
— Это у Аюура-то?
— Ну да. Только это он промолвил «поезжайте», так меня будто кто за язык дернул. «Ладно», говорю. А теперь иду и не знаю — к кому, зачем.
— Аюур-гуай в казначеях у сайн-нойон-хана. С большими людьми знается. За последнее время хозяйство поднял, имуществом изрядным обзавелся. Как пожертвуют хану чего получше, казначей примет, ну и себя не обидит. Напоказ достатки свои не выставляет, однако мошну набил туго. Делец!.. Иной раз и домой не показывается, все, видать, недосуг. Я вот у него в работниках живу.
— Семья-то большая?
— Трое. Он да жена с ребенком. Мальчонка у него в тех же годах, что и ваш. Гнедой-то с любой стороны подпускает? Во-во, он-то как раз и приучил. А прошлой зимой мальчишка чем-то приболел, да так сильно, что пришлось казначею жеребца в пожертвование отдать. Еще бы Аюуру его не признать: он и сам гнедого любил, и паренек его души в нем не чаял. Смирный коняга, покладистый…
Заревели быки, и Дашдамба, прервав рассказ, поспешил к ним.
«Что там за люди, как они нас встретят? Ну да что теперь раздумывать… Будь что будет. Лишь бы сыну не пришлось голодать снова. А уж я-то приложу все силы, чтобы там прижиться. Чуть где потребуется моя помощь — рассиживаться да глазеть по сторонам не буду».
— Пошли, ха-а, хо-оч, — кричал, метаясь от упряжки к упряжке, Дашдамба. А Гэрэл и восхищалась его сноровкой, и жалела одновременно. Батбаяр не утерпел и кинулся на подмогу. Мокрый от пота, он носился от телеги к телеге и следил, чтобы кольца не рвали волам ноздри.
Обоз спустился по северному склону и выехал в долину. Уплывали назад рощи и скалы с бьющими в расселинах родниками, аилы с рассыпанным для просушки арулом на крышах юрт и брошенными во дворах телегами. Хотоны здесь были совсем маленькие, не сравнить с гобийскими. И юрты победнее, посерее. Там и сям паслись табунки лошадей, но аилы, где держали дойных кобылиц, попадались не часто. Из скотины — больше яков, хайнаков. Батбаяр был в восторге от новых мест. Он непрестанно крутил головой и тут же высказывал свое мнение обо всем, что попадалось на глаза.
Звенели быстрые горные речушки, тянувший с севера ветерок холодил лицо. Навстречу попадались ребятишки и девушки с вязанками хвороста, груженные кряжистыми стволами воловьи упряжки. Тут и там на обочинах валялись лопнувшие ободья.
Лишь в сумерках у подножья огромной, поросшей хвойным лесом скалы заметили они небольшой хотон из двух юрт.
— Смотри какое интересное место, будто кто нарочно придумал, — сказала Гэрэл, показывая сыну на гигантские каменные пальцы, покрытые темно-зелеными шапками деревьев.
Вскоре обоз подкатил к хотону, и Дашдамба, обернувшись, крикнул:
— Все, приехали!
На крик из серой четырехстенки выскочила растрепанная быстроглазая девчушка лет семи и, позванивая пришитыми к поясу бубенчиками, бросилась к отцу. Дашдамба подхватил ее на руки, подбросил в воздух, расцеловал.
— Смотри, Лхама, какого я тебе братика привез, — сказал он, показывая на Батбаяра, и от этих слов у Гэрэл потеплело на душе.
Пока Лхама и Батбаяр разглядывали друг друга, Дашдамба выпряг волов, пустил их пастись. Привязав коня, показал на большую белую юрту.
— В этой живет бойда. Входите, да входите же. Лхама, проводи их.
Девочка подвела мать с сыном к двери и, переступив порог, выпалила:
— А там вашего гнедого привели.
Вихрем, чуть не сбив ее с ног, вылетел из юрты мальчишка лет десяти в кое-как застегнутом дэле. Сорвав со столба уздечку и сбросив на землю потник, он вскочил на коня и был таков.
Гэрэл вошла в юрту, огляделась. Вдоль стен стояли расписанные узорами деревянные кровати и большой красный сундук, пол застлан белоснежными войлочными коврами. Бурханов немного, все удобно, красиво. Гэрэл поставила сына рядом и низко, как, бывало, супруге бэйсэ, поклонилась хозяйке аила — невысокой молодой женщине с мягкими карими глазами. Не привыкшая к церемонным поклонам, та вздрогнула: «Чего это они передо мной раскланиваются?»
Потом с нескрываемым любопытством разглядывала изнуренных, обожженных солнцем женщину и мальчика, так похожих на забредающих время от времени в их хотон нищих. «Видать, и эти за подаянием», — решила она и поинтересовалась:
— Что будете — кумыс или простоквашу?
— Хоть что, — едва слышно молвила Гэрэл, взяла протянутую ей чашку и, пожелав хозяйке сто лет жизни, передала ее сыну.
Гэрэл и Батбаяр ждали вопросов, но хозяйка молчала, не зная с чего начать разговор.
— Ну, как вы тут? — спросил входя в юрту Дашдамба. — Вот, Дуламхорло, с барышом вернулись. Донров-то твой как обрадовался. Прямо без седла ускакал. А все Аюур-гуай. Как только узнал, что хан подарил гнедого этому вот парнишке, сразу велел сюда их везти.
— Ой, Тара моя, родительница всего живого, да разве можно брать назад пожертвованный скот?! — охнула хозяйка. В смятении она не знала на что решиться: «Взять коня? А ну как вместе с ним в дом вернется несчастье? А если взять, то сколько надо заплатить этой женщине с ребенком?»
— Какая же в том теперь беда, коли хозяин сам соизволил отдать жеребца в другие руки. И потом бойда-гуай прислал их сюда не коня продавать, а тебе в помощь. Не все же самой по хозяйству хлопотать. Вот оно полегче тебе и будет, — рассудил Дашдамба.
Дуламхорло робко улыбнулась:
— Бедненькие. Откуда же вы?
— Из Гоби, на моленье шли, — ответила Гэрэл. Разговор пошел живее, и вскоре мать с сыном уже пересказывали историю своего появления в Хангае.
На вечерней зорьке заревела скотина, напоминая, что ее пора доить, и Гэрэл встала:
— Ахайтан моя! Я руки помою да пойду к коровам. Вы уж мне укажите, каков будет мой урок, — обратилась она к хозяйке, но Дуламхорло только передернула плечами. Для нее эти слова звучали как насмешка.
— И ты тоже ступай, — приказала Гэрэл сыну. — Будешь телят отгонять, как рассосут коровам вымя.
— После дойки к нам заходите. Устали небось после дальней дороги, — сказал Дашдамба, давая понять, что можно было бы и не посылать на работу только что приехавших людей, и ушел к себе в юрту.
А Гэрэл, не тратя времени понапрасну, подхватила бадейку для молока и следом за Хандой — женой Дашдамбы — пошла к стаду. Так началась для нее с Батбаяром новая жизнь — жизнь батраков в аиле Аюура бойды.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СЕРЕБРЯНАЯ ИГЛА
К ночи ударил мороз. Ветер с воем сек тьму ледяной крупой. Плакали в быстро стынущих юртах дети, ревели коровы, блеяли овцы, надрывались от крика люди, загонявшие перепуганную скотину в хашаны. И только в большом княжеском орго царил безмятежный покой. В жаровне уютно рдели угли, отбрасывая на кошмы алые блики. Цогтдарь и Балбар, раскинувшись на енотовых подушках, внимали рассказу Ринчинсаша, вернувшегося с женой после поездки к старшему брату.
— Перед самым нашим отъездом пришла депеша из управления амбаня. Брат сказал, что придется ехать в Да хурээ. Видимо, что-то очень важное. Во всяком случае, переполоху в орго было хоть отбавляй.
— Цену себе набивает. Тоже мне, фигура, — презрительно фыркнула Цогтдарь. Ринчинсаш улыбнулся в сторону, чтобы не видела мать, и продолжал как ни в чем не бывало:
— А до чего же у него мальчишка хорош! Если б вы только видели. Вылитый отец. Глаза большущие — как сливы, сам до того пухлый, что не сразу и подбородок разглядишь среди складок. А общительный какой! Чужих людей совершенно не боится. Мы как приехали — стали его с рук на руки передавать, так он язычок высунул и заливается смехом. Спокойный малыш, просто на удивленье.
— Вы, мама, себе и представить не можете, какой он славный. Ножки такие толстенькие, что в ладони не умещаются. Взяла я его на руки, так он с матерью меня спутал — стал грудь искать. Магсар его рыжим обжорой называет, — стараясь развлечь свекровь, добавила Нинсэндэн.
Дряблые, в густой паутине склеротического румянца, щеки Цогтдарь побурели.
— Ах, бедный он, бедный… И почему это таким славным малышам частенько отмерен совсем короткий век, — сказала она через силу, поднимая на невестку налитые злобой глаза. — Сглазят, непременно сглазят!
— Что вы, мама, — воскликнул Ринчинсаш. — Он у них такой крепенький и вовсе не болеет. Ест хорошо. Да и присматривают за ним все время.
Балбар, не отрывая глаз от языков пламени, огладил лысину и как бы между прочим поинтересовался:
— И что… хорошо смотрят? Или, может быть, к нему специальная стража приставлена?
— Какая там стража. Две няньки играют, да и то по очереди. Во двор часто выносят. Брат все больше сутрами занят, невестка — та вообще очень спокойная, суеты не терпит; выйдет, посмотрит на него и снова в орго — делами заниматься.
— И что это за дела у нее? Уж у кого-кого, а у нас с Магсар, кажется, их меньше всего, — заметила Цогтдарь, перебирая четки. Янтарные с коралловыми бусинами[15], они утекали у нее меж пальцев и в те минуты, когда Мудрейшая читала молитву, и даже тогда, когда рот ее изрыгал проклятия.
Высокомерие свекрови возмутило Нинсэндэн.
— А мне показалось, что там больше всего хлопот именно у Магсар, — пристально глядя на свекровь, возразила она. — Кто бы ни посетил деверя: князья или ламы, свои или проезжие — каждого она встретит, посадит, о здоровье справится, о благополучии семьи расспросит, и угостит, и обласкает. Ей и посидеть некогда.
— Это верно! — согласился Ринчинсаш. — А разговором как владеет! Слово в ее устах будто тончайшая кисть в руках живописца. Так направит беседу, что иной раз и не заметишь, как сойдутся во мнениях два совершенно разных человека. Как говорится, и вымя не истощается, и теленочек поправляется. На первый взгляд в движениях скупа, медлительна, и в то же время ничего из виду не упустит; и знатного и простого — всех приветит, никого вниманием не обойдет. Надо полагать, наша Нинсэндэн переняла хоть чуть-чуть у невестки ее манеру держаться, а? — улыбнулся Ринчинсаш.
— Вас послушать, так эта Магсар — бодисатва, и только! Живое воплощение Белой Тары. Хоть портрет в рамку вставляй и поклоняйся. Или, может, не дошло еще до этого?
— Отчего же вы гневаетесь, мама, — удивился Ринчинсаш. — Раньше мне не приходилось подолгу за ней наблюдать. А что в этот раз заметил, то и пересказываю.
— Ах, Ринчинсаш, Ринчинсаш. Ты ведь уже не ребенок. Глупеньким тебя никак не назовешь. И в то же время ты, к сожалению, совершенно не умеешь заглянуть в будущее, до наивности беззаботен. А ведь отец твой был человеком умнейшим. Тебе еще только годик был, а он уже говорил: «Вот растет достойный мой наследник, восприемник всех моих начинаний, могущества моего и величия». А ты? Или, может, нравится тебе быть на подхвате у ханского котла? Все свои полномочия, права и вольности ты своими же руками возложил на Намнансурэна, липнешь к нему, точно селезенка к рубцу. А он от спеси раздулся. Что в этом хорошего? Говорю все это только ради тебя самого. Нам с Балбаром уже ничего не надо. Недалек тот час, когда на наших костях тризну справят собаки…
— Мама! Я не понимаю, о чем это вы.
— Возможно, ты и не понял, но я-то хорошо вижу, что Магсар послушная жена Намнансурэну. По его указу она обхаживала вас, наизнанку выворачивалась! И все с одной-единственной целью — зажать вас в кулак, верными ханскими холопами сделать. А вы по молодости да по наивности и не разгадали, к чему все ее ужимки…
Хлопнула дверь, и служанка внесла в юрту кипарисовое ведерко с дымящимся супом и большое блюдо, на котором горкой возвышались прикрытые полотенцем пельмени.
— …Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Жизнь наша коротка, и я только об одном пекусь: как бы ваши судьбы, света не увидав, не сгинули в пепле, будто капли расплавленного олова.
— Кхм-кхм, — басовито откашлялся Балбар, — ну полно же, ахайтан моя. Об этом и после поговорить можно, а сейчас откушать бы не мешало! — сказал он, давая понять Цогтдарь, что вдаваться в подробности при невестке и служанке не стоит.
Девушка, накрыв в хойморе стол, склонилась перед Цогтдарь.
— Не прикажете ли говяжью голову подогреть, матушка?
— Зачем же. Небось попотчует нас Ринчинсаш привезенными от старшего братца гостинцами?!
— Конечно. Только вот рюмки у нас сухими останутся. Хотела Магсар послать, да брат запретил. Еще и выговорил ей, не смей, мол, ребят портить. К чему это с юных-то лет разной дрянью их спаивать! Так и заставил выложить, — посетовал Ринчинсаш.
— Прямо как в поговорке: «В том месте, куда так попасть норовил, с брюхом пустым трое суток ходил», — злорадно захохотала Цогтдарь. — Скажи спасибо, что у тебя мать не такая… Хранится у меня в шкафчике заветный длинношеий сосуд. Ну-ка, давай его сюда!
В сильные холода ветер быстро выстуживает юрту, и Балбар, решив воспользоваться подходящим случаем, развел в малом орго огонь, приготовил наковаленку, молоток и, когда дрова прогорели, сунул в угли серебряную заколку.
— Не брался бы ты не за свое дело. Отдай лучше Гончику-кузнецу, сделает все, что тебе надо! — не удержалась глядевшая на старания Балбара ахайтан. Балбар в ответ только вздохнул:
— Тебя, Цогтдарь, крепостные… это самое, Мудрейшей величают, и я не думаю, что они только льстят своей госпоже. Но ты иногда рассуждаешь как малое дитя.
Балбар вообще-то не осмеливался перечить Цогтдарь — та умела настоять на своем. Но тут не утерпел тавнан и намекнул, что этакую безделицу должно ему создать по собственному разумению.
— А что ж тут такого? Нет разве у нас холопов, преданных и мне, и нашему дому!
— Есть, как не быть, ахайтан моя! Не сомневаюсь, крепостные твои и тебе, и гуну служат вернее собак. Да, это самое, усердствуют. Как говорится: «Бровью поведешь — как сквозь землю провалятся, пальцем шевельнешь — тут как тут». А все же полагаюсь в этом тонком деле только на бедную свою голову. Не рвать бы впоследствии, это самое, на себе волосы оттого, что где-то в чем-то дал промашку.
— Ах вот оно что. Так ты, значит, решил заодно и за мной присмотреть, чтобы я этой самой промашки не сделала?! Что-то я тебя понимать перестала. Ты для кого же это стараешься, а?
— Погоди, не горячись, Цогтдарь. Ты же умная женщина. «Бывалый человек хлопот не доставит», — говаривал твой покойный супруг. И это поучение хозяина, который всю жизнь продержался на ханском престоле, я почитаю как… это самое, высочайшую мудрость. Когда я впервые вошел в это орго, чтобы разделить с тобой ложе, я дал клятву красному сахиусу, что никогда и ни за что не уроню высокой чести хранителя его заветов и начинаний.
Балбар впился глазами в статуэтку бурхана и воскликнул:
— Ты, должно быть, помнишь об этом!
— Как знать, как знать! Я и счет потеряла всем твоим клятвам-обетам да изящным словесам, которыми ты морочил мне голову. Еще служкой в храме был, а уже тогда не щадил чести и доброго имени моего супруга. Лип ко мне, искушал неопытную, говорил, что свечой сгораешь от любви. Ах, как кстати пришлась тебе кончина старого хана. Так было? Нет?
— Не тебе же рассказывать, как кипит в жилах молодая кровь.
— Тогда что же ты сейчас распинаешься про свои клятвы, будто в первый раз меня увидел, — накинулась на него Цогтдарь, но Балбар, заметив приоткрывшую дверь Нинсэндэн, лишь безмятежно улыбнулся в ответ и как бы невзначай толкнул заколку поглубже в уголья.
— Дядюшка, это вы для чего приготовили молоток и наковальню? Решили заняться кузнечным ремеслом?
— Что же тут такого? Дядюшка твой не белоручка, сажи не боится. Вот думаю… это самое, лампаду подправить.
— А вы сумеете? Может, лучше Гончику-гуаю отдать?
— Разве можно передавать священную утварь в руки человека подлого происхождения, — укоризненно покачал головой Балбар.
— Что-то мне сегодня нездоровится. И голова тяжелая. Прилягу я, — морщась, простонала Цогтдарь. — Вы бы уж прекратили шастать-то взад-вперед.
Нинсэндэн, догадавшись, что свекровь недовольна ее приходом, сникла:
— Я только хотела спросить у вас, какой тесьмой обшить новую накидку?
— А чем была обшита парчовая накидка у Магсар?
— Отделка, кажется, была зеленая с золотом. Я особенно не присматривалась.
— Э-э, милая моя. Если не могут превозмочь человека богатством, стараются одолеть его умом, мастерством. Сделай хоть чуть-чуть по-иному, чем Магсар.
Поклонившись, невестка вышла. Балбар дождался пока стихнут ее шаги:
— Цогтдарь! Я хочу тебе вот что сказать: если мы с тобой… это самое, красуемся друг перед другом — беда невелика. Но вот молодая невестка… Чую я, напрасны твои старания подобрать к ней ключи. Говорят, чужая корова не хуже нашей, да поди проверь!.. Отец ее — Сандаг мэйрэн — человек своенравный, неуступчивый. Однако я не удивлюсь, если выяснится, что он и с Намнансурэном снюхался.
— Ну так что с того? Не таков мой сын, чтобы из-за этой сухой как хворостинка девки голову потерять. Дело на нее не променяет.
— Никак ты не хочешь понять меня, Цогтдарь. Не в ней дело! Цель наша велика, горой возвышается. И ведет к ее вершине путь крутой, тернистый. Верю, одолеем все преграды, но если мы хоть где-то… это самое, оступимся, то полетим в такой омут, из которого вряд ли выплывем.
— Вот сейчас я тебя, Балбар мой, поняла до конца. Не о чем нам больше говорить. Среди нас один ты умный, повидавший жизнь человек. Иди себе — не оступаясь, не падая. Обойдемся как-нибудь. Не такое уж это сложное и рискованное дело для настоящего мужчины, умеющего доводить до конца задуманное. Ничего. С тобой ли, без тебя ли, но выведет судьба моего сына в люди.
— Да пойми же ты наконец: не отрекаюсь я ни от чего, не за свою шкуру трясусь. Что наметили сделать — все… это самое, исполним. И плоды пожнем. Мне ли не знать, что делаю это ради нашего же с тобой счастья. Но только… это самое, вдумайся ты хорошенько в мои слова. Готовиться надо основательно, но осторожно и с оглядкой, чтоб комар носа не подточил. Вот о чем речь. К нашему гуну не только небо благоволит. Если примет на себя бремя власти, он для всех подданных будет значить не меньше, чем солнце или там луна, — стараясь умиротворить Цогтдарь, разглагольствовал Балбар.
— Что ты тут несешь всякую чепуху. Недаром говорится: кто многое замышляет, никуда не успевает.
— Цогтдарь, об этом кроме нас с тобой не должна ведать ни одна живая душа. Ты уж постарайся, ахайтан моя.
— Ладно, ладно. Не болтушка какая-нибудь.
— Ну, вот это другой разговор. А я поеду в монастырь, погляжу, что там и как. Подберу пару верных, надежных людей, — сказал Балбар, обстукивая молотком нагревшуюся заколку.
Цогтдарь напилась чаю, прилегла на лисий тюфячок.
— А обыкновенную иглу взять ты не можешь?
— Моя-то не для простого человека предназначена. Будет из благородного металла, глядишь, все его добродетели и достояние и перейдут к другому человеку без всякого урона. Опять же, с рукояткой делаю, ухватистую.
— Не годится серебро на такие иглы, гнуться будет.
— А мы на нее стальной наконечник насадим, — ответил Балбар, обстукивая заколку.
День за днем, как только выпадала свободная минута, садился косоглазый тавнан натачивать свою иглу.
Заметив, что дядюшка, таясь от всех, что-то мастерит. Нинсэндэн решила: «Подарок готовит старшей невестке».
В большом орго никого не было. Ринчинсаш с женой, накинув на плечи одинаковые, синего шелка дэлы, подбитые мехом горного козла, уселись рядом на низенькие, обтянутые сукном табуретки и развлекались, загадывая друг другу загадки.
— А правда, у старшего брата хорошенький мальчуган, — вздохнула вдруг Нинсэндэн. — Мне прошлой ночью приснилось, будто лежит он рядом, обнимает меня. Ручонка у него мягонькая-мягонькая. Щекотно так. Глаза открыла, а рядом никого. Вы отвернулись, похрапываете. Как-то не по себе мне стало. Вышла во двор — у мамы свет горит, тоже, видно, не спала.
— А я и не почувствовал, как ты ушла. Так и в чужие руки попасть недолго. Что мне тогда делать?
— В какие руки? О чем вы?
— Ну как же, если оказалась бы ты в чьих-нибудь объятьях…
— Князь мой! Откуда у вас такие гадкие слова взялись? Значит, вот вы как обо мне думаете, — навернулись слезы на глаза Нинсэндэн.
— Что ты, что ты, я же пошутил.
— Разве так шутят? Неужели вы допускаете мысль, что я могу вот так…
— Обиделась? Не надо, — Ринчинсаш обнял жену, погладил ее волосы и поцеловал в губы долгим поцелуем. — Может быть, скоро и у тебя будет малыш не хуже, чем у брата. Ну, успокойся, — прошептал он ей на ухо.
В душу Нинсэндэн закралась необъяснимая тревога.
— Ой, и не знаю даже, — вздохнула она, прижимаясь к мужу, но тут в орго вошел Балбар и молодая женщина в испуге отпрянула: «Ну, как и он, вроде свекрови, начнет выговаривать: «Знай где начало, да не теряй края».
Но Балбар только весело подмигнул:
— Вот, забежал посекретничать с вами. На днях в монастырь еду, старшую невестку проведать. А то неудобно получается. Как уехал Намнансурэн в Да хурээ, от нас ни слуху ни духу.
— Конечно, поезжайте. Мы и сами уже думали весточку какую подать, — оживился Ринчинсаш.
— А я вот сметала ее малышу ягнячью душегрейку. Мягонькая такая получилась.
— Ай да ребятки, ай да молодцы. Матушка ваша извелась вся, все думает, чем бы их порадовать. А у вас уже все готово, — засмеялся Балбар.
Через несколько дней тавнан облачился в волчью доху, приторочил к седлу заводной лошади переметные сумы и отбыл.
В Онгинский монастырь Балбар приехал засветло и сразу же отправился в серое орго[16]. Встретили его радушно. Казначеи, зайсаны и телохранители наперебой расспрашивали о благополучии семьи, о здоровье Мудрейшей, о худонских новостях. Рассказали, что хан до сих пор в отъезде, интересовались, надолго ли Балбар приехал и когда доложить о нем госпоже. Но дожидаться аудиенции не пришлось.
Магсар, как только ей сказали, какой гость приехал, подхватила на руки сына и прибежала в серое орго.
— Дядюшка! Ну почему же вы сразу к нам не пошли, будто мы вам чужие. Глядите, вот он, мой сын. Ну, пойдемте же, пойдемте скорее ко мне.
Балбар поспешно вскочил.
— Вы уж, ахайтан, не браните старика. Но только родство родством, а этикет — этикетом. Зашел испросить аудиенции и… это самое… заболтался. Вот, понимаешь, какая штука, — смущенно развел руками Балбар и уставился на малыша. Большие смышленые глазенки мальчика, весело перебегавшие с одного лица на другое, наткнулись на взгляд Балбара, дрогнули, и ребенок вдруг отвернулся и без причины заплакал.
Люди в орго испуганными птицами слетели со своих мест, окружили Магсар.
— Что это с ним?
— С каких же это пор ты стал таким нелюдимым?
— Ай-яй-яй, разве можно пугаться собственного дедушки, — на разные голоса тетешкали они младенца.
Балбар не понимал, что с ним происходит. Даже гнев старого хана, бывало, не мог надолго вывести его из душевного равновесия, но сейчас… От плача младенца ему вдруг стало нехорошо: затряслись руки, бросало то в жар, то в холод.
Магсар привела его к себе в орго. В юрте Намнансурэна все было по-прежнему: простая мебель — чайный столик, покрытый киноварью, двойной сундук сандалового дерева, ложе с пестрым пологом, белые войлочные ковры и бурханы в хойморе — все это было давно знакомо Балбару.
Княгиня Магсар усадила гостя, расспросила о здоровье Мудрейшей, гуна, невестки; о том, как зимует скот, как живет крепостной и податной люд.
— Если мама на здоровье не жалуется, то и у меня душа спокойна. Я вас все время, можно сказать, выглядываю: вот, думаю, приедет, вот приедет кто-нибудь от них. Очень самой съездить хотелось, собиралась уж несколько раз, да так и не выбралась — побоялась сына в дороге застудить. А так хотелось его маме показать!
— И у нас вся душа изболелась. Давно ведь не виделись-то. У матушки астма, в дальнюю дорогу тоже… это самое, отправиться не решается. Но с утра до ночи только и твердит: надо бы съездить, надо бы проведать. Да только дальше разговоров дело-то не движется, — посетовал Балбар. — А уж вам свободное время и вовсе не выбрать. Тут тебе и служба, и, опять же, сына растить. Хан наш — человек обстоятельный, в каждое дело вникает. Хошуном управлять — дело нелегкое, а уж аймаком — и подавно.
Служанка внесла чай, закуски. Магсар принялась потчевать Балбара, а годовалый малыш все никак не мог успокоиться: принимался капризничать всякий раз, как гость попадался ему на глаза.
— Чего тебе неймется, мелюзга голопузая. Нет у нас и в заводе, чтобы людей бояться, — пожаловалась расстроенная Магсар. Прижала к себе сына, чтобы тот не увернулся, дала поцеловать Балбару и отправила с нянькой из юрты.
— Еще бы ему не пугаться. Явился какой-то лысый старик… Привыкнет со временем, буду я и для него «дядюшкой», — успокоил гость молодую мать, пытаясь унять бивший его озноб. «Вот пакостный дьяволенок. Не иначе как что-то учуял, мерзавец. Ну как же, еще и Ринчинсаш говорил, что чужих совершенно не дичится. Осложняется дело».
Все матери на один лад: любят рассказывать о своих детях. Вот и Магсар увлеклась и без конца перечисляла дядюшке милые проказы своего сыночка. А тот выходил из себя: «Вот заладила…» Вслух же поддакивал с улыбкой.
— Да-да, что может быть на свете дороже детей. Появятся они на свет, и вся твоя жизнь пойдет кувырком. Побоку все остальные дела, заботы. Вот и на вашем небосклоне взошло солнышко, озарило дом, наполнило радостью. Наш Ринчинсаш, когда вернулся от вас, так просто светился от счастья. Теперь у них с Нинсэндэн только и разговоров, что о вашем малютке!
— А Намнансурэн, вы себе представляете, всякую свободную минуту бежит поиграть с ним. Все время просит дать ему сына голышом поносить. Недавно собирался уезжать, хотел нас с собой взять, но не решился: дорога дальняя, животик у ребенка расстроится — намучаешься.
— И десять тысяч раз был прав! — отозвался Балбар, выкладывая привезенные из дома подарки.
Княгиня всплеснула руками:
— Ой, мама даже сушеного хурута прислала. Значит, помнит, что я его люблю!
Балбар, покряхтывая, поднялся и, сославшись на усталость, собрался уходить.
— Вы, конечно, побудете у нас? Кажется, нет причин назад торопиться?
— Долго-то задерживаться не рассчитывал. Думал, однако, побыть при тебе, пока… это самое, Намнансурэн в отъезде. Поспокойнее тебе будет.
— Лучше всего, если бы вы всей семьей обосновались где-нибудь поблизости. И у господина нашего — Намнансурэна — душа была бы спокойна. А то нет-нет, да и вспомянется: как вы там, здоровы ли? На зиму и весну ставили бы свое орго здесь. И на моленье недалеко, и мы, если что, рядом.
— И мне то же самое в голову приходило, — кивнул Балбар. — Но об этом матушке должен сказать сам хан. Со мной она мало считается. Предложи я такое — глядишь, и откажется наотрез. Еще и отругает: ты, мол, успокоишься только, когда мы все на ногах держаться перестанем, — оскалив мелкие желтые зубки, захохотал Балбар.
Вот уже несколько дней жил Балбар в монастыре. Каждое утро, помолившись в орго Намнансурэна, отправлялся он играть с малышом — старался приучить к себе. Маленького княжича отдавали матери только на ночь, все остальное время он проводил с няньками: девушки гуляли с ним во дворе, носили с собой в трапезную, в серое орго и юрту писцов. Мальчуган редко капризничал, чаще спокойно наблюдал за тем, что делается вокруг него, или, высунув язычок, смеялся, тянул в рот все, что попадало ему в ручонки. Малыш быстро привык к Балбару и теперь на руках у него улыбался, что-то лепетал и пускал пузыри. Однако временами, как и прежде, он вдруг замирал, куксился и отворачивал от лысого деда лицо, словно никак не мог получить ответа на важные вопросы: кто ты и почему, когда смеешься, так холодны твои глаза? Какой умысел скрываешь притворным своим смехом?
Балбар и сам заметил, что у него начинают дрожать пальцы и учащенно бьется сердце как только он подходит к мальчику. «Раньше такого со мной не случалось. Почему этот мальчишка выводит меня из равновесия? Хорошее это предзнаменование или плохое? — терзал самого себя Балбар. Ночь проходила за ночью, а ему все снился захлебывающийся плачем малыш. — Что за чертовщина! Сам виноват! Нечего было тянуть так долго. Приехал бы, пока он слюни пускал в младенческих пеленках, и все бы проще было. Теперь вот мучайся», — досадовал Балбар. С утра до вечера он следил за мальчиком, выбирая удобный момент.
Однажды выдался морозный, но безветренный солнечный день. Во дворе, у дверей храма няньки поставили деревянный столик, постелили тюфяк и уложили княжича спать. Одна из нянек осталась приглядывать за малышом, долго стояла рядом, но, заметив входящего в здание господской казны Аюура бойду, вдруг всполошилась и бросилась зачем-то вслед за ним. Балбар огляделся по сторонам — во дворе ни души. Осторожно ступая, подошел к столику. Мальчик мирно посапывал. Серебрился инеем краешек одеяла.
«До темени — только руку протяни. Вот она — удача», — понял Балбар, и сердце его заколотилось. Косоглазый тавнан оглянулся, сунул руку за пазуху, и в ладонь легла рукоятка серебряной иглы.
Малыш улыбался во сне, выдыхая, смешно надувал свои пухлые розовые щечки. Балбару вдруг стало жаль это трогательно-беззащитное существо и представилось вдруг: усни этот мальчик вечным сном — и землю окутает мрак.
Балбар тряхнул головой, отгоняя виденье, стиснул зубы и, скосив глаза на темя малыша, занес руку с зажатой в ней иглой. Но тут силы будто разом оставили его, в глазах помутилось, а сердце, казалось, вот-вот разорвется на части.
Балбар отдернул руку, прижал ее к груди.
— О боже, сахиус мой, неужели не смею? — прошептал он и покачнулся. Ему пришлось собрать все силы, чтобы устоять на ногах. Балбар глубоко вздохнул, унимая сердцебиение, и, заметив, что мальчик открыл глаза, отпрянул:
— Спи, сынок, спи, — прошелестел его дрожащий голос.
Подбежала нянька, но — простая душа — и внимания не обратила на сильно вспотевшего, несмотря на мороз, Балбара.
Две ночи не мог уснуть тавнан, переживал.
«А ты, оказывается, трус, — укорял он себя. — Гнешься да маешься, как свинцовый наконечник. Какой же ты мужчина, если на ногах устоять не можешь, будто одер в бескормицу. До того размяк в окружении высоких особ, что дело, такое нужное всем дело, сделать не можешь! Чем так пробавляться, уж лучше… это самое… затеряться где-нибудь, чтобы не видели меня, не слышали. Буду бродить или таскать баклагу, спокойно, никаких волнений… Вот только лучше ли? Цогтдарь норовит моими руками змею изловить? Не тот она человек, чтобы свернуть с полдороги. Не сделаю я, найдет другого, но задуманное доведет до конца обязательно. Нет, все-таки она у меня хороша. Смелая, прямая, слова лишнего никому не скажет. И меня по-настоящему, всем сердцем любит. После смерти старого хана осталась одна, такая молоденькая, грациозная, как лань. Много вилось вокруг нее утешителей — и не маленькие люди, а она отдала свою любовь мне, монастырскому служке, оборванному гэцулу. И потом, что неправедного в ее замысле? Если Намнансурэн, сын покойной княгини, стал ханом, то почему нельзя получить ханство и сыну Мудрейшей? Чем наш Ринчинсаш хуже Намнансурэна? И умен, и лицом, и ростом удался. Опять же, получи наш гун звание хана, все будет делаться так, как я ему подскажу. Нет, замысел моей Цогтдарь — пресечь род Намнансурэна, а его самого отправить в Шамбхалу[17] — не пустой сон», — думал Балбар. Всю ночь он ворочался с боку на бок, а на утро явился в орго к Магсар.
— Смилуйся, ахайтан моя, отпусти старика на несколько дней. Съезжу домой, расскажу вашей матушке о том, как мы тут живем, и сразу назад. Надо бы еще побыть с тобой… это самое… рядом, в свите, так сказать, пока не вернется господин наш, только боюсь, если не дам о себе знать, Цогтдарь волноваться будет.
— Покоя вам, дядюшка, нет? Может, лучше я человека к ней пошлю? — предложила Магсар. — Не хотите? Тогда постарайтесь вернуться скорее. Мне вы опора, и сын, кажется, к вам уже привык. А сможете, так привозите маму с собой, — сказала Магсар и пошла собирать гостинцы.
На закате Балбар спешился у малого орго. Замерзший пот белой пеной покрывал шкуру его вороного.
Цогтдарь взглянула на вошедшего Балбара и сразу поняла, что тот вернулся ни с чем.
— И куда же это ты так заторопился? Или решил уносить ноги подобру-поздорову? — встретила она его вопросом.
— Есть, есть, что… это самое… рассказать. Ну-ка, распорядись. Пусть поскорее сделают чайку да поесть что-нибудь, — ответил Балбар, не сводя с нее своих раскосых глаз.
«Там произошло нечто важное, и он приехал посоветоваться? Или собрался сказать, что нет надежды на осуществление нашего замысла? Переметнулся к Намнансурэну? Не должен бы», — терзалась в догадках Цогтдарь.
— Намнансурэн уехал на самое непродолжительное время. Магсар чувствует себя хорошо. Сынок их растет не по дням, а по часам, того и гляди бегать начнет, — начал рассказ Балбар.
Лицо Мудрейшей побагровело.
— Вот нужда мне слушать про их здоровье! Или я посылала тебя с родственным визитом да за сплетнями?
Балбар закрыл рот и стал ждать, когда Цогтдарь сменит гнев на милость и сама начнет его расспрашивать, но Мудрейшая не пожелала ронять свое достоинство вопросами и молчала.
Тем временем принесли чай. Торопливо вошли послушать монастырские новости Ринчинсаш и Нинсэндэн.
— Ну, как дома у старшего брата? Как их сын? Большой, наверное, стал? — тормошила Нинсэндэн Балбара. — Вы заметили, дядюшка, людей он совсем не боится? Вот странный мальчуган!
— Это да, — поддакнул Балбар, вспомнил, как заревел в испуге впервые увидевший его малыш, и поморщился.
Задумчивость Балбара и односложность его ответов насторожили молодую княгиню. «Что это с ним? Или хотели чего-то добиться от старшего брата, да не вышло?» — подумала она.
Заметив состояние Балбара, примолк и Ринчинсаш. Принесли еду. Гун с женой поговорили с дядюшкой о том о сем и вернулись к себе.
Цогтдарь продолжала хранить молчание, помалкивал и разобидевшийся Балбар. Посидев еще немного, ахайтан легла и накрылась волчьим одеялом. Балбар осторожно устроился рядом и приладился было почтительно ее обнять, но Мудрейшая ткнула своего ласкового друга локтем в бок и отвернулась к стене.
— Я… это самое… хотел одну только ночь отогреться возле тебя, а завтра-послезавтра обратно в путь, — пробормотал Балбар, лаская тяжелые груди Цогтдарь.
— И к кому же это — можно ли узнать?
— Я… это самое… обратно в монастырь.
— Что, с Магсаровой посудницей снюхаться успел?
— Ахайтан моя! Мне уж ладно, а вот остальным скверный свой характер показывать не стоит. Я-то что, норов твой… это самое… знаю. Что бы ни случилось, все вроде мусорной корзинки.
— Мусорная корзинка, говоришь! А кто здесь плел разные басни да цену себе набивал? Или задумал обмануть меня, как обманывал в свое время моего мужа, продать нас Намнансурэну, завоевать его доверие, а Магсар взять старым испытанным способом? Чтоб она оплевала всю твою плешь, старый козел! И будь уверен, она так и сделает, если только от похоти не потеряла остатки умишка. Блюдолизов да телохранителей в монастыре-то тьма, найдутся желающие насытить эту сучонку, — зашипела Цогтдарь, стараясь побольнее задеть Балбара.
— Ну-у, если разговор у нас с тобой и дальше так пойдет, то… это самое… ничего хорошего не выйдет. Я спешил сюда, думал на будущее с тобой договориться. Но коли мы не находим общего языка, тут уж ничего не поделаешь, — спокойно, но внушительно сказал Балбар.
Привыкшая всегда держать верх над Балбаром, Мудрейшая вспыхнула и, отшвырнув одеяло, вскочила.
— Ты еще и важность на себя напускаешь. Ах ты хамбарам чванливый! А ну, прочь с моей постели!
— Нисколько я… это самое… не важничаю. Не с чего мне чваниться. Но если уж стал в тягость, могу и уйти, — равнодушно сказал Балбар, закладывая руки за голову.
«А ну как он и вправду в монастырь уйдет? Оденет орхимжи и затворится в келье. Что делать тогда? Без него как без рук», — подумала вдруг Цогтдарь.
— Ты для чего вернулся? Мчался сюда так, что конь весь в мыле. А сам молчишь, душу мне выматываешь. Поневоле в голову полезет всякое. — Она говорила, стараясь унять гнев. Встала, отхлебнула чаю. Балбар молчал. Цогтдарь накрыла его одеялом, достала из шкафа бутылку.
— Может, горькой глотнешь?
— Нет, чем все-таки ты хороша, так это тем, что замахиваешься сильно, да бьешь не больно, — хихикнул Балбар, подскочил и обнял свою любезную за пышную талию.
Поставив молочную водку греться на угольях, Балбар и Цогтдарь уселись рядом и, накрывшись одним дэлом, прижались друг к другу. Они то негромко переговаривались, то замолкали, прислушиваясь к завыванию ветра, силившегося сорвать с крыши войлочную кошму.
— Что-то холодно стало. Может, ляжем?
— Давай. У меня поясница вконец заледенела. Растер бы.
Огонек в лампаде перед бурханом уже едва теплился, а Балбар и Цогтдарь все еще не могли наговориться.
— Отсюда «лекарство» возьму. Я… это самое… сахар растоплю, смешаю, наделаю леденцов и захвачу с собой. Но оно может оказаться и слабоватым. Как-никак пятый год лежит. Так что надо бы его сначала на собачке испытать. Верно я… это самое… говорю?
— Что-то больно легко у тебя все получается.
— Ну нет, свои трудности и здесь есть.
— Какие это?
— Под конец, когда изменится цвет тела, поймут, что дали яд.
— Так что с того? Тебе ли не знать, сколько людей со свету сжить его готовы.
— Э-э, так рассуждать тоже… это самое… нельзя. Наше дело на этом еще не кончено. Магсар, похоже, опять в тягости. Видели, как ее мутит после еды.
— Вот горе-то! А ведь вполне может быть. У покойного мужа весь род многодетный.
— М-да, вот и выходит, что надо осесть у Намнансурэна, стать там своим человеком и взять на себя «попечение» о его семье.
— Прав ты, тысячу раз прав. И слова твои о том, что следов оставлять нельзя, совершенно справедливы.
— Конечно, как же иначе. Намнансурэн и сам не дурак, быстро раскусит, в чем дело. Недаром многие чуть ли не за бурхана его почитают. Всегда на глазах. Халхаские нойоны, да что там они, маньчжурский амбань и сам богдо-гэгэн с ним считаются. Случись им заподозрить что, просто так не оставят, обязательно расследование затеют. Да и окружение… Крутится возле него один пройдоха.
— Ну и что? Кто он такой?
— Да неприятный тип. Смурым кличут.
— Нашел кого опасаться. Это же сын табунщика. Ты что, не помнишь его? Еще недавно сидел писаришкой в рваном дэле.
— Конечно, помню. Только сейчас Смурый этот на меня так смотрит, что не по себе становится. Будто все мои мысли… это самое… насквозь видит.
— Труслив ты стал, вот и мерещится всякое.
— Не-ет, правду сказать, ушлый он человек и жестокий. У Намнансурэна вроде правой руки. Всеми хозяйственными делами ворочает. И тут он господином вертит как ему вздумается.
— А если подцепить его на чем-нибудь?
— Не выйдет скорее всего. Я уж за ним во все глаза смотрел.
— Посули звание бэйлэ, золота. Не может не польститься.
— И не думай. Он не то что бэйлэ, он бэйсэ скоро получит. Вот разве что престиж Розового нойона пошатнется, тогда этот залан и сам, возможно, начнет посматривать в нашу сторону, — сказал Балбар, пощипывая свой длинный подбородок.
— Постой, но тогда почему он тебе подозрителен?
— Смурый-то? Замашками. Законы знает древние и нынешние получше своего хозяина, а по рассказам чиновников, старается ладить со всякой рванью: писцами, гонцами, простолюдинами. Прислушивается к ним. Оттого и крепостные людишки и податные — все к нему тянутся. Где что случится — ему первому известно.
Шел второй месяц, как Балбар вернулся в Онгинский монастырь, нагруженный замороженным в мехах айраком, маслом, говядиной. Для него не составило большого труда завоевать доверие и привязанность Магсар. Она считала уже в порядке вещей, что дядюшка брал ее сынишку на моленья. Все знали спокойный, покладистый характер косоглазого тавнана, и поэтому никого не удивляло, что он заранее был согласен с любым ее мнением.
— Вы с моим сыном сдружились, будто одногодки. Он вам скоро своими леденцами весь дэл замызгает, — участливо говорила Магсар, а Балбар только смеялся в ответ.
— Ничего! Когда подрастет, я с него… это самое… дэл побогаче стребую, — и, подхватив мальчика на руки, целовал. — Да я уж и сам теперь без него, большеглазого, скучаю. В душу запал, мальчишечка мой хороший. — И он подбрасывал мальчика вверх и строил ему гримасы. — А как же отец-то по нему скучает. Во сне, наверное, видит. Скоро он к нам приедет, игрушки красивые привезет.
Магсар весело рассмеялась:
— Не любит наш господин на такие пустяки тратиться. От него только и слышишь: «Своими бы деньгами погасил задолженность хошунов — дал бы податным людям вздохнуть свободно». От сына он без ума, но вот игрушки ему привезти?! Все время ворчит: «Нечего в юрте держать, пусть на улице, на земле играет. Ребенка с малолетства закалять надо. Не ряди его в шелка, не балуй. Не хватает, чтобы неженка, спесивый барчук из него вырос». Наверное, это правильно, — задумчиво сказала ахайтан.
— Едет наш папка, едет, — приговаривал Балбар, играя с мальчиком.
Наступила весна. И вот однажды, когда стаял снег, из Да хурээ примчался в конной кибитке Намнансурэн.
Долго ждал этого часа Балбар. Не в силах усидеть на месте, он метался по юрте, радостно потирая руки.
— Вот он, случай, дождался-таки. В суете-то оно сподручней… К завтрашнему утру все должно свершиться.
Встречать господина высыпали все обитатели ханских хором. Магсар с ребенком на руках ждала мужа у ворот. Намнансурэн взял сына, расцеловал.
— Ну вот, теперь я спокоен, — с улыбкой сказал он. — Стосковался по нему. Всякий раз, как вспомню в разлуке его пухлую мордашку, так сердце защемит…
Балбар приблизился к хану, низко поклонился, выражая свое глубочайшее уважение, осведомился о здоровье.
Магсар приветливо улыбнулась ему и, обращаясь к мужу, сказала:
— Вскоре после вашего отъезда к нам приехал дядюшка. Не знаю даже, как объяснить, кем он для меня стал. Будто уверенности придал. Рядом с ним душа ни о чем не болела. И сын к нему привык. Они теперь вместе на моленья ходят.
— И прекрасно! Матушка, надеюсь, здорова? Дядюшка, наверное, решил на время оставить ее, чтобы опекать тебя. И заботился, видно, от всего сердца, — с радостью отметил Намнансурэн.
— У нас все здоровы, жизнь идет своим чередом. А тут глава семьи в отъезде. Дай, думаю, поживу рядом, пока он не вернется. Все им поспокойнее будет. Теперь вот встретились, все живы-здоровы, и у меня с души будто камень свалился, — сказал Балбар, и сердце его заколотилось еще сильнее.
На закате в честь возвращения хана в сером орго был устроен пир. Одна за другой поднимались заздравные чаши, и вскоре за столом не осталось трезвых. Балбар, выпив вместе со всеми первые две рюмки, терпеливо выжидал. Заметив, что Намнансурэн велел унести сына, Балбар, выждав минуту-другую, выскользнул из юрты.
Тучи заволокли небо, и оттого вечерняя тьма казалась еще чернее. Балбар огляделся. Во дворе ни души, тишина. Слышны лишь пьяные выкрики пирующих да голос няньки из крайней юрты, что стоит у самых ворот. Балбар подкрался, прислушался.
— Посиди немного один, поиграй вот с игрушками. Твоя няня скоро вернется, — донесся голос девушки.
Ждать пришлось недолго. Нянька вышла из юрты и побежала в дальний конец хашана. Балбар выждал, пока она скроется в темноте, и метнулся в юрту с зажатой в кулаке серебряной иглой.
Никто не услышал пронзительный крик малыша.
ГЛАВА ПЯТАЯ БЯЛЗУХАЙ — ГОРНЫЙ ЖАВОРОНОК
К ночи Гэрэл с Батбаяром возвращались в юрту к Дашдамбе, расстилали старую потертую шкуру и устраивались на ночлег. Батбаяр засыпал, не успев донести голову до подушки. Мальчика не смущала жесткая постель, он преспокойно спал и вместе с ягнятами, когда тех в сильные холода загоняли в юрту.
Семья Дашдамбы ютилась в маленькой четырехстенке, покрытой ветхими, дырявыми кошмами. Таким же жалким было ее имущество: потемневший от времени сундук, застланная шкурами и лоскутными тюфяками дощатая кровать да пара деревянных ящиков. С приездом Гэрэл и Батбаяра рабочих рук в аиле прибавилось, но и теперь здесь не было человека, который мог бы выкроить свободную минуту, забежать домой, отдохнуть.
Взрослые вставали с рассветом и возвращались затемно. В аиле оставались одни малыши: бегали от юрты к юрте, носились друг за другом, брызгаясь водой, или жались к стенам, подставив солнцу свои распухшие животы.
За день в хозяйстве Аюура бойды надо было успеть выдоить двести овец, двадцать кобылиц и тридцать коров. После утренней дойки Гэрэл, Ханда и Лхама, не отстававшая от матери, ставили закисать простоквашу и кумыс; остудив молоко, собирали пенки, кроме того, пасли телят и ягнят. Работали с шутками, стараясь перегнать друг друга. Жена Аюура бойды — Дуламхорло — и сама не гнушалась работы, хлопотала по хозяйству вместе с работниками. Но дел не убавлялось.
Бойда круглый год жил в Онгинском монастыре, любил попировать с друзьями и знакомыми, гостями хана. Не успевали отправить ему из аила один обоз с продовольствием, как приходилось уже собирать другой. А еще нужно было шить одежду для него, для его жены и сына — работе, казалось, не будет конца.
Дашдамба подновлял хозяйственные постройки, ремонтировал телеги и сани, чистил двор, пас овец. Даже перегоняя отару на пастбище, он умудрялся сделать еще что-нибудь, облегчить работу остальным: собирал аргал или складывал в кучи хворост, мял кожи или резал из них ремни.
Батбаяр седлал на рассвете двухлетку или годовалого жеребенка и отправлялся пасти коров и лошадей. Араты, жившие неподалеку от Хоргой хурмын хормоя, часто замечали мальчика на коне, мчавшегося по гребню хребта, и прозвали его Ар цармын Бялзухай — Горным жаворонком.
— Что они хотят этим сказать, — удивилась Гэрэл, впервые услышав прозвище сына. — Что бойкий он и жизнерадостный, как эта пичуга? Или, может быть, насмехаются над его малым ростом? Что ж, в любом случае в точку попали. Пусть себе зовут.
Батбаяр действительно был похож на жаворонка. Загнав табун на горные луга, он с гиканьем и свистом мчался вниз собирать разбредавшихся по долине коров, а согнав их в стадо, птицей взлетал по гребню хребта, торопясь к табуну. Он любил ездить на гнедом, к которому привык за время скитаний, но старался делать это тайком, чтобы не озлоблять жадного, неуживчивого Донрова.
Но однажды весной, когда Батбаяр седлал гнедого, чтобы собрать в табун пасущихся на берегу озера лошадей, это заметил возвращавшийся с прогулки Донров. Подскакав ближе, он разглядел свежую ссадину, которую гнедой получил в схватке с жеребцом, и взвыл:
— Ты… На моей лошади… Нарочно по скалам гоняешь, ногу ей сбил, — завопил Донров, замахиваясь кнутом.
Но Батбаяр не собирался безропотно подставлять спину.
— Не твоя лошадь, а моя, — выкрикнул он, уворачиваясь от кнута, изловчившись, схватил Донрова за рукав и что есть силы рванул вниз. Приземлившийся в туче пыли, Донров с минуту ошалело крутил головой, не понимая, что с ним произошло, потом разглядел изрядный кусок рукава в руках противника, опомнился.
— Ах ты грязная свинья, попрошайка, нищий, — заорал он, синея от злобы.
— А ты жадина, утроба ненасытная. Все в дом собираешь, а жиром не обрастаешь. Иди, иди поближе, если не трусишь, придурок монастырский, казначейское отродье. Сейчас я подтяну тебе твой бурдюк для кумыса, — крикнул Батбаяр, подхватывая ургу и надвигаясь на Донрова.
— Мы еще поглядим, кто кому брюхо подтянет, — пригрозил Донров, вскакивая на коня.
С воплями влетел мальчик в юрту, где сидели все женщины аила. Ханда сбивала масло, Дуламхорло шила дэл, а Гэрэл стегала новый тюфяк для Аюура.
— Я… только что выехал в долину а Бялзухай как на меня набросится! Я, говорит, тебе, ненасытному богачу, утробу вспорю и очаг твой опрокину. Чуть до смерти не задушил. Вот… посмотри, — показал Донров матери разорванный рукав.
— Да что же это такое, — вскрикнула перепуганная Гэрэл. — Совсем взбесился. Я его, поганца, по колено в землю вобью.
В первые дни после возвращения сына из монастыря Дуламхорло бывала с ним особенно нежна и заботлива. Но сейчас, внимательно наблюдая за Донровом, она не спешила поднимать крик.
— Батбаяр — мальчик серьезный, рассудительный. Не ты ли первым его задел? Зачем тебе понадобилось ехать на то пастбище?
«Вот и опять выгонят нас», — обреченно подумала Гэрэл и пошла мыть руки.
— Всякое может быть, но чтобы мальчишка говорил: «утробу вспорю, очаг опрокину?!» — Ни в жизнь не поверю! Что он — Зодов Плешивый, что ли! — решительно произнесла Ханда.
«Да кто же он такой, этот Зодов? — подумала Гэрэл. — Чего это люди без конца его поминают? В могилу он меня сведет».
— Батбаяр седлал моего гнедого. А я ему сказал, чтобы он не гонял коня по скалам, — всхлипнул Донров. — Вот папа приедет, я ему все расскажу.
— Но это же не твоя, а их лошадь. А хозяин вправе делать со своим конем все, что ему вздумается, — объяснила сыну Дуламхорло.
— Никакая она не наша. Ведь говорили же, что раньше на ней сынок ваш ездил. Что там с ней делает мой полоумный! — воскликнула переволновавшаяся Гэрэл, всем видом своим показывая, что понимает и одобряет Донрова.
— Почему же ему не ездить на своей единственной лошади, — не согласилась Ханда. — Не кто-нибудь, а сам хан подарил.
Дуламхорло покраснела, обиженно поджала губы. Донров с ненавистью скрипнул зубами и чуть не заплакал от душившей его злобы. Любопытная Лхама, прибежавшая послушать разговор, сделала большие глаза:
— А мне Батбаяр аха, когда мы в степи встретимся, а гнедой пасется где-нибудь неподалеку, всегда разрешает на нем покататься.
— Это на коне, которого мне вернул отец! — взвился Донров.
— А ну, брысь отсюда. Ступай шерсть подбирать. Кто тебя сюда звал? — накинулась на дочь Ханда.
Дуламхорло продолжала молчать.
«Девочка только масла в огонь подлила. Что же теперь делать? Как бойда здесь покажется, Донров ему обязательно пожалуется. Мальчик он упрямый, мстительный. Может и подстеречь Батбаяра где-нибудь в укромном месте, голову ему проломить. И что же это за напасть такая. Нигде ужиться не можем», — с тоской подумала Гэрэл.
Через несколько дней с туго набитыми сумками вернулся Аюур бойда.
— Прогонит, обязательно прогонит. И куда нам идти тогда? — восклицала Гэрэл, и кусок не шел ей в горло. Батбаяр же и в ус не дул.
— Если выгонит, возьмем гнедого и пойдем в горы. Будем собирать орехи, дикий лук. Не пропадем, — отвечал он на упреки матери.
— Нельзя так, сынок. Нам с тобой надо жить тихо, — пробормотала Гэрэл. «Вырастет строптивым, бесчувственным… Добродетельные люди таких не любят, — испуганно подумала она. — Из ссор да из драк сроду ничего хорошего не выходило».
Сразу по приезде бойда послал человека в Довхонский монастырь, и тот привез решетки от старой юрты. Аюур позвал Гэрэл, отдал ей войлок, которым накрывал товары, несколько кошм и щитов из невыделанных шкур.
— Ну вот, теперь и ты с юртой. Когда будем перекочевывать, про тягло не думай, о подводах не беспокойся, волы для тебя всегда найдутся. А ваш гнедой с этих пор становится моим. Поняла? А ты, — приказал хозяин Дашдамбе, — поможешь им юрту собрать. Да вяжи покрепче, чтобы не завалилась, как ветер посильней дунет.
Гэрэл не помнила себя от радости.
— Не оскудел сердцем наш хозяин. Не человек, а вместилище добродетели. Сто лет ему жизни, — говорила она сыну. Но Батбаяру меньше всего хотелось расставаться с гнедым.
— Мам! Такую развалюху мы с Дашдамбой-гуаем и сами могли бы поставить. Стоило только походить по лесу да жердей подходящих набрать. Так бы и сделали, да только ни пилы, ни стамески нет.
— Разве можно так говорить о сделанном тебе подарке? Эта юрта ничем не хуже той, с которой мы намучались в пустыне. Какое счастье — иметь свою крышу над головой! Как говорится, «пусть юрта плоха, да в ней я сам себе хан». Что же еще тебе надо? Ты его сыну дэл порвал, скверные слова говорил. А бойда не только не выгнал нас, но еще и одарил. Щедрый человек и снисходительный: знает, как сурова доля бедняков и старается делать им добро.
— Мам! А кто ему скот будет пасти, если он нас прогонит? Не здесь ли причина его щедрот?
— Ах, сынок, сынок. Какой же ты непутевый. За богача деньги все сделают. Не будет тебя, он наймет другого, да не одного. Не выдумывай ты ничего, а то опять прогонят, и чашки простокваши не увидишь, — уговаривала сына Гэрэл.
Откуда ей было знать, какой разговор перед этим состоялся в юрте Аюура бойды.
— Не торопитесь гнать хороших людей. В них ни корысти, ни зависти. И работают не покладая рук. С утра до вечера бегают. Помогите лучше им с юртой, — уговаривала Дуламхорло мужа.
— Еще чего! Этот голодранец забыл уже, каково жить бездомному и голодному. Из-за какой-то паршивой клячи на сына моего руку поднял, очаг мой загасить грозился. Это сейчас, а что из него выйдет, когда подрастет! — кипел Аюур.
— Не принимайте на веру все, что вам дитя скажет, Аюур-гуай мой. Не часто вы появляетесь в доме и потому не знаете, что наш сын растет белоручкой и неумехой. А я разрываюсь на части, иной раз в спешке чуть очаг не опрокинешь. Вы же и горя не знаете…
— Ставьте, ставьте голодранцам юрту. Когда-нибудь расплатится босяк этот за все: и за порванный дэл и за насмешки, — буркнул Донров.
Аюур долго молчал, разглядывая сына, потом процедил:
— А хорошо будет, коли начнут говорить, что мы своим работникам житья не даем?
Юрту поставили неподалеку от хотона Аюура, у подножия скалы с зеленой кроной леса на вершине, и Гэрэл повязала на тоно дешевенький хадак — на счастье. Подлатала рваные щиты из шкур и устроила две постели. Пришли Ханда с Лхамой, принесли кувшин с чаем и масло в тарелке.
— Ну вот и ладно. Это хорошо, что у вас свое жилье появилось. Возьмешь у нас сундучок, поставишь вон там. Поделим как-нибудь наши чашки, ложки на два дома.
Вечером, когда Дашдамба и Батбаяр вернулись с пастбища, работники собрались вместе в новой юрте и, разложив нехитрую снедь по тарелкам, принялись за чай и еду. Так был разожжен очаг в аиле Горного жаворонка.
Лхама подошла к одной из постелей, уселась на ней поудобней и стала по очереди осматривать все и всех, поблескивая глазами.
— Нет, вы только посмотрите на нее! — всплеснула руками Ханда. — С самого детства дальше тагана в юрте бойды заходить и не смела. А здесь, гляньте-ка, прямо в хойморе садится.
Все посмотрели на девочку: смуглое личико чисто вымыто, щеки горят румянцем, волосы аккуратно причесаны.
— Эта юрта и ее тоже. Правда, доченька? — ласково спросила Гэрэл.
— Конечно, — сделав строгое лицо, ответила Лхама. — Я буду спать на этой постели.
— Ах ты девочка моя хорошая. Сто лет тебе жизни. Пусть эту юрту согреют своим теплом маленькие детишки, — лаская Лхаму, сказала обрадованная Гэрэл.
Выпив чаю, Дашдамба стер выступившую испарину и сидел, задумчиво пощипывая бороденку.
— Ладно. С крышей над головой — это, конечно, совсем другое дело. Вообще-то, всякий зажиточный человек мог бы поставить вместо этой развалюхи что-нибудь получше. Но от Аюура этого не дождешься, хотя мы и делаем в его хозяйстве всю самую тяжелую работу. Если бы ему не подвернулись вы двое, он бы еще долго искал себе батраков. На него угодить трудно, ох трудно!
— Бог с ним. Больше нам ничего не надо. Устали мы скитаться, — ответила Гэрэл.
Дашдамба помрачнел, отпил еще чаю.
— После своих мытарств ты стала чересчур покладистой да застенчивой. Так оно, конечно, для бедняков и лучше. Но, с другой стороны, если будешь слишком раболепствовать, богачи и вовсе житья не дадут. Как говорится, «тихого верблюда стричь — одно удовольствие». Только споткнись! Аюур подняться не даст, усядется сверху да еще подгонять будет: давай неси, да поживей!
— Говорил бы ты потише, Дашдамба! Донров услышать может. Только что где-то здесь бродил, — вздохнула Ханда. — Ты, Гэрэл, не слушай. Наш Дашдамба иногда такое скажет, что я только диву даюсь, как у него язык поворачивается. Не дошло бы до греха.
— Знает, наверное, что говорит. Сто лет ему жизни, — засмеялась Гэрэл.
— Человек, говорящий правду, — правду теряет. Это я знаю. И еще: кто правдиво жить желает, тот за правду и страдает. Но как бы там ни было, а я говорю только правду.
— Да хватит тебе, Дамба! Коли ниспослал бог такую долю…
— Нет, вы пораскиньте мозгами. Мы вот с Хандой живем у бойды три года. Когда только перекочевали сюда, было у него два десятка коров, сотня овец, если считать с козами вместе, да тридцать две лошади. Ну вот. Сблизился наш Аюур с родичами Розового нойона. С тех пор чего он сюда из казны не натаскал! Хоргой хурэмт уже ломится от всякого барахла. Разбогател бойда так, что скрыть уже не может, некуда прятать. А мы работаем до седьмого пота, спины не разгибаем, вся самая тяжелая работа лежит на наших плечах, а все такие же голые и босые. Отобрал у женщины и ее сына единственного коня, а вместо него всучил драную юрту, которую и юртой-то не назовешь. Так ему и этого мало. Желает, видимо, чтобы люди считали это за великодушный порыв его добродетельной души. Почему судьбы людей так не похожи, как земля и небо? Почему? Я на этот вопрос ответа не знаю.
Батбаяр слушал Дашдамбу, молчал. Взглянул на мать, словно хотел сказать: «А ведь Дашдамба прав», но только вздохнул, с изумлением вспоминая сказанные стариком Цагариком слова.
— Что уж теперь, Дамба. «Сколько верблюд шею ни тянет, до неба ему не достать. Сколько ни брыкается, а седла своего не скинет».
— Надо побольше молиться, и восторжествует добродетель. Все исполнится и свершится, — подала голос Гэрэл.
— Все так, Гэрэл. Все сбудется, все свершится. Настанет время, и на берегах нашего славного Орхона все люди будут жить в достатке, — сказал Дашдамба и погладил Батбаяра по голове.
— Вот что, сынок. Гляди, не вырасти таким же темным и безграмотным невеждой, как я. Только и умею, что скот пасти, а в остальном будто слепой. Могу, правда, немного писать и читать. Этому я тебя научу. Натрешь доску золой — будем учиться письму. И книгу для чтения найдем. Будем искать дорогу разума и света.
— На дойку! — донесся голос Дуламхорло.
Сплошной вереницей тянулись дни, складываясь в месяцы и годы. Дашдамба по-прежнему пас овец, водил обозы; Батбаяр гонял на выпас коней и коров в пади Хангайского хребта. Все так же ухаживали за скотом Гэрэл и Ханда. Лхама выросла, стала тонкой, стройной девушкой. Закинув за спину тяжелые толстые косы, она целыми днями бегала с ведром, доила овец.
Дуламхорло заставила Гэрэл взять себе корову-трехлетку и восемь коз.
— Все свершается по воле божьей, — не переставала, кланяясь, повторять Гэрэл. Теперь она даже могла позволить себе собирать с молока пенки.
Дашдамба с Батбаяром с утра до вечера пропадали на пастбищах. И всякий раз, когда скрещивались их пастушеские пути, они усаживались рядом, и Батбаяр начинал выводить на складной, зачерненной золой досочке слоги: ану, бану, хану; ад, бад, хад. Но особенно юноше нравились уроки чтения; Дашдамба извлекал из-за пазухи потрепанный томик «Море притч»[18], и они разбирали вместе страницу-другую.
Аюур в это лето часто наведывался домой. Каждый раз он привозил туго набитые мешки, старательно прятал их от глаз батраков. Вскоре Дуламхорло с сыном собрались ехать на цам в монастырь Эрдэнэ зуу[19]. Самому Аюуру провожать их было недосуг, и он велел взять с собой кого-нибудь из батраков — будет кому за лошадьми присмотреть.
Дуламхорло зазвала Батбаяра в юрту, спросила:
— Хочешь съездить со мною в монастырь на цам?
Юноша охотно согласился.
Мать с сыном выбрали себе иноходцев одинаковой масти, с цветными чепраками и серебряными бляхами на седлах. Батбаяру пришлось надеть свой старый, пропахший дымом костров тэрлик с обтрепанными рукавами, а коня заседлать плохоньким деревянным седлом с четырьмя ремешками. К седлу подвязал он тороки.
— Гляди в оба, сынок, — напутствовала парня Гэрэл. — В монастыре народ всякий бывает, не украли бы лошадей. Нам тогда от бойды и чашки простокваши не увидеть, — сказала Гэрэл и брызнула ему вслед молоком[20].
— Чего это она? — удивился Дашдамба.
— Как же иначе? Бедненькая, в первый раз сына от себя отпускает, — вступилась за женщину Ханда, у которой тут же мелькнула опасливая мысль: «Как бы наш парень на празднике хозяйке спину, а себе колени не обзеленил».
Дуламхорло и вправду была хороша. Шел ей тридцать третий год. Статная фигура, длинные до пят волосы цвета вороного крыла, крутые дуги бровей на тонком матовом лице. Она была красива той зрелой красотой, которая всегда притягивает мужчин. Единственный сын, которого она родила вскоре после того, как вышла замуж за Аюура, выглядел теперь ее сверстником. Донров за эти годы вытянулся, раздался в плечах, стал широкогрудым, мускулистым юношей. Уезжая на моленье, Дуламхорло принарядилась: поверх синего шелкового дэла надела парчовый, шитый золотом хантаз, из-под сдвинутой на лоб шапочки с красной кисточкой падала на спину густая коса, в которую были вплетены две нити жемчуга — украшение по тем временам новое, модное. Не каждая ханша могла похвастаться таким жемчугом. Поговаривали, что Аюур отдал за каждую по десять яловых кобылиц.
Рядом с матерью, в шапке набекрень и коричневом, туго подпоясанном желтым поясом, чесучовом дэле, гарцевал на игреневом иноходце Донров. Разодетые и довольные собой, они мчались вниз по живописной Орхонской долине. Время от времени Дуламхорло оглядывалась на скакавшего сзади, оборванного, но атлетически сложенного, ясноглазого батрака. Хотела ли она лишний раз удивить его своей красотой и изяществом? Раздражал ли ее молодой работник своим рваным тэрликом? Заглянувший в ее душу с удивлением прочитал бы: «А ведь если вытащить его из нищеты и приодеть, будет не парень — загляденье. Был бы он еще хоть на пару лет постарше моего сына…»
Вскоре посреди обширной долины перед путниками возник Эрдэнэ зуу. В лучах заходящего солнца он величаво поблескивал навершиями храмов и шпилями многочисленных субурганов, венчавших окружавшую его высокую крепостную стену. Чем ближе подъезжали всадники, тем громче слышались трубы и ритуальные раковины[21]. Все чаще попадались навстречу конные, пешие или те, что ехали на телегах, запряженных волами. Под стенами монастыря раскинулся целый городок: пестрые шатры, крытые войлоком шалаши, деревянные балаганы. Было отчего взволноваться тем, кто приехал сюда из глухой горной долины. Паломники увидели лам в желтых хурэмтах, пузатых чиновников в хурэмтах темных, старух с четками и простых аратов в войлочных торцоках. Попадались навстречу девушки в шелковых дэлах, пропыленные нищие, босоногие ребятишки, потные от усердия богомольцы, китайцы в толстых стеганых штанах, согбенные старцы. Скрипели телеги, ревели верблюды, трещали попавшие под ноги корзины, ржали жеребцы, плакали дети. В воздухе был разлит непривычный шум и гвалт. Дуламхорло разыскала в крепости казначея монастырской джасы, и тот отвел их в большую свободную юрту, вокруг которой расположились юрты простолюдинов.
— Это орго ставили специально для вас. Живите себе на здоровье. Мы с Аюуром старые приятели: доверяем друг другу, не раз выручали один другого при любой нужде.
Дуламхорло была довольна. Батбаяр с удивлением наблюдал за хозяйкой: дома она никогда не бывала такой обходительной, возбужденной, легкой на подъем. А тут одаривает всех улыбками, раскладывает закуски, достает молочную водку… Но в это время казначей приказал Батбаяру отогнать лошадей к реке и пасти их там до вечера.
С высокого берега Орхона юноша следил, как собирается в монастыре народ. Так и подмывало парня сбегать туда, хоть одним глазом посмотреть, что делают, о чем говорят люди. Но он не решался оставить коней. «Угонят — неприятностей не оберешься». Когда стемнело, он загнал лошадей в хашан. Дуламхорло и казначей лакомились в юрте свежими хушуурами, и хозяйка была весьма оживлена. Батбаяр подметил, с какой яростью, словно распалившийся бык, готовый смять и вышвырнуть вон соперника, взглянул казначей на заглянувшего было в юрту молодого ламу. Донрова же нигде не было видно: то ли в крепость ушел, то ли еще куда бродить отправился. Шум вокруг постепенно затихал, прохожие появлялись все реже. Батбаяр издали наблюдал, как хозяйка и казначей болтают, пьют подогретую в серебряном кувшинчике молочную водку. До поздней ночи они развлекались, хохотали, играли в хуа[22]. Изголодавшийся Батбаяр отыскал пару оставшихся от пиршества холодных хушууров, подкрепился, растянулся у стенки и тут же заснул.
— Пойду, пожалуй, пока ламы не встали. Одна не испугаешься? Двери за мной запри, — сквозь сон услышал юноша шепот казначея. Спустя некоторое время на грудь ему легла маленькая ладошка, и еще — прохладные камешки; щеки коснулись мягкие, влажные губы. Спросонья Батбаяр приподнялся, приоткрыл глаза. Рядом никого не было.
— Что за наваждение? Было это или только приснилось? — ощущение было удивительно сладостное и в то же время неприятно-щекотливое…
Светало.
«Надо бы коней пораньше выгнать», — подумал он и стал натягивать одежду. Выходя из юрты, услышал, как охнула, заворочалась в постели Дуламхорло, застонала тоненьким, непривычно высоким голоском.
Утром в монастыре начался цам и обряд изгнания нечистой силы.
Когда Батбаяр вернулся, Дуламхорло пила чай. Она была печальна и вела себя так, словно поджидала его. Дала Батбаяру печенья с маслом, а когда он поел, достала из тороков несколько отрезов шелка и, уложив их в небольшой мешок, протянула юноше:
— Иди по краю палаточного лагеря, пока не увидишь два больших пестрых шатра и аил рядом с ними. Если там будет высокий рябой мужчина по имени Дэлэк, отдашь ему. Не забудь только спросить, как его зовут! Скажешь, что соболиных шкурок больше не надо, Аюур-гуай велел брать только серебром. Учти, если что по дороге с мешком случится, если не передашь его кому следует, Аюур-гуай на нас с тобой живого места не оставит, — предупредила она. Батбаяр удивился еще больше.
В это время пришел Донров. Дуламхорло подала сыну чай.
— Завтра ехать, а тебя нет и нет. Я уже отчаялась найти этого Дэлэка. Беспокоиться начала, вдруг не смогу выполнить все, что наказывал твой отец. Хорошо, что ты вернулся, прямо сейчас вдвоем к нему и идите в тот аил, про который говорил тебе отец.
Батбаяра внезапно осенило, что Аюур поручил жене сбыть здесь какие-то товары, видимо, из тех, что переправил домой из ханской казны. «Но почему их сбывают тайно? Ведь не украл же их бойда», — удивлялся он.
Донров велел Батбаяру взять мешок и по-хозяйски, молча, пошел впереди. Они подошли к аилу, рядом с которым стояли два одинаковых пестрых майхана, а у коновязи привязано было множество лошадей. Там их действительно встретил сутулый, пузатый мужчина с рябым лицом, забрал мешок и повел Донрова в юрту. Батбаяр остался во дворе. Ждать пришлось долго. Наконец Донров вышел с пустым мешком.
— На! Отнеси домой и ступай коней сторожить. Матери скажешь, что я пошел смотреть цам. — Донров бросил Батбаяру пустой мешок и повернулся, собираясь уходить.
— Твой мешок, сам его и неси, — вспыхнув, сказал Батбаяр и швырнул мешок Донрову. Ссора разгоралась, как подожженная сухая трава. Обидевшись на то, что Донров привел его в знакомый аил и оставил ждать у дверей, не вынес даже чашки кумыса, Батбаяр готов был нос ему расквасить. Вызывая хозяйского сына на драку, обозвал его «скупердяем», но сын бойды схватил мешок и дал тягу.
«Осторожность не помешает. Кто знает, что придумает в отместку этот послушник», — рассудил Батбаяр и отправился сторожить лошадей. До вечера просидел он во дворе, перебираясь из угла в угол вслед за тенью.
Из монастыря доносилось звучание труб, раковин и гонгов. Хотелось посмотреть, что там происходит, но Батбаяр не решался оставить лошадей без присмотра. «Уйдешь, а хозяйка потом из себя выйдет!» Он влез на поленницу дров и теперь ему было видно, как в углу монастырского двора взметнулся вверх огонь, толпа вокруг костра зашумела. Загудели трубы, послышались резкие хлопки выстрелов, и в небо поднялся столб черного дыма! Народ все прибывал… Внезапно во двор с обмотанной платком головой вбежала Дуламхорло и, рыдая, скрылась в юрте.
«Донров нажаловался, вот она и расстроилась», — подумал Батбаяр и, не зная что предпринять, подошел к ней.
— Что с вами? — участливо спросил он, приходя в отчаяние от горьких слез хозяйки.
Уже в сумерках зашел казначей. Приторно улыбаясь, он подошел к Дуламхорло, но та отвернула от него опухшее от слез лицо и не сказала ни слова. Увидев ее трясущиеся плечи, казначей разинул от удивления рот. Стал расспрашивать, что случилось, и женщина, давясь рыданиями, рассказала, что собралась посмотреть обряд изгнания нечистой силы, протиснулась через толпу в первый ряд. Народ напирал сзади, и она едва удерживалась на ногах, чтобы не упасть. В то время проталкивавшийся с другой стороны лама с тигровым хвостом в руках внезапно хлестнул ее этим хвостом по затылку и сгинул в толпе. Появилось какое-то необычное чувство легкости, на лицо упали волосы, и она, проведя рукой по голове, вдруг с ужасом обнаружила, что ее длинная коса вместе с вплетенными жемчужными нитями исчезла, обрезанная под самый корень.
Тут казначей погладил Дуламхорло по голове и успокоительно похлопал по плечу. Вращая глазами, долго читал молитвы и наконец внушительно произнес:
— В ваш дом должна была войти большая беда. Но она сгорела в огне вместе с «сором», а выкупом за нее послужила твоя коса. Радоваться надо, что так легко отделалась. Сходи поклонись великим ламам, — посоветовал он.
Женщина немного успокоилась, собрала подарки: хадак, чесучовый дэл. Вместе с казначеем отправилась она в монастырь.
Батбаяр заволновался и даже испугался, хотя и не имел к хозяйской беде никакого отношения. Когда в небе высыпали звезды, Дуламхорло вернулась в сопровождении Донрова. Батбаяр с трепетом прислушался к их разговору.
— Великие ламы Эрдэнэ зуу восседают в орго на том берегу реки. Множество людей идет к ним за благословением и отпущением грехов, и они каждому советуют считать прожитые годы, читать «Золотой блеск»[23]. Потом дают сладкий рашан и отпускают. Когда казначей докладывал им обо мне, я расслышала имя твоего отца. Лама спросил о моем возрасте, сложил четки, прошептал что-то и, пересчитав бусины, произнес: «Причина скрыта в несчастливом сочетании лет, а также в том, что вещи, предназначенные для пожертвования, вернулись к прежним владельцам. Несчастье было неизбежно. Но сейчас вы избавлены от него, потому что присутствовали на обряде. Пересчитывая годы, читайте «Золотой блеск», сказал лама и благословил меня. Еще добавил вот что: «Не следует стремиться к возвращению утерянного. Оно попало в руки близкого вам человека. Его уже не вернуть». Очень старый лама, но ликом светел. Помнишь, взяли мы назад гнедого, которого в пожертвование раньше отдали, вот и случилась беда. А уж как я не хотела его возвращения! Да, самую что ни на есть правду сказал высокий лама. Я вчера вечером монастырскому казначею о гнедом случайно рассказала, так, к слову пришлось. Так высокий лама даже об этом узнал. «Хоть, говорит, и нет сейчас рядом с вами того, что вы отдали в пожертвование, чтобы избежать несчастья, а потом вернули назад, но это оно напоминает о себе». Очень прозорливый, мудрый человек, — пробормотала она и стала молиться.
Откуда Дуламхорло было знать, что казначей встретился с высоким ламой еще до ее прихода.
— Пусть исчезнут все несчастья разом! Вот только что же я твоему отцу-то скажу? — вздохнула Дуламхорло.
«Ну и достанется же хозяйке от бойды, — пожалел женщину Батбаяр. — Мало того что двух ниток жемчуга лишилась, так еще и чесучовый дэл отдала». И он вспомнил прошлую ночь, прохладные бусинки на своей груди. Это же была коса Дуламхорло с жемчугом… В то же время он втайне радовался: Донров вряд ли теперь станет расстраивать мать жалобами на ссору с работником.
Утром трое паломников, молчаливые, мрачные, словно поругались накануне, пустились в обратный путь. Монастырский казначей, два вечера крутившийся вокруг жены Аюура, проводить их не пришел. Дуламхорло, зазвавшая Батбаяра «помолиться в монастыре», не разрешила даже подъехать к монастырским воротам и получить благословение. Покрытый пылью юноша, нахлестывая коня, скакал за своей хозяйкой вверх по реке Орхон.
Когда паломники вернулись домой, навстречу им выбежала Ханда:
— Привез земли с порога монастырского храма? Если разбросать немного в степи, когда скот остается там на ночь, то не должно случиться с ним никаких несчастий.
— Какая там земля! И к монастырю-то близко не подошел! — огрызнулся Батбаяр.
— Съездить на праздник в такой монастырь и вернуться даже не помолившись? Ох и недотепа же ты! Второго такого и не сыщешь.
Жена бойды несколько дней не разговаривала ни с Гэрэл, ни с Батбаяром, — была с ними очень холодна, словно они были виновниками ее несчастья, словно это они лишили ее сокровища. Заметив это, батраки зашептались.
— Сама же зазвала моего сына ехать, и на́ тебе — не пустила благословиться ни в один храм. И она же от нас морду воротит, будто ей под нос дохлую кошку сунули, — посетовала Гэрэл.
— Коли мы не по нраву им стали, откочуем двумя юртами в Довхонский монастырь, займемся там ремонтом телег, саней — проживем как-нибудь, голодными не останемся, — предложил Дашдамба.
Но как осмелиться первому пойти на размолвку! И они продолжали делать все, что от них требовалось, бегали с утра до ночи сколько хватало сил.
Однажды вечером Гэрэл, подоив хозяйских коров, зашла в юрту. Следом за ней вошла с ведром в руках Ханда.
— Наработалась до того, что руки отваливаются. Ох, чтоб их…
— Что ты, что ты, разве можно такие слова говорить! О небо!.. — вскрикнула Гэрэл.
Ханда подняла соседку на смех:
— Чем эти слова так тебе не нравятся? Чуть что, ты сразу же людям рот затыкаешь.
— А вот и не нравятся. — Гэрэл вытерла пот со лба. — Из-за них Гомбо бэйсэ нас когда-то и выгнал. С тех самых пор я слышать их не могу.
— Как же было князю не прогнать вас, коли вы такие опасные для него слова говорили? — пошутил Дашдамба.
— Да что в них такого особенно непотребного? Объясните нам, пожалуйста, — стали просить Батбаяр и Лхама.
— Как только объясню, так погода испортится, песчаная буря задует на семь суток, не меньше, — потешался Дашдамба, но в конце концов сдался.
— Лет сорок назад в нашем хошуне у главы сомона Багбарун был плешивый слуга по имени Зодов. Люди говорят, носил он воду. Источник был далеко, бадья тяжела… В общем все как и у вас было. Нес он однажды полную бадью да и притомился. «Ох, чтоб тебя!..» — воскликнул он и поставил бадью на землю. Услыхала это «ох, чтоб тебя!» его госпожа и подумала, что водонос ее проклинает. Рассвирепела, схватила медный ковш и ну охаживать слугу-ругателя, да все норовит по голове попасть. Слуга был характером тих, смирен. Много раз молча сносил и брань и побои, но в этот раз… То ли невмоготу уже ему было воду издалека таскать, то ли надоело терпеть бесконечные тумаки и пощечины хозяйки или, наконец, крепко обиделся на свою нищую, беспросветную жизнь, но только вышел он из себя, разозлился невероятно. Не знал он за собой никакой вины, и, может, от этого, а может, оттого, что терпение у него лопнуло, а только подумал, — что лучше уж умереть, чем мучиться этак и дальше. А госпожа все бранит его, все попрекает. Возненавидел ее Зодов так, что ненависть голову ему замутила. Кинулся в орго, схватил нож, вспорол себе живот, вытащил кишку и, накинув петлей на торчавший из стены конец жерди, с криком «проклинаю ваш род на три колена вперед» побежал вокруг юрты, обматывая ее своими кишками. На полдороге упал и умер, бедняга. И вот, начиная с того самого часа, дела его хозяина шли все хуже, пока он не разорился вконец. Как же после этого не запретить это поношение? До сих пор в храме Дандирлин сомона Багбарун ежегодно служат молебен, чтобы снять проклятие Плешивого Зодова, совершают обряд изгнания злых духов, — мрачно добавил Дашдамба. — С той поры и поговорка пошла: «На торчащий из стены конец жерди вещи не вешают».
— Боже мой! Слышала бы я об этом раньше, ни за что бы этих слов не говорила. И вы не говорите так больше, — вздохнула Гэрэл.
— Вот и выходит, что ты, как тот Зодов. Ламы из Эрдэнэ зуу все о тебе прознали, а Дуламхорло — от них. Вот она теперь тебя и побаивается, — подтрунивал над Гэрэл Дашдамба. — Мда-а… До чего дошло: с людьми как со скотиной обращаются… Может, хоть этот случай заставит князей и богатеев одуматься. Что говорить, крепко напугал их Плешивый Зодов. На великое мученичество пошел человек, и есть в этом отчаянном поступке своя закавыка, — произнес Дашдамба и замолк.
— Какая еще закавыка? — задумался сидевший рядом с ним Батбаяр.
Прошло несколько дней. Однажды разразилась гроза, овцы потекли с горных пастбищ вниз по склонам в укрытые от ветра пади. Люди, выбиваясь из сил, метались под дождем, собирая промерзших ягнят и телят. В это время в хотон, раскачиваясь в седле из стороны в сторону, въехал Аюур бойда в широкой накидке из красного сукна. Подъехав к коновязи, он долго не слезал с седла, словно раздумывал: спешиться ему или нет. Дашдамба, собрав овец в отару, возвращался домой. Подойдя к бойде, помог ему спуститься с лошади, привязал коня и только хотел завести хозяина в юрту, как тот, упершись своим длинным деревянным кнутовищем в землю, вдруг заревел:
— Эй! Где Дуламхорло?
Подъехавший в это время Батбаяр увидел, как его пожилой, но еще крепкий, большеносый хозяин с припухшими веками и одутловатым лицом, изборожденным глубокими морщинами, кусает свои толстые синие губы. Юноше показалось, что Аюур вот-вот лопнет от пожиравшего его внутреннего огня.
Дуламхорло, загонявшая вымокший скот в малую юрту, выскочила на крик мужа. На нее жалко было смотреть: миловидное лицо женщины было безрадостным, задорные, шаловливые искорки в глазах потухли, и взглядом она словно просила о пощаде.
— Так ты уже здесь? Вот и я думал: помолится моя благоверная в монастыре, посмотрит цам да и вернется… Наслышан я о твоих похождениях. И знай: не такой я человек, чтобы потерять лицо перед людьми, стать посмешищем вроде того растяпы, который засмотрелся на пожар и подпалил полы своего дэла. Есть у меня и человек, который рассказал, как ты там развлекалась… Было такое? — взвизгнул Аюур и закачался, с трудом удерживаясь на ногах.
Проснулся спавший в юрте Донров, выскочил. Увидев пьяного отца, заволновался: батраки видят бойду в столь непотребном виде.
— Пойдем домой, — потянул он отца за руку.
— А-а, это ты, мой сынок. Погоди, погоди, я только решу как мне быть: вырвать твоей матери руки-ноги прямо сейчас или оставить это на потом, — сказал Аюур, покосился на жену и ушел в юрту.
Дуламхорло, дрожа от страха, осталась стоять под дождем. Из юрты доносился срывающийся на крик голос бойды. К Дуламхорло подбежала Гэрэл, отвернула обшлаг своего рукава, утерла ее заплаканное лицо.
— Иди, дочка, иди. Аюур-гуай хлебнул немного, ну так что же теперь, сто лет ему жизни.
Дуламхорло высокомерно вскинула голову:
— Я в этом аиле спину гну будто прислуга какая-нибудь, в дождь, в пургу, а он… — и, закусив кончик своей косы, сплетенной из ячьего волоса, зарыдала.
Гэрэл хотелось сказать ей что-нибудь доброе, ободряющее, но слова, как назло, не шли на ум. Она взяла Дуламхорло за руку, завела в юрту и пошла домой. И долго потом было слышно в аиле, как то бушует, то затихает Аюур. Ржали и вертелись у привязи мокрые жеребята. Ревели телята, блеяли ягнята и овцы. У каждого из батраков дел было по горло. Но вот из дымника юрты бойды потянулся дым, донесся стук ступки — видимо, там помирились.
Дашдамба, Ханда, Гэрэл и Батбаяр установили в хашане заслон от ветра, и женщины принялись за дойку. Постепенно ливень кончился, и ветер стих. Гэрэл зашла в юрту бойды за ведрами. Аюур сидел в хойморе и курил, время от времени сплевывая в огонь.
— Я же одел тебя как куклу, на людях показать не стыдно. Все для одной тебя стараюсь. Или ты не замечаешь этого? А люди говорят: «У бойды жена — гулящая!» Тебя это не волнует? — зудел Аюур. Когда Дуламхорло поставила перед ним домбо с чаем, он приподнялся, стараясь дотянуться до жены, но та отпрянула. Аюур успел, однако, ухватить ее за волосы, и искусственная коса Дуламхорло осталась у него в руках.
— Ой-ой-ой, как же это я, — испуганно вскрикнул Аюур, которому показалось, что он оторвал жене косу.
Растерявшийся Донров вскочил:
— Это маме в Эрдэнэ зуу отрезали, — вырвалось у него.
Аюур изумленно посмотрел на оставшуюся в его кулаке косу.
— Кто отрезал, как? Монастырские послушники тебя где-то изловили? Ты же сама знаешь, чем прославился этот монастырь, — закричал он.
— Нет, это был вор, — вскрикнула Дуламхорло.
— А-а, вот оно что. Догулялась до того, что волос лишилась. Это ли не доказательство твоего распутства! Говорил мне один из приближенных хана, что ламы бегали к тебе, чуть юрту не снесли, да я все не верил. Не может, дескать, такого быть. Вон отсюда, потаскуха. Прочь от меня сей же час! — Аюур затрясся, встал и швырнул поддельную косу жене в лицо. Дуламхорло бросилась вон из юрты. Аюур выскочил было за ней, но тут в него вцепился Донров.
— Отец! Это маму на цаме, — объяснил он отцу.
Вновь начался ливень. Вспыхивали молнии, гремел гром. Аюур, выгнав жену, стал успокаиваться. Вспомнил пересуды о том, что ламы в Эрдэнэ зуу славятся сластолюбием, в Заинском монастыре — пьянством, а Ламын гэгэнском — курением; что идет о них молва как о нарушителях монастырских уставов и святых устоев. «Сам же обо всем знал, так за каким чертом отправил одну? Жена у тебя и лицом и фигурой хоть куда, еще бы монахам глаза на нее не пялить. Хорошо еще, нойонам ее показать не догадался!..» — ругал сам себя Аюур.
Гэрэл попыталась отвести изгнанницу обратно домой, но та не далась, осталась под проливным дождем и промокла до нитки. И тогда Гэрэл отвела несчастную в свою плохонькую юрту.
— Разведи огонь, пусть эгчэ согреется, — наказала она Батбаяру, а сама вернулась в юрту бойды и сварила хозяину бантан[24].
Разобидевшись на мужа, Дуламхорло не находила себе места. Заметив, что промокшие насквозь Лхама и Ханда все еще возятся около коров, велела Батбаяру сбегать и передать, чтобы прекратили дойку.
— Пусть телят подпустят!
Набросив на плечи сухой, подбитый мерлушкой дэл, Дуламхорло напилась кипяченого молока и легла на узкую койку Батбаяра, который собирался уходить к табуну. Пристально посмотрела в глаза юноше, спросила:
— Ты надолго? Загони лошадей подальше на северный склон да и возвращайся. Куда они денутся? Зря под холодным дождем не торчи, застудишься.
Вечером Аюур вышел из юрты. Шлепая по лужам, он долго бродил по хотону, разыскивал жену.
— Дуламхорло-а! Ты где? Да иди же сюда. Вот несчастье, — бормотал он.
— Девочка моя! Там тебя Аюур-гуай кличет. Может, пойдешь? — спросила Гэрэл.
— Нет, — с ледяным спокойствием ответила Дуламхорло. — Рано еще! Сам домой месяцами глаз не кажет, жену за человека не считает. Все хозяйство на меня взвалил, а сам жирок нагуливает. А стоит из дома голову высунуть, так он же тебя последними словами поносит. Да разве в монастырь этот я по своей воле ездила? Сам же и передавал с человеком: «Поезжай на моленье. Разыщи в монастыре джасовую юрту». Или, может, запамятовал? Высокомерия у этой старой башки больше, чем у верблюда. Как о людях говорить — так орел, как о себе — так будто наседка на яйцах. А я знаю, как он ведет себя с княжескими служанками? Меня выгнал, так, видимо, приведет себе другую, из благородных. Только я тоже человек, и красотой меня бог не обидел. Издевательств над собой не потерплю.
«Ах, бедная, бедная, — жалела ее про себя Гэрэл. — За человека меня считает, потому и делится своими мыслями и бедами. Молоденькая еще… Вот уж и сын вырос, а все такая же красавица. Может, в этом и есть несчастье женщины? По всему видать, кто-то в монастыре пристал к ней. Так чем она виновата? Аюур-гуай дома не бывает, как же ей пересилить себя, ежели ей кто и понравился? Не каменная ведь. И чей это поганый язык повернулся насплетничать на нее Аюуру?»
Гэрэл приятно было смотреть, с каким удовольствием устроилась хозяйка на плохонькой, покрытой войлоком койке ее сына.
К ночи дождь зашумел сильнее.
— Промокнет наш Бялзухай. Не застудился бы… Но парень он смышленый, найдет где укрыться, — сказала Дуламхорло, и это ее беспокойство за Батбаяра тоже пришлось Гэрэл по душе.
«Нет, что ни говори, а хозяйка у нас душевная. Вот ведь как о моем сыночке волнуется».
— Твои слова он слышал, значит, скоро вернуться должен, — сквозь сон пробормотала Гэрэл. Вскоре во дворе раздался стук копыт, и Батбаяр вошел в юрту, смахивая с дэла дождевые капли.
— Ты коней в лес загнал? — шепотом спросила Дуламхорло. — Ну и ладно. В дождь они оттуда никуда не уйдут. А если и не будет их поутру — тоже не велика беда. Пусть старая башка сам их разыскивает.
Юноша сбросил мокрую одежду и ткнулся было прилечь под бок к матери.
— Бялзухай! Ложись ко мне. — Голос Дуламхорло чуть дрожал. — Как вечером промокла, так до сих пор никак отогреться не могу. Внутри будто вся заледенела. Да и ты тоже погреешься под сухим дэлом.
Батбаяр был в смятении. Но хозяйский приказ — что божье слово, и юноша осторожно прилег рядом с ахайтан. Дуламхорло прикрыла его полой дэла. Каким же мягким, жарким кажется подбитый мерлушкой дэл, если накрываешься им впервые.
— Бр-р! Ты не то что другого согреть, сам холодный как ледышка, — прошептала Дуламхорло, обняла юношу за шею, притянула к себе. Почувствовав прикосновение ее горячих, упругих грудей, Батбаяр затрепетал. Его обдало сладковато-терпким ароматом женской плоти. По всему телу юноши разлилась жгучая волна. Дуламхорло осторожно коснулась мягкими влажными губами его глаз, прижалась теснее, крепче… Вскоре от ее ласк смятение и робость юноши, еще не испытавшего блаженства женских объятий, растаяло без следа.
Пригревшаяся на лежанке Гэрэл крепко спала.
Едва рассвело, Батбаяр вскочил, натянул влажную еще одежду и отправился к табуну.
Дуламхорло в это утро, как, впрочем, и всегда, вставать не торопилась. Зато бойда поднялся пораньше, отдернул кошму с тоно и, как только Гэрэл ушла на дойку, заглянул в ее юрту.
— Дуламхорло! Пойдем домой, девочка моя. Не забывай, там работа ждет, — заискивающе сказал он.
Дуламхорло притворилась спящей: «Пусть поуговаривает». Потом будто бы через силу открыла глаза, приподнялась, упруго качнув полными грудями, потянулась и села, выставив напоказ свою наготу. Посидев немного, чтобы окончательно укротить престарелого супруга (Аюур был на двадцать лет старше жены), Дуламхорло стала медленно, словно делая одолжение, одеваться.
Дождь прекратился, прояснилось небо, из леса донеслось кукование кукушки.
Во время ливня пропали несколько яловых кобылиц и пять волов. Узнав об этом, Аюур вышел из себя:
— Как чего-нибудь приличного не досчитаешься, значит, воры угнали.
— Что теперь сделаешь? Себя благодарить должны. Зуугинский лама назвал это знамением. Сказал: «Навлекли на себя беду тем, что взяли назад отданное в пожертвование». Вы же сами все ныли: мой гнедой, мой гнедой! Взяли назад — вот теперь и расплачивайтесь, — сказала Дуламхорло.
Поняв, на что намекает жена, Аюур хотел уже было заорать, что, мол, уцепилась, дрянь этакая, за эти слова, чтобы себя оправдать, но сообразил, что ссориться сейчас не в его интересах, и только пригрозил:
— Ну, погоди! Я эту треклятую лошадь на край земли загоню.
Дашдамба с Батбаяром зашли в юрту бойды, выпили по несколько чашек душистого пенного кумыса и, сменив лошадей, поскакали искать пропавший скот. Один объезжал рощи вдоль реки, другой — склоны гор. И кобылиц и волов разыскали еще до наступления темноты и, словно сговорившись заранее, встретились неподалеку от большого Орхонского водопада.
— Ну что, убытка как будто бы нет, — засмеялся, увидев Батбаяра, Дашдамба. Спешившись, они пошли к водопаду. Внизу у воды стояли два китайца купца. В роще куковала кукушка, каждый уголок долины, затянутый сизым туманом, дышал первозданной красотой. Струи воды, переливаясь на солнце, с шумом и грохотом срывались с гребня скалы вниз, а над ними многоцветной короной выгнулась радуга. Батбаяру казалось, что все в округе сотрясается от шума низвергающихся масс воды. Любовавшиеся водопадом китайские торговцы даже глазом не повели на двух подошедших монголов в поношенных дэлах — собака и то удостоилась бы большего внимания. Они достали медные трубки, закурили и, почирикав о чем-то между собой, пошли прочь. Долго смотрел им вслед Дашдамба.
— Порученцы китайских фирм пожаловали. Ишь какие заносчивые да высокомерные. Наверное, говорили о том, что река на них сердится, — сказал Дашдамба.
— О чем это вы, аха? — удивился Батбаяр.
Дашдамба отошел подальше, чтобы не мешал гул водопада, постоял, рассматривая затянутую дымкой долину, протяжно вздохнул:
— Так и быть, поведаю тебе, Жаворонок, одну легенду, — начал он свой рассказ. — Давно хотелось маньчжурскому хану подмять под себя монголов, взять власть над ними. Долго он думал-гадал, но наконец коварством да хитростью сумел посеять раздоры между ойратскими и халхаскими нойонами, раздробить их силы. Стал он их натравливать друг на друга. И то ли действительно больно хитер он был, то ли хану западной Монголии Галдан-бошокту[25] надоело смотреть, как пресмыкаются перед маньчжуром халхаские князья, но только собрал он многочисленное войско и привел сюда. Для того чтобы начать сражение, требовалось переправиться на тот берег. Долго присматривались хан и его военачальники к реке и только начали переправу, как вдруг Орхон забурлил, вышел из берегов и, будто тину, унес чуть ли не всех ойратских воинов. Не смог оправиться от таких потерь Галдан, повернул назад. Обрадовался маньчжурский хан, пожаловал Орхону звание «Благодатный» и приказал ежегодно бросать в водопад один хунз чаю да целую штуку шелка — награду, значит. Вскоре после этого решил маньчжурский хан прибрать к рукам одного из крупнейших нойонов Монголии и пожаловал ему в жены китайскую принцессу. Была ли она настоящей принцессой или просто служанкой — не знаю, но только, когда возвращался тот нойон с молодой женой домой, подъехал он к Орхону, а переправиться никак не может. Разлилась река, не пускает. Удивилась тогда принцесса, испугалась, повернула назад в Пекин, жаловаться. Разгневался хан, отобрал данное реке звание и ежегодную награду и повелел называть ее не иначе как «Наглой». С тех пор и стали говорить, что как только наш Орхон замечает маньчжуров или китайских корыстолюбцев, так из себя выходит. Позлится он, позлится да и смоет в один прекрасный день вместе с грязью всех чужеземных, алчных торгашей, — сказал Дашдамба, сел на траву, задумался.
— Ох-хо-хо. Удивительно красивы наши края. Чего только у нас нет: и реки, и озера, и минеральные источники, горы и долины, светлые рощи и дремучая тайга, ягоды всякие… Может, и не по нраву они тем, кто ими владеет. Но если и есть у этих мест дух-хранитель, это никак не Аюур-бойда, — сказал Дашдамба и снова окинул взглядом зеленеющие лесами склоны гор. Сидевший рядом с ним юный Батбаяр еще и не догадывался о тех страданиях, которые вынес в свое время Дашдамба, не мог знать и о его думах. Ему, Жаворонку, вновь припомнились слова старика Цагарика. «Не унижайся до того, чтобы пресмыкаться перед маньчжурскими чиновниками, китайскими торговцами и монгольскими нойонами».
Погоняя кобылиц и волов, они возвращались домой.
— Сегодня у Аюура будет веселый день. Ничто не радует его сердце так, как эти ядреные волы и воловьи глаза его смугляночки-жены, — захохотал Дашдамба. Вслед за ним засмеялся чему-то и Батбаяр.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ПРОКЛЯТИЕ
С шумом перекатывая голыши, грозно и напористо течет река Онги, словно сердится на узость русла, в которое едва-едва умещается ее полноводный, стремительный поток. В прохладный осенний вечер на высоком берегу Онги в одиночестве сидел Балбар, поджав под себя ноги. У него потасканное рябое лицо, косые глаза и узкий лоб. Он не сводил глаз с бегущей воды и, сжимая в горсти острый подбородок, время от времени, как осел, встряхивал головой.
«Я рожден для того, чтобы совершать задуманное, — бормотал он, но некому было, кроме неба и ветра, слушать его слова. — Однако что я могу поделать с человеком, которого постоянно сопровождает десяток телохранителей и четыре государственных чиновника в придачу!.. Подсыпать ему «приправу» в еду? Клинком тут ничего не добьешься. Такой шум поднимется, что небо покажется с овчинку. Все халхаские мудрецы чинуши слетятся, начнут выискивать да вынюхивать — кто послал. Весь хошун перевернут, а дознаются. Так, погоди. Но как же все-таки с «приправой»? Даже на собачку не подействовала. Ничего, отыщем какую-нибудь другую.
Не получится ли так, что я собираюсь одним ломом с деревянной рукояткой развалить скалу? Если кто и может меня заподозрить, так это Смурый. Это он направляет Намнансурэна по собственному разумению, авторитет ему создает. Когда я кончу это дело, придется, видно, потягаться с Дагвадоноем. Так или нет? — задал себе вопрос Балбар. — Но если взяться с умом, найти уязвимое место, то и скала рассыплется, только ее толкни. Взять хотя бы рябого нойона, хана-то бывшего. До чего жену любил, надышаться не мог. К ней не только я, оборванный храмовый служка, солнечный луч подобраться не мог. А уж до чего свиреп был! То монастырских сторожей кнутом исхлещет — мол, собаки во дворах громко лаяли; то смотрителя храма вызовет и пощечин ему надает — мол, поутру слишком громко в барабан били. Такой ужас наводил, что к нему и приблизиться боялись. И этого всесильного человека смирила обыкновенная горячка. Заснул вечным сном. А вскоре ханша, его вдова, делила со мной ложе».
Стемнело, Балбар встал, обмотал вокруг головы орхимжи и пошел домой. Занятый своими мыслями, он, сжав зубы, миновал ханский дворец и подошел к своему хашану. На воротах висел амбарный замок, во дворе давился лаем рыжий, с белыми подпалинами, волкодав, за которого Балбар не пожалел верблюда. Не так давно поставили в этом просторном дворе две юрты-пятистенки, вплотную одна к другой. Дверь навесили внешней стороной вовнутрь; кошму дымника закрепили не на той стороне. Необычный вид юрты имели и внутри — все вещи стояли не на своих местах. Даже бурханы были расставлены почему-то у самого порога и смотрели куда угодно, но только не на юг[26]. На днях, когда бушевала песчаная буря, привел сюда Балбар своего близкого приятеля Гэмбэла, с которым служил еще у старого хана. Посидели, вспомнили былое, пожарили хушууров с луком, попили заправленного крупой чаю.
— Ну так вот, — начал Балбар. — У тебя есть возможность оказать мне неоценимую услугу. Зная тебя как старого и верного друга, хочу, чтоб ты помог мне выполнить одно дело. Кстати, и Цогтдарь ахайтан, которая так волновала твою душу в молодости, тоже советует довериться тебе! Это государственная тайна. И если сумеешь помочь нам, отвалим тебе столько, что и за всю жизнь не истратишь! — пообещал Балбар.
Гэмбэлу под пятьдесят. Выходец из бедной семьи, он исстрадался от сознания, что ему суждено под конец жизни нищенствовать, собирать подаяние и умереть в конце концов на какой-нибудь мусорной куче. Гэмбэл так и не понял, что означает предложение Балбара, но ответил, что помочь согласен. Клятвенно заверил, что никому не откроет доверенной ему тайны, и в подтверждение своих слов обменялся с Балбаром талисманами.
«Кто же выплевывает масло, которое само попало тебе в рот, — рассудил про себя Гэмбэл. Этот тощий, смуглый лама с густым ежиком коротких волос сохранял необычную для пятидесятилетнего мужчины легкость в мыслях. — А если когда и заподозрят меня в чем-то, скажу, что просто помогал ламе-затворнику ради горсти крупы и, конечно, не предполагал, что он использует мою помощь в дурных целях».
Балбара заинтересовали и заставили остановить выбор именно на Гэмбэле следующие обстоятельства: раньше Гэмбэл писал иконы, делал это мастерски и с большим усердием. Кроме того, по своей бедности был он падок на деньги. Когда-то и он считался приближенным рябого нойона, был вхож во дворец, но с тех пор, как на ханском престоле воссел Намнансурэн, стали поговаривать, что Гэмбэл подл, любит наушничать. Изгнанный молодым ханом со службы, бывший богомаз опустился до того, что не имел лишнего дэла. Балбар давно догадывался о чувстве ненависти, которое испытывал тот к Розовому нойону: «Себя полагает честным и неподкупным, а сам, пытаясь возвыситься в глазах людей, гнушается приближенными своего отца!»
— Коли положилась на меня ахайтан, то я вижу в этом предначертание свыше, — изрек Гэмбэл, и ответ его был по достоинству оценен Балбаром: «Самый надежный человек тот, чьи мысли совпадают с твоими!»
В прошлом Балбар был ламой, но, приехав в монастырь, смиренно облачился в скромные монашеские одежды, явился к хану и поделился своей мечтой:
— Хочу закончить годы свои не в грехе, но в затворничестве, позаботиться о грядущих перерождениях. Мечтаю пожить два-три года рядом с вами, вознося молитвы Намсраю[27], чтобы послужили они умножению благочестия и святой добродетели вашего семейства.
— Что я могу возразить на это, если желания ваши и Магсар совпадают, — ответил Намнансурэн.
Для родных и близких хана Балбар был бродячим монахом из другого аймака, но они видели в нем не только служку старого князя, сошедшегося в конце концов с его вдовой — названой матерью Намнансурэна, но знатока обрядов, прорицателя и астролога, и потому относились уважительно, почитая чуть ли не как отца. Так, под видом ламы-затворника, Балбар водворился в монастыре. К нему попривыкли, прониклись доверием.
— Ну вот что, ты! Напишешь мне пять портретов Намнансурэна, совершенно одинаковых, размером не больше ладони, — приказал Балбар Гэмбэлу, а сам с утра до вечера лазал по мусорным кучам, собирал выбеленные солнцем верблюжьи челюсти, женское исподнее тряпье, войлок, на котором относили в степь покойника, изношенные китайские тапочки, полуистлевшие кости, порты сгнившего от проказы старика китайца. По его просьбе Цогтдарь прислала однажды шкуры задранных волками животных. Вся эта подготовка заняла почти полгода. Как-то ночью затворник запер ворота, спустил с цепи волкодава и, засветив выточенную из кварца лампу, уселся у стола. Он разложил перед собой все пять портретов Намнансурэна, истыкал «девять органов» его тела остро наточенным кинжалом, исколол шилом сердце, живот и грудь. Потом завернул портреты вместе со всяким мусором в тряпье и шкуры, приготовил пять свертков и перевязал каждый обрывком старой веревки.
Гэмбэл был потрясен. Ему вдруг стало жаль Намнансурэна, но еще больше свой труд.
«Я столько старания вложил в эти рисунки! Противно-то как, — подумал он. Захотелось закричать, остановить Балбара… — А если этот дзолик разозлится и на меня тоже порчу напустит? Ой, пропал!» — с ужасом подумал рисовальщик, и сердце у него заколотилось, а ладони вспотели.
— Для чего же все это? Неужели от этого хан не переродится для будущей жизни? — Гэмбэл никак не мог понять смысл происходящего.
Балбар скользнул по нему безразличным взглядом, погладил лысину.
— Все это лишит его удачливости, силы духа и подведет к черте, за которой человек превращается в труп. Я изучил множество книг о черной магии и колдовстве. Сейчас… это самое… зароем эти свертки в четырех местах по четырем сторонам света: на хребте, где могила его отца, на Хавцагайтском перевале, у Онгинской скалы и у трех Таримлынских источников. Последний зароем в очаге, под таганом в сером орго Намнансурэна. Это, пожалуй, самое хлопотное. Попробуем, однако, что-нибудь придумать, — ответил Балбар, и в свете лампы блеснули капли пота на его лысине.
— И это все?
— Проклятие очень сильное. Однако хану покровительствуют небеса, а потому есть у меня мысль кое-чем это проклятие дополнить. Возьму прежде книгу заклинаний да пересчитаю по ней буквально каждый год жизни нашего красавца, — пояснил Балбар.
«Ох и страшная получится штука. Пусть хану покровительствуют хоть все пять небесных сфер, разве он выдержит такое?! А ведь когда управление хошуном окажется в руках Балбара, работенки прибавится. Тоже ведь корыстолюбив дзолик. Он уж не упустит возможности нажиться. Но авось и мне кое-что перепадет. Недаром же я перед ним спину гну «Слушаюсь, повинуюсь!» Липну, точно селезенка. У-у, чтоб тебя!..» — воскликнул про себя Гэмбэл и снова оглядел внутреннее убранство юрты. Все вещи были поставлены задом наперед, бурханы накрыты темной материей, было такое ощущение, что весь мир окутала плотная чернота. Время от времени хлопала кошма, закрывавшая дымник, — и на дворе бесновалась пыльная буря. Непрерывно выли собаки. Гэмбэлу стало страшно, показалось, будто юрту наполнили невидимые глазу упыри, ведьмы и вурдалаки. Балбар сжал рукой свой длинный подбородок и сидел, уставясь на тоно, о чем-то думая. В тусклом колеблющемся свете его крупный вислый нос то укорачивался, то удлинялся, словно оборотень. «Вот и дьявол — демон ночи, тоже, наверное, такой же», — мелькнуло в голове у Гэмбэла.
Балбар вскочил, выудил из-под подушки белую гадальную кость и, прошептав заклинание, бросил.
— Выпало тебе, Гэмбэл, ехать в худон к ахайтан. Бывает, что проклятие начинает действовать и на других, переждешь там.
Несколько дней, тайком, ездили Балбар с Гэмбэлом по худону — зарывали свертки с проклятиями хану во всех намеченных местах. Оставался только один — для ханского орго. Закончив работу, они три недели просидели затворниками, читали молитвенные книги, а затем «сделали перерыв». Балбар вручил Гэмбэлу хунз чаю и сказал:
— Теперь мне придется почаще бывать в ханском орго. Ты же съездишь к Цогтдарь и вернешься. Поеду я — могут заподозрить неладное. До тебя же никому дела нет. А если все-таки кто-нибудь поинтересуется, ответишь, что по моему приказу едешь справиться о здоровье ахайтан. Когда она тебя примет, скажешь: «Год рождения твоего сына и год тигра, в который родился известный тебе человек, имеют одного покровителя». Проклятие может перескочить с одного на другого, — это надо иметь в виду, — и потому беречься: каждое утро вырывать один волос с темени и, сделав на нем три узелка, двадцать один раз прочесть вот это заклинание, — наказал Балбар, засовывая за пазуху Гэмбэлу клочок бумаги с написанными на нем строчками. — Тебе, Гэмбэл, бояться нечего. Все подготовлено основательно. Я ничего не делаю кое-как, так что не волнуйся. В таком важном предприятии, как смена власти, сердце должно быть каменным. Потому что и сам-то государственный переворот — это, знаешь ли, как детина с чугунным лицом и куском льда вместо сердца. «Зло злом побеждают», — есть такое поучение у ловона Жуная. За нашим делом стоит увековечение религии, радость многочисленных лам и хувраков. И ты сам сможешь увидеть это чуть позже, — добавил Балбар. И он указал своему подручному на приведенного кем-то хану в подношение коня, которого вот уже несколько дней, не боясь греха, ловко скрывал от посторонних глаз. Гэмбэл приторочил переметные сумы и тронулся в путь.
Орго гуна было разбито на берегу озера Глубокого. Если слушаешь крики турпанов, созерцаешь водную гладь на восходе и свое отражение в озере на закате — это приносит счастье и благоденствие, бодрость и жизнерадостность, — считала ахайтан Цогтдарь, и потому ее семья каждое лето и осень кочевала от озера к озеру. Как только выбирали место, тут же шестьдесят слуг, сопровождавших аил, ставили четыре юрты, натягивали пять веревок для молоденьких жеребят, и уже по этому нетрудно было понять, что Ринчинсаш намного богаче своего старшего брата.
Признав во всаднике, прискакавшем в орго гуна на взмыленном коне, старинного знакомца Гэмбэла, Цогтдарь тут же смекнула, что он привез какие-то известия. Ахайтан ввела гостя в малое орго и, радушно угощая, стала расспрашивать о разных пустяках, время от времени с удовольствием смеясь его шуткам. Балбар не появлялся больше полугода, и гость, всегда в прежнее время при случае пяливший на нее глаза, был ей сейчас приятен. Стараясь показаться Гэмбэлу привлекательной и доступной, она то и дело вскакивала, шла за чем-нибудь, покачивая крутыми бедрами.
— Ну, как там наш Балбар поживает? Небось как только стемнеет, так и крадется к юртам прислуги. Да и вы, конечно, от него не отстаете, не упускаете случая сбегать туда? — спросила Цогтдарь.
Гэмбэл засмеялся, не зная, что ответить, но, смекнув наконец, в чем дело, блеснул глазами и с интересом поглядел на ахайтан. Усевшись поудобнее на тюфяке, поджал под себя ноги и, прихлебывая охлажденный кумыс, то вполголоса, то совсем шепотом, поведал ахайтан о делах.
— Как же, как же!.. Слышала я от мудрецов, что болезни или другие какие напасти преследуют людей по причине насылаемых на них проклятий. В этих случаях, говорят, рекомендуется совершать обряд очищения. Бывает также, что и шаман промашку дает, наколдует тебе худое… Не думаю, однако, что из затеи Балбара выйдет что-нибудь действенное. Нечего тут себя-то обманывать. А я так скажу взялся за дело, так уж старайся изо всех сил, — раздраженно заявила Цогтдарь.
— Э-э, напрасно ты так говоришь, ахайтан моя! Эта самая затея у него такая страшная, что ужаснее и не придумаешь. Это все для того, чтобы напрочь лишить хана удачливости и жизненной энергии. Такого проклятия я думаю, ни один человек не вынесет. Я лишь со стороны наблюдал, и то, казалось, душа вот-вот с телом расстанется. Прости меня, господи.
— Видно не нашел Балбар верного человека, подходящего лекаря. Тот был бы понадежнее. Ты передай Балбару: если такой сыщется, не пожалею за услугу и табуна лошадей! — сказала Цогтдарь, а про себя подумала: «Зыбко все как-то, укрепить не помешает».
Ахайтан договорилась с Гэмбэлом, что он пробудет на стойбище несколько дней, обсудит с гуном все, что наказал Балбар.
Гуну была по нраву спокойная, размеренная жизнь в худоне. Одна беда — развлечений мало, и потому Ринчинсаш заходил поутру в молельную, отстаивал богослужение, а после завтрака приказывал седлать коней и вместе с женой отправлялся на прогулку — в горы, степь или к реке. В один из осенних солнечных дней супруги по установившейся традиции объехали озеро и повернули к дому. Легкий ветерок тронул зеркало озера рябью, гоготали гуси, плавающие парами белые лебеди, приподнявшись, били по воде расправленными крыльями — забавная и прекрасная картина.
Ринчинсаш и Нинсэндэн натянули поводья.
— Может, отдохнем здесь немного, остынем около воды, — предложил гун, и они направили коней в озеро.
Прохладный ветерок гладил щеки, доносил запах солончаков.
— Хотела бы я жить столь же неразлучно с вами, как эти турпаны на озере. Вот что было бы самым большим счастьем в моей жизни! — горячо произнесла Нинсэндэн, и в ее глазах вспыхнуло отразившееся в воде солнце. Ринчинсаш удивился, с недоумением посмотрел на жену.
— А разве может быть иначе? Или ты куда собралась? Который уж год вместе живем, а ты все никак привыкнуть не можешь.
Нинсэндэн помолчала, глядя ясными глазами на то, как ее конь прядет ушами, вскидывает голову. Потом вздохнула и произнесла:
— Простите меня! Я же на каждом шагу только и думаю о том, как бы угодить вам, как бы не заронить в ваши мысли и капли сомнения. Знаю, что вы любите меня всей душой, и испытываю к вам чувство глубочайшего почтения. Но моя свекровь… В ее отношении ко мне нет ни вашей нежности, ни сердечности. Она все время от меня что-то скрывает, старается не показывать меня людям. Ей не нравится даже то, что я захожу к ней в орго.
Ринчинсаш долго смотрел на прозрачную воду, обтекавшую бока его коня, но возникшее чувство беспокойства не проходило. Наконец он произнес со вздохом:
— Мне тоже эти муки знакомы, так что я тебя понимаю. Но, знаешь, в жизни нет ничего вечного и неизменного. — В больших, черных глазах гуна, на его красивом розовокожем лице отразилось страдание.
Внезапно ветер усилился, по озеру побежали волны. Супруги выехали на берег и направили коней к дому. Там встретила их Цогтдарь. Когда слуги, приняв поводья, увели коней, ахайтан, источая доброжелательность и заботу, вытерла пот со лба Нинсэндэн, поправила ей волосы.
— Отчего это мама сегодня так ласкова? — удивилась княгиня.
— Ступай, дочка, в орго, отдохни. Притомилась, наверное, на такой жаре. Попей холодного кумыса и приляг. А ты, гун мой, зайди в молельную!
Ринчинсаш отвязал клинок в оправленных в серебро ножнах, высвободил руки из рукавов и, опустив верхнюю часть дэла на бедра, пошел следом за матерью — высокий, статный, длинная черная коса ниже пояса. У молельной, в стороне от входа, стоял Гэмбэл. Сложив руки, низко, до земли поклонился гуну, показывая, что готов служить преданнее собаки. В алтаре, который Намнансурэн преподнес Ринчинсашу в день присвоения брату княжеского титула, горели лампады, поблескивало серебро дарохранительниц и жертвенников, переливался перламутр раковин; горели золотом языки пламени, которыми был расписан стол. В юрте тихо: толстые ковры, развешанные по стенам, надежно охраняли святыню от мирской суеты. Сизым туманом плыл дым благовоний и ароматических палочек.
Цогтдарь вытащила из-за пазухи длинный хадак и, развернув, протянула его Ринчинсашу.
— Склони голову перед бурханами, сын мой. Ты, мое любимое дитя, наделен умом, и ты поймешь причины, которые побуждают нас совершить… должное. Ты не простой человек, но человек высшего небесного происхождения. На смертном одре отец твой завещал, чтобы ты наследовал его титул и престол. И вот настало тебе время выполнить золотое завещание своего седовласого, благодетельного родителя, — сказала она, впиваясь глазами в лицо сына.
— Как вас понимать, мама? Разве не по небесному произволению наследовал этот титул мой старший брат? Я не могу, не имею права… — Пораженный словами матери Ринчинсаш отступил назад.
Цогтдарь подошла к сыну вплотную и, упав на колени, протянула хадак.
— Ты не знаешь всего. Плоть Намнансурэна, получившего этот титул, растащит воронье. И поспособствует этому твой дядюшка. Но и мы, по мере сил своих, должны помочь ему.
Ринчинсаш содрогнулся всем телом, сморщился, на глаза навернулись слезы.
— Нет, мама, нет! Мы должны со смирением принимать плоды деяний в предыдущих перерождениях. Какие мерзкие, отвратительные слова произносят ваши уста!
— Они не мерзкие. Сынок мой, сыночек, пойми. Мы стараемся ради твоего же блага.
— Мама! — сдавленным голосом воскликнул Ринчинсаш и отшатнулся. — Вороны не должны склевать… Я запрещаю. Я… Я боюсь. — Его била дрожь, на лице выступил пот. Цогтдарь встала, снова подошла к нему.
— Не кричи! На тебя взирают почитаемые нами святыни, а говорит породившая тебя на свет мать. Подданные ждут твоего решения. Согласно завещанию твоего отца ты должен восседать на престоле. Мужчина может бояться того, что страшно, может запрещать то, что подлежит запрету. Но это не то и не другое. Будь мужчиной. Не дрожи как заяц, — сказала Цогтдарь. По-прежнему не сводя глаз с сына, она силой возложила хадак на его плечи.
— Что вы хотите сделать с братом?
— Это тебя не касается. Об этом дядюшка твой позаботится. Он уже наслал на Намнансурэна проклятие. Ты выучишь присланное им заклинание и будешь читать его, как он велит. Сейчас я тебя сведу с Гэмбэлом гэлэном, — сказала Цогтдарь, вытерла пот и, тяжело дыша, вышла из молельни. Ринчинсаш остался один. Он дрожал от страха, не понимая, что происходит.
Вскоре в орго вошел гэлэн в длинном дэле и, кашлянув, остановился у двери.
— Приветствую вас, мой хан, — произнес он с поклоном. Стоявший в хойморе, отвернувшись к стене, Ринчинсаш вздрогнул и оглянулся.
От костистого, пепельно-серого лица ламы, казалось, веяло могильным холодом. «Оказывается, я уже стал ханом… А что же станет со старшим братом?» — с тоскою подумал он и едва удержался на ногах.
Гэмбэл подошел ближе и взял гуна за плечи.
— Молитесь, мой господин, — негромко сказал он.
Ринчинсашу показалось, что его связали по рукам и ногам, что нет возможности двинуться, и он опустился на колени перед алтарем.
У Магсар приближались роды, и Балбар, прервав «затворничество», стал все чаще появляться в ханском орго. Он был угодлив и услужлив — лишь бы первым узнать, кого родит ханша — мальчика или девочку. Еще надеялся он завладеть последом, да и последний, пятый сверток нужно было зарыть под очагом в сером орго. «Опекая» Магсар, Балбар дневал там и ночевал, а порою и к хану захаживал, поболтать с ним о том о сем.
— Этот год покровительствует вам, а потому ребенок, которого вы ждете, будет жить долго и счастливо. Бросишь иногда кости, так они каждый раз выпадают на белое. Всего, конечно, по ним не узнаешь, сдается мне еще вот что: не стоит тешить себя мыслью, будто окружают вас одни доброжелатели. Здесь наверняка… это самое… есть люди, чьи помыслы противны воле небес. Помните, когда к вам приехали маньчжурский амбань и Далай-богдо, вы преподнесли амбаню такой подарок, что он забыл, зачем явился. Не поручусь, что амбань теперь не строит против вас козни. Это самое… Торговцы из фирмы Шивэ овор в друзья к вам набиваются, подношениями засыпают, а что они там про себя думают — кто знает? А не отирается ли возле вас… это самое… какая-нибудь продажная тварь — прикидывается ненавистником маньчжуров, — сжав в кулаке длинный подбородок, вслух размышлял Балбар. «Ты же всем нутром своим ненавидишь маньчжурского амбаня. Оттого и в злой умысел и в козни его наверняка поверишь. И чем больше будешь думать о нем, тем лучше для меня», — прикидывал злодей про себя.
— Вы и сами не хуже меня знаете, что от маньчжуров добра не дождешься. Они всегда улыбаются, но каждая их улыбка — это проклятие. Вы же на приеме у императора дважды побывали, так что не вам об этом рассказывать.
Намнансурэн с улыбкой отложил сутру.
— Собственно, на аудиенции у императора я не был.
— Как? Вы же ездили в Пекин для того, чтобы получить титул хана, а потом еще раз, по службе. Так что же, вы… это самое… не получали титула? — спросил Балбар, уставившись на хана жадно блеснувшими глазами, будто среди словесной шелухи обнаружил вдруг золотой самородок. Намнансурэн не догадывался, что стоит ему только повторить, что, мол, и вправду не был он на аудиенции у императора, как Балбар, хлопнув руками по ляжкам, пожалуй, вскочит, завопит: «Ты самозванец» и, чего доброго, бросится оповещать всех, что «нынешняя власть незаконна».
— Приехал я, дядюшка, на прием к императору. Ждал почти целый месяц, и вот однажды привели меня во дворец Гугун. Прошел я через ворота в многоэтажной башне и вижу: вдоль длинной, выложенной камнем дороги стоят ряды нойонов в черных хурэмтах, позади них — шеренги солдат. Очень внушительное зрелище. Прошел я по этому коридору, меня остановили и приказали кланяться. Вдалеке под шатром, у дверей огромного дворца, толпою стояли люди в цветастых, как у меня, дэлах и черных хурэмтах. Кто из них был император — не знаю. По моим предположениям — невысокий, белолицый мужчина, что стоял в середине. До него было шагов сорок — пятьдесят, так что и рассмотреть его хорошенько я не сумел. Только отвесил три поклона и развернул хадак. Откуда-то сбоку вынырнул человек, забрал хадак и ушел. Через некоторое время какой-то другой придворный принес мне шапку с жинсом и сказал, что аудиенция окончена. И во второй мой приезд был такой же точно прием. Правда, на этот раз меня через сайда спросили: «Все ли благополучно в ваших местах? Спокойной ли была ваша дорога?» Но сам ли император спросил или еще кто — я так и не узнал. — Намнансурэн примолк и задумался. Потом добавил: — Но я не расстраиваюсь. Что мог бы я сказать императору Под небесной? Этикет — шутка тонкая, надо уметь его соблюсти.
— Да, жаль, жаль… А здорово было бы, если и вы, мой хан, подданных своих принимали таким же образом. Порядку-то было бы значительно больше, — сказал Балбар, словно испытывая Намнансурэна. Хан презрительно хмыкнул:
— Не имею желания устраивать здесь подобные порядки. Они были бы для меня только в тягость. Есть многое другое, кроме этикета, что не дает мне покоя, дядюшка.
— Что же томит вас, почтенный хан?
— Не за свою голову болит душа. Мне своего хватает, да и вы, мои близкие, нужды не терпите. Но вот вы, дядюшка, человек светлого ума, кому как не вам понять меня. Долг хошунов наших — сорок тысяч ланов, крепостные и податные люди зачастую тряпки не имеют, ходят среди лета в овчинных дэлах. Что это? Веление судьбы? Не верю!
— И правильно. Однако, почтенный хан, это не ваш долг. Если же говорить о крепостных и податных людишках, то, с одной стороны, ваши мысли о них верны, но с другой, в самом деле есть на все воля неба.
— Я так не думаю, дядюшка. Если богат хошун, то доволен и его нойон; если крепостные одеты и сыты, значит, господин у них толковый.
«Хочешь для всех хорошим быть, «живым богом» прослыть желаешь? Ну что же, попробуем поддеть тебя с другой стороны», — мысленно осклабился Балбар.
— Вы что же, всерьез полагаете, что отец ваш и жил неправедно, и поступал неразумно? Да уж не переутомились ли вы от великих трудов своих? Не пропал ли у вас аппетит? — сказал он, сжимая в кулаке свой подбородок.
— Кто сказал вам, что у меня аппетит пропал? — улыбнулся Намнансурэн и прошелся по юрте.
— Узнал я, что отдельно для вас теперь не готовят, а кушать изволите лишь то, что и чиновникам подают. Вот я… это самое… По невежеству своему и подумал, не пропал ли у вас аппетит, — обращая свои слова в шутку, сказал вставая Балбар.
— Вправе ли мы судить наших предков? Благодаря отцу есть что подать на стол и у мамы, и у нас. Ну да ладно, — улыбаясь сказал Намнансурэн и вышел из юрты.
Балбар помрачнел: сколько сил и выдумки потратил, но так и не смог ни убедить в чем-нибудь хана, ни хотя бы из себя вывести.
К вечеру погода испортилась: над северным хребтом повисли черные тучи, то и дело сверкали молнии. На закате Магсар хатан почувствовала себя плохо. Балбар, задыхаясь, метался у дверей орго:
— Утеплите стены! Костоправа сюда! Лампады в молельной зажгите! Марамбу зовите!
Зайдя в орго, справился у ахайтан о самочувствии.
— Цвет лица у вас хороший. Постарайтесь успокоиться. Выпейте пару ложек топленого масла, — посоветовал он и бросил гадальные кости. — Его отец родился в год тигра, так? Если ребенок появится на свет в час собаки, то будет писаным красавцем.
Намнансурэн обычно до ночи засиживался в малом орго, от двери до хоймора заставленного полками с монгольскими, тибетскими, маньчжурскими сутрами, рукописями, книгами. Не изменил он своей привычке и в эту ночь, но время от времени, не выдержав, подходил к орго, где лежала жена. Ахайтан родила заполночь. Намнансурэн бросился в юрту к жене, но в дверях дорогу ему загородил Балбар.
— Нам с вами не стоит заходить туда. Лишняя суета может только повредить ахайтан, — предостерег он. Хан послушался и возвратился в свое орго. Из юрты вышла служанка, держа в руках скомканные простыни.
— Кто родился? — спросил у нее Балбар.
— Сын.
Балбар не подал вида, как сильно огорчен. Полюбопытствовал:
— Несешь что?
— Послед, — ответила растерявшаяся девушка.
— Это где попало не бросают. Давай мне, я найду место, где спрятать, — сказал Балбар, забирая простыни.
В свой хашан он бежал, спотыкаясь и задыхаясь от волнения, словно стал обладателем некоего сокровища. Спрятав простыни, перевел дух: «Вот и еще одно дело сделано. Видно, само небо покровительствует нам».
Нащупав за пазухой серебряную иглу, он снова заторопился в ханское орго. «Прошло время, когда ты метала своих щенков одного за другим. Теперь сокровенная плоть твоя попала ко мне, и вся черная магия будет работать на то, чтобы опустошить твое лоно», — думал, шагая к орго, Балбар и до крови кусал губы своими желтыми, гнилыми зубами.
Три дня в ханском орго был праздник, а на четвертую ночь опять случилось несчастье. Душа у Балбара пела от радости, но щепоти нюхательного табака оказалось достаточно, чтобы пролить целый ручей слез. Оплакав младенца, Балбар вернулся в свой хашан, чтобы продолжить затворничество. Хоронил ханского сына Содном. На темени младенца, на месте смертельного укола заметил он красную точку и почувствовал вдруг, как обожгло ему грудь, едва сдержал крик боли. «Но нельзя же усугублять страдания господина, — подумал он, стараясь взять себя в руки. — Кто же это сделал? Как может жить на свете эта змея, смотреть в глаза людям?»
Вернувшись к себе, Балбар запер двери. Каждый день читал он книгу черных заклятий. «Это благодаря ей колдовство мое идет успешно», — говорил он самому себе.
Иногда приходил Гэмбэл, приносил воду, заготавливал дрова. «Чужая душа — потемки», а «бывалый человек не дает промашки», — рассудил Балбар и ни словом не обмолвился Гэмбэлу о причине смерти младенца. Не стал показывать и добытый послед.
«Видно, проклятие сгубило младенца, — подумал Гэмбэл, услышав о трауре в ханском орго. — Ох и страшная же в нем сила! Ну и Балбар! Не человек, а настоящее бесовское отродье. Может, он за счет своего тайного колдовства и в хубилганы выйдет?» — Страх и благоговение полностью захватили Гэмбэла, и он на всякий случай шептал молитвы, прикрываясь рукавом.
Чтобы прервать потомство Намнансурэна, а чрево Магсар сделать бесплодным, Балбар высушил послед, обложил его червями, разной гадостью, проколол его с разных сторон острыми клинками, завернул в выцветшую материю и, зарыв сверток перед дверью ханского орго, несколько раз прочитал заклинание. «Но все мое колдовство может оказаться бессильным, — подумал Балбар и начал исподволь узнавать, какой яд самый сильный. Но при этом не забывал он и об осторожности. — Людишки-то завистливы… если кто-нибудь из ханских блюдолизов только заподозрит неладное, тут же докладывать побежит, не упустит возможности лишний раз доказать свою преданность. Постой, но как же тогда быть, — сжимая в кулаке свой длинный подбородок, размышлял Балбар. — Хороший яд наверняка есть в фирме Шивэ овор. Однако меня там знают как ханского приближенного, а потому не дадут — испугаются. Другое дело, если они стороной узнают, что я ненавижу Намнансурэна. Именно стороной, ибо, намекни я об этом сам, тут же сочтут за ханского соглядатая и донесут Намнансурэну, чтобы в любом случае остаться в выигрыше. Амбань и китайские торговцы на такие штуки большие мастера, — бормотал Балбар. — Надо срочно вызвать Ринчинсаша. Пусть побудет с братом, разделит его скорбь по поводу разлуки с сыном, а заодно и встретится с купцами из Шивэ овор, даст понять, что мне можно верить. Тогда и с ядом осечки не будет».
Балбар приготовил кисточку и тушь для письма. Рано утром хлопнула дверь. Как открывается потайной замок, кроме него знал один только Гэмбэл. Увидев вошедшего вместе с ним Соднома, Балбар перепугался: «Дознались? Быть этого не может!»
Поприветствовав хозяина, телохранитель внимательно осмотрел убранство юрты.
— Хотел довести до вашего сведения, что самочувствие хана ухудшилось, — сообщил Содном, глядя на раскрытые сутры и расставленные жертвенники. Попросил прощения за то, что потревожил своим внезапным приходом ламу-затворника.
— Понял, уважаемый Содном. А что с ним такое? — встревоженно спросил Балбар, стараясь расположить к себе телохранителя. — Что ж, я прерву на время затворничество и немедленно прибуду к хану.
Когда телохранитель, отведав предложенного угощения, вышел, Гэмбэл с восторгом воскликнул:
— Все свершилось так, как вы и задумали. Из всех людей здесь вы — самый могущественный!
Балбар неприязненно посмотрел на Гэмбэла.
— Ты зачем показал ханскому телохранителю потайной замок? Не ожидал от тебя такого. Раньше времени осторожность теряешь.
В тот же день Балбар явился к хану. Намнансурэн был в юрте один, лежал, укрывшись дэлом. На столике рядом — раскрытая «Синяя книга»[28].
— Хан, какое у вас недомогание? На что жалуетесь? — церемонно кланяясь, спросил Балбар. Намнансурэн медленно приподнялся и сел:
— Со мной ничего особенного. Здоровы ли вы?
Лицо хана побледнело, осунулось. Веки глаз припухли — видно, много было пролито слез.
Балбар изобразил на лице скорбь.
— Что же теперь поделаешь. Что толку пенять на беспощадность и безжалостность этого мира. Вы и сами знаете, господин мой, что… это самое… такое несчастье часто постигает людей и трудно что-либо поделать. Возьмите себя в руки, укрепите сердце свое и взгляните на будущее ясным разумом. Любого из нас может настигнуть смерть, — вкрадчиво заметил Балбар.
— Да, дядюшка. Я как раз об этом думал. Не дает мне покоя мысль, что не судьба, но что-то другое повинно в наших потерях. Но что за рок преследует меня?
— По правде говоря, дело действительно очень странное Приглядывался я к вашим приближенным, пытался понять, кто чем дышит. Но люди вроде бы честные, порядочные. Однако недаром говорится: «Змея пестра снаружи, а человек подл изнутри». У злоумышленника на лбу не написано, кто он таков.
— Дядюшка, я ни о ком здесь не могу сказать плохо. Вижу в окружающих лишь чистоту помыслов и благородство, чувствую к людям привязанность. Кому же из подданных понадобилось мне мстить? Чем вызвана столь неслыханная жестокость? А представляете, какая скорбь переполнит сердца младшего брата моего и матушки, когда они услышат о постигшем нас горе. Вы еще не извещали их? — спросил Намнансурэн.
Балбар приуныл:
— Я до сих пор, по невежеству своему, не придумаю, как им все объяснить. Вот беда-то какая!
— Тут уж ничего не поделаешь, — горестно вздохнул Намнансурэн. Известить маму и брата необходимо, но стоит ли всяческими предположениями доставлять им лишние страдания? И еще… думаю вот, когда станет теплее, отвезти Магсар в Хангай, пожить несколько дней у Хятрунского источника. Надо ей сменить обстановку, успокоиться. Как вам кажется?
— Другого ничего и не придумаешь, лучшего сейчас нельзя себе и представить, господин мой! Ринчинсаша я извещу. Отсутствие вестей встревожит их еще больше, — молитвенно сложив ладони, сказал Балбар.
Намнансурэн был подавлен. Мысли, одна горше другой, угнетали его. Хан почти перестал есть, многие ночи проводил без сна и сильно ослаб.
«Я всегда заботился о благе моих подданных. За что же наносят они мне такой страшный, дьявольски изощренный вред? Конечно, есть на свете зависть. Она толкает людей на неблаговидные поступки. Но чтобы пойти на такое грязное, низкое преступление… Уничтожать детей? Почему убивают невинных младенцев вместо того, чтобы погубить, скажем, меня самого? Можно предать огню все мое достояние, учинить надо мною расправу… Трус, не рискующий бороться со мной открыто, может отыскать множество других способов тайно расправиться со мной. Кто же этот злодей? Говорят, отец мой был лют. Может, со мной сводит счеты обиженный им человек? Нет, не слыхал я о таком. Погубитель моих детей задумал прервать мой род. Кто? Зачем? Что мне теперь делать?»
Эти мысли несколько суток подряд сверлили мозг хана. Перед его глазами вставали иссиня-черные сливы невинных младенческих очей, и, как хан ни крепился, к утру его платок был мокрым от слез.
Вскоре в монастырь приехал Ринчинсаш с женой. Зайдя в орго, поклонились, Ринчинсаш поднял на брата глаза и тут же испуганно отвел их, изменился в лице, потупился и сидел молча, словно глотал и никак не мог проглотить жесткую жилу. Он то краснел, то бледнел, не осмеливаясь посмотреть ни на брата, ни на изображения бурханов в алтаре. Рядом с ним, притаившись, словно ее и не было, сидела Нинсэндэн. Намнансурэн расспросил о здоровье матери, потом с трудом заговорил:
— Большое несчастье постигло меня. Но что теперь… Постарайтесь хоть вы не болеть, хорошенько молитесь бурхану-хранителю. За нас не беспокойтесь. Мама уже не молода, пусть побережет себя. Передайте ей мою просьбу. Хотел я заехать к вам, да сейчас не до того. Ты, младший брат мой, позаботься о матушке, не отказывай ей ни в чем. Хоть и остра она на язык, а иногда и грубовата, но сердце у нее нежное. Мы съездим на воды, полечимся немного и на обратном пути заедем ее проведать, — сказал хан. Ринчинсаш не промолвил в ответ ни слова, даже не кивнул.
«Молод годами, вот потому и переживает так сильно мое горе. На вид — здоровый мужчина, а в сущности — совсем еще ребенок. Правильно говорят: «Выросший без отца — что большой палец в пятерне». Молоды они, детей нарожают много. Что ж, пусть хоть у них все благополучно будет», — подумал Намнансурэн и вручил родственникам приготовленные подарки. Ринчинсаш долго молчал, ерзал, словно ему было невмоготу сидеть на одном месте, встал, поклонился. Выходя, сказал, как учила мать:
— Оттого горе приключилось, что люди вас не любят. Жаль, но ничего не поделаешь.
«Говорит так, как думает. Возможно, он в чем-то и прав. Бог с ним, совсем еще дитя», — тепло подумал о брате Намнансурэн, благодарный ему за приезд.
На следующее утро хан встал рано — все равно не спалось — и вышел на окраину монастыря. Он шел по молитвенной дороге вокруг субурганов и неожиданно столкнулся с Нинсэндэн. Увидев перед собой хана, молодая женщина рухнула на колени и зарыдала. Намнансурэну бросилось в глаза ее осунувшееся, бледное лицо: «Тоже совсем еще девочка. А сердце чуткое — переживает».
— Хан аха! Пощадите вы меня, недостойную. Позвольте вернуться в родительский дом. Не могу я здесь, не могу привыкнуть к тому, что вокруг творится, — просила Нинсэндэн, утирая бархатным рукавом катившиеся по лицу слезы. Намнансурэн поднял невестку с колен, участливо погладил по голове.
— Потерпи, все постепенно сгладится, — сказал он и подумал: «Нрав у матушки крут, в разговоре выражений не выбирает, а девчонка не привыкла к такому обращению, вот никак и не приживется, бедняжка. Дома небось росла в неге да в ласке. А может, братец мой на сторону поглядывать стал».
Нинсэндэн отвернулась и опять заплакала.
— Неправ он, что еще я могу сказать вам, его старшему брату, едва слышно вымолвила Нинсэндэн и повторила просьбу: — Позвольте мне вернуться в отчий дом.
— Ты дорога мне, как и брат. Все устроится в свое время. А ему я скажу, чтобы был благоразумен, стремился к добру и не мучал тебя, моя девочка, неразумными поступками. Успокойся. Старший брат позаботится о тебе, — ответил Намнансурэн.
«Видно, хан понял все, — с облегчением подумала Нинсэндэн. — А что теперь будет с Ринчинсашем? Может, его и не бросят в застенок. Сам-то ведь он неплохой, и я от него зла никогда не видела».
Домой Намнансурэн вернулся с твердым решением — встретиться с братом и наказать ему: «Коли взял жену в дом — не мучь ее. Пусть делает то, что хочет и что умеет. Пригласи учителей, пусть обучат ее грамоте, игре на хуре. Вози почаще к нам, развлекай всячески…»
Но Ринчинсаш был неуловим: то он уехал в китайскую фирму в Шивэни ар, то ушел на моление, то отправился на прогулку к реке. Домой он вернулся, так и не попрощавшись с братом.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ СТРАНА ЦВЕТОВ, СТРАНА ПТИЦ
День и ночь — сутки прочь, зима да лето — год пролетел. Батбаяр раздался в плечах, возмужал. В юрту теперь входил осторожно, бочком — не то и завалить можно. В состязаниях по борьбе был стоек, неутомим, и сверстники уважительно отзывались о его неистощимой выдумке и мастерском броске через спину. Иногда, чуть хмельной от кумыса, он мчался на горячем коне, пригибаясь на скаку к его гриве, и думал: «А может, я скоро буду самым сильным в верховьях Орхона?» Как хотелось Батбаяру оседлать сытого резвого скакуна и лететь от хотона к хотону, от пади к пади… Но разве позволит вольничать Аюур-гуай! Бойда даже установил порядок: при обучении жеребят и двухлеток ездить осторожно, и то две недели, не больше. В табуне двадцать с лишним лошадей, но они не знают седла, их спины ласкает лишь степной ветерок. Попробуй оседлай хоть одну, — потник взмокнет, Донров помчится жаловаться отцу, и попрекам не будет конца. А юноше не хотелось приносить матери огорчения. Зато, когда Дуламхорло уезжала на моленье, на цам, на праздник майдара или же навестить родных и разрешала сопровождавшему ее Батбаяру седлать любимого коня, он чувствовал себя настоящим мужчиной. Радушная и кроткая Дуламхорло с годами стала злой и придирчивой. Теперь она то и дело ругала батрачек, Гэрэл и Ханду, и не только во время дойки.
— Обленились, от работы отлыниваете, стряпаете плохо, водку выгнали слабую, — кричала она, в сердцах швыряя все, что попадалось под руку… Но стоило хозяйке увидеть Батбаяра, куда девалась ее злость, она таяла от счастья. Людской глаз остер, приметлив, и батраки стали гадать, в чем тут дело.
Говорили: «Парень здоровый, рассердится — шею свернет. Вот хозяйка и заискивает перед ним. С нами волчица, с ним — овечка».
— Чем старше, тем злее, — жаловалась Ханда мужу. — Строит из себя невесть что. А какой доброй была, покладистой!
Дашдамба слушал ее и помалкивал, теребя бороденку Но один раз не удержался.
— Это она доброй была, пока не разбогатела. А теперь силу почувствовала. Нас ни во что не ставит, да и муж старый ей надоел. За нос его водит. Ей молодого подавай! А кто на нее польстится!
— Э-э, сто лет ей жизни, — по привычке вздыхала Гэрэл.
По вечерам Батбаяр угонял табун на пастбище, а Лхама молча провожала его взглядом, теребя кончик своей длинной, чуть ли не до пят косы. Ханда и Дуламхорло, наблюдая за нею, тайком переглядывались — неспроста это. Когда в юрте никого не было, Дуламхорло частенько доставала из-под подушки зеркальце и поправляла прическу. Как-то в юрту зашел Батбаяр и, сев перед бурдюком, стал торопливо глотать кумыс.
— Ну и вырос же ты. Скоро макушкой тоно достанешь. Я жду его, жду, а он глаз не кажет, скверный мальчишка. — Дуламхорло рассмеялась, кокетливо потупившись. Жаворонок усмехнулся. А хозяйка открыла сундук и, косясь на дверь, протянула юноше отрез светло-коричневой чесучи.
— Аюур-гуаю не показывай. Видишь, какой красивый цвет. Только не вздумай дарить Лхаме. Странная она какая-то. Вертлявая, глаза ошалелые. Ни красоты в ней нету, ни ума. Верно я говорю?
Обрадованный подарком, Батбаяр сунул отрез под мышку:
— Вам виднее.
— Что ты мне все вы да вы. Будто маленький. А у самого вон какие плечищи, как у Аюура, — Дуламхорло вздохнула. — Встречаешься с Лхамой в степи?
Батбаяр смутился, уставился на хозяйку и после некоторого молчания ответил:
— Не-ет.
— Встречаешься. А от меня скрываешь? Думаешь, я не знаю? Ничего в ней хорошего нет. Голь перекатная, обузой будет тебе. Ни стыда в ней, ни совести, только и умеет, что задом вертеть да глазами стрелять.
Сконфуженный Батбаяр утер рукавом выступивший пот и, отставив чашку, встал. Хозяйка в упор на него посмотрела и зашептала:
— Вечером отгонишь коней туда, где трава посочнее, и возвращайся. Донров спит как убитый. Войдешь тихонько, никто и не заметит.
Юноша не знал, что ответить, но тут, на его счастье, у коновязи кто-то крикнул: «Собак придержите!»
— Понял? — глянув на дверь, спросила Дуламхорло.
— Ага, — крикнул Батбаяр и выскочил из юрты.
Приехавший передал слова бойды: «Князь вскоре прибудет на Хятрунский источник, а потому вам лучше пожить в Байданской пади — подальше от суеты». И они, снявшись с места, тремя юртами откочевали на берег Орхона. Никому и в голову не пришло, что Аюур отправляет их в другое место не столько из ревности к молодой жене, которую мог соблазнить кто-либо из приближенных хана, сколько из страха, что увидят, как он разбогател.
Батракам Аюура, которые ничего кроме Хоргой хурэмта не видели, новые места с их первозданной красотой показались интересными и таинственными. Зеленые поляны и скалы Хоргой хурэмта не шли ни в какое сравнение со скалами, упирающимися в небо, и бездонными пропастями, обрывистыми ущельями, бурными горными реками и дремучими лесами. Ими можно было любоваться до бесконечности, само воспоминание о них приводило душу в волнение. Аилов здесь кочевало немного. Это ли не счастье, когда мужчина, глотнув молочной водки, может вскочить на коня и мчаться, распевая в полный голос песню. Или, натянув грубошерстные, обшитые кожей штаны, вскинуть на плечо кремневку и месяцами пропадать в тайге на охоте. О такой жизни Батбаяр мог лишь мечтать.
Однажды на закате, вскоре после переезда на новое место, Батбаяр погнал на пастбище яловых кобылиц и, заметив издали отару овец, которую Лхама пригнала на водопой, птицей полетел туда. Девушка, поджав ноги, сидела на валуне у самой воды и что-то напевала. Сердце юноши затрепетало, когда он увидел нежные, с легким румянцем щеки Лхамы, ее миндалевидные черные глаза. Но Лхама почему-то не обрадовалась Батбаяру и, глядя на свое отражение в воде, принялась насвистывать «Гнедого иноходца». Скалы уступами уходили в реку, над зелеными кронами деревьев вились птицы. Батбаяр спрыгнул с коня, подошел к девушке и долго молчал. Вокруг все было спокойно, но душу теснила печаль.
— Лхама! Что ты здесь делаешь?
— Ничего не делаю, просто так сижу, — ответила девушка, задумчиво глядя на реку, с шумом несущую свои воды, и грустно вздохнула.
Она сидела не двигаясь, разговаривать ей не хотелось. Батбаяр нежно провел рукой по ее щеке. Он даже представить себе не мог, до чего приятно ей было прикосновение его жесткой ладони. Чуть ли не десять лет семьи их жили рядом, делились всем, что имели. Девушка была ему бесконечно дорога, казалось, они рождены друг для друга, чтобы делить радость и горе; сердце юноши гулко, как вода о скалу, билось в груди. Юноша вдруг подумал о том, что Лхама, раньше часто забегавшая к ним в юрту, в последнее время редко показывается, а когда мимо проходит, отворачивается. Вспомнил он, как Лхама, столкнувшись с ним как-то на пастбище, сказала: «Ну и высокий же ты стал. Только помни, кто ходит, глядя в небо, легко может споткнуться». Батбаяр не забыл, как они с матерью приехали в Хоргой хурэмт — бездомные и голодные, а навстречу им выскочила девчушка с растрепанными волосами и ярким румянцем на щеках; как она первая вошла в только что поставленную юрту и по-хозяйски уселась в хойморе, как в трескучий мороз упросила свою мать сшить рукавицы из овчины и отдала их мальчишке, угонявшему табун на пастбище; как вьюжной ночью они вдвоем сторожили отару и жарили рубец, который стащили у бойды; как ходили за дровами и Лхаме придавило ногу, а он тащил ее на плечах до самого дома; как металась в горячке его мать и они с Лхамой несколько ночей подряд, не смыкая глаз, дежурили у ее постели. Не забыла об этом и девушка.
Батбаяр вздохнул, сжал тонкую кисть Лхамы.
— Ты ведь не притворяешься, не для забавы я тебе нужен? Скажи!
— Такой болезни у меня нет, — с негодованием ответила девушка, вырвав руку.
— Лхама! Я тебя всегда…
— А ты, оказывается, перенял хитрости своей Дуламхорло. Уж она-то умеет вертеть людьми.
— Зачем ты так, Лхама! Как только у тебя язык повернулся. Я тебя…
— Что «я»? Вообразил о себе невесть что, а сам ради Аюур-гуая готов живот надорвать. Скрутит тебя бойда и, как оголодавшего ишака, под ноги себе бросит. Пикнуть не успеешь, как он дух из тебя вышибет. Жаль мне твою мать, — с наигранным безразличием произнесла Лхама.
— У меня своя дорога, но если ты обо мне так думаешь… — Батбаяр почесал в затылке.
Лхама вспыхнула, вскочила.
— Что, правда глаза колет? Дуламхорло авгай только меня увидит — вся пятнами красными покрывается, взглядом хочет испепелить. А тебя заметит — бедрами вертит, облизать тебя готова. Вижу, не слепая, — Лхама сверкнула глазами, грудь ее высоко вздымалась.
«Откуда только слова у нее такие берутся, — думал Батбаяр. — Раньше все молчала, тихая была».
— Жаль, что так обо мне думаешь.
— Да, да. Я давно хотела тебе сказать: не криви душой. Самое лучшее — все объяснить отцу с матерью и откочевать отсюда подальше — может, тогда твоя ахайтан наконец успокоится. Что нам еще остается? Да и Донров ваш проходу мне не дает. Каждый вечер вокруг меня вертится. Никого не стесняется, даже моих родителей. Что мамаша, что сынок. Ни стыда, ни совести. Никому покоя от них нет. — Говоря это, Лхама чуть не плакала.
Сердце у Батбаяра сжалось. Прежде он ничего подобного не слышал от девушки.
— Откочуете вы, откочуем и мы следом за вами. Я никому не позволю обидеть тебя. Только не бросай меня. — Юноша вскочил в седло и, хлестнув коня, ускакал.
«Что он хотел сказать?» — глядя вслед Батбаяру, думала Лхама. Ловкий, проворный Батбаяр скакал так быстро, что полы его дэла парусом надувались на ветру. Лхама, когда Батбаяр скрылся за холмом, невольно шагнула вперед.
— Нет, не соблазнит его эта старуха. Батбаяр не дурак, — вслух произнесла Лхама. Только скалы слышали ее слова.
На горизонте плыли лохматые, ватно-белые облака. Лхама посмотрела на них и весело рассмеялась. Ей показалось, что вместе с ней смеются и радуются скалы, лес и река.
По утрам и вечерам, встречаясь в хотоне, Батбаяр и Лхама обменивались нежными взглядами и молча расходились, унося в душе радость.
Однажды, тихим теплым вечером, юноша, прежде чем гнать табун на пастбище, как обычно забежал в юрту бойды попить кумыса. Дуламхорло была одна и при свете лампады собирала пенки с остуженного молока. Увидев Батбаяра, хозяйка обрадовалась, что он зашел в столь подходящий момент, и улыбнулась.
— От холодного кумыса только живот пучит. Молока бы попил.
— Не хочу, — резко ответил Батбаяр, не отходя от висевшего на стене бурдюка, быстро выпил чашку кумыса и пошел к двери. Дуламхорло сунула ему за пазуху горсть чернослива, арула, игриво ущипнула за щеку.
— Придешь ночью?
— Если лошади не будут разбегаться, приду, — буркнул юноша. Отвязывая лошадь, он услышал какую-то возню в темноте.
— Да отпусти же ты. Ма-ма-а, — это был голос Лхамы. Батбаяр бросился на крик и увидел, что девушка никак не может вырваться из рук Донрова.
— Ну-ка подержи, — Батбаяр отдал повод Лхаме и двинулся на Донрова. — Это еще что? — Он сгреб обидчика и хотел бросить через бедро, но тот уперся в грудь Батбаяру. Лхама, перепуганная, бегала вокруг. Наконец Батбаяр прижал Донрова к земле.
— Если хочешь таскать свой бурдюк для хормога целым, не ходи сюда. Последний раз предупреждаю. — Донров брыкался, стараясь вцепиться ногтями в лицо противника, а потом завопил:
— Ма-ма-а!
Батбаяр затолкал ему в рот обшлаг дэла:
— Зови, зови свою мамочку.
Лхама сквозь смех сказала:
— Отпусти его, а то еще отец придет.
Батбаяр еще крепче прижал Донрова к земле.
— Знай край, да не падай.
Но только Батбаяр отпустил Донрова, как тот снова в него вцепился. Тогда Батбаяр схватил противника за дэл и дернул на себя, подставив бедро. Донров потерял равновесие и покатился по земле.
«А вдруг сюда прибежит Дуламхорло авгай и отец? — думала Лхама. — Что тогда будет?»
Донров встал, но в драку больше не лез.
— Ладно, поехали, — сказал Батбаяр, подобрав повод. Он усадил Лхаму в седло, взял ургу и, вскочив на коня, крикнул: — Чу-у.
Донров запустил в них камнем. Камень пролетел совсем рядом, но не попал. Батбаяр с гиканьем гнал коня. Два раза объехав пастбище, он нашел табун, лошади спокойно щипали траву. Девушке казалось, что нет ничего прекраснее в жизни, чем, прижавшись к широкой груди любимого, тихой теплой ночью скакать в степи. Изредка всхрапывали потревоженные слепнями лошади. Перемигивались на небе звезды. Шум деревьев, доносившийся с гор, лай собак в аилах, журчание реки — все это казалось сейчас девушке новым, необычным. Батбаяр все время молчал. Объехав табун, он направил коня к темневшему впереди утесу и, бросив ургу на землю, спрыгнул с коня.
— Прыгай, — ласково сказал он Лхаме, протягивая к ней руки, и, обняв девушку, осторожно опустил ее на землю. Какое-то время он молча сжимал ей руку, затем порывисто обнял и крепко поцеловал. Руки у юноши были корявые, грубые, но девушка этого не замечала, вся отдавшись его ласкам.
— Лхама! Ты не сердишься, что я увез тебя в степь? — виновато спросил Батбаяр.
— Конечно, нет. Если бы не ты… Донров убить меня мог или затащить куда-нибудь. Проходу не дает, каждую ночь в юрту рвется, с отцом ругается. А ты мимо едешь, будто и не замечаешь меня, — прижимаясь к Батбаяру, сказала Лхама тихонько, словно опасалась, что ее могут услышать. — Я за дровами, и он туда же. А послушал бы ты, что он говорит, вспомнить страшно. Так и липнет, как клещ.
— Он всем говорит, что станет важным ламой. А ты спроси у него, разве ламы такими бывают?
— Спрашивала. А он отвечает: «Отец обещал сделать меня хранителем очага. Я больше в монастырь не поеду, возьму тебя в жены. Вот пойду и скажу твоей матери». Как он мне надоел со своими разговорами!
— А что, разве плохо? Станешь невесткой в богатом аиле, как говорится, «вещам хозяйка, людям начальник». Будешь ходить да покрикивать на нас, бедняков.
Лхама вскинула голову, ответила с вызовом:
— Конечно, не плохо. — И заплакала.
— Я ведь пошутил, Лхама. Не плачь, — Батбаяр утирал ладонью катившиеся по ее щекам слезы. Лхама молчала, лишь вздрагивала, и казалась совсем беззащитной, как затравленный заяц.
Батбаяру хотелось сказать: «А твои родители, наверное, были бы рады видеть тебя невесткой в богатом аиле», но он сдержался.
— Не обижайся. Я привык подшучивать над тобой, вот и…
— Выходит, я нужна тебе для забавы? Или того хуже? Люди вы бедные, может, в вашем хозяйстве на что-нибудь сгожусь? Хоть на портянки?
— Лхама! Зачем нам ссориться? Пока жив, не отдам тебя на потеху Донрову. Хватит дуться! Посмотри на меня!
— Я понимаю! Наверно, вы сговорились. Ты у Дуламхорло вместо игрушки, даже смотреть противно! Скоро все от тебя отвернутся.
— Да кто я такой? Батрак, который гнет спину на богатея. Хожу в обтрепанном дэле, пасу лошадей. Но смеяться надо мной никому не позволю, даже тебе!
— Когда ты гонишь табун на пастбище, Дуламхорло вслед тебе смотрит, вздыхает, будто горе какое случилось, а как услышит, что ты вернулся, в щель над притолокой глядит, глаз оторвать не может. Что, неправда? Вот и на богомолье ты за ней потащился. Чем от людей прятаться, сошлись бы да и жили в одной юрте. — Голос у Лхамы дрогнул, и она зарыдала.
Батбаяр смутился. К тому же ему жаль было девушку.
— Ну с чего ты взяла? Ведь оба мы, что ты, что я, кормимся милостью этого аила. Как же ослушаться хозяйку? Велит ехать — еду, что велит, то и делаю. Думаешь, что-то есть между нами? Если хочешь знать, ты у меня одна-единственная на всем белом свете. Я даже представить себе не могу, что у меня будет другая жена, не ты. — Батбаяр поднял Лхаму на руки и стал целовать. Лхама перестала всхлипывать, обняла юношу. Они долго стояли у скалы.
— А отец твой что говорит? — спросил Батбаяр.
— Говорит, если Донров от меня не отстанет, он скажет Аюур-гуаю, и мы откочуем.
— Мать согласна?
— Мать сказала, что ей жаль Гэрэл оставлять.
«Ханда авгай, видно, не прочь отдать дочь за Донрова», — вдруг подумал Батбаяр и еще крепче обнял девушку.
— Лхама! А ты хочешь уехать?
Девушка прижалась к нему, вздохнула:
— Опять ты надо мной смеешься?
Вдалеке заржали лошади. Батбаяр взял ургу и, не выпуская руки Лхамы, пошел вперед. Затем обернулся на темневшую позади скалу:
— Вот было бы здорово, если бы эта скала была нашей маленькой юртой и мы стояли бы там вдвоем.
— Уж твоя Дуламхорло не дала бы мне постоять, — язвительно заметила Лхама, вырвала руку и зло рассмеялась.
— Говорил я тебе, что не моя она вовсе, — возразил Батбаяр. — Теперь, как пригоню к этой скале табун, буду вспоминать, как мы с тобой здесь стояли и я говорил тебе о любви.
В ночном сумраке хорошо было видно, как блеснули у Лхамы глаза.
— И я приду сюда и спрошу у скалы:
«Он правду мне говорил?» И если скала промолчит, что тогда?
— Ты тоже любишь дразнить меня. Ну, дразни, дразни. — И Батбаяр так поцеловал девушку, что у нее перехватило дыхание.
Из-за туч вышла луна, поплыла по небу и залила все вокруг своим молочно-белым светом. Влюбленные ехали на одном коне, легкий ветерок ласкал их лица. Воздух был напоен ароматом свежей зелени; горы, темневшие по обеим сторонам долины, склоняли вершины, словно желали им долгого счастья в жизни. Когда они проезжали по берегу небольшого озера, на его гладь легли их причудливые тени. Они походили то на исполинского воина в латах и при шишаке, то на двугорбого верблюда, то на гигантскую скалу, в зависимости от того, приподнимались всадники в седле или прижимались к гриве, наклонялись в одну или в другую сторону.
— Смотри, груженный поклажей як! А вот пьяный Аюур-гуай едет, — хохотали они, играя с тенями. Какое счастье скакать вот так вдвоем, когда вокруг ни души. Слышно было лишь, как вдали лаяли собаки да шумела река.
— Жаворонок! Как же я теперь домой вернусь! Что мать с отцом скажут, — спросила Лхама. Батбаяр рассмеялся.
— А-а, ничего. Они знают, что мы вдвоем уехали. Вот объеду сейчас табун и провожу тебя. Спать у нас ложись, — сказал он и погнал коня.
«У меня получилось точь-в-точь как в пословице: «себе же в чай пыль стряхнул». Мало того что к Дуламхорло не зашел, так еще сына ее поколотил. Похоже, пришло время свертывать юрту и откочевывать. Гнедого надо бы попросить. Все равно они считают, что он приносит несчастье, может, и отдадут. Да и чего им его жалеть, когда он стал совсем старым, и больше с коровами, чем с лошадьми ходит». Как только взошло солнце, Батбаяр собрал лошадей и пригнал в хотон. Привязав на зэл жеребят, Батбаяр зашел выпить кумыса в юрту бойды и застал там Донрова. Тот скрипнул зубами и выскочил из юрты. Рассказал он матери о том, что произошло, или умолчал, неизвестно, но Дуламхорло склонилась над шитьем, на Батбаяра даже не взглянула. Батбаяр постоял у бурдюка с кумысом, подумал: «Может, самому налить?», но решил, что неловко хозяйничать в чужой юрте, и кашлянул.
— В горах волки выли, а тут как на грех гнедой жеребец и еще несколько лошадей от табуна отбились. Измучился, пока их нашел, — сказал Батбаяр, словно оправдываясь. Хозяйка обернулась, бросила на него негодующий взгляд, мол: «Не ври», но ничего не сказала, лишь нахмурила брови и долго с упреком смотрела на юношу.
«Лучше бы она меня щипцами для угля огрела, чем сидела с такой кислой рожей», — подумал Батбаяр.
— Кумыс открыли? — спросил он. Хозяйка опять не ответила. «Очень нужно мне юлить перед тобой, да еще из-за чашки кумыса». И юноша вышел из юрты.
В тот день все в аиле ходили мрачные, не было слышно ни шуток, ни смеха. Гэрэл выпаривала творог в малой юрте бойды, Ханда резала его на куски и ставила сушить. Дашдамба ушел за отарой. Вдруг Батбаяр увидел Лхаму, которая гнала телят с пастбища, и сердце его захлестнула радость. Какая она красивая и как дорога ему! Нечего держаться за семью бойды. Надо все объяснить Дашдамбе-гуаю и откочевать в Довхонский монастырь — можно телеги там мастерить. Неизвестно только, захочет ли Лхама.
Лхама с улыбкой подбежала к Батбаяру.
— Ну как, попил кумыса?
— Нет! Ругали тебя утром?
— Нет. Я ночевала у вас, а домой пришла, когда солнце поднялось, младшенькие уже одевались. Мама спрашивает: «Где это ты пропадала?» А папа ей говорит: «А ты что, не знаешь?» Видно, поссорились. Мама говорит: «Семья Аюура нам ничего плохого не сделала», а папа: «Но и хорошего я от них что-то не видел. Ты не забивай девчонке голову. Парень у них дрянной: и не лама и не мирянин. Надо от него подальше держаться». Это он мне сказал. А мама всхлипнула, схватила ведро и убежала доить коров.
«Значит, им все известно, — подумал Батбаяр. — Так я и знал. — Теперь я не сомневаюсь, что Ханда авгай хочет отдать дочь в жены Донрову».
Как только Донров отвязал лошадь и ушел, Лхама, показывая на него глазами и лукаво смеясь, спросила:
— Ну что, опять будете драться?
— Я ему подерусь, так приложу, что землю вспашет, — весело ответил Батбаяр.
— Куда это он собрался?
— С тобой не получилось, решил «поохотиться» в другом месте, — расхохотался Батбаяр. — Уж не ревнуешь ли ты?
— Ладно тебе. Иди домой, а то мне еще надо мусорную яму сделать побольше, — сказала она и, оглядываясь, побежала к юрте.
«Хозяйка от тебя без ума, глаз не сводит, только все равно я возьму верх», — с гордой усмешкой думала Лхама.
Как-то вечером старуха Гэрэл, наливая сыну простоквашу, спросила:
— Ты не поссорился с сыном бойды, сынок?
— А что, мама?
— Дуламхорло слова не вымолвит. И Ханда идет — отворачивается. А вечером, когда доили коров, говорит: «Как же трудно с детьми, когда они подрастут. И парней-то в аиле всего двое, а все никак не поладят между собой. Что делать — ума не приложу. Отцу говорю, он злится: тебе какое до этого дело. А я боюсь, как бы не передрались». Слушала я — так и не поняла — к чему это она говорит.
— А что тут понимать, мама?
— Ты же знаешь, сынок, аил у Аюура-гуая добродетельный, всем счастье приносит. Нам с тобой юрту дали. Чесучи на дэл тебе подарили. Эх, да что там говорить. Сто лет им жизни! Ты уж не ссорься с Донровом. Постарайся, сынок.
— Вам не о чем беспокоиться, мама.
— А знаешь, сынок, как хорошо относится к тебе Лхама? Когда тебя нет, прибежит, сядет рядом со мной и все о тебе говорит.
Батбаяр и смущался и радовался.
Утром, едва Батбаяр, вернувшись с пастбища, вошел в юрту, явился Дашдамба, словно нарочно его дожидался, и, пощипывая бороденку, сказал:
— Говорят, в Хятрун пожалует Розовый нойон и пробудет там несколько дней. Аюур у него в свите. Просит харчей привезти. Дуламхорло дала овцу и завтра надо ее отвезти. Я хотел кошмы в юрте перетянуть, пока погода хорошая. Так, может, ты съездишь? Овцу я зарезал. Сложи мясо в тороки и поезжай.
— А Донров почему не съездит?
— Он только и знает, что бегать за бабами, — ответил Дашдамба… — Хозяйка велела отвезти.
Батбаяр сложил в кожаные мешки баранину, пару кувшинов молочной водки, приторочил их к седлу, рысью проскочил наискосок долину Орхона и стал подниматься по северному склону Хангайского хребта, зеленому от деревьев и пестревшему цветами. Он ехал и вспоминал глаза любимой, ее прелестное, смуглое личико. «Опять этот негодяй Донров будет к ней приставать, пока меня нет, прохода не дает девушке. Мать наверняка ее уговаривает: станешь невесткой в богатом аиле, оденут с ног до головы. Хозяйкой в большом доме будешь — это ли не счастье. А Лхама совсем еще ребенок и привыкла слушаться мать. Дашдамба меня уму-разуму учит: старайся стать таким, чтобы не надо было ни перед кем заискивать, чтобы собственным трудом мог устроить свою жизнь. Все, что кажется тебе сейчас белым, на самом деле — черное. Всю жизнь кланяться да пресмыкаться — позор для мужчины». Любит меня старик, может, и не отдаст Лхаму Донрову. Ее братья и сестры тоже любят меня. Как пригоню скотину, бегут ко мне со всех ног: «Аха-а, ах-аа». Батбаяр гнал лошадь вверх по тропинке, петляющей по каменной осыпи. Пахло багульником, щебетали птицы, парами кружили над скалами отложившие свои яйца гуси. Стремительная речушка бесчисленными водопадами срывалась с камней и шумела: казалось, целый оркестр — трубы, флейты и хуры — играет причудливую, никому не известную веселую мелодию.
— Побегать бы среди этих цветов вдвоем с Лхамой! — крикнул юноша во весь голос.
Он взбирался все выше и выше. Наконец выехал на гребень и увидел живописную картину: на просторной поляне, залитой ярким солнечным светом, стояли, чуть колыхаясь на теплом ветру, синие и пестрые майханы, белые с хольтроками юрты. Подъехав ближе, Батбаяр заметил какого-то человека, с мешочком для чашки на поясе, и спросил, где можно найти бойду.
— Аюур-гуай уехал в монастырь, но сказал, что вернется.
«Вот тебе и раз, — опешил юноша. — Не тащить же все это назад. Придется подождать».
Пока он раздумывал, что делать дальше, к нему подошел высокий, щеголевато одетый мужчина. Его смуглое худое лицо показалось Батбаяру очень знакомым, будто он где-то уже встречал его раньше.
— Если ты привез что-нибудь для бойды — сложи во-он в том орго. Пойдем, я тебя провожу, — сказал мужчина.
Он присмотрелся к юноше повнимательнее и раскрыл глаза от удивления.
— Ты служишь у Аюур-гуая? — спросил он и о чем-то задумался. — Так, так, значит, мясо ему привез? А может, и кувшинчик найдется?
Приветливость этого человека располагала к откровенности.
— Может, и найдется, — усмехнулся юноша.
Мужчина опять внимательно на него посмотрел.
— Не ты ли вместе с матерью шел в Хангай из Гоби?
— Точно, я самый. А вы кто?
— Зовут меня Содном. Я телохранитель у хана. Я узнавал про вас, сказали, что как будто вы к Аюуру бойде уехали. Вырос ты, настоящим мужчиной стал.
Батбаяр рассмеялся.
— Да, да. Вы еще мне гнедого отдали. Теперь я вас узнал.
— Ну, положим, лошадь отдал тебе не я, а хан пожаловал, — ответил Содном, завел юношу в юрту и налил ему чашу кумыса. Потом развязал мешок и достал мясо: — Повесь на стену за занавеской, пусть провялится немного, — сказал он, доставая кувшин с водкой. Налил себе пиалу, отпил. — Крепкая! А неплохо готовит у бойды жена. Ладно, ты посиди пока здесь, а я пойду угощу остальных телохранителей, не то они меня потом с потрохами сожрут, — сказал Содном и забрал оба кувшина.
«Как бы бойда не взбеленился», — подумал юноша, но сказать: «Не тронь» — не посмел, лишь растерянно посмотрел вслед Содному. Потом он вышел из юрты и осмотрелся вокруг, подошел к горячему минеральному источнику, после чего полез на скалы. Он взбирался все выше и на лужайке заметил двух мужчин, которые сидели на ковре, расстеленном на плоском гранитном валуне, и оживленно разговаривали. Подходя все ближе, юноша с любопытством разглядывал их, особенно одного, средних лет, с чистым, чуть розоватым лицом, длинной черной косой и маленьким шелковым торцоком на голове. Мужчина был не только красив, от него веяло покоем и в то же время грозным величием. Он тоже смотрел на здоровенного парня из простолюдинов, в подоткнутом дэле, который не спускал с него глаз.
«Кто это? Где-то я уже видел его, — думал Батбаяр. — Может, это тот самый нойон, который ехал тогда в коляске через Гоби? Наш хан? Но где его парчовый дэл и шапка с драгоценным жинсом, и почему он без телохранителей?»
Второй мужчина с темным, точно отлитым из бронзы лицом, рядом с ним казался начисто лишенным благообразия. Был он приземист и широк, словно таган, большой шишковатый нос совершенно не шел к его лицу. Но как грозно посмотрел он на Батбаяра, словно обжег юношу взглядом!
Батбаяр подошел к Хятрунскому минеральному источнику Особенно интересным был здесь совсем недавно, видимо, выложенный зеленоватым камнем желоб-ванна. Рядом в бочке купался пожилой мужчина.
— Что? Нравится? — спросил он, указывая на желоб. — Ты, я смотрю, востроглазый, стоящую вещь сразу видишь. Этот желоб из драгоценной бирюзы. Розовый нойон приспособил его для лечения.
— И что, у него все вещи такие огромные? — спросил юноша.
— А как же! На то он и хан, под его рукой двадцать хошунов, а может, и больше. У него должно быть все самое лучшее, хотя хан роскоши не любит. Принесут в его орго новую посуду, а он: это еще зачем? Убрать! В парадные одежды облачаться — для него хуже наказания. А куда денешься? Так хану положено. Иначе нельзя. Придут к нему на прием князья да нойоны, он в хурэмте и шапке с жинсом сидит, четки перебирает. А только они за дверь, сразу все снимет и бросит. Как-то один его помощник подвыпил и говорит:
— Отчего, господин, вы не носите знаки своего достоинства? Крепостные и податные четырех ваших сомонов могут вас одеть с головы до пят[29].
Долго смеялся Розовый нойон, а потом говорит:
— Не терплю я этих мешков. Оттопырятся, встанут коробом и сидишь, как взъерошенный коршун. Да и мало разве мы дерем с крепостных? Овец — на прокорм, шерсть — китайским фирмам за долги, коней — на уртонную повинность. Что же, теперь еще и на одежду требовать? Притом, все эти отго, жинсы, пестрые халаты от маньчжуров к нам перешли, а наша монгольская одежда — вот она, — и хан показал на свой дэл с широкими обшлагами.
Тут Батбаяр подумал:
«Выходит, человек, которого я встретил по дороге сюда, и есть наш нойон. Надо было мне, как полагается настоящему мужчине, подойти, поприветствовать его, поклониться. Хоть от старости гнедой, которого он подарил, уже ум потерял, а все равно любо на него смотреть».
— Ты приехал в источнике искупаться? — спросил мужчина.
— Нет, к Аюуру бойде.
— А-а, это к казначею, что ли? Ну тогда скидывай дэл и полезай в источник. Говорят, он приносит счастье и благоденствие. Особенно молодым. Слыхал? В его воде есть бериллий, он излечивает более чем от сорока болезней. Да ты сам посчитай. В источнике более сорока родников. Есть холодные, есть горячие, и в каждом вода другого цвета. Настоящее чудо, ниспосланное небесами.
— Раз так, надо искупаться.
— Залезай, залезай. Говорят, если купаться в нем три раза в год, ни одна хворь не пристанет. Называется он Хятрун, происходит от слова «Хи-то-рий», что значит «дух вод — врачеватель». Погляди на цветы и деревья, которые растут здесь на скалах. Видишь, какие они все прямые да пушистые? Как пахнут! Такие красивые места редко встречаются. Даже купаться не обязательно, приедешь сюда, посидишь полдня и уже по-другому себя чувствуешь. Настоящий край лесов. Ты ходил к скалам, которые на запад отсюда?
— Нет, я только недавно приехал.
— Э-э, сходи обязательно. Там в камне следы детских ног. Видишь вон то огромное дерево? — мужчина показал на гигантскую пихту, видневшуюся в одном сахалте отсюда.
— Вижу, огромное дерево.
— Его называют Норовбанзад. Таких в Хангае два. Каждое утро нойон читает под этим деревом сутры. — Мужчина стал одеваться. — Поговорил бы еще с тобой, да к князю пора.
Батбаяр, плескаясь в источнике, поглядывал по сторонам. «А ведь и в самом деле красота удивительная», — с невольным трепетом думал он.
Возвращаясь в лагерь, Батбаяр увидел тех самых людей, которые сидели на валуне. Теперь у большой белой юрты они разговаривали с Содномом. Заметив юношу, Содном махнул ему рукой. Чуть поодаль привязывал к дереву коня приехавший бойда.
«Сейчас, наверное, плетей дадут за то, что хану не поклонился, — мелькнуло в голове у Батбаяра. — Дернул же меня черт… Недаром толстяк, что сидел рядом с ним, так зло на меня смотрел. Но раз позвали, надо идти, — размышлял юноша и тут увидал, что Аюур направляется в ту же сторону, что и он. Батбаяр обрадовался: — Может, бойда заступится, не даст бить?» Как только оробевший Батбаяр подошел ближе, Содном поклонился нойону.
— Господин, это и есть тот мальчик, которого я разыскивал по вашему повелению.
Намнансурэн пристально посмотрел на юношу.
— Это ты встретился мне когда-то в долине Батган?
— Да, я.
— Помнится, был совсем маленький, худой, черномазый. А теперь вон какой молодец, и говоришь басом. А я о тебе справлялся. Может, думаю, его волки съели. Куда ж ты пропал? А мать жива?
В это время подошел Аюур бойда и поклонился хану так низко, что едва не уткнулся в землю своим мясистым, похожим на туфлю, носом. Выглядел он каким-то жалким. Куда девались его важность, заносчивость? Веки у бойды дергались от страха, он боялся, как бы слуга не пожаловался на него нойону. «Голова седая, а он все трясется. Что перед нойоном, что перед женой. Ну и жизнь у бедняги». — Батбаяр смотрел на жидкую, торчавшую прутом косичку Аюура и его разбирал смех. С трудом сдерживаясь, чтобы не прыснуть, он, помолчав, ответил:
— Мама жива.
— Где ты сейчас, что делаешь?
— Он в батраках у бойды-гуая. Вот привез ему харчи и попался мне на глаза, господин, — доложил Содном.
— Да, они живут в одном аиле с нами, — кланяясь, сказал дрожащим голосом Аюур.
— Так, так. А разве я не приказывал зайти ко мне? Почему же вы ушли, никому ничего не сказав? А потом вдруг очутились в Ар царме?
— Мы с мамой, как вы и приказывали, пришли на аудиенцию, встретились там с бойдой-гуаем и волею небес попали на Орхон.
— Ага-а, значит, вот какова была воля небес. Ладно, — сказал Намнансурэн и обратился к Аюуру.
— Что же вы молчали, когда я спрашивал о матери с мальчиком, приказывал узнать, где они?
— Раб ваш не слышал такого повеления, — бойда едва не упал, поклонившись до самой земли.
— Погодите, но во дворце только и было об этом разговоров. Не так ли, Дагвадоной багша? — спросил нойон у стоявшего рядом грузного мужчины.
— Верно, припоминаю сейчас, что и сам раз слышал разговоры о каком-то мальчике с матерью, — ответил мужчина.
Аюур затрясся, но сказать было нечего.
— Аюур-гуай, видно, руки у вас загребущие, все к себе тащите. Ну да ладно, живы-здоровы, и бог с ними.
— Чем же ты занимаешься? — с едва заметной улыбкой спросил нойон юношу.
— Коней пасу, коров.
— Наверное, борешься часто. Подмышки все рваные. Сколько дэлов на смену есть?
Батбаяр удивленно посмотрел на хана.
— Один меховой — на зиму, еще тэрлик есть.
— Грамоту знаешь? — спросил Дагвадоной и добавил: — Наверняка нет.
Юноша посмотрел прямо в глаза залану, усмехнулся:
— Расписаться могу.
— У кого учился? — спросил Намнансурэн.
— У Дашдамбы-гуая.
— А кто такой этот Дашдамба? — спросил нойон у багши.
— Наверное, Дашдамба-борода. Слышал я, что он сейчас на Орхоне живет.
— Что за человек?
— Вы, господин мой, его знавали. Помните, однажды на имя Улясутайского амбаня поступила жалоба, что на уртоне Цаган ово маньчжурского нойона ссадили посреди степи. Виновника тогда оштрафовали на пятьдесят пять голов крупного рогатого скота, разорили окончательно. Это и был Дашдамба-борода, — ответил Дагвадоной.
Намнансурэн задумался.
— А-а, вот это кто! Еще бы мне его не знать. Единственный ученик Седого Хаванги. Был писарем в уртоне. Говорили — молодец мужик. Сейчас уже не тот, жизнь пришибла. Помню, рассказывали, что нойон в сопровождении чиновника из министерства ездил осматривать уртонные станции и на перегоне от одной станции к другой три раза заставлял ямщика снимать багаж — менял дэл: то ему жарко, то холодно. На третий раз ямщик не выдержал, сказал: «Вы, чернильные души, оставайтесь здесь и забавляйтесь сколько влезет», и ускакал. Так, кажется, было дело? — рассмеялся хан.
— Могли отвезти его тогда в Пекин, а потом отправить в ссылку. Хорошо, что все обошлось, наказали его плетьми здесь, у нас в канцелярии, на том все и кончилось.
«Вот он какой, Дашдамба-гуай, — думал Батбаяр. — Молчит, молчит, а потом такое скажет, что страшно становится. Говорит: «Видишь белое, а оно оказывается черное». Сколько же ему пришлось пережить! А хан, видно, к нему благоволит. Почему, интересно?»
— Дашдамба и по сей день пьет у вас простоквашу?[30] — спросил Намнансурэн у Аюура.
— Да, мой господин. Их аил кочует вместе с моим. Очень опытный скотовод, — Аюур опять поклонился.
— М-да, жаль беднягу. Привет ему от меня передай, — повернулся нойон к Батбаяру.
В это время подошел еще один телохранитель:
— Ахайтан просила узнать, пожалуете ли вы к обеду.
Прежде, чем уйти, Намнансурэн спросил юношу:
— Как тебя зовут?
— Батбаяр.
— А в народе как прозвали?
— Жаворонок.
— Жаворонок, говоришь? Неплохо. Аюур-гуай, вы удостойте Жаворонка своей милости, дайте ему харчей, борцоков, — сказал хан, устремив взгляд на синие громады гор, и снова обратился к Батбаяру:
— Ты хорошо знаешь эти места?
Батбаяр невольно посмотрел вдаль, вслед за ханом.
— Ездить приходилось, знаю, но не очень хорошо, господин мой, — ответил он и поклонился.
— Ну вот что: дай своему коню отдохнуть, переночуешь, а утром поедешь с нами. Вы не будете возражать, Аюур-гуай?
— Да снизойдет на нас милость господина, — поклонился бойда.
День выдался жаркий — на небе ни облачка. Но чем выше поднимаешься в горы, тем свежее становится ветер, реже деревья, сильнее благоухание багульника, гуще стелющийся по земле можжевельник. Время от времени дорогу преграждают скалы, каменные осыпи, лохматые от зарослей барбариса и смородины, усыпанные неспелыми еще, розовыми и коричневато-красными ягодами. Взмокшие кони вынесли своих седоков на гребень Хангайского хребта, и колонна из десяти всадников, во главе которой в сопровождении Батбаяра и Соднома ехали Намнансурэн и Дагвадоной, остановилась.
Далеко внизу, словно ветви одного дерева, голубели протоки и рукава реки, словно жертвенные чаши, блестели озера.
— А здесь прохладно, — заметил Дагвадоной.
— Уж не собираетесь ли вы, багша, как тот маньчжурский нойон, менять дэл, — пошутил Намнансурэн. — А неудобно ему, наверное, было бежать в шелковых тапочках, увязая в раскаленном песке. Представляю, как он вопил и какие кары призывал на голову бедного Дашдамбы, — захохотал хан.
Все спешились. У подножия утеса расстелили ковер, расставили еду, в кипарисовом ведерке принесли кумыс. Намнансурэн в глубокой задумчивости ходил от скалы к скале. Иногда останавливался, смотрел вдаль, вздыхал.
Сине-зеленые хребты Бор орго, Цаган орго, Эрхт хайрхан, Субурган хайрхан, Овгон жаргалант тянулись до самого горизонта и там становились голубыми. Лишь одна вершина, казалось, упиравшаяся в небо, была белоснежной.
— Глядите, учитель! — крикнул хан.
Дагвадоной взобрался на камень, протер глаза, но сказал, что ничего не видит, зато Батбаяр хорошо видел ее хрустальный блеск. Сели перекусить. Юноша остался при лошадях, достал холодное мясо, которое дал ему бойда.
Нойон был весел, шутил, смеялся.
— До чего же красивы наши места, — глядя на поблескивающие далеко внизу озера, сказал бойда. — Хорошо бы привести сюда амбаня, если он пожалует из Пекина, пусть полюбуется.
— М-да, протащить бы его по всем перевалам, глядишь, и пропадет охота соваться сюда, — громко, чтобы все услышали, сказал Намнансурэн.
— Не сунется сам, так непременно пожалуют два его любимца — жадно разинутый рот и отвешивающая пощечины пятерня, — пробурчал Дагвадоной и, отхлебнув кумыса, покрутил усы.
— Нет, правда, и обзор великолепный, и места красивые, сюда и в самом деле самого амбаня не стыдно привезти, — сказал один из чиновников.
— Как пел наш сказитель Аргусан хурчи:
У нас на озере Хуласт И гуси, и лебеди — чего только нет! Покажем озера господину, Пусть сам решит, что делать с этим богатством. —Так, что ли? — спросил Намнансурэн и пригубил кумыс из большой деревянной чары.
— Вот-вот. Это как в той притче: «Сказал искушенный: Целясь в уток — бью и в берег. Женясь на старшей — прихвачу и младшую», — сказал Дагвадоной, приглаживая свои узкие — ниточкой, усики, и недобро поглядывая на чиновника, ратовавшего за то, чтобы привезти сюда амбаня. Батбаяр ел и прислушивался к разговору.
«В чем же тут дело? — думал он. — Когда я был маленьким, Цагарик-гуай наказывал: «Беги подальше от маньчжурских чиновников, китайских торговцев и монгольских нойонов». Дашдамба-гуай говорил, что Орхон сердится на маньчжурских нойонов. А сейчас и хан и багша не хотят, чтобы сюда ехал маньчжурский амбань. Говорят, что он возьмет в жены и старшую сестру и младшую, то есть все отнимет. Что же это за люди такие — маньчжуры? Почему никто их не любит?»
Перекусив, нойон приказал двигаться дальше. Содном подошел забрать коня:
— Поел чего-нибудь? Я тебе тут печенья принес…
— Мяса поел. И кумысу попил.
— Все равно бери. Заночуем у озера Ширэт. Уж там я тебя накормлю до отвала, — сказал телохранитель и побежал к господину, чтобы помочь ему сесть на коня.
Они поехали вниз — туда, где посреди леса блестели озера.
Колонна пеших и конных медленно сползла вниз по северному склону хребта и проехав через верховья Орхона, добралась до озера Бугат.
В его прозрачной воде отражались величественные хребты, упирающиеся своими вершинами в небо. Берег сплошь зарос густой, высотой по стремя, травой и яркими цветами. Намнансурэн и Дагвадоной спешились и молча постояли, любуясь окружающей красотой.
— Смотрите сколько птиц! Был бы жив Голбилэг-гуай[31] непременно изобразил бы все это.
По озеру стаями плыли гуси, лебеди. Птицы садились на воду, взбивая ее крыльями. Их крики, как звуки баяна на пиру, ласкали слух. Намнансурэн подошел к воде, сел на камень, задумчиво посмотрел на гольцы, на остроконечные пики гор, поросшие вечнозеленым лесом, на скалы, где кричали орлы. Притихли и все остальные, молчали, о чем-то думали.
Поверхность озера была неподвижна, в ней отражалось грустное лицо хана, его одетый набекрень торцок, шелковый дэл, но вот налетел ветерок, и зеркальная гладь покрылась рябью, и отражение распалось, исчезло, лишь блестели серебряные пуговицы на вороте.
— Это страна птиц, страна цветов. Места богатые, плодородные, рыбы много, вот и летят сюда птицы, — сказал Намнансурэн, умываясь озерной водой.
— Вы правы, мой господин, — сказал Аюур бойда. — Но озеро Ширэт, пожалуй, еще красивее. Вы, кажется, изволите там ночевать? Сегодня ахайтан чувствует себя хорошо — на вершине мыса Баян поставили орго. Она, наверное, уже прибыла туда. Ходишь по мысу, а вокруг вода плещется — словно на корабле плывешь по морю. Эх, до чего же красивое место! — Аюур поклонился и пригласил пожаловать к трапезе.
На берегу озера был расстелен войлок, стояла еда.
— Разве не высшее наслаждение пить кумыс прямо на лужайке среди этих прелестных цветов. Что там у вас в тороках? Несите сюда! — велел Намнансурэн.
— Счастье мужчины — безлюдная степь, — заметил, ложась на траву, Дагвадоной.
— Поставить здесь юрты, шатры да провести аймачный съезд. Неплохо, а? — спросил Намнансурэн, глядя на плавающих по озеру птиц.
— Не переутомились ли вы, господин мой? Помните, какие вы приводили нам слова Аргусан хурчи, — спросил Дагвадоной, нюхая сорванный цветок.
— Хотите напомнить мне, что «слепую корову держат подальше от колодца»? Чтобы сама не утонула и колодец не испоганила? Так?
— Да, как бы не пришли сюда шакалы с юга да не устроили здесь своего логова.
— Чту вашу дальновидность. А на слова мои не обращайте внимания, просто я прикинул, как лучше использовать этот прекрасный край, — сказал хан и, взяв чашу с кумысом, встал.
Дагвадоной приподнялся и задумчиво произнес:
— Что бы там ни было, надо стараться не совершать ничего такого, за что в будущем нас помянули бы недобрым словом. Главное — не дать шакалам обосноваться, а там пусть наши потомки сами разбираются, как этот край использовать. Станут здесь полноправными хозяевами и построят дворцы, поставят юрты. Верно я говорю?
— Полагаю, что верно, — ответил Намнансурэн.
Содном ткнул Батбаяра в бок.
— Понял, о чем сказал Смурый? Серьезный мужик.
— Кто это Смурый?
— Это мы так между собой господина учителя зовем.
— Да, он как посмотрит, страшно становится. А так, видно, человек ученый.
— Еще бы. И ученый, и бывалый, но злой. Маньчжурский язык как родной знает. Законы императора Поднебесной с китайцами, говорят, изучал. За хана жизни не пожалеет. Хан кроткий, добрый, а Смурый — крут. Из-за этого они, бывает, не ладят, — доверительно сообщил Содном.
Намнансурэн бродил по берегу озера и вернулся взволнованный, возбужденный.
— Багша! Не сочините ли какой-нибудь магтаал. У меня что-то не получается, хотя места эти меня так вдохновляют! Попробуйте вы!
Дагвадоной встал, посмотрел на спокойное, но печальное лицо своего господина, потом на сверкавшее в солнечных лучах озеро.
Хрустальной глыбой сверкает глава седого Хайрхана. Плещется бескрайний океан. Ласково и щедро ясное небо. Завещанная матерями и отцами Счастливая, прекрасная страна, Родные, милые сердцу просторы! Лотосы распускают свои лепестки, Гогочут, собираясь в стаи, гуси. Спокойно спят лебеди, спрятав головы под крылья. Места, так полюбившиеся моему заботливому господину, Прекрасные, родные мои места, — Им принадлежит моя душа. —тихим голосом прочел он, вздохнул:
— Мой господин, дальше не могу. Может быть, вы позволите прочесть магтаал другого человека, воспевающего родные места, — с поклоном спросил Дагвадоной.
Райские кущи Качают ветвями, Ждут и зовут их К себе. Бойкий родник Журчит особенно звонко, Приветствуя приход Великих мужей. Птицы щебечут Необычно звонко. Все выше и выше Воспаряет моя душа… —прочитал он. Намнансурэн слушал, закрыв глаза.
— Кажется, эту песню пьяный хутухта когда-то спел, — улыбнулся он.
— Верно. Понравилось вам?
— Хутухта, и пить умея, и петь, познал горечь разлуки и радость любви — многое довелось ему пережить… Да. Равджа[32] считал, что нет в мире страны лучше Родины. Он понимал, что все наше — здесь. Оттого и сказать так сумел, — произнес Намнансурэн и пошел к берегу озера, погрузившись в раздумья. Никто не знал, что так терзало его душу. Возвращаясь, хан заметил Батбаяра, подошел к нему и сказал:
— Прочти и ты какой-нибудь магтаал.
Батбаяр встал, огляделся вокруг и, набрав побольше воздуха, единым духом выпалил только что сложившиеся у него строки:
Древний и легендарный Седой старик Хангай. Эти места стали колыбелью Для многих из нас. Небесно-чистые источники, Глубокие синие озера, Украсившие мир, Вспоили множество людей. Ласковый, спокойный, Как лебедь, плывущий по воде, Как застывший в горах олень, Мой господин Будет ли милостив ко мне?Хан удивился и, смеясь, попросил:
— Ну-ка, повтори еще раз.
Подошли остальные. Юноша хотел было повторить, но не смог, запнулся. Он и сам не понимал, как вдруг на ум ему пришли такие слова.
— Аюур-гуай, вы слышали?
— Да, мой господин, — поклонился Аюур. — Наш Жаворонок, сколько ни объезжал диких лошадей, ни разу из седла не вылетел, — похвалил он батрака, а про себя подумал: «Вот вырастил голодранца на свою голову. И зачем только жена прислала его сюда».
— Значит, расписаться можешь? — спросил Намнансурэн, кладя руку на плечо юноше. — Осенью отправите его в хозяйственное управление аймака, в школу. Заботу о его матери возьмете на себя и его будете время от времени снабжать едой. Не возражаете, надеюсь?
— Слушаюсь! Да исполнится ваша воля! — Аюур вздохнул и поклон ился до самой земли. Дагвадоной исподлобья смотрел на юношу.
— Прилежно учись, времени попусту не теряй. «Говорить правду в лицо — признак честности; думать, вникая во все тонкости — признак ясного ума», — так говорил Равджа.
— Ну что, кумыс все пили? Двинемся дальше? — спросил Намнансурэн. Все сели на коней и, обогнув озеро Бугат, погнали их рысью, чтобы до ночи успеть к озеру Ширэт.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ ПОЖАР В НЕБЕ
— Я в школу поеду, — закричал Батбаяр, осаживая у юрты свою взмыленную лошадь. Новость мгновенно облетела обитателей аила. На новость каждый откликнулся, но сказал овеем не то, что думал.
— Так и быть, сынок. Учись, пока я жива. Э-э, сто лет тебе жизни, — сказала Гэрэл, а сама подумала: «Бедный мой, маленький мальчик, будь на то моя воля, ни на шаг от себя не отпустила бы. Как ты там без меня жить будешь? Наголодаешься». Она смотрела на сына с улыбкой, а сама украдкой смахивала непрошеные слезы.
Лхама едва дождалась вечера.
— Когда же ты вернешься? Отец ведь к тебе не отпустит, — говорила она, чуть не плача, прижимаясь к его широкой груди. Мысли же у нее были совсем иные. «Теперь жена бойды уже не сможет таскать тебя за собой, куда вздумается, ни на моленья, ни в гости».
— Эх, бедняга. В школу, значит, поедет? Мой старик в молодости тоже хвалился: «Я грамоте обучен». Да ничего путного не вышло. Только и научился, что имя свое выводить, а мы из-за его ученья по миру пошли, — с плохо скрываемой радостью говорила Ханда, встретив Гэрэл у привязи для телят. «Уедет Батбаяр, глядишь, может, судьба и моей бедной девочке улыбнется. Донров тоже парень хороший. Только бы его мать с отцом не стали нам в глаза бедностью тыкать. А уж девчонка у меня — загляденье, тут никто спорить не станет».
Дуламхорло, услышав новость, чуть не закричала. Но, взглянув на гремевшую ведрами Гэрэл, просияла улыбкой.
— Так вот как все обернулось. Ну что же, наш Батбаяр — парень не промах. Все науки одолеет.
Откуда было знать Гэрэл, что кроется за хитрой улыбкой Дуламхорло.
«Вырвется он из моих рук, назад ни за что не вернется. Разве мало на свете красивых девушек! А он парень покладистый, добрый такой, каждой понравится. Ну и пусть! Хоть бы изредка его видеть, как-то спокойнее было бы на душе. Да что это со мной делается. Как будто ничего в нем особенного — парень как парень, а смотришь на него — сердце радуется. Мой Аюур с места не двинется. А упал бы хану в ноги, взмолился: «Я все время при вас, ни на минуту не отлучаюсь. Дома работать некому, то жена болеет, то сын. Смилуйтесь, не забирайте». И зачем только хану этот парень понадобился? Старик мой только и знает, что трястись да кланяться: «Слушаюсь, повинуюсь». Готов хану сапоги лизать. И как только он с таким брюхом умудряется бегать? Весь в морщинах, веки мешками висят — старик стариком, а все ревнует, злобой исходит. Наверняка думает: «Отправлю-ка я этого парня подальше».
Донров, услышав от матери, что Батбаяр уезжает, равнодушно бросил:
— Ну и черт с ним! — а в душе обрадовался: «По крайней мере, некому теперь будет меня за горло хватать, когда я потащу свою батрачку в укромный уголок».
Батбаяр заскочил в юрту и сразу же убежал к Дашдамбе, который во дворе обтесывал оглоблю для телеги.
— Хан велел вам привет передать.
— Не забыл, значит, — помолчав, заметил Дашдамба. — Ездит он много, а знает ли, какие у людей думы? Залан Доной при нем?
— Не знаю. Был с ним какой-то коренастый темнолицый мужчина: хан его учителем называл.
— Он самый. Его еще Смурым кличут.
— Много еролов и магтаалов знает.
— Он и в этом кое-что понимает, умом бог не обидел. Однажды Улясутайский амбань едва не лишил меня головы. Дагвадоной спас, пришлось ему для этого хорошенько пораскинуть мозгами. Он жалеет простых людей, потому что сам из простых. За это нойоны его недолюбливают, попрекают низким происхождением, — пощипывая бороденку, сказал Дашдамба.
Батбаяр смотрел на его высокий, изрезанный морщинами лоб, спокойные, устремленные вдаль глаза и испытывал гордость и восхищение. Десять лет жили они в одном аиле, но лишь недавно Батбаяр узнал, что пришлось пережить этому человеку.
Услышав, что Батбаяр едет в школу, Дашдамба снова дернул себя за бородку:
— Ну что же. Дело достойное мужчины. О матери твоей мы позаботимся. Парень ты молодой, а потому хочу напомнить тебе: не верь тому, что видят твои глаза. Ты, кажется, моей дочке пришелся по нраву, знай же, мы тебя никогда не забудем. Деваться нам некуда, так и будем ходить за коровьими хвостами.
«Лхама твоя. Не забывай ее — вот что хотел сказать старик», — подумал юноша и от радости едва не бросился обнимать Дашдамбу.
Пришла осень, с ветрами, листопадом. Гэрэл торопилась сшить сыну нарядный тэрлик из чесучи, подаренной Дуламхорло. В первый раз Батбаяр надел его за несколько дней до отъезда и поскакал на пастбище, где Лхама пасла овец — показать ей обнову. Боль отразилась на лице у девушки, когда она увидела тэрлик.
— Я видела эту чесучу у Дуламхорло. Подушка у нее из такой же. Будешь смотреть на тэрлик и вспоминать добрую свою хозяюшку. — Слезы навернулись Лхаме на глаза, она вцепилась в ворот тэрлика и дернула, разорвав его до самого пояса. Батбаяр понимал, что сам виноват, поэтому не обиделся, не разозлился, но домой вернулся с безнадежно испорченным настроением.
Матери сказал, что порвал тэрлик, объезжая лошадь. А на третий день, утром, когда Батбаяра не было дома, Лхама принесла сверток, положила его на кровать и, ни слова не говоря, вышла. Гэрэл развернула сверток и увидела новенький, только что из-под иглы, шелковый дэл светло-коричневого цвета. Лишь много позже она узнала, что Лхама целый год по клочку собирала шерсть, чтобы продать ее и на вырученные деньги купить у проезжего торговца шелк, потом шила для Батбаяра дэл прямо на пастбищах, чтобы мать не видела.
Вернулся домой Аюур. Приехал недовольный, мрачный.
«Может, расстраивается, что коней теперь некому будет пасти?» — гадала, глядя на его пасмурное лицо, жена. Она заварила крепкий чай и, подавая, спросила:
— С чего это вдруг ваш нойон заинтересовался этим парнем? Он же прост как коровья бабка!
Аюур промолчал.
— Что теперь с табуном делать? — не унималась Дуламхорло. — Придумали бы что-нибудь. Вы же все время при нойоне.
— Выкрутимся. Ну до чего же смекалистый, черт! А как уверенно перед ханом держался. Я не стал просить, чтобы его оставили. Бесполезно. Хан и так намекнул, что руки у меня загребущие.
— А о хозяйстве вы подумали? Или опять бросите нас одних со стариками? Они того и гляди на коленках будут ползать.
— Это не беда.
— А что, по-вашему, беда?
— То, что ждет нас в будущем. Сейчас людей не хватает, надрываетесь, устаете, а может, случится и кое-что пострашнее, — сказал Аюур и прислушался: нет ли кого возле юрты. — Если этот парень попадет в аймачное управление делами, он приблизится к хану и лет через десять разорит наш очаг. Плохо тогда вам с Донровом придется. Я-то что, мои кости скоро на солнышке греться будут.
— С чего это вы так разволновались?
— Как это «с чего»? Кое-что мне удалось нажить благодаря милости хана, а этот парень возьмет да и скажет, что я воровал из ханской казны. Подумай сама, что тогда будет? — понизив голос, сказал бойда. — Есть у тебя что-нибудь в шкафу? Налей чашку.
«А ведь правда, такое может случиться, — думала хозяйка, доставая бутылку. — Или он просто ревнует, вот и старается очернить в моих глазах парня».
— Что же нам делать? — спросила Дуламхорло.
Аюур взял чашку и, весь дрожа и задыхаясь, опрокинул ее в рот.
— Фу, даже вида ее выносить не могу, — поморщившись, сказал он, утирая пот. Затем, раскуривая трубку, уже спокойно посмотрел на жену. — Надо делать все так, чтобы у парня и в мыслях не было, будто мы желаем ему худого, напротив, пусть думает, что мы желаем ему только добра, заботимся, как о родном сыне. Нельзя выпускать его из рук. И его мать постараемся не обидеть. Ничего другого нам не остается.
Дуламхорло повеселела: «Значит, не ревнует. Выходит, я зря на Ханду грешила, будто она мелет языком где не надо. Притворившись недовольной, Дуламхорло спросила:
— Как же мы о нем должны заботиться? Еду таскать, дэл шить?
— Хан приказывал подумать о его пропитании.
— Может, еще и барашка для него пожирнее зарезать?
— Что же делать, Дуламхорло?
«Послать ему материал на дэл — его мать сама же и сошьет, раз-другой подбросить ягненка — невелик убыток. Уф. Тогда Батбаяр от меня не сбежит. Только что с его девкой делать? Похоже, они друг от друга без ума. Даже на пастбище все время вместе. Вот уж воистину подходящая пара — два голодранца», — темнея от гнева, думала Дуламхорло.
Прошло несколько месяцев с того дня, как человек тридцать парней незнатного происхождения собрались в двух больших юртах из темного войлока, поставленных на берегу Онги, неподалеку от аймачной канцелярии. Жили по-всякому, бывали и сытыми и голодными. Одних привлекала возможность пользоваться кистью и тушью, писать на линованной бумаге, другие, написав три предложения, тридцать пропускали и тихонько посапывали. Батбаяра и не хвалили, и не ругали, доставалось ему лишь за то, что в свободное время он бродил по монастырю, пропадая у служащих фирмы Шивэ овор.
Время от времени ему от бойды посылали ягненка. С детства привыкший делиться всем, что имел, юноша разрубал тощую ягнячью тушку на два-три куска, варил, угощал товарищей, а через несколько дней с завистью заглядывал в чужие чашки. Стены юрты, в которой он жил, были всего в один слой войлока, в щели дуло и в зимние холода и весной, с ее студеными пронизывающими ветрами, в юрте стыли ноги. Воспоминания о дорогой его сердцу девушке, ее миндалевидных черных глазах, длинной косе, переброшенной через плечо, ни на минуту не оставляли юношу. Днем они плыли как лебеди озера Ширэт, ночью занимались утренней зарей: «Может быть, в эту минуту она, щелкая кнутом, гонит овец на пастбище? Или доит коров бойды зябнущими на ветру руками? Как относится она теперь к Донрову? Так же сурово, как и прежде? Вестей никаких. Да и кто их привезет. Ханда авгай, наверное, твердит одно и то же, только на разные лады: «…попей, девочка моя, чаю, согрейся. Была бы поласковее с Донровом, не пришлось бы так мерзнуть. Он бы и опорой тебе был, и защитой. На худой конец зимой суп из баранины, а летом молоко, творог, кумыс». Уговаривает, а сама плачет», — думал Батбаяр и, вздыхая, всматривался в синевший на севере Хангайский хребет, казалось, заслонивший от него своей громадой все самое дорогое. Мысли его походили на хмурое весеннее небо, и бродил он мрачный, людей сторонился. Ни хана, ни багши, которые отправили его учиться, он ни разу не видел, даже не знал, где они. То говорили, что хан отбыл на прием к богдо-гэгэну, то уехал, мол, в Заятский монастырь на аймачный съезд. Иногда приезжал Содном. Он непременно привозил Батбаяру что-нибудь съестное, положив руку ему на плечо, говорил:
— Ты старайся! Редко выпадает бедняку такая удача — сесть за книги! Считай это благодеянием, ниспосланным небом, и учись с усердием! Станешь писцом — везде прокормишься, да и матери твоей не придется надрываться, терпеть унижения.
«Почему ханский телохранитель так добр ко мне»? — недоумевал юноша, не зная, что Содному, рано осиротевшему, пришлось пережить немало горя.
Летом занятий в школе не было, и Батбаяр радовался, что скоро вернется домой. Но однажды его вызвали в канцелярию и передали приказ задана Дагвадоноя — остаться на лето в аймачном управлении делами для переписи приказов и прочих бумаг. Как было отказаться? И Батбаяр написал Дашдамбе письмо. Передал приветы матери, Лхаме, Дуламхорло, объяснил причину, по которой ему приходится оставаться при канцелярии, а в конце, набравшись смелости, приписал: «Лхама, я не могу сейчас приехать домой, но если ты перейдешь в нашу бедную юрту и заживешь одной семьей с моей мамой, для меня это будет несказанной радостью». Письмо, отправленное с человеком, ехавшим в те края, в пути не задержалось, через несколько дней оно попало к Дашдамбе, и в аиле поднялся переполох. Дуламхорло радовалась — «вспоминает обо мне», и в то же время злилась — «эту девчонку, похожую на чахлый ковыль, решил замуж взять».
«Раз жив-здоров, значит, небо не оставило его своей милостью», — думала Гэрэл, приговаривая как обычно:
— Э-э, сто лет ему жизни!
«Никак не выбросит из головы эту старуху — жену бойды. Приветы ей передает. А может, я для него просто забава?» — думала Лхама, но когда услыхала, что Батбаяр просит ее переехать к нему в юрту, зарделась от радости.
— Очень надо тратить свои молодые годы на то, чтобы сторожить их худую юртенку, — злилась Ханда.
А Донров думал свое:
«Никогда не забуду, как ты бил меня. Придет время, встречу тебя мстителем на Олётском перевале…» Он делал вид, что письмо его совершенно не интересует, а сам цедил сквозь зубы:
— Нацарапал несколько слов, замарал бумагу и думаешь всех удивить? Лхаму в жены взять собираешься, в юрту к себе зовешь? А я с этой девкой такое сотворю — никому не нужна будет.
На утро Батбаяр вслед за канцелярскими писцами вошел в большую, кишащую мухами юрту и сел переписывать иски, прошения, показания… Так было нудно даже тоскливо снимать бесчисленные копии для отправки в столичные министерства, Улясутайскому амбаню в канцелярии подведомственных хошунов.. В голове билась одна-единственная мысль — как попасть домой, — и юноша с большим трудом заставлял себя усидеть на месте. В одном из прошений, поданных фирмой Да Шэнху говорилось, что в Гоби группа людей напала на ее приказчиков, перегонявших отару овец, и избила их, но «не ради одной наживы, о чем свидетельствуют ругательства в адрес императорской особы, а посему грабителей необходимо немедля найти, схватить и подвергнуть соответствующему наказанию». Следующий документ был иском: зимой, из местечка Шивэ овор выехали два китайских торговца, наняв в проводники и слуги монголов, которые в дороге, сговорившись с несколькими местными жителями, напали на своих нанимателей, натолкали им снегу и в штаны, и в гутулы, попортили товары, сожгли долговые книги и скрылись.
Многие гобийские уртоны были брошены самовольно откочевавшими харчинскими аилами, из-за чего задержан на несколько суток проезд послов из Пекина в Кобдо и Улясутай, что явилось нарушением указа императора, а посему необходимо глав откочевавших аилов немедля схватить, доставить к улясутайскому амбаню и примерно покарать, чтобы впредь неповадно было, — гласил приказ, присланный из императорского министерства. Когда среди документов попались допросные листы по делу об отказе аратов выплачивать китайским фирмам долги князей своего хошуна и учиненном дебоше, во время которого они выкрикивали, что «князья-правители извели весь скот ради «цветных дэлов и жинсов», Батбаяр отложил кисть и задумался.
«А ведь это, если разобраться, правда. Вот и Дашдамба-гуай говорил: «Наши нойоны за пестрый цветной дэл и жинс душу заложить готовы». Чего только ни случается на свете. А мы ничего не знаем. Живем в глухомани: старики охотятся — по горам бродят, молодые парни бегают за девчонками из близлежащих аилов, вот и все события, тишь да гладь, словно Хангай отгородил наши места от остального мира. А ведь и у нас в верховьях Орхона есть богатые аилы, где хозяева безнаказанно чинят произвол, и один из них — аил Аюур-гуая!» — размышлял юноша.
Так в мечтах о встрече с любимой и раздумьях над различными событиями, о которых Батбаяр узнавал, переписывая документы, проходили дни.
Однажды в канцелярию вошел чем-то взволнованный Содном-телохранитель, протянул столоначальнику какую-то бумагу и, отыскав глазами сидевшего у стены Батбаяра, сделал знак глазами — «выйди». Юноша вышел вслед за Содномом.
— Тороплюсь я. Хан уехал к богдо-гэгэну и еще не вернулся, а у нас тут переполох, объявился человек, насылавший проклятия. И меня впутал в это дело. Так что смотри, будь осторожен. Как-нибудь вечерком забеги. Я, видимо, буду стеречь ханскую печать. — Сказав это, он побежал к коновязи.
«Что значит «насылал проклятья»?» — недоумевал Батбаяр. Не успел он вернуться в орго и сесть на место, как столоначальник, который читал бумагу, принесенную Содномом, дернулся и побелел, словно увидел гадюку.
— Так, постой, постой. — Он ударил в барабанчик и, когда вбежал посыльный, приказал:
— Сейчас же собери всех чиновников. И стражников кликни.
Чиновники в темных дэлах собрались, пошептались минуту-другую и бросились в разные стороны.
Четверо чиновников его допрашивали — молчит. Уставится своими косыми глазами в небо и ни слова.
— Ох, и терпелив же, только зубами скрипит. Днем изобьют, мясо клочьями висит, а за ночь все подживет. Интересно, как он раны лечит? Наверняка знает какой-то способ.
— Бандзой били, так он будто сознания лишился. Но когда дали воды, головой выбил чашку и чуть руку не прокусил.
— Уже десятые сутки пытают, а показаний нет, — шептались в орго.
Батбаяр слушал и думал: кого это допрашивают? Посмотреть бы! Но к орго канцелярии во время допросов никого не допускали. Балбара называли «Конченным». Прежде чем вести на допрос, тюремщики заматывали ему голову дэлом. Пытали каждый день. На ночь сажали в глубокую яму, огороженную хашаном, и строго следили за тем, чтобы никто не мог к нему проникнуть.
Поговаривают, что когда стражники, воспользовавшись темнотой, перескочили через забор и нагрянули в юрту, «Конченный» с презрением бросил:
— Это еще кто такие…
Его схватили, крепко-накрепко скрутили руки, перерыли все в юрте и под полом нашли одежды князя и княгини, пеленки их умерших детей, разорванные на куски и истыканные ножами, а также деревянную шкатулку, где хранилась серебряная игла со стальным наконечником и склянка с ядом. Все это шепотом рассказывали в канцелярии. Батбаяр с изумлением слушал, а потом пошел в ханский дворец к Содному — единственному близкому ему человеку, чтобы обо всем разузнать.
— Да, Батбаяр, мерзкое дело замыслил этот Балбар, хана хотел извести. И я первый об этом узнал. Что теперь будет? Боюсь я, — сказал Содном.
— Что он за человек, и как вы его нашли?
— Как нашли? Мне он с самого начала был неприятен. Знал я, что он тавнаном стал, пока жил у младшего брата хана, был там как свой, с его матерью путался. Может, и недолюбливал оттого, что знал об этом. Но хан и госпожа его привечали, считали своей опорой, почитали за мудрость, вот и мы перед ним спины гнули, старались угодить. Когда оба ханских сына умерли, я один заметил у них на темени крохотные капельки крови, но смолчал. Хану и без того тяжело было. К тому же боялся, как бы меня же в убийстве не заподозрили, а кто убийца — не знал. На Балбара тогда никто бы не подумал, ведь он был приближенным хана. Но господин наш, человек на редкость умный и проницательный, понял, что не рок, а люди повинны в смерти его детей. Но кто именно? Сказать об этом прямо — значило причинить еще больше страданий жене. Хан ни словом не обмолвился, только заболел с горя. Одно время ни спать, ни есть не мог.
— Ох! Как он мог стать таким злодеем! Для чего же он хана! Детей-то ханских зачем?.. — не удержавшись, вскрикнул Батбаяр.
— Молчи! Все расскажу по порядку.
— Говори же!
— Ну, так вот, стал я приглядываться да все примечать. Балбар хитер, кого хочешь к себе расположить может. С жирной ахайтан — названой матерью хана — из одних мест, гобийский. Сошелся с ней еще при жизни старого хана. А наш хан для названой матери и младшего брата — гуна, ничего не жалеет. Оттого Балбар и пользовался у хана полным доверием, они вместе дела обсуждали. Балбар мог брать из казны сколько вздумается. Да и у самого полно добра в погребах. Но ему всего было мало, захотелось еще большей власти. Сановники и приближенные ханов всегда строили друг против друга козни, лишь бы получить побольше добра да повыше чин. Наушничали, клеветали. Так повелось с давних времен. Но наш хан не терпит доносчиков, сам за чинами не гонится и всех этих ничтожных людишек держит в страхе, так что кусают они друг друга только исподтишка. А сейчас некоторые из них оживились, стараются выгоды для себя извлечь из дела Балбара, завоевать славу разоблачителей.
— Да, но как вы все это раскрыли?
— После смерти второго ребенка хан слег, и тут поползли разные слухи. Рассказывали, будто ночью у дверей княжеского орго бегают и плачут малыши. С хребта, где их могилы, прибежала красная собака с белыми ногами и с воем полезла под юрту хана. Вечерами на трех каменных мысах неподалеку от монастыря появляются три голые заросшие по пояс волосами женщины и бегом-бегом прямо в дверь ханского орго. Сейчас-то ясно, что все эти слухи распространял Балбар, хотел запугать, посеять слабость в душе хана. Недавно попросил меня Дагдан тайджи-гуай покараулить вместо него. Возвращался я поздно, когда все во дворце уже спали. Иду по двору, вижу, в сером орго зажегся свет. Подхожу ближе, прислушиваюсь. Внутри какие-то шорохи. Повар, знаю, ушел ночевать в знакомый аил, хана нет, а без него и телохранителям там делать нечего. Не иначе, думаю, кто-то недоброе замыслил. Подкрался я к орго, присел на корточки, заглянул в щель. Вижу — стоит тавнан Балбар перед таганом и землю роет. Стало мне как-то не по себе, но гляжу, что будет дальше. Выкопал он яму, бросил туда пухлый такой сверток и стал торопливо засыпать. Тогда я потихоньку отошел и присел за поленницу. Вышел тавнан из орго, огляделся и бочком в сторону. Нет, думаю, не за добрым делом ходил сюда Балбар. Не стал я заходить в серое орго. Вернулся сюда, лег, а уснуть не могу, все думаю, что он там зарыл. Утром встал пораньше и побежал к Дагвадоной-гуаю. «Багша, говорю, мне с вами нужно потолковать».
Залан не выказал недовольства, накинул дэл и вышел. Когда я рассказал ему, что видел ночью, он даже в лице переменился.
— Я сейчас подойду, а ты в серое орго никого не пускай!
Перед восходом солнца мы впятером — с нами был лама — служитель храма и еще два телохранителя — вошли в орго, разрыли яму и нашли сверток. Развернули, а там в старом грязном носке вместе с портретом нойона, проколотым шилами и ножами, напихана разная дрянь и сверху листок с проклятьями. Смотреть тошно. Дагвадоной тут же написал записку и велел отнести в канцелярию. Тогда Балбара и схватили. Тавнан пока ни в чем не признался, а первым указал на него я, вот и боюсь, как бы все это не обернулось против меня.
— Чего вам бояться? Говорят, что и дома у него, под полом, нашли немало всякой дряни. Разве это не доказательство его виновности?
— И верно. Как же я об этом раньше не подумал. Ты-то как вспомнил?
— Так ведь каждому известно, независимо от его показаний, что все улики против него, — сказал юноша.
Содном немного успокоился и сказал с улыбкой:
— Ты забеги сюда послезавтра утром. Говорят, из Эрдэнэ зуу ламы пожалуют, будут проклятия искать. Вместе посмотрим.
Через два дня юноша пришел в ханский монастырь. Во дворе уже толкался народ. Но вскоре телохранители всех выгнали, постелили у малого орго нойона три тюфяка, разложили на них колокольчики, барабаны, еще какие-то предметы и объявили:
— Очир может вырваться, поэтому высокие ламы предупреждают — люди должны отойти на двести шагов!
Когда чиновники из управления делами аймака и приближенные отошли на указанное расстояние, из молельной князя вышли трое пожилых лам и сели на приготовленные для них тюфяки, оказавшись прямо под окном дворца, из которого за ними украдкой наблюдали Содном и Батбаяр. Одного из них Батбаяр узнал. Это был тот самый широколицый казначей, который приходил к Дуламхорло в Эрдэнэ зуу, пил водку, смешил хозяйку веселыми шутками, жал ей пальцы; расходившись, все норовил запустить руку под подол ей или за пазуху и в конце концов улегся спать, разложив свой тюфяк у ее постели.
Ламы зажгли благовония и, бубня низкими басовитыми голосами молитвы, окропили все вокруг темной жидкостью. Широколицый встал, взял клинок с темляком в виде очира, на который были повязаны шелковые хадаки, и постоял, чтобы все видели, как ходят ходуном его руки, из последних сил удерживая бьющийся в такт мелодии молитвы очир. Казалось, очир рвется и тянет за собой ламу. Лама сделал несколько шагов и, пригнувшись, побежал. Обогнув орго, затрусил вдоль хашана, долго, словно искал что-то, рыскал перед собравшейся толпой и, вернувшись к деревянному настилу, на котором лежали тюфяки читавших молитвы лам, принялся стучать по нему очиром. Ударив несколько раз, лама нагнулся, заглянул под настил, и тут из-под него выскочило небольшое серое животное, походившее на суслика, и, прошмыгнув мимо ламы, юркнуло под юрту, что у самых ворот монастыря. Соднома пот прошиб.
— Гляди! Гляди! Ожившее проклятие побежало! — испуганно вскрикнул он и, сложив ладони, взмолился: — Господи, боже мой. Какие же страшные дела у нас творятся.
Потрясенный Батбаяр наблюдал за обрядом и никак не мог избавиться от смутного чувства неприязни. А ламы уже громко читали молитвы, били в барабаны, звонили в колокольчики, очир в руках казначея метался из стороны в сторону. Серое животное выскочило из-под настила, казначей бросился к нему и рубанул клинком. Ухватив тушку кончиками пальцев, бросил ее на треугольное железное блюдо, сверху накинул треугольный кусок черной материи, поставил на стол, и ламы прочли последнюю молитву. Содном брезгливо поморщился и вытер пот с лица.
— Теперь проклятие «Конченного», которое подтачивало здоровье нашего хана, обезврежено. Оно обернулось водяной свинкой!
Батбаяр промолчал. Чувство неприязни в душе у него росло, и он сам не знал, что это: страх или омерзение.
Через некоторое время ламы собрались в храме красного сахиуса на богослужение и сожгли свинку.
Все бурно обсуждали случившееся:
— Да-а, ламы к нам приехали самые знаменитые. Видели? Они подрубили ноги этой свинье-проклятию, еще когда она выскочила из-под настила. Потом снова прочли молитвы и добили ее. А убегала бы она на всех четырех ногах — им ее ни за что не прикончить бы. И тогда всему хошуну не миновать бы беды и разорения. До этого уже совсем немного оставалось.
— Теперь надо искать сообщников Балбара. Не один же он был.
После богослужения Батбаяр пошел на то место, где убили свинку, но ничего особенного не заметил. Разве что обрывок серо-зеленой бечевки длиной с маховую сажень да небольшую, величиной с ладонь, крышку от деревянного ящичка, засунутую в щель между половицами. Но кому они здесь понадобились и зачем?
Вечером юноша вернулся в канцелярию, но только сел за бумаги, как вдруг вошел Смурый и за ним несколько чиновников.
Дагвадоной уселся на тюфяк, разостланный в хойморе юрты, и, не обращая никакого внимания на Батбаяра, словно его здесь не было, приступил к обсуждению дел.
— Ну что? Думает он признаваться?
— Молчит. Таращит глаза и молчит. Даже не шевельнется. Наверное, заклятия читает про себя.
— Я полмесяца его допрашивал. Уже места живого нет. С ягодиц все мясо облезло, того и гляди кости обнажатся.
— Нет, пытать его бесполезно. Все равно не заговорит. Судя по всему, он решил умереть, ни в чем не признавшись.
— Ясно одно: действовал он не один. Но кто толкнул его на это и с какой целью? Если он умрет под пытками, дела наши плохи. И суть тут не в проклятиях. Наверняка было что-то и поважнее.
— Не мне объяснять вам, господа чиновники, что на хана это подействует, как пожар, разгоревшийся в небе. И если Балбар умрет во время допроса, а дело не будет раскрыто, мы окажемся причастны к казни человека, не имея на то дозволения Улясутайского амбаня. Император не благоволит к нашему хану, в Пекине это хорошо знают, и случившееся может послужить прекрасным предлогом, чтобы поступить с ним как с ваном Ринчиндоржем[33], — он, мол, преступил закон. Вот так, ученые мужи мои! — задумчиво произнес Дагвадоной.
— Залан-гуай, а не попробовать ли вам самому допросить «Конченного», — предложил один из чиновников.
Смурый долго молчал, не сводя тяжелого взгляда с двери.
— Как мы его ни пытали, все напрасно. Может быть, попытаться как-то по-иному? — спросил он. Чиновники закивали головами, но предлагать ничего не стали.
— Ладно. Я с ним повидаюсь. Трое суток не допрашивать, давать похлебку и чай — пусть немного придет в себя. А вот в день нашей встречи пусть поголодает. Верно?
Среди происшествий и событий последних дней Батбаяра занимало одно: почему свинка выскочила из-под пола княжеского орго, когда ламы, читая молитвы, стали колотить по нему очиром? Свинка убежала и забилась под пол привратницкой, но выскочила и оттуда. Все было именно так, это он видел собственными глазами. Но почему? В чем причина?
Вернувшись к ночи в свою юрту, Батбаяр лег и стал размышлять. Вспомнились слова Дашдамбы: «Не верь тому, что видят твои глаза». И вдруг его осенило. «Ламы привезли свинку с собой в деревянном ящичке и выпустили, предварительно привязав к ее ноге бечевку, выкрашенную под цвет местности. За эту бечевку они и вытащили свинку из-под пола, а затем убили». Да. Все было так.
— Погоди, не торопись, — сказал Батбаяр сам себе. — Содном-гуай предупреждал: «Будь осторожен». Поделишься с кем-нибудь своими мыслями, тотчас впутают в это проклятое дело. А ловко они придумали отвести людей подальше, чтобы те не заметили бечевку. Ай да ламы!
Сон окончательно пропал. Юноша задумчиво смотрел через тоно на мерцающие в вышине звезды и вспоминал, как когда-то ночью встретил Лхаму, как целовал ее глаза, когда они стояли у высокой скалы.
На следующее утро разнесся слух, будто «хозяин проклятий» найден. «Гэмбэл все знал. А я на это пошел только ради Цогтдарь авхай», — сказал «Конченный» Дагвадоною. — Ни о чем больше не спрашивай и, если можешь, долго не мучай». «Эх, послушать бы, как залан допрашивал «Конченного». Да уж теперь дело сделано, не вернешь», — посетовал Батбаяр и попытался узнать, о чем Смурый спрашивал Балбара.
Только «Конченного» ввели в канцелярию, Дагвадоной встал и говорит:
— Э-э, несчастный! Это ли не мука! Снимите с него оковы. И спрашивает тюремщиков: вы кормите тавнана супом, поите чаем? И не дожидаясь ответа, приказывает: бегите к моей жене, скажите, что я велел приготовить супу, и немедля возвращайтесь. — Затем снова обращается к Балбару. — Бедный мой, бедный. Присаживайтесь. Как они вас искалечили! А я знать об этом не знал. Мы ведь с вами и горе делили, и радость. Оплошали вы. Ну да что теперь говорить. Таиться вам незачем. Ваши проклятия найдены. Так стоит ли мучаться, — и подает «Конченному» чашку чая. А у самого скорбь на лице. — Нет, говорит, ничего печальнее, чем падение одного из твоих соратников. Ох как тяжко мне допрашивать вас. Но ничего не поделаешь. Порядок есть порядок, и не мне его нарушать… Подает Балбару суп а сам спрашивает: «Нет ли у вас, тавнан, ко мне какой нибудь просьбы? Тут «Конченный» не выдержал, прослезился и назвал имена Гэмбэла и Цогтдарь. Об этом рассказали Батбаяру писари.
«Умен залан. Вот и верь после этого пословице: «нет никого глупее простолюдина», — подумал юноша с невольным почтением к ханскому учителю.
Вскоре пошли слухи о том, что Гэмбэл схвачен, во всем признался и показал, где зарыты проклятья.
В монастыре отслужили службу и совершили обряд очищения. Писарь, который был на допросе Гэмбэла, рассказал:
— Приготовленный Балбаром яд нашли и в юрте Гэмбэла. Дали его собаке лизнуть, так она подскочила и тут же подохла. Гэмбэл показал, что этот яд они собирались подсыпать в пищу Розовому нойону на пиру когда тот вернется из Да хурээ.
«Просто так брат не убьет брата! Значит, были какие-то обстоятельства, мешающие им жить на одной земле. Но какие?» — юноша терялся в догадках.
— Как поступил бы сам хан, будь он здесь? — вслух размышляли одни.
— А дозволил бы Розовый нойон с такой жестокостью расправиться с его родственником, — сомневались другие.
Пересказывали слова Дагвадоноя:
— До поры до времени хан не должен знать, что младший брат собирался убить своего старшего брата. Это дело особой важности, в нем замешано немало людей.
Солнце еще припекало по-летнему, но желтела трава, все хмельнее становился кумыс, собирались в стаи перелетные птицы. В один из таких жарких осенних дней в полутора десятках юрт аймачной канцелярии поднялся переполох.
Мэйрэн, сидевший в канцелярии, увидел, что к дверям главного орго подкатила двуколка с зеленым шелковым верхом, в сопровождении четырех всадников. Мэйрэн надел шапку с жинсом и, прихватив десяток стражников, отправился навстречу.
Из коляски вышел князь, стройный, высокий, в полном парадном одеянии; белолицый, со спокойным, мягким взглядом, он очень походил на хана. За ним с трудом вылезла сильно располневшая, с огромным вислым брюхом, седая женщина в парчовом хантазе поверх оранжевого шелкового дэла.
Князь, увидев, что подошедший к ним чиновник протягивает хадак, вывернутый наизнанку, переменился в лице, куда девалась его величавость! Два стражника подскочили к нему и сноровисто скрутили руки хадаком. Гун не сопротивлялся, только взглянул на мать.
— Вы не имеете права трогать его! — багровея, крикнула толстая авхай. — Сам император пожаловал ему звание гуна.
— Вяжите эту… — гордо подбоченясь, рявкнул мэйрэн. Стражники завели Мудрейшей руки за спину и связали. Авхай задыхалась от гнева.
— Мне сказали, что Намнансурэн хотел нас видеть. Где же он? Обманули, ландарамы!́[34] — в глазах авхай горела злоба.
— Кто ландарам — нам известно. И не вопи у входа в канцелярию хана, — заорал в ответ мэйрэн.
— Где ваш хан? Пусть выйдет. Я хочу встретиться с ним! — продолжала кричать авхай.
— А как ты посмотришь ему в глаза? — спросил мэйрэн. Мудрейшая не нашлась, что ответить, только открыла рот. Гнев ее поутих.
— Шапку гуна отнесите в орго. Этих увести. Посадить в разные ямы, — приказал мэйрэн тюремщикам. Один из телохранителей метнулся к гуну, сорвал с него бархатную шапку с коралловым жинсом и павлиньим пером, и Батбаяру показалось, будто с вершины высокого зеленого кедра сорвали и сбросили вниз единственную шишку. Большие глаза гуна под густыми бровями забегали, влажно блеснули. Он стоял не двигаясь, с таким видом, словно просил пощады. Толстая авхай посмотрела ему в глаза:
— Сын мой, помни, чье имя ты носишь, не унижайся, не преклоняй колен перед ними. Придет время, и мы встретимся с Улясутайским амбанем, — сказала она и пошла к тюремному хашану.
Гун заплетающимися ногами шел за ней. Батбаяр видел, как с молодого князя с красивым гордым лицом сорвали шапку с жинсом, но жалости к нему почему-то не испытывал. Заметив стоявшего неподалеку Соднома, побежал к нему.
— Ну что, «Конченных» видел? — спросил Содном.
— Видел. А кто это?
— Как кто? Младший брат хана — гун Ринчинсаш и его мать — Цогтдарь авхай.
— Что они сделали?
— Эта авхай несколько лет тайно готовила убийство нашего господина, чтобы вместо него ханом сделать гуна.
— Ну и дела! А зачем их сюда привезли?
Содном отошел в сторонку и сел на траву.
— Тут все не так просто. К ним послали человека сообщить, что хан вернулся из Да хурээ и хочет видеть их по срочному делу. Если бы попытались арестовать их дома, могли возникнуть осложнения — стоило им только кликнуть холопов. А главное — остерегались побега. Если бы они добрались до Пекина или к Улясутайскому амбаню и представили дело так, что наш хан ни во что не ставит указы императора Поднебесной — маньчжурского хана, вынашивает противные его воле замыслы, а они решили принять меры к его усмирению, не поздоровилось бы ни хану нашему, ни чиновникам, ни всему аймаку. Наш Смурый это учел и посоветовал чиновникам привезти их сюда.
— А почему они поднесли ему хадак, вывернутый наизнанку, и этим хадаком его связали? — не отставал Батбаяр.
— Как же иначе? Ринчинсаш — гун. Его мать — младшая жена хана Тогс-Очира. К ней никто, кроме чиновников хана, не смеет прикасаться да и то с положенными почестями, — объяснил Содном.
«Просто удивительно, как наши вельможи губят друг друга. С оказанием положенных почестей! Воистину пожар в небе! Какая странная и страшная судьба! Как ни прячь рог в мешок, а все равно торчать будет», — думал Батбаяр.
Через несколько дней он узнал, что толстая авхай в заключении сильно исхудала. Отказывается от пищи, которую ей приносят.
— Показывает толстое золотое кольцо на пальце и говорит: «Если принесете две-три чашки простокваши из овечьего молока, это кольцо ваше», — рассказывали тюремщики.
— Как же это? — изумился Батбаяр. — Я слышал, что, если в сыром, холодном месте поесть простокваши из овечьего молока, живо на тот свет угодишь.
Несколько дней подряд в монастыре не утихали барабаны, звенели литавры. Из разных мест привозили проклятия, зарытые Балбаром, и в каждом храме служили молебен, чтобы отвести вызванные ими бедствия и напасти. Делали человечков из теста, сажали в железные котлы и выносили на четыре стороны света, после чего совершали обряд изгнания нечистой силы, разводили костер, его черный дым поднимался до самого неба, стреляли из ружей. Батбаяр с интересом наблюдал за всем этим, только не понимал, какие собственно «бедствия и напасти» надо отвести и каким образом. В это время поползли разные слухи. Будто по реке Чулутайн ходит железный бык, навьюченный железной ступой, пестиком, топором и пилой. Волк о двух головах ехал по гребню Арц богдо на антилопе, а сам качался будто пьяный. Лежал на берегу реки Онги зверь — не собака, не жеребенок, копыта чугунные, морда медная, длиной больше локтя, сам весь мокрый, а как только начался обряд изгнания нечистой силы, превратился в кучу горелой шерсти. Кто и когда это видел — неизвестно, но люди жили в постоянном страхе, стали подозрительны. В народе говорили, что все это «ожившие проклятия» Балбара. Чиновники в сопровождении стражников и лам разъехались в разные стороны, чтобы расспросить людей, и канцелярия опустела. Однажды чиновник, оставшийся в канцелярском орго, позвал Соднома и Батбаяра, велел им снарядиться и немедля привезти жену гуна Ринчинсаша. На Соднома выбор пал потому, что он несколько раз сопровождал туда господина и знал тамошних жителей.
Ехали, ведя на поводу заводных лошадей: до Онцын сужи, где в это время была ставка гуна Ринчинсаша, путь был неблизкий. Если попадался аил, заезжали выпить чашку густого, пенистого кумыса и скакали дальше. Батбаяр блаженствовал: мчаться, пригибаясь к гриве коня — это ли не наслаждение для мужчины! В приподнятом настроении был и Содном. От нескольких глотков молочной водки, которой угощали в аилах, он слегка захмелел и говорил без умолку.
Возле колодца уртона Хар нудэн сделали привал — напоили лошадей, порыжевших от пыли, прилегли на лужайке отдохнуть. Пока отдыхали, Содном рассказал Батбаяру историю, однажды случившуюся в этих местах.
— Был я тогда моложе тебя, а на этот уртон приехал по чрезвычайно важному делу. В то время в степи Хар нудэн было очень много лошадей. Я приехал и все табуны угнал к реке Аргуйн.
— Зачем же вам было гнать отсюда чужих лошадей?
— Случилось это весной в год синего дракона[35]. В Да хурээ ждали Далай-ламу. Народу собралось видимо-невидимо. Толпа даже ночью не расходилась. Пошел тогда всего восьмой год с той поры, как наш Розовый нойон стал ханом. Да и Смурый был помоложе. Ну так вот, вызвали меня как-то в канцелярию и сказали: «Будешь сопровождать Дагдан тайджи. Скакать вам без отдыха, днем и ночью, пока не доберетесь до уртона Хар нудэн. Всех, кто живет при этом и в четырех следующих за ним уртонах, заставите откочевать. Если где-то людей окажется мало и они не смогут откочевать, сделаете так, чтобы рядом с уртоном не осталось ни одной лошади, верблюда или быка, а в юртах ни одного мужчины. Оставшимся втолкуйте, чтобы князю, который поедет из Пекина, говорили одно и то же: «Скот потеряли во время бури, разразившейся накануне, и мужчины отправились на поиски». Хорошо бы еще разбросать останки павшего скота вдоль дороги, по которой тот нойон поедет.
И поскакали мы с тайджи вот как сейчас с тобой. Но в тот раз я сопровождал, а сейчас меня сопровождают, — пошутил телохранитель.
— С Дагдан-гуаем мы были давно знакомы. Человек спокойный и сдержанный, он больше всего любил сидеть над сутрами. Хоть и тайджи, а крепостных не имел, ничего не имел, кроме звания. Потому и не заносился, не важничал передо мной, а времена трудные, как же было не сыграть на его знатности и не опрокинуть в аилах чашку-другую, чтобы промочить горло. Как только мы выехали, Дагдан тайджи сказал:
— Я буду изображать крупного князя. На уртонах можешь говорить, что захочешь, дело твое, только не упоминай наших имен или званий. Не то мы можем предстать перед императорским министерством как главные виновники, и на нас падет вся тяжесть наказания.
Я тогда толком ничего не знал, только слышал кое-что краем уха. Так мы и проехали по всем уртонам, ни разу не назвав себя. И хоть бы кто-нибудь спросил наши титулы или имена; что ни скажем — кланяются и говорят: «слушаемся». Ох уж наши худонские! Простодушны, чистосердечны, доверчивы сверх меры. За кого они нас приняли, бедняги? Три уртона мы заставили ночью откочевать, скот велели отогнать подальше и поехали назад. Вот и получилось, что до нашего приезда здесь было несколько тысяч лошадей, а после отъезда не осталось ни одной, — сказал Содном, весело хохотнул и, приподнявшись, окинул взглядом просторную долину. По ней, казалось, бежали белые волны — это метелки ковыля покачивались на ветру.
— Зачем же было заставлять людей откочевывать, оголять уртоны? Разве вельможному гостю из Пекина не стараются показать, как они усердно трудятся? — удивился Батбаяр.
— Э-э, да ты, оказывается, настоящий шушма. Тебе все растолковать надо.
— Растолкуйте, как малому ребенку — я не обижусь.
— Маньчжурский хан опасался, как бы Далай-лама, приехав к нам, во Внешнюю Монголию, не сблизился с монгольскими ламами и нойонами, не вошел с ними в тайный сговор. Поэтому он немедля направил сюда из Пекина амбаня, чтобы тот следил неотступно за Далай-ламой. Наши же решили этому воспротивиться, вот и разогнали уртоны.
— Но ведь за подобное самоуправство маньчжурский хан мог строго наказать нашего хана.
— До беды, и в самом деле, было недалеко. Однако наш господин придумал нехитрый, но верный способ, как ее избежать. Пожалуй, даже не господин, а Смурый.
— Что же было дальше? Рассказывайте.
— Устал я что-то, во рту пересохло. Но деваться некуда, придется рассказать.
Содном достал трубку с длинным белым мундштуком, закурил.
— Когда Далай-лама пожаловал к нам в монастырь, богомольцев и паломников там собралось что песчинок — тысячи. Понаехали ламы, нойоны, хутухты, хубилганы; что ни день — подношения даров, словом, всего насмотрелись, за всю жизнь не увидишь. Земля в долине Онги ходуном ходила. Тут как раз приезжает маньчжурский амбань. Уртонов нет, лошадей не сменишь. Князь в дороге задержался, устал и был вне себя от гнева.
«Ты, говорит, сайн-нойон-хан, все нарочно подстроил. Хотел принять Далай-ламу тайно, против воли императора, и своим поступком нарушил правила и установления. Мой долг довести это до сведения императора, и да покарает он тебя по всей строгости закона». А наш хан отвечает ему надменно: «Неужели вы не видите, сколь велики страдания монгольского народа? Сюда вы ехали по трупам павшего скота, а теперь хотите проехаться по трупам людей?»
После этого прошел слух, что князя лишат его ханского титула. Два дня все наши ходили мрачные, молчаливые. Но вот как-то вечером позвал меня Смурый и говорит: пойди, разыщи арслана Баст Онолта и приведи сюда.
Арслана я нашел в трапезной и привел к залану.
— Вы оба этой ночью будете следить за орго амбаня, — приказал залан. — В юрте рядом — ночует жена Гомбо бэйсэ, госпожа Норжиндэжид. Между юртами бросите кусок войлока и спрячетесь под ним. Только не вздумайте спать! Днем амбань выпил много вина и кумыса, так что ночью ему наверняка приспичит выйти. Как только он отойдет от своего орго, бросайтесь к нему, хватайте и кричите: «Люди, смотрите. Да что же это делается?!» На шум выйдет Норжиндэжид. И я подойду.
— Я, признаться, струхнул…
«Да это же та самая Норжиндэжид, которая выгнала нас с матерью. Это она, точно», — едва не закричал Батбаяр, но вспоминать о том, как ты скитался, гонимый презрением и ненавистью людей — не очень приятно, и юноша вовремя спохватился. А Содном тем временем продолжал:
— Я спрашиваю: «Залан-гуай, разве можем мы так обойтись с почтенным амбанем?»
— Это приказ вашего господина, а выполнять его или нет, решайте сами, — ответил Дагвадоной-гуай, и так зло на меня посмотрел, что у меня пропала всякая охота задавать вопросы. Я поклонился и говорю: «Выполню».
Смотрю, а Баст Онолт стоит как ни в чем не бывало, только на скулах желваки вздулись, да мышцы на шее напряглись.
— Кто это Баст Онолт? — спросил Батбаяр.
— Борец, умер недавно, до последнего времени жил где-то у вас в верховьях Орхона. Лицом был темен, мышцы буграми — будто огромные наросты. Когда к надому готовился, в день съедал полбарана и выпивал бадью кумыса. Голый носил валуны, поленья, лежал на связанных узлами ремнях. Рассказывали, что еще при старом «свирепом рябом» нойоне его посадили в тюрьму за кражу ста голов скота, но нойон приказал его выпустить за то, что на аймачном надоме «не уронил чести хошуна» и бросил на землю Заян-шабинарского зана Бадая.
— Ну так что же было той ночью? Вышел амбань?
— Еще бы! Только все уснули, в его орго зажегся свет. Вышел он из юрты, толстый лысый китаец. Дышит тяжело, с присвистом. Только он отошел на несколько шагов, Онолт-гуай ткнул меня локтем в бок, подскочил к амбаню, схватил за руки. А тому куда деваться? Арслан сграбастал его, будто медведь антилопу. Тут я подбежал и давай орать: «Люди, смотрите!» Амбань стоит не шелохнется, видно, понял все. Из юрт высыпали свитские, вышел Дагвадоной, еще какие-то люди, столпились вокруг нас.
Залан присмотрелся и ахнул:
— Да это же амбань!
Появилась княгиня Норжиндэжид и накинулась на нас:
— Да как же вы посмели докучать своими грубостями амбаню, назначенному сюда самим императором? Отпустите его немедля!
Тут нам и залан знак подал. Отпустили мы амбаня.
— А-а, так вот вы где, ахайтан, ночуете! Не к вам ли в орго собирался пожаловать наш гость? — спросил Дагвадоной.
— А какое до этого дело уважаемому залану? Что за люди среди ночи подняли шум, спать не дают, — сказала Норжиндэжид и вернулась в юрту. Тогда она еще молодая была. Красивая, стройная. Амбань обратился к свитским:
— В шахматной партии мы с Намнансурэном сделали по одному ходу. В этот раз проиграл я. — Сказал он так и ушел.
— Что амбань имел в виду, не знаю. Но рассказывали, что на следующий день он встретился с ханом, дружелюбно с ним разговаривал, и все обошлось. Говорили, будто амбань не собирается подавать императору жалобу на то, что уртоны на пути его следования были ликвидированы, из-за чего, собственно, он и задержался в пути. Тут все сразу повеселели, — сказал Содном и тронул коня.
Батбаяр улыбнулся:
— Как же так получается? Вы ночью нападаете на маньчжурского нойона, облеченного властью, а он мало того, что не подает жалобы, так еще проявляет дружелюбие?
— Дело тут вот в чем. По закону государевы послы, вступившие в связь с чужими женами, лишались головы.
— Но ведь амбань даже не собирался заходить к госпоже Норжиндэжид? Просто вышел по надобности.
— Бестолковый ты все же, Батбаяр. Доказать этого амбань не мог. А как он к ней шел, видели все, даже сама госпожа и сопровождавшие его в пути чиновники. Как же с этим спорить? Амбань — человек опытный, и все понял, как только его схватили. Оплошал он, днем выпил лишнего, уверенный в том, что дело сделано: нашего хана он запугал, и тот у него в руках.
— О чем же говорили хан с амбанем утром?
— Слышал я, что амбань пришел к хану и сказал: «На сей раз вы сделали удачный ход, и я, ничтожный, преклоняюсь перед вашим светлым умом», улыбнулся и поклонился.
Они хлестнули коней и погнали их рысью вниз по долине. Батбаяр, задумавшись, некоторое время скакал, не сводя взгляда с холмов, и вдруг натянул поводья.
— Содном-гуай! Почему наш нойон не любит маньчжурского императора?
— С чего ты взял?
— Сам слышал, как наш господин о нем отзывается. Да и народ так говорит, вы же знаете. Нелюбовь к императору сквозит в каждом его поступке.
Телохранитель, чтобы не выдать своего удивления, долго смотрел на вершину горы. Потом достал огниво, прикурил и, пристально глядя в пытливые, хотя и казавшиеся равнодушными глаза Батбаяра, сказал:
— Так вот ты, оказывается, о чем сейчас думаешь? Молодец! Кожаным мешком с зубами тебя никак не назовешь. Ну что же, здесь, в безлюдной степи, мы можем болтать о чем вздумается. Но тебе хочется знать истинное положение вещей? Верно?
— Конечно!
— Маньчжурский император — правитель страны, захватившей и поработившей нас, монголов. А кому хочется быть в подчинении? Поэтому у нас и не любят маньчжуров. Что монголы лелеют в душе надежду отделиться от маньчжуров — не тайна. Знает об этом и наш хан. Потому и противится он императорским указам и повелениям, в которых всегда коварство и обман. А вообще… лично хану маньчжурский император не причинял никакого зла. Так же как и людям из рода нашего Розового нойона, родственникам отца, деда. Так что причин для мести у него нет. Более того, он сам облечен доверием императора, получил высокий титул, большое денежное содержание, правит аймаком. Отец хана оставил огромные долги, и хан сам их выплачивает. Почти все свое денежное содержание переводит в китайские фирмы Хишигт и Баянт. Я думаю, что за это любят его наши крепостные и податные араты.
Батбаяр хотел спросить Соднома, знает ли он Гомбо бэйсэ, тоже очень хорошего князя, но поостерегся. Телохранитель мог рассердиться. А Содном вдруг стал задумчивым, помрачнел и принялся насвистывать — видно, дело, которое им предстояло сделать, мало его радовало.
К орго гуна они подъехали вечером, когда на долину упали тени гор. В юго-западной части хотона возвышалась большая белая юрта, украшенная красным хольтроком, но вид у нее был заброшенный, будто ее собирались продать с торгов. Во дворе не было ни души, никто не вышел к подъехавшим всадникам — наверняка на этот аил обрушилось несчастье. Содном спешился у коновязи.
— Видно, и кобылиц не доили, значит, кумыса нет. Ну да ладно, им же хуже, — Содном вздохнул и прошептал: — Ты чувствам воли не давай. Держись так, будто у тебя вместо сердца — камень!
Когда они вошли в орго, навстречу им поднялась молодая белолицая княгиня с серебряными заколками в высоко взбитых волосах. Настороженно поглядела в лица вошедших и, видимо догадавшись о цели их приезда, облегченно вздохнула. Поставила кумыс в сандаловом ведерке, спросила:
— Хорошо ли доехали?
Батбаяр заметил, что осунувшееся, бледное лицо княгини Нинсэндэн, ее добрые, полные мольбы и безысходной тоски глаза становятся все спокойнее. Они сидели, пили кумыс и молчали, как впервые встретившиеся и еще дичившиеся друг друга дети.
— Простите нас, княгиня. Но мы люди подневольные, сюда направлены канцелярией, чтобы доставить вас в Онгинский монастырь, — решился, наконец, начать разговор Содном.
Нинсэндэн помолчала, окинула взглядом юрту и, вытерев бархатным рукавом набежавшие слезы, спокойно посмотрела на Соднома.
— И вы меня простите! Как только вы переступили порог, я поняла, зачем вы приехали. Мне и в самом деле незачем здесь оставаться. Я поеду с вами. Но не как преступница, а для того, чтобы вернуться домой. Хану я еще раньше все рассказала. Вот и пришло время возвращаться, — спокойно, и даже, пожалуй, с облегчением промолвила она.
«Если она говорила с ханом, то выходит, что хан знал о проклятиях, которые на него насылали? Что-то не верится», — подумал Содном.
— Как понимать ваши слова, ахайтан? — спросил он.
— Да-да! Я не буду противиться воле неба, как гун и его мать. Я рассказала хану обо всем, что знала. Аха, наверное, помнит об этом. Спорить совершенно не о чем. Я поеду с вами, но только через два дня. Я должна проститься с людьми, которые встретили меня здесь прекрасными еролами как родную, заботились обо мне. Крепостные гуна не нанесли мне ни малейшей обиды, зла я на них не держу и должна непременно с ними встретиться и проститься.
«Такая разумная, спокойная женщина лгать ни за что не станет», — думал Батбаяр, внимательно слушая княгиню.
— Нам приказано вернуться как можно быстрее, поэтому надо ехать немедля, — отрубил Содном.
— Вы вправе этого требовать. Но всю ответственность за нарушение приказа я беру на себя. Содном-гуай! Вы меня знаете. Я не стану обманывать. Я сказала вам истинную правду. Понимаю я и всю тяжесть вины моей матери.
Батбаяру жаль стало княгиню, и он обратился к Содному:
— Если все действительно обстоит именно так, мы должны исполнить ее желание.
Содному хотелось крикнуть: «Не я ли предупреждал, чтобы сердце твое было как камень!». Он растерянно молчал, не зная, как поступить.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
Ночью выпал иней, как бы предупреждая, что скоро закружат, засвистят снежные вихри и земля оденется в белый наряд. Школяры, принятые в «школу канцелярских бумаг», каждый день упражнялись в составлении различных документов — с подорожных до прошений на высочайшее имя. Почти все они еще до школы служили в канцеляриях хошунов, при сомонных занги, и любой разбирался в хитростях составления документов ничуть не хуже Батбаяра. Только сейчас Батбаяр понял, каким подспорьем в учебе станет для него бесконечное сидение в канцелярии и переписывание бесчисленных документов и бумаг. Школярам преподавали также маньчжурский язык, кодекс законов Поднебесной, а время от времени, ранним утром, когда на улицах еще не появлялись ни прохожие, ни зеваки, на занятия приходил седой сухонький старичок с тонким, прозрачным лицом — Дагдан тайджи. По рекомендации ханского учителя он преподавал не совсем обычный предмет — «Историю монгольского государства». Был старичок каким-то ветхим, носил очки и ходил, опираясь на шестигранную клюку.
— Эх-хэ-хэ, дети мои, читайте побольше. На моем попечении сокровищница хана. А там книги в нескольких комнатах под самый потолок. Берите любую, на свой вкус. Эх-хэ-хэ, а сколько интересных, удивительных книг! Вот они — ключи от сокровищницы, — бормотал тайджи, показывая огромную, казавшуюся непомерно тяжелой для худой старческой руки связку ключей. Говорят: «Пища для плоти — на один день, духовная пища — на тысячу». Это правда, дети мои, правда!
После занятий кто-нибудь из школяров, подражая учителю, трясся всем телом и, едва ворочая языком, повторял его слова, а остальные так и покатывались со смеху. Однажды учитель вошел и, прислушиваясь к звукам шагов, доносившимся с улицы, негромко заговорил:
— Многие монгольские ханы бились между собой за новые земли, богатства, крепостных и в бесконечных войнах истощили силы страны. Государство, где нет мира и согласия, не может противостоять чужеземцам. Так, за мелочными обидами, в погоне за легкой наживой, не заметили, как сами стали добычей маньчжуров. Маньчжурский император, глядя, как ссорятся монгольские ханы, от радости себя по ляжкам хлопал. Кого подарками, кого женщинами прельщал, на свою сторону перетягивал, сеял раздоры, натравливал князей друг на друга, пока не завладел всей Монголией. Эту науку маньчжурские нойоны прекрасно знают. Вам же наказ на будущее. Старайтесь жить в мире и согласии, чтобы не стать поживой для других.
«А эти проклятия и яд, которым «Конченные» хотели отравить господина? Может, все это тоже дело рук маньчжурского хана?» — подумал Батбаяр.
— В наших местах есть камень, на котором выбиты очень верные слова:
Соблазнов много и услад В стране на юге — Нанхиад[36]. Чем больше будет на земле Певичками, вином прельщенных, Тем меньше встретится в Халхе Монголов мужественных конных.Эти слова вы должны всегда помнить.
На Батбаяра речь учителя произвела неизгладимое впечатление.
Прошла зима, отшумели весенние пыльные бури. Потянулись с криком стаи перелетных птиц. Прошел первый дождь, отсверкали первые молнии, и школяры, выслушав последние наставления и напутствия багшей и чиновников, разошлись. Парни из незнатных семей торопливо увязали вещи и разъехались по своим хошунам. Грустно расставаться с товарищами, если вместе с ними дрожал в дырявой юрте в зимнюю стужу, голодал, делился радостью и горем. Батбаяру даже показалось, что вдруг исчезли и его лучшие надежды. Батбаяр всей душой стремился в родной дом, к матери и любимой.
Попросить бы Соднома или Дагвадоноя, чтобы отпустили. Но они уехали к хану в Да хурээ. Сердце щемило при мысли о Лхаме. «Как там она? Помнит ли меня, не стала ли невесткой бойды?» Но Батбаяру велено было остаться в канцелярии джасы помощником писаря. Юноша растерялся. Где же он будет жить, на какие средства? И Батбаяр отправился в казначейство к Аюуру бойде. Большеголовый казначей встретил юношу приветливо, похвалил:
— Ну, какой же ты у нас молодец! Я понимаю, как ты соскучился по дому. Поезжай, поезжай прямо сейчас. Я обо всем доложу чиновникам канцелярии и похлопочу о твоем отпуске, — пообещал Аюур, и глаза его под вислыми припухшими веками хитро блеснули. Он насыпал юноше полный подол борцоков и посулил ему лошадь. Батбаяру невдомек было, что Аюур бойда так раздобрился, потому что задумал опорочить Батбаяра: «Парню служба в канцелярии не по душе. Старался я его удержать, но не смог». После этого Батбаяра уберут из канцелярии как «нерадивого и распущенного».
И вот в один из дней первого летнего месяца, когда воздух напоен ароматом свежей зелени, Батбаяр оседлал кобылицу, приторочил мешок с борцоками и, оставив позади перевал Хангайского хребта, поскакал домой. Вскоре чиновники джасы спохватились и разослали людей по всему монастырю, с приказом немедленно найти. Узнав, что Батбаяр самовольно уехал домой, мэйрэн рассвирепел и собрался было отдать приказ послать за ним гонцов, силой привезти назад и, наказав восемьюдесятью ударами кнута, поставить на службу с лишением денежного вознаграждения за три месяца работы. Но в это время к нему пожаловал Дагдан тайджи. Узнав, что ходят разговоры, будто Батбаяр сбежал, Дагдан сказал:
— С виду парень этот и в самом деле отчаянный, взгляд у него дерзкий. Но сбежать он никак не мог. Он вчера был у меня, сказал, что Аюур-гуай разрешил ему съездить домой, и взял почитать «Жизнеописание Саран хохо». Любит читать парень.
— Этот твой дзолик уехал, ни у кого не спросившись, стало быть, сбежал, — кипел гневом мэйрэн.
— Не может того быть. Аюур его отпустил.
— Какое отношение имеет этот вислобрюхий Аюур к делам канцелярии?
— Как же, наслышаны. Молодая жена вертит Аюуром как хочет. На голову ему села. А Батбаяр покладистый, отказать не может, вот Аюур и схитрил, отправил его жене в услужение, чтобы госпожой себя чувствовала. А может, чтобы ее потешил. Кто знает? От Аюура чего угодно ждать можно, — сказал Дагдан тайджи, стараясь поумерить гнев чиновника.
Когда Батбаяр подъехал к Хоргой хурмын хормой, над долиной повисла синяя дымка, в лесу куковала кукушка. Он вдохнул аромат разнотравья в родной стороне и почувствовал, как защемило сердце, будто он при свете полной луны обнял дорогую его сердцу Лхаму. На старом летнике все так же стояли три юрты и ветхий сарай. Он заметил их еще издалека, и сердце забилось быстрее. Подъехав к хотону, спешился у своей юрты, но его никто не встретил. Гэрэл, собиравшая хворост на опушке леса, увидев сына, бросила вязанку и со всех ног побежала к нему. Обняла, погладила его лицо. От нежданной радости она едва стояла на ногах. Вошли в юрту. В ней все было как и два года назад, не прибавилось ни одной новой вещи, но какой родной и прекрасной она показалась юноше.
— Я жила хорошо, за это время даже не простыла ни разу — хвала добродетели наших хозяев. Ты молодец, сынок, что приехал. Сейчас и молоко есть, и еды хватает. Ты больше не уедешь? Сто лет жизни тебе. — Гэрэл положила в тарелку пенки, сварила чай, щедро сдобрила его молоком. Батбаяр объяснил матери, почему должен жить в монастыре, и сказал, что не знает, сколько времени сможет побыть дома.
— Пока тебя не было, жена бойды не оставляла меня своими заботами. Прошлым летом нескольких баранов забили, так она овчины мне отдала. Выделай и сшей себе дэл, говорит. Корову трехлетку, трех коз доить разрешила. По весне, когда с едой совсем плохо было, полрубца, творогу принесла, — хвалила Гэрэл хозяйку.
К закату пригнала отару Лхама, вернулся Дашдамба, который присматривал за яловыми коровами, и все жители аила, кроме Донрова, собрались у Батбаяра. Дуламхорло не стала ждать, когда Батбаяр явится к ней, сама пришла в его бедную юрту и села на кровать Гэрэл. Всех интересовали новости из монастырской джасы.
«А это правда, будто на гребне хребта появляется хромая свинья с железным топором на спине и каждый раз залезает под пол ханского орго, а у дверей ханского дворца по вечерам, как стемнеет, плачут младенцы и зовут к себе отца и мать? А правда, что хан из-за проклятий заболел, без памяти упал за таган, но приехали ламы, отслужили службу, совершили обряд изгнания нечистой силы и спасли его от смерти?»
Батбаяра разбирал смех. «До чего же быстро разносятся самые нелепые слухи! Кто же это их сочиняет?» Батбаяр рассказал лишь о том, что видел сам. Остерегался: «Наговоришь им всякой всячины, а потом обвинят в распространении лживых слухов да еще впутают в это дело с проклятиями». Но когда Батбаяр рассказал, что из Эрдэнэ зуу приехали трое лам, побегали с очиром, убили водяную свинку, а на месте совершения обряда осталась крышка от ящика, в котором привезли свинку и обрывок бечевки, Гэрэл и Дуламхорло замахали на него руками.
— Говорить такое о ламах — грех. Смотри, беду накличешь.
Дашдамба негодующе рассмеялся:
— Чего там — грех? Это на них похоже. А наша Дуламхорло зуугинским ламам жемчужные подвески оставила и стала еще больше молиться. В этом году уздечку, отделанную серебром, поднесла. Только про это почему-то молчит. Видно, считает, что так и надо.
Дуламхорло покраснела, несколько раз порывалась что-то сказать, даже рот раскрывала, и наконец выдавила через силу:
— Вечно Дашдамба-гуай насмехается надо мной.
Эта женщина, такая же беззастенчивая, как любой мужчина, при одной мысли, что Батбаяр может подумать: «Совсем потеряла голову из-за того красноносого ламы», не помнила себя от стыда. Дуламхорло хотела пригласить Батбаяра зайти вечером, выпить чаю, ради этого и явилась, но боялась уронить свое достоинство. Она сидела, смеялась вместе со всеми, хотя больше всего ей хотелось выскочить вон из юрты.
«Помните, тогда в Эрдэнэ зуу вечером приходил ваш друг, мордастый такой лама? Все шутил. Это он бегал в монастыре с очиром и свинью убил», — хотел сказать Батбаяр, но заметив, как переживает Дуламхорло, подумал: «Зачем ее лишний раз в краску вгонять». Дашдамба принес из дома кувшин с водкой, разлил по чашкам, Гэрэл снова сварила чай. Лхама, заметив, в каком смешном положении оказалась Дуламхорло, кусала губы, чтобы не рассмеяться. Она сразу догадалась, зачем пожаловала жена бойды, и торжествовала. В юрте было шумно: говорили все сразу, перебивая друг друга, и лишь Батбаяр скупо ронял слова, как и положено настоящему мужчине. Жители аила удивлялись — как изменился он за эти два года! Слегка похудел. Дуламхорло не сводила глаз со смуглого, спокойного лица Батбаяра, о чем-то думала и вздыхала.
— Ну что ж, как ни надоела нам дойка, а надо идти. И так запоздали. Приходите попить кумыса, — сказала она и, обращаясь к Батбаяру, добавила: — Рук у нас не хватает, поэтому только-только жеребят от вымени отлучили и кобылиц доить начали. Но на твое счастье кумыс получился отменный.
Лхама проводила хозяйку презрительным взглядом и произнесла чуть слышно:
— Думаешь чашкой перекисшего молока завлечь.
«Ты, говорят, изменился, — думала про себя Ханда авгай, наблюдая за беседовавшими между собой Батбаяром и Дашдамбой. — Ну да, был жеребенком, стал жеребцом двухлеткой. А голодранцем так и остался. Ни одежонки справной, ни сапог. Все это выдумки нашего Дашдамбы. Заискивает перед ним, чтобы заморочить голову моей бедной девочке».
Батбаяр угостил всех привезенными борцоками, остатки поделил между младшими братьями и сестрами Лхамы. Пора было идти на дойку. Лхама с отцом вышли последними.
— Папа! Я на ночь здесь останусь, — едва слышно прошептала она, глядя в сторону.
— Конечно, конечно, — согласился Дашдамба и оглянулся на Батбаяра — рад ли? Отказать дочери он не мог. О том, что отец любил Лхаму больше остальных детей, знали все в аиле.
Два года — невелик срок, но для влюбленной, которая ждет своего желанного, они кажутся вечностью. В каждой юрте восприняли по-своему встречу молодых влюбленных после двухлетней разлуки.
«Вот и решилась судьба моего бедного мальчика. Какая же я глупая, что ни о чем не догадывалась. Ведь он еще в прошлом году писал, чтобы Лхама перешла жить в нашу юрту. Ну конечно же. Она ему и дэл сшила перед отъездом. Значит давно они любят друг друга! Вот и хорошо. Сто лет им жизни! Удивительно, за один день столько радостных событий», — думала Гэрэл, засыпая.
К Дуламхорло сон не шел. Она ворочалась в постели, вспоминала, как когда-то дождливой ночью спала, прижавшись к груди Батбаяра, и думала: «Меня он не забыл. Но придет ли? Наверняка в него эта сумасшедшая девка вцепилась».
В юрте Дашдамбы, как только дети заснули, снова начался разговор, которому не видно было конца.
— Что же мы с тобой на старости лет детям жизнь ломаем. На что ты дочь толкаешь, — прошипела Ханда и, встряхнув кувшин — есть ли там чай, попила, чтобы унять расходившееся сердце.
— Что-то я не замечал, чтобы ты вела их к счастливой, безбедной жизни. Хочешь сделать дочь ухватом для казначейского чугуна. Пусть кочергой в очаге, лишь бы в богатом доме? — Слова Дашдамбы подлили масла в огонь.
— Чем же ты думал, когда собрался отдать дочь в жены парню, у которого только и есть что тело, а из живности — вши одни.
— А ты все еще мечтаешь отдать дочь в жены этому тупому, как бык, ублюдку с черной, словно юфть, шеей и идиотской рожей, — обозлился Дашдамба…
Когда перевалило за полночь, Донров осторожно встал, оделся и, выдернув из-за притолоки кнут, вышел. Дуламхорло, заподозрив неладное, вышла вслед за ним. Заметив, что Донров идет к юрте Батбаяра, двинулась следом. Донров, подойдя к юрте, постоял, прислушиваясь, потом откинул кошму, закрывавшую вход, и, занеся для удара кнут, крикнул:
— Батбаяр, выходи.
— Сынок, ты что, — вскрикнула Дуламхорло и уцепилась за кнут. Донров обернулся. В это время из юрты выбежал босой Батбаяр. За ним, набросив дэл, вышла Лхама. Они изумленно переглянулись, Батбаяр взял Лхаму за руку и спокойно спросил:
— Что здесь происходит?
Дуламхорло и Донров молчали.
— Донров вечно буянит. То мне жить не давал, теперь тебя пришел убивать, — сказала Лхама.
Батбаяр дернул ее за руку — молчи.
— Вместе с матерью явился, — сказала Лхама. В юрте кашлянула Гэрэл. С другого конца хотона донесся кашель Дашдамбы.
На следующее утро Батбаяр оседлал коня и погнал скот на пастбище, чтобы дать Дашдамбе с Лхамой немного отдохнуть. Дожди давно не шли, трава выгорела. Пасти скот было настоящей мукой. И вот Дашдамба, которому приходилось ходить за скотом бойды каждый день от зари до зари, решил воспользоваться случаем и починить телеги, подлатать юрту.
— Недолго будет парень мне помогать. Ну, это ничего, дочери он станет хорошим мужем, настоящей опорой. Глядишь, и младшеньким моим помогут, пропасть не дадут, — бормотал Дашдамба, теребя бороденку. Утром Лхама собрала свои вещи, взяла коробочку с иголками и нитками и перенесла в юрту Батбаяра. Ханда авгай, узнав об этом, набросилась на дочь с руганью:
— Да как же ты могла, без обряда, без свадьбы…
— О какой еще свадьбе ты толкуешь? Сама ведь знаешь, что у нас для них не то что подарка, самого завалящего хадака нет, — одернул жену Дашдамба.
Донров, встречая Батбаяра, опускал глаза и сворачивал в сторону. Глядя на выражение его лица при этом, нетрудно было догадаться, что этим парням теперь не только в одном аиле, на одной земле не ужиться. Дуламхорло, стараясь сгладить впечатление от выходки сына, стала особенно предупредительна с Дашдамбой, Гэрэл и Батбаяром. Как-то утром Батбаяр пригнал табун, привязал жеребят и по старой привычке зашел в юрту бойды выпить кумыса. Донров лежал в хойморе, заложив руки за голову. Но стоило войти Батбаяру, как его будто подбросило в воздух. Он сорвал со стены ременной недоуздок и выскочил из юрты.
— Донров, — встревоженно крикнула ему вслед мать. — С ума парень сходит. И отчего у него так характер испортился? Он ведь не только с тобой, ни с кем из своих сверстников спокойно говорить не может, — сказала Дуламхорло, стараясь оправдать сына.
— Мы с Донровом с детства не ладим. А теперь он вообще видеть меня не может. Когда встречаемся — отворачивается. Видно, я в этом виноват, — отозвался Батбаяр.
— Что ты, разве дело только в тебе? Это наш банди распустился сверх всякой меры. Но ничего, вот отец приедет, выбьет из него дурь. А все из-за этой девчонки. Болтается, как коровий хвост, то туда, то сюда, а вы друг на друга коситесь. Ты ведь не знаешь: может, она тебе говорит одно, а Донрову другое.
— Предъявить какие-либо обвинения Лхаме я не могу, уверен, что она не давала повода Донрову к ней приставать, — заявил Батбаяр.
Дуламхорло звонко рассмеялась, чтобы не дать спору разгореться, и стала сбивать остуженное молоко.
— Разговор-то у тебя стал как у чиновника: «Предъявить обвинения…» Не знаю, что и сказать. Ну да ладно, хватит об этом. Попей лучше кумыса.
Батбаяр отхлебнул холодного, хорошо перебродившего кумыса и похвалил хозяйку:
— Хороший у вас кумыс. Видно, оттого, что женщина вы добродетельная.
— Вон какие научился говорить слова! — Дуламхорло кокетливо хихикнула и спросила: — А позвольте узнать, уважаемый чиновник, когда вы собираетесь отбыть на службу?
— Рад, что сумел обратить на себя ваше внимание.
— Нет, вы только посмотрите на него. А я-то думала, что ты так и уедешь, не удостоив меня даже взглядом. Жена наверняка тебя не отпускает, за подол держит. Лишний раз выйти на двор не дает.
— Если вы признали в Лхаме мою жену, мне волноваться больше нечего. Любители распускать руки теперь угомонятся, — сказал Батбаяр, допил кумыс и направился к двери.
— Надеюсь, ты пришел ко мне не только за тем, чтобы это сказать, — улыбнулась Дуламхорло, не сводя с юноши томных с поволокой глаз. Батбаяр ничего не ответил и вышел из юрты.
Предсказание Дашдамбы сбылось. На шестой день после приезда Батбаяра прискакал посыльный и вручил ему предписание срочно вернуться в канцелярию монастыря. Батбаяр знал посыльного. Усадил его, как гостя, принес кумыса и стал расспрашивать о новостях.
— Несколько дней назад из Да хурээ вернулся хан. Так что забот и хлопот сразу прибавилось, — рассказывал посыльный, прихлебывая кумыс. — У господина в столице было дел невпроворот, но он, как только услышал о том, что случилось, все бросил и прискакал в Онгинский монастырь.
— Разве он до сих пор ничего не знал? — удивился Батбаяр.
— Говорят, не знал. Ему не докладывали, не хотели тревожить, пока не выяснится подоплека этого дела. Улясутайскому амбаню тоже не докладывали, чтобы не нарушать покой в аймаке.
Поначалу хан никак не хотел верить, что его собирались отравить. Расспрашивал чиновников: «Может быть, все это нарочно подстроено, чтобы поссорить меня с братом? Не приложил ли к этому руку кто-нибудь из чужих? Пусть даже сердца у них черны от злобы, но на такое они не пошли бы». Хан приказал прекратить аресты и допросы. Не верил до тех пор, пока ему не показали копии показаний Цогтдарь и Ринчинсаша, некоторые проклятья, серебряную иглу и яд. Вот тогда он затосковал по-настоящему. Спросил только у судейских: нельзя ли помиловать названую мать и брата или хотя бы учесть его молодость при вынесении приговора и, получив отрицательный ответ, заперся у себя в орго и несколько дней не показывался. Даже плакал, говорят. Приближенные боялись оставлять его одного. Кто только к нему ни приходил: высшие ламы, настоятели монастырей, как-то раз даже хамба лама пожаловал, — все уговаривали его взять себя в руки. Уговорили наконец. Со вчерашнего дня хан за дела принялся. Рассказывают, что Дагвадоной еще несколько месяцев назад его исподволь готовить начал. Прискакал как-то раз к нему в Да хурээ и говорит: «Тот, на ком лежит забота о государстве, должен быть крепким, как стальная броня, способным осознать и принять истинное положение вещей. Лишь тогда он сможет снискать уважение народа. Чтобы отличить правду от лжи, надо быть беспощадным к провинившемуся, будь он родственником, даже братом». А на днях, когда хан совсем пал духом, прискакал Смурый к нему в орго и высказал напрямик все, что думал.
— Не пристало правителю аймака хандрить, словно старуха, которая не отходит от молитвенного барабана. Вспомните, что говорил о вас Далай-лама: «Это настоящий политик». Никогда не будет прочной власть там, где снисходительны к противникам государственных устоев. Укрепить ее могут лишь люди бдительные, чуждые человеческих слабостей. Трудно поверить, что вы этого не понимаете.
Смурый приказал подать конный экипаж, усадил в него нойона и повез вверх по Онги к скале Шурганы Улан. Там они долго сидели, слушали шум воды на порогах.
«Встречай одинаково хвалу и проклятье толпы. Не верь ни тому, ни другому. Пусть разорено, сожжено все, что тебе дорого, пусть ты одинок, пусть нечем прикрыть наготу. В час, когда тебе нужно отправиться в дорогу, соберись с мыслями, мужайся и тело свое укрепи. Помни — за все в жизни приходится расплачиваться. И с кем бы ты ни говорил, с побратимом или завистником, будь честен и прям до конца!» — Вы знаете эту философскую притчу-поучение… — говорил Дагвадоной.
Розовый нойон долго бродил по берегу, размышлял:
— На крутых поворотах история не знает ни жалости, ни снисхождения. Следует и мне о них забыть. Так я вас понял?
Залан подошел к хану, заглянул в глаза.
— Иначе понять нельзя. Мужество и сильная воля — вот верный путь к цели. А переживать и мучиться — ни к чему.
Тут к нашему господину вернулось самообладание. Едва войдя в орго, он попросил еще раз показать яд, приготовленный Балбаром. Заметив этикетку на китайском языке, поинтересовался:
— Говорите, из Пекина привезен? Что же, значит, был в этом еще кто-то замешан. Надо побыстрее возвращаться в Да хурээ.
— Хан ознакомился с прошениями, присланными из разных мест, принял пожаловавших к нему на аудиенцию нойонов и гостей, — рассказывал посыльный.
Батбаяр зашел к Дашдамбе, показал подорожную. Тесть выслушал его и сказал:
— Поезжай, сынок! Ничего не поделаешь, у мужчины судьба такая. Я знал, что все так обернется. Потому и Лхаму к тебе отпустил, как ни ругала меня старуха. Пусть, думаю, переписывает свои бумаги и ни о чем не беспокоится. Ничего, у вас еще все наладится, — улыбнулся Дашдамба. — За мать и жену не тревожься, в обиду не дам. И за юртой присмотрю, чтобы непутевый Донров не сжег ее с пьяных глаз.
Дашдамба помолчал, теребя бороденку.
— Ты будь осторожен. Времена видишь какие! Проклятия-заклятия и еще всякие там штучки. Да и не только это. Нойоны и чиновники всегда грызутся, словно хищники из-за добычи. Как говорится: «Это не изъян, а характер», — усмехнулся Дашдамба.
Гэрэл радовалась, что с ней останется невестка, все не так одиноко будет. Лхама никак не хотела отпускать мужа.
— Как же мне жить без тебя? Донров на нас волком смотрит. Скажи хоть, когда вернешься!
Она брызнула вслед мужу молоком и убежала в юрту, чтобы никто не видел ее слез. Гэрэл пошла вслед за невесткой, присела рядом и, вздыхая, стала гладить ее по голове.
Вечером Батбаяр переправился через Онги и явился в канцелярию.
— На колени перед гербом хана, кайся и проси прощения за самовольную отлучку, — крикнул мэйрэн, прозванный «сдирателем шкур».
— Я же отпросился у Аюура бойды. Он разрешил мне ехать, даже лошадь дал, — удивился юноша.
— Разве твой бойда ведает делами джасы? Да он мне ни слова не сказал. Думаете, нашли способ, как господскую джасу вокруг пальца обвести, — взревел разгневанный мэйрэн, кликнул стражников и, приказав дать Батбаяру двадцать пять плетей, сам отсчитал удары.
— Теперь ты искупил свою вину. Не то пришлось бы оштрафовать тебя на одну голову скота за каждый день отлучки, — сказал мэйрэн и отправил юношу класть поклоны перед бурханами.
На следующее утро Батбаяра вызвали в серое орго хана. «Опять, видно, будут с меня шкуру снимать», — встревожился юноша, но, когда вошел в орго, его встретил веселым смехом Содном-телохранитель.
— А ведь мы с тобой в прошлом году правильно поступили, что не повезли силой княгиню Нинсэндэн, — сказал он, обменявшись приветствиями с Батбаяром. — Помнишь, как ругали нас за это чиновники? Говорили: «Вы потакаете государственным преступникам! Вас самих следовало бы упечь в тюрьму!» Но Смурый за нас вступился, княгиню оставил в монастыре под надзором, а когда хан вернулся, доложил о ней. И знаешь, что хан сказал?!
«Помню, она говорила мне о какой-то нелепости, об ошибке. Просила: «Отправьте меня домой. Я не могу больше здесь оставаться!» Я было подумал, что гун завел себе другую женщину и они поссорились. А сейчас пусть поступает, как ей вздумается. Захочет ехать домой — отвезите вместе со всем имуществом». Хан ласково с ней обошелся, назвал «младшей сестрой». Княгиня сказала хану про нас, мол, люди умные, с понятием, и попросила дать нас ей в провожатые. Хан согласился, так что скоро в дорогу. Доставим княгиню домой, оттуда в Да хурээ. Уже есть приказ. Говорят, хан отправится туда в самое ближайшее время.
Через несколько дней маленький караван княгини — Содном, Батбаяр и старик, ведущий на поводу нескольких верблюдов с поклажей, покинули монастырь и, переправившись через реки Онги, Орхон и Тамир, двинулись в путь к кочевью Сандага мэйрэна. Ехали не спеша, весело: ели досыта, спали, сколько душе угодно, любовались красивыми пейзажами, но княгиню ничто не радовало, жаль было смотреть на ее бледное, осунувшееся лицо.
— Я успела привыкнуть к вашим местам, привязалась к старшему брату, — говорила княгиня. — Да и вы душевно ко мне отнеслись, помогли в трудную минуту. Остаться бы мне у вас. Да только как хану в глаза смотреть, — княгиня утерла рукавом слезы.
«Бедная, сколько горя выпало на твою долю», — подумал Батбаяр и отвел взгляд, чтобы не видеть полное страдания лицо.
Подъехав к границе родного хошуна княгини, положили на обон как положено хадак и двинулись дальше.
— Видно, судьбе угодно воздавать каждому по справедливости. Я — родом из богатой, знатной семьи. Казалось бы, что мне за дело до бедных? Но я всегда старалась не причинять им горя. Потому и меня никто не обидел там, в ваших краях. Наоборот, каждый старался помочь. Ведь и вы могли тогда сразу арестовать меня, и страшно подумать, чем бы все это кончилось. Спасибо вам за веру и милосердие ваше, за то, что увидали во мне только несчастную, покинутую провидением женщину. Мне никогда не забыть вашей доброты. — Говоря это, княгиня роняла жемчужины слез и, сняв два золотых кольца, протянула одно Содному, другое — Батбаяру.
— Помилуйте, за что нам такие дары! — переглянувшись, воскликнули оба в один голос.
— У меня еще есть. Берите. Не обижайте. Подарите женам своим, дочерям. Они чистые. Это не нож, который точил один брат на другого. Их подарили мне отец с матерью. Берите же!
Отдав кольца, княгиня откинула за спину длинные косы, — она теперь не носила высокой взбитой прически — и поскакала вперед. Содном завязал кольцо в платок, спрятал за пазуху и посмотрел ей вслед затуманенными от слез глазами.
— Добра, степенна, рассудительна. Такая женщина приносит счастье мужчине. Эх, был бы я холост, на колени бы пал, молил, чтобы пошла за меня, — задумчиво сказал он.
— Достойных на свете много. Найдет и она свое счастье. Такие женщины не живут одинокими, — откликнулся Батбаяр.
В хотоне Сандага мэйрэна Батбаяр и Содном несколько дней отдыхали, окруженные почетом и уважением. Сам мэйрэн был в отъезде, и его араты в разговорах с гостями не скрывали своего смятения.
«Говорят, во внутренних областях беспокойно. По приказу хана некоторые аилы откочевали на север, для укрепления пограничных караулов. Повинности непосильными стали. Нойоны и чиновники тайком в Да хурээ съезжаются. Страну лихорадит, не пришлось бы пули лить». Прошел слух, что значительно увеличилось число исков и тяжб в связи с отказами выплачивать долги китайским фирмам.
— И здесь неспокойно, — заметил как-то Содном. — Не любят люди маньчжуров. Кажется, будто едем под палящим солнцем посреди затянутой туманом степи, и вот-вот начнется ураган.
Телохранитель и писарь отправили домой сопровождавшего их старика, добрыми еролами простились с княгиней и, ведя на поводу заводных лошадей, поскакали в Да хурээ. К столице подъехали в один из последних дней лета. Содном неплохо знал город — несколько раз сопровождал сюда хана. Батбаяр, слышавший, что Да хурээ чуть ли не «рай земной», был слегка разочарован. Город лежал в туманной долине за грядой мрачных синих гор. Поблескивали золотые навершия храмов. На улицах было не протолкнуться: девушки в ярких цветных дэлах с узкими длинными рукавами, затянутые желтыми и зелеными поясами, в шелковых торцоках, сдвинутых на лоб; послушники в орхимжи, переброшенных через плечо; ламы, которые лениво шагали, прижимая к груди книги, китайцы, мелко семенившие с коромыслами на плечах, монахи — сборщики подаяний с трещотками в руках, нищие старухи, супружеские пары на лошадях одинаковой масти. Большую часть города занимали аилы за хашанами из жердей, в каждом дворе на высоких шестах развевались белые, желтые, синие флажки. Из храмов доносились звуки флейт и труб. Изредка в толпе мелькали чужеземцы: длиннобородые тибетцы в суконных дэлах и войлочных шапочках и совсем диковинно одетые, в островерхих шляпах и широких штанах поверх сапог, носатые люди.
— Это кто? — спросил Батбаяр.
— Тут всяких полно, — ответил Содном. — Тангуты, тибетцы… Ты о ком спрашиваешь? Это американец. А это — житель больших зеленых островов Джи Бин[37]. Встречаются торговцы, врачи, ремесленники из страны Гуйлан[38]. Только помни: в управлении[39] не любят, когда монголы беседуют с иностранцами.
Они поскакали вверх по берегу реки Сэлбэ и вскоре оказались у хашана своего господина. Содном проводил Батбаяра к трапезной, а сам куда-то ушел. Вернувшись, шепнул:
— К госпоже Магсар никого не пускают, говорят, больна. Приближенные хана рассказывают, что он приехал в Да хурээ три дня назад, но его толком так никто и не видел. Он то к одному едет нойону, то к другому, то на хурал к богдо-гэгэну. В день приезда только принялся за обед, прибежал человек от цинь-вана Ханддоржа[40], и они вместе ушли. Забот здесь нынче прибавилось, не то что в прежние времена. Видно, назревают какие-то события. Ахайтан, говорят, нездорова. Наверное, на сносях. После того как потеряли обоих сыновей, стали побаиваться. Видно, роды хотят сохранить в тайне. Юрту ахайтан огородили частоколом. Уже три месяца она живет там безвыездно. А с нею старуха лекарка, больше никого.
— Несладко им приходится. Даже ребенка в утробе скрывать надо.
— М-да, и так тяжело, а тут еще брат… Веселиться хану и в самом деле не с чего. Не от хорошей жизни прячет он жену.
— Достается ему, бедняге, — задумчиво произнес Содном.
«Разве одному только нашему хану? Нигде нет покоя людям. Нищих полно, грабят, убивают!» — думал Батбаяр. Юноша разложил тюфяк, прилег. «Когда были у Сандага мэйрэна, кто-то рассказывал, будто один тойн лама после смерти старшего брата-гуна затеял тяжбу с его сыном, чиновникам взятки давал, чтобы самому получить титул нойона и править хошуном. Видно, хорошо быть нойоном. Интересно, во всех странах князья, подобно нашим, лгут, клевещут, жалят друг друга, как змеи, лишь бы возвыситься?» — думал он.
Вечером Батбаяр вышел на улицу, сел неподалеку от ворот и принялся глядеть по сторонам. Вскоре к воротам подъехали двое лам в желтых дэлах и красных орхимжи, намотанных на голову. Один из них, с величавым белым лицом и большими темными глазами показался Батбаяру очень знакомым. «Что за лама? Где я мог его видеть раньше?» — подумал Батбаяр и пошел следом за ними во двор. Лам встретил Содном, поприветствовал, доложил, что княгиню Нинсэндэн довезли благополучно. Изумленный Батбаяр пригляделся внимательнее и узнал в ламе своего хана. «Зачем он переодевался? Может быть, на прием к богдо-гэгэну ходят только в таком одеянии?» Когда Содном и Батбаяр явились к хану, он был, как и прежде, в шелковом дэле, с длинной черной косой. Сидел, разложив перед собой сутры. Намнансурэн стал расспрашивать о том, как доехали, здоровы ли родные Нинсэндэн, что сказала ее мать и как себя чувствует сама княгиня.
— Весьма достойную женщину мы потеряли. Ну да что теперь говорить. — У хана вырвался вздох. — Но вы настоящие молодцы. Не оскорбили благородного человека жестокостью.
Содном-телохранитель согнулся в поклоне:
— Говоря откровенно, я поначалу был полон решимости выполнить приказ. Это вот Батбаяр… то ли пожалел, то ли поверил ей… А один, что я мог сделать? Вот и поступили, как она просила. Перевезли ее в монастырь.
— Да, слыхал я об этом. А этот парень ничего не сделает, не подумав. Тверд, но гибок. Видно, сам хлебнул горя. — Хан устремил на Батбаяра спокойный и в то же время строгий взгляд. — Глядя на него, не скажешь, что он служивый. Лицо деревенское, простаком прикинуться может, а дело до драки дойдет — спуску, похоже, не даст, — сказал хан и улыбнулся каким-то своим мыслям. — С завтрашнего дня будешь у меня коноводом. Найди подходящую трубку, сунь за голенище. Хорошо бы и петлю от укрюка к поясу прицепить. Будешь говорить, что ты ямщик с уртона Бухэг, — хан взглянул на настольные часы и обратился к Содному: — Объяснишь парню, как ему себя держать.
Радости Батбаяра не было границ. Еще бы, обратить на себя внимание самого хана. Такого умного и почитаемого народом! Удостоиться чести его сопровождать!
Вечером Содном привел Батбаяра к малому орго, сел рядом с ним на деревянный настил и стал объяснять, в чем состоят обязанности коновода.
— Наш господин приехал сюда будто бы лечиться у придворного лекаря богдо-гэгэна. На самом деле, чтобы тайно совещаться с нойонами по делу огромной государственной важности. Поэтому он то и дело переодевается, а иногда в совсем простой одежде ходит, как худонский. Или как лама. Ты должен держать его лошадь так, чтобы никто и не подумал, что это твой нойон. А если начнут приставать с расспросами или нападут на хана, бей без долгих разговоров. Здесь зевать нельзя. Это не то что в праздник с нойоном по гостям разъезжать. Надо быть все время начеку. Проедет ли мимо всадник, пройдет прохожий — замечай, не прячет ли он под полой обрез или нож, не высматривает ли чего. Следи за всем, что делается и впереди, и сзади. Привяжется кто-нибудь, кнутом огрей. Не отстанет — держи нож наготове. Мы тоже будем следить, но издали. Знаешь, почему? В министерстве амбаня разным отщепенцам, — есть среди них и монголы, и китайцы, — каждый день выдают по десять лан серебра и посылают шпионить за нойонами. Везде соглядатаи.
В это время хлопнула створка ворот и во двор вошел тучный лама. Сказав что-то привратнику, он направился прямо в ханское орго. Немного погодя вошел какой-то простолюдин в потрепанном дэле и тоже пошел в орго хана. Содном проводил их взглядом.
— Видел? Лама, тот, что пришел первым — гун Максаржав[41], за ним Хайсан[42]. Он харчин, вроде бы в поварах у Ханддоржа цинь-вана состоит. — Сказав это, Содном встал и уже шепотом добавил: — Мы с тобой должны следить за тем, чтобы никто не приближался к ханскому орго, не подслушивал.
Жизнь на улицах Да хурээ кипела до позднего вечера: крики, перебранки, пронзительный скрип телег, блеяние, ржание, мычание… Ничего подобного Батбаяр никогда не видел в Онгинском монастыре. Они с Содномом раз за разом обходили вокруг ханского орго. К полуночи огоньки стали постепенно гаснуть и город погрузился во тьму. В монастыре все крепко спали. Лишь собаки, не зная усталости, лаяли во всех концах города.
В темноте белоснежное орго хана походило на огромного задремавшего лебедя. Сквозь стыки решеток и половиц просачивался тусклый свет, и юноше вдруг показалось, что этот свет силится одолеть окутавшую мир тьму, но не может. Из юрты время от времени доносились голоса. Неожиданно раздался звон гонга. Содном бросился в орго, тут же примчался назад и побежал в трапезную. Принеся ведро с кумысом, отдал его Батбаяру.
— Отнеси кумыс и разлей по чашкам!
В юрте при свете китайской сальной свечи сидели друг против друга трое усталых мужчин и негромко переговаривались.
Смуглый, горбоносый мужчина в ламском дэле посмотрел на Батбаяра и указал на чашки из дешевого толстого фарфора, стоявшие на столе:
— Лей сюда. Если придется воевать, потребуются скорострельные винтовки, пулеметы. Русские хотят с нами сблизиться и маньчжурам оружия не дадут! Но протянут ли они руку помощи нам?
Он залпом осушил чашку и снова подставил.
— Лей полнее.
— Не знаю, — ответил узкоглазый лысый мужчина с седой бородкой. Вряд ли русский царь согласится поставлять оружие обеим сторонам, ведь он понимает, что, влезая в драку между нами, он и свой дэл может основательно изорвать. Опасно на него полагаться. А что делать, если они договорятся о совместной оккупации?
— М-да, тут есть над чем подумать. Такой поворот событий возможен, и мы не вправе упускать его из виду. Если придется сражаться, никто из нас не отступит. Но как выбраться из этого тупика, — сказал Намнансурэн и яростно потер лоб.
Батбаяр разлил остатки кумыса. Дальше оставаться было незачем, и он вышел из орго.
Два дня ждал Батбаяр, готовый в любой момент вскочить в седло и сопровождать хана в его поездке по городу. Но Намнансурэн как будто и не собирался никуда ехать. В легком шелковом торцоке и дэле, наброшенном на плечи, он в глубокой задумчивости бродил дни напролет по двору, словно мальчишка, гонял своим бархатным тапочком камешки и что-то напевал. Или лежал в орго, уставившись на тоно юрты и никак не реагировал на входивших; перестал шутить и даже разговаривать. «Как быть? На что решиться? Встать во главе своих хошунов на борьбу за освобождение от маньчжурского ига, попытать счастья или бросить все на произвол судьбы? Пусть идет своим чередом?» Мысли ворочались в голове огромными жерновами, жгли раскаленным железом, жалили, словно гадюки, и некуда было от них деваться. Надо на что-то решиться. Намнансурэн побледнел и тяжело дышал, словно пловец, попавший в водоворот.
Два дня вокруг орго стояла тишина, даже самые близкие хану люди не осмеливались нарушать его покоя. А на утро третьего дня во дворе появились три лошади, заседланные старыми потертыми седлами, какие бывают у бедных аратов — овцеводов. Кони рыли копытами землю, горячились, словно были выстояны для скачек. К малому полудню из орго вышел хан. Был он в войлочном торцоке, надвинутом на лоб, и коричневом хлопчатобумажном тэрлике с протертыми локтями. Но даже эта простая поношенная одежда не могла изменить его благородного облика.
— Сейчас поедем в падь Нухэт, это на северо-западе горы Богдо-уул, — сказал Батбаяру один из телохранителей. — Я поскачу вперед. Следуйте за мной на расстоянии, но из виду не теряйте. Группой ехать нельзя — можем привлечь внимание.
Телохранитель вскочил на коня и выехал со двора, Намнансурэн и Батбаяр приторочили к седлам суконные дождевики, засунули за пояс ременные кнуты и двинулись следом. Батбаяру было не по себе оттого, что он едет плечом к плечу с господином, будто с равным.
— Поезжай по правую руку от меня и держись как ни в чем не бывало. Ни на кого не смотри, сохраняй равнодушный вид, будто мы с тобой ведем разговор о лошадях, — напомнил, выезжая со двора, хан.
Выехав из города, они поскакали на запад и, лишь когда городские окраины скрылись из виду, переправились через реку Толу и погнали коней к возвышавшемуся на юге хребту. В дороге Намнансурэн расспрашивал юношу о родных местах, как живут и что говорят орхонские араты, в чем нуждаются, как относятся к Аюуру бойде и сомонному занги, поинтересовался, есть ли жена у Батбаяра.
— А ты, я смотрю, парень не промах. Молоко на губах не обсохло, а уже успел жениться. Скучаешь по жене? Снится небось по ночам? — смеялся хан.
Батбаяр смутился. «Хан, а в разговоре прост, да еще, оказывается, и балагур почище нашего Соднома», — думал юноша, смущенно ерзая в седле.
— Вообще-то жениться рано — это неплохо. Серьезнее, степеннее становишься, привязанность появляется к дому, забота о хозяйстве. Но ведь от жены ни на шаг не уйдешь, сидишь, как привязанный, сторожишь свой угол, а жизнь мимо проходит… «Лиса хороша, пока ее не убил; девушка хороша, пока ее в жены не взял». Знаешь, наверное, такую пословицу? Быть главой семьи — дело нелегкое. Согласен? — спросил Намнансурэн.
— Ваш слуга внимает каждому слову.
— Только смотри, жену наряжай, а о матери не забывай. Нет большего позора для мужчины, чем бросить мать.
— Как можно, господин! О матери и о жене заботится Дашдамба-гуай, оберегает их.
— Твой тесть, что ли? Это он, видно, тебя уму-разуму учил, — заметил нойон.
Подозрительных по дороге в падь не встретилось, они поднялись вверх по склону горы и подъехали к опушке леса.
— Спокойно ли добрались? — спросил поджидавший их телохранитель. — Кто-то из нойонов уже прибыл. Свежие следы коней видел, — доложил он хану. — Я здесь останусь, посмотрю, что да как, а ты, как привяжешь коней, от господина ни на шаг. Соберутся ханы всех четырех халхаских аймаков[43], так что будь осторожен. Всякое может случиться. С господина глаз не спускай, — наставлял телохранитель Батбаяра.
Тропинка вилась вверх по длинной пади, меж густыми зарослями и отвесной скалистой стеной. Ехали долго, пока Намнансурэн не заметил на одной из скал полустершийся знак, — лошадиную голову.
— Место сбора здесь, — сказал он и повернул коня к лесу.
На опушке, заросшей густым молодым подлеском, в куще зеленых кедров, сидели двое мужчин подле своих лошадей. Намнансурэн спешился, отдал повод Батбаяру и, подойдя к мужчине, который в своем старом желтом дэле походил на ламу, но держал в зубах трубку из дорогого камня, поклонился.
— Давно ли ждете, уважаемый хан?
Вскоре по тропинке проехали парами еще четыре всадника. Намнансурэн вместе с ламой, курившим трубку, встретил их поклонами. Нетрудно было заметить, что все особенно почтительны к тушэту-хану, пожилому человеку с темным, чуть тронутым оспой лицом. Одет он был в старый дэл, в руках держал кнут и походил скорее на чабана.
«Так это и есть наши ханы, слава о которых гремит по всей Халхе? — подумал юноша. — Они ничем не отличаются от обычных, забитых нуждой аратов; даже встретиться друг с другом открыто не смеют. Да и в осанке никакого величия нет».
Когда ханы расселись у подножия огромного кедра и приближенный тушэту-хана разлил по чашам кумыс, Намнансурэн встал, вынул из-за пазухи хадак и, развернув его, поднял на вытянутых руках.
— Великие, многоуважаемые ханы! Этот ерол я провозглашаю во славу того пира, на который мы соберемся в час, когда вся полнота власти перейдет в наши руки и станем мы истинными хозяевами своей страны. За то, чтобы вы, покрытые неувядаемой славой, умудренные опытом величайшие и знатнейшие мужи наши, свой разум, несокрушимую мощь, неистощимое мужество и терпение свое воссоединили ради этого великого свершения.
Ханы встали.
— Да сбудется это прекрасное благопожелание! — торжественно провозгласили они.
— Хоть мы и не хозяева в своем собственном доме и не можем воспользоваться правом приглашать и ездить друг к другу в гости, а вынуждены прятаться по лесам, словно беглые преступники, но погода сегодня славная, а это значит, что задуманное нами дело благословило само небо и нас ждет успех, — сказал тушэту-хан.
— Право распоряжаться в этой, пожалованной нам всемогущим Небом стране принадлежит только нам, — торопливо, не желая отставать от остальных, заявил цэцэн-хан.
— Я полностью согласен с вашими пожеланиями, великие ханы. Мы должны выразить нашу глубочайшую признательность сайн-нойон-хану за то, что он изыскал возможность устроить эту встречу и собрал нас здесь, — сказал дзасакту-хан.
— Это верно, — склонили в знак согласия головы ханы.
«Оказывается, это наш господин придумал собрать их здесь», — с гордостью подумал стоявший неподалеку за деревом Батбаяр.
— Нет больше сил терпеть. Поборам конца не видно. И подати, и долги, и штрафы, и налоги на содержание уртонных ямов, в пользу маньчжурского хана… А у нас даже нет права иски и жалобы разбирать, — возмущались ханы.
— У меня в аймаке, по указу амбаня, отрезали лучшие выпасы под посев зерна. Араты за голову хватаются, а я молчу. Что тут скажешь, — помрачнев, жаловался дзасакту-хан.
— До чего доходит подозрительность китайских властей. Отправил я в Маймачэн[44] своих людей, чтобы купили у русских купцов для жены материю на дэлы, — так маньчжурские таможенные солдаты раздели их догола, а мне потом прислали бумагу о том, что учинили им обыск и что все торговые сделки непременно нужно регистрировать в таможне. Чего уж там говорить о жалобах аратов, — сказал цэцэн-хан.
Зашла речь об отделении от маньчжурской империи и создании своего монгольского государства. Ханы спорили, временами весело смеялись; договорились в случае войны обращаться за оружием к России и Японии, а пока собирать войска. В Россию отправить посла, в министерство внешних сношений ноту маньчжурам и созвать съезд монгольских владетельных князей, но главное — немедленно выслать из Да хурээ амбаня — внешне очень любезного, который наводнил всю страну соглядатаями, готовыми при первом же удобном случае воткнуть нож в спину.
— Ханы мои, — сказал, поднимаясь, Намнансурэн. — Я, как и вы, чрезвычайно рад, что наши мнения сходятся по всем вопросам. Но наше великое дело обречено на неудачу, если кто-то один его не возглавит. Не только в стране, даже в аиле, чтобы он процветал, должен быть один хозяин.
— Правильно! Поэтому прежде всего надо выбрать главу государства, — подал голос цэцэн-хан.
— Да будет так! В монархиях во главе государства стоят императоры и короли, в некоторых развитых странах — республиках, провозглашенный волею большинства президент. Но может быть, нам, согласно давним традициям, возвести на престол наиболее почитаемого хана? — предложил Намнансурэн.
Ханы закивали головами в знак согласия и погрузились в раздумье…
— В Халхе нас, ханов, четверо, значит, кто-то из нас и должен занять престол, — прервал тягостное молчание цэцэн-хан.
— Согласен, но при одном условии, — заявил дзасакту-хан. — Традицию придется нарушить. Время трудное, решается вопрос, быть или не быть монгольскому государству. — Дзасакту-хан вытер рукавом пот и, закурив трубку, продолжал: — Я, ничтожный, думаю, что мы должны избрать самого родовитого и почитаемого человека, угодного небу и всем нам, наделенного мудростью и хладнокровием дальновидного политика, способного возглавить сие чрезвычайно сложное дело. Таков тушэту-хан. Однако бремя власти для него, учитывая преклонный возраст и слабое здоровье, может оказаться непосильным, он, я полагаю, и сам так думает. Если бы мне, к примеру, предложили занять престол, я счел бы это шуткой. — Голос дзасакту-хана набирал силу, звенел: — Каждому ясно, что главой государства должен стать человек молодой, энергичный, обладающий острым умом и дипломатическими способностями, а если наступит грозный час — мужественный и решительный. Так почему бы нам не возвести на престол сайн-нойон-хана Намнансурэна?
Ханы помрачнели, призадумались. Склонили головы.
— Я преклоняюсь перед вашей мудростью.
— Сайн-нойон-хан удачлив. Может быть, так и поступим?
— Согласен с вами, уважаемые ханы. Далай-лама весьма благосклонно относится к Намнансурэну.
«Наш господин будет великим ханом», — ликовал в душе Батбаяр, не сводя глаз с Намнансурэна. А Намнансурэн порозовел, устремил взгляд на отвесные скалы горных вершин и негромко сказал:
— Уважаемые ханы! Простите меня, ничтожного. Я тронут и весьма польщен предложением дзасакту-хана, но привык трезво оценивать свои возможности и потому должен его отклонить. Поверьте, я не лицемерю, подобно маньчжурским нойонам, когда, отказываясь, они радуются в душе и молят небо, чтобы их отказ не был принят…
— Намнансурэн, ты не смеешь так говорить, — оборвал его дзасакту-хан. Цэцэн-хан повертел в руках драгоценную табакерку, отправил в нос щепоть табаку и улыбнулся.
— Уважаемый Намнансурэн! Вы, кажется, не сказали, что трон для вас высоковат, а сетуете, что шапка великого хана — чересчур тяжела. Но этим вы просто пытаетесь обезопасить себя на крайний случай. Не будет по-вашему.
— Извольте выслушать меня, уважаемые ханы. Дело тут не во мне. Каждый из нас может занять ханский престол, но не ошибусь, если скажу, что через некоторое время вам станет неугоден любой, кто его занял. Время сейчас и в самом деле напряженное, иначе зачем мы избрали бы местом встречи лесную чащу. Но кто может поручиться за то, что не будет еще труднее, что пожар войны не коснется наших юрт.
Ханы задумчиво внимали негромкому, спокойному голосу Намнансурэна.
— Предположим, вы провозгласите меня великим ханом. Уверены ли вы, что среди ваших подданных — владетельных нойонов — не найдется недовольных? Из летописи нашего государства можно извлечь немало поучительных уроков. Многие ханы, пытаясь возвыситься друг над другом, захватить как можно больше подданных и пользоваться неограниченной властью, враждовали между собой и легко становились добычей для тигра. Кончалось это тем, что они преклоняли колена перед небесно-голубыми драконами на императорских стягах. Представляю, как радовались маньчжуры при каждой новой распре наших предков. И к чему мы пришли? Стая шакалов превратила нашу страну в свое логово — шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на них!
Ханы слушали Намнансурэна, попыхивали трубками и все больше мрачнели.
— Уважаемые ханы! Прошу снисхождения за то, что утомил вас своими речами. Итак, необходимо избрать главой государства человека, за которым в этот трудный час пойдут все: нойоны и крепостные, ламы и миряне, богатые и бедные. Полагаю, что в настоящее время такого человека среди нас нет… Но почему бы не провозгласить великим ханом всеми почитаемого главу нашей религии — богдо-гэгэна? Правда, Джебзундамба — человек без роду без племени и даже не монгол, но сделали же мы его святым хутухтой за свои собственные деньги!
— Богдо пользуется непререкаемым авторитетом, перед ним преклоняются все, поэтому указы его будут выполнять беспрекословно. А государственные дела мы будем вершить сами. Заверяю вас, что я, ничтожный раб, не пожалею сил своих ради нашего общего дела. Располагайте мною, как вам угодно. Я никогда не откажусь от пребывания под сенью вашей милости, — сказал Намнансурэн, смежил веки и, не поднимаясь с земли, согнулся в поклоне.
— Действительно, это ли не самая разумная мысль! — вскричал все время молчавший тушэту-хан и расплылся в улыбке, явно довольный отказом Намнансурэна занять ханский престол.
— Намнансурэн на хитрости горазд, из любого положения найдет выход, — буркнул дзасакту-хан.
— Вообще-то Джебзундамба не может возглавить государство, он всего лишь глава религии. И особым умом не отличается.
— Ваши слова справедливы, ханы мои. Этот человек действительно ничего не смыслит в государственных делах. Его возвышением немедленно воспользуются ламы, начиная с драгоценного шанзотбы[45], сами станут ханами и постараются оттеснить нас, ратуя за сосредоточение всей государственной власти в руках ламства, как в Тибете. Пока что у нас нет способа это предотвратить. Но главное в другом: богдо — доверенное лицо маньчжурского императора, и монгольский народ знает об этом. И если богдо, вместо того, чтобы проводить политику завоевателей, возглавит движение за отделение от них, разве не получит наше дело самую широкую поддержку как внутри страны, так и за ее пределами? Став великим ханом, богдо уже не решится заигрывать, а тем более вступать в сговор с людьми, пренебрегающими национальными интересами, проклинать нас — нойонов — и преследовать тех, кто поднялся на борьбу за освобождение своей страны. От этого нашему делу будет великая польза, — спокойно, стараясь не выдать волнения, сказал Намнансурэн.
— Но согласится ли сам богдо-гэгэн отречься от завоевателей и вступить на ханский престол? — спросил дзасакту-хан.
Намнансурэн улыбнулся:
— Я не раз бывал на аудиенциях у богдо, испытывал его. Были мы у него на приеме вместе с цинь-ваном Ханддоржем, многое обсуждали. Богдо сказал, что за борьбу монгольского народа он будет молиться с особым удовольствием. Но я, ничтожный, не мог дерзнуть предложить ему престол великого хана. Кстати, наш богдо мечтает о жене. А если она будет еще и молода, то и вовсе…
Ханы захохотали.
— Судя по всему, сайн-нойон-хан все хорошенько обдумал и учел даже то, что, скажем, мне и в голову не пришло бы, — сказал дзасакту-хан и закурил трубку. — Я уже готов внимать каждому слову Намнансурэна.
— Я полностью разделяю ваше мнение, — промолвил цэцэн-хан Наваннэрэн, вертя в руках табакерку. — Раз тушэту-хан благосклонно относится к избранию богдо великим ханом, может быть, перейдем к обсуждению других вопросов?
Намнансурэн вынул из-за пазухи свиток.
— Ханы мои! По этому делу мы уже приняли решение. Соизвольте простить меня. Это подлинник прошения русскому царю с просьбой оказать поддержку, которое мы подпишем, соединяя наши помыслы и стремления. Его составили, выражая наши чаяния, Ханддорж и Хайсан, — пояснил Намнансурэн и, развернув список, начал читать. Батбаяр, подняв кедровую ветку, обмахивал своего господина, отгоняя зеленоголовых слепней и шмелей. Из прочитанного он усвоил две вещи: пользуясь своей властью, китайские чиновники попирают законы и обычаи, внося смуту и беспорядок в государственные дела. Ссылаясь на так называемый новый курс политики[46], они объявили о начале смешения рас — монголов и китайцев, — что нанесет большой вред. Ханы, просматривая послание, передавали его из рук в руки, но больше не препирались, лишь высказывали отдельные замечания.
— Если об этом узнает амбань Саньдо, не сносить нам наших седых голов. Вызовут срочно в Пекин, а там… Вы люди богатые, может, и откупитесь. Мне же придется сложить голову у подножия башни из синего кирпича, — усмехнулся один из ханов.
— Но разве не ваша семья заказывает уже третий таган. А это значит, что ваши отары уже трижды превысили тумэн, — возразил другой. Намнансурэн решил вмешаться.
— Ханы мои! Лучше воздержаться от подобных разговоров — они не приведут к добру. Такие пререкания свойственны людям беспомощным, неразумным, недостойным.
Один из телохранителей, обмахивавших нойонов, едва не прыснул со смеху. Тут оба хана замолчали, насупились.
— Опасения ваши излишни, ханы мои. Внутренний разброд, ослабление агрессивности и высокомерия — признак того, что когти голубого императорского дракона притупились. Владыка Поднебесной уже не сможет теперь повезти вас в Пекин в железных клетках, как поступил он некогда с ваном Чингунжавом[47] и его семьей, — добавил Намнансурэн, чтобы успокоить ханов.
Те без долгих разговоров подписали прошение, и Батбаяр, приглядевшись, сумел разглядеть имена: «Дашням, Наваннэрэн, Содномрабдан, Намнансурэн».
— Ну что же, нам остается лишь пожелать счастливого пути цинь-вану Ханддоржу, который доставит наше послание по назначению. Человек он умный, ради дела жизни не пожалеет, а потому, надеюсь, вернется с добрыми вестями. Верю, мы получим поддержку великой державы. И войско. И оружие! — сказал Намнансурэн, не скрывая радостного возбуждения.
— Да сбудутся ваши добрые пожелания. Помолимся же, — промолвил тушэту-хан.
— Позвольте мне поклониться вам в знак верности делу. Все, о чем мы договорились, я буду выполнять неотступно, — сказал Намнансурэн и, не поднимаясь с земли, поклонился.
Ханы склонились все как один, едва не стукнувшись головами. Батбаяр, глядя на них, с трудом удержался от смеха. Дзасакту-хан кланялся, приговаривая:
— Наш сайн-нойон-хан наверняка сделает все как надо.
Зашло солнце, с гор пали тени; нойоны, пожелав друг другу удачи, разъехались. Батбаяр скакал вниз по распадку следом за своим нойоном. Хан был возбужден и весел.
— Что, Жаворонок, проголодался? — спросил он, обернувшись к Батбаяру. — Хотя ты, видно, из тех молодцов, которым поголодать день ничего не стоит. Слышал, о чем говорили сегодня? По душе ли пришлось?
Батбаяр улыбнулся:
— Один из ханов — тот, что похож на ламу и все время то нюхал табак, то курил трубку, видно, очень устал под конец. Только поддакивал другим.
Намнансурэн захохотал.
— Тушэту-хан, что ли? Это ты верно подметил. Он давно не утруждает себя делами и лишь бездумно поддакивает другим. А еще считает себя большим халхаским ханом! Грустно все это, — вздохнул Намнансурэн. «Спросить или не стоит», — подумал Батбаяр и, набравшись смелости, окликнул хана.
— Мой господин! Почему вы отказались стать великим ханом?
— А тебе этого очень хотелось? Но так ли уж хорошо быть великим ханом? — спросил Намнансурэн, глядя Батбаяру в глаза.
— Так ведь не сами же вы просили об этом. Разве для пользы дела не следовало встать во главе государства вам?
— А ты, оказывается, тщеславен. Впрочем, нет, скорее простодушен. Править государством — это не для меня, человека мало сведущего и бесхитростного. Да и хитростью немного добьешься. Тут нужен человек, душой болеющий за свой народ. Когда бы все решалось сообща, то и победы были бы полнее, и ошибки не так страшны. Только не бывает такого на свете, — задумчиво глядя вдаль, ответил Намнансурэн и, тяжело вздохнув, хлестнул коня плеткой.
Они выехали к берегу Толы. На зеленых лужайках тут и там позвякивали уздечками привязанные к длинным, натянутым меж столбами веревкам жеребята торговца кумысом. Над рекой разносился гомон турпанов.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ В КОЧЕВЬЕ ПРЕЖНЕГО ХОЗЯИНА
Однажды осенним утром, когда землю посеребрил иней, на подворье сайн-нойон-хана появился китайский чиновник в черной шелковой шапочке и черном хурэмте в сопровождении солдата — китайца с желтыми нашивками на плечах и длинной саблей. Заметив стоявшего у ворот Батбаяра, китаец потребовал немедленно проводить его к хану. Батбаяр отправил Соднома докладывать о приходе посланца амбаня, а сам остался при госте. Тот воровато осматривал подворье, притворно улыбаясь, заглядывал в глаза и льстиво раскланивался с проходившими мимо, стараясь не выдать кипевшего в нем презрения и злобы. Хан не принял нойона, велел передать, что болен, недавно выпил лекарство и потому не может подняться с постели, о чем искренне сожалеет и просит соблаговолить посланца простить ему нарушение этикета. Затем Намнансурэн разослал гонцов с поручением пригласить к нему на вечер двух-трех человек, с которыми и проговорил всю ночь. Орго еще не утепляли, и Батбаяр время от времени заносил в юрту дрова, топил печь и поневоле слышал обрывки разговора.
— Амбань Саньдо потребовал сдать все винтовки из казны богдо-гэгэна. Говорят, что об оружии ему донес драгоценный шанзотба Билэг-Очир. Он же сообщил ему о том, что Ханддорж пересек северную границу[48]. Когда амбань потребовал его вернуть, Билэг-Очир ответил, что посылал вана не он, а богдо и Намнансурэн, — хотят просить у русского царя оружия и солдат. Выболтал все, что знал, лишь бы войти в доверие к амбаню.
«Посмотреть бы на этого ламу, — подумал Батбаяр. — Слишком длинный у него язык».
На следующее утро юноша зашел в малое орго выпить кумыса. Дверь юрты осталась открытой, и он увидел, как во двор вкатил конный экипаж, и из него вышел приезжавший накануне китайский нойон. Он попросил передать хану, что наместник Поднебесной империи приглашает его срочно прибыть для дружеской беседы. Если хану нездоровится, то экипаж к его услугам. Намнансурэн принял приглашение, но к посланнику амбаня выходить не стал, а приказал передать ответ:
— Я болен, лежу в постели. Но если у дражайшего амбаня появилось ко мне важное и неотложное дело, я превозмогу страдания и сегодня же после полудня прибуду к нему в собственной коляске.
После отъезда маньчжурского посла Розовый нойон созвал в свое орго всех телохранителей.
— Время проявлять свое пренебрежение еще не наступило, а потому я еду к амбаню. Недалек тот час, когда амбань Саньдо покажет нам свой загривок. Но недаром говорится: любой пустяк может привести к роковой ошибке. Если этот маньчжурский нойон чувствует свою силу и изволит гневаться, что ж, я паду ему в ноги. Если же начнет задабривать, значит, чувствует собственную слабость, тогда я немедля уеду. Со мной пусть поедет побольше людей! Как приедем, друг от друга далеко не отходить. Скорее всего, он не станет меня задерживать. Но надо показать амбаню не только наше величие, но дать понять, что мы не побоимся померяться с ним силами. Меня будет сопровождать гун Максаржав. Как с нами обойдется амбань, так и мы с ним. Будет доброжелателен — хорошо, недружелюбен — мы ответим тем же.
К полудню прибыл горбоносый военный чиновник — гун Максаржав, частенько наезжавший во дворец хана, и Намнансурэн вместе с ним в сопровождении десятка телохранителей отправился к амбаню.
Подъехав к дому с двумя круглыми фонарями над дверью и деревянными решетками на окнах, все спешились. В прихожей их поклонами встретил китайский нойон с косой, в черном хурэмте, надетом поверх светло-серого дэла.
— Великий нойон, пожалуйте вместе с гуном в апартаменты амбаня! Свита же пусть пройдет в эту комнату, — сказал он, указывая на две разные двери. Ясно было, что амбань заранее подготовился на случай, если сайн-нойон-хан явится не один. Батбаяр, получивший приказ не оставлять господина ни при каких обстоятельствах, и второй телохранитель вслед за князьями вошли в апартаменты амбаня и встали по обе стороны двери.
Китайский амбань — черноусый пожилой мужчина в черном хурэмте — поднялся навстречу хану и, поклонившись, пригласил садиться. Он был сама любезность.
— Весьма озабочен вашей долгой болезнью, великий нойон. Рекомендую вам съездить в Пекин, подлечиться. Если соизволите, я сочту своим долгом помочь вам, — сказал амбань, и, пока переводчик переводил, его хитрые глазки перебегали с Намнансурэна на Максаржава, а сам он приторно улыбался, стараясь выказать свое расположение. Батбаяр, прислонившись спиной к широкой створке выкрашенной киноварью двери, стоял не шелохнувшись. Он вслушивался в негромкую, вкрадчивую речь амбаня, смотрел на его гладкий лоб и думал: «Ну и лукав, бестия. Ретивый… Дело свое знает…»
Амбань сложил ладони, поклонился хану и, прикурив китайскую пахитоску с золоченым мундштуком, заговорил.
— Великий нойон, разрешите, в знак уважения, предложить вам скромное угощение. — Он кивнул стоявшему рядом телохранителю, и тут же в комнату вошли слуги в черных и белых одеждах, внесли кушанья, вина и расставили их на столе. Глядя на нойонов, которые поддевали палочками кушанья и поднимали фарфоровые чашечки, можно было подумать, что за столом собрались близкие друзья. Амбань подливал и подливал в рюмки вино, но сайн-нойон-хан, поднеся рюмку к губам, ставил ее обратно, зато гун Максаржав опрокидывал в рот одну за другой, словно хотел сказать: «Я пью вместо вас».
«Говорят, у китайцев есть пословица: «Кто угощает — тот человек, кто ест все подряд — свинья». Наш хан, видно, помнит эти слова», — думал Батбаяр.
— Время сейчас мирное. В Срединном государстве все спокойно[49]. И мне очень приятно посидеть вот так, по-дружески, вместе с монгольскими нойонами, — заговорил амбань, заполняя паузу между сменой блюд.
— А говорят, будто в Нанкине волнения, хотят новую власть установить. Не возьмет ли великий амбань на себя труд разъяснить, как обстоят там дела? — неожиданно спросил Розовый нойон, дав тем самым понять, что не так уж в Китае спокойно и что он знает об этом.
Изобразив безмятежность на лице, амбань так и впился в Намнансурэна глазами, в которых был вопрос: «Кто мог тебе это сказать? Ведь нет же у тебя в Нанкине ни глаз, ни ушей». Тем не менее он как ни в чем не бывало ответил:
— Великий нойон, вас ввели в заблуждение. Власть императора Поднебесной крепка как железо и свергнуть ее невозможно не только в Срединном царстве, но и на его дальних окраинах. Великая держава прочна как никогда!
Амбань затянулся, выпустил колечко дыма и раздраженно хохотнул:
— Бывает, что невесть откуда взявшиеся нелепые слухи, недостойные внимания почтенных, мудрых людей, вводят этих людей в заблуждение. Мне не хотелось бы, чтобы близкие мои друзья были столь легковерны. Это пожелание любящего друга своим чистым помыслами соратникам.
Амбань рассмеялся и налил в рюмки вина.
— Вам почему-то не нравится вино, изготовленное в Пекине? Уж не кажется ли оно вам горьким? — спросил амбань у Намнансурэна.
— Дело не в том, что мне не по вкусу прекрасные столичные яства. Соблаговолите извинить меня за нарушение этикета, великий министр, но я нездоров, а кроме того, вина не пью вовсе.
После трапезы амбань Саньдо пытался оживить беседу, рассказал несколько веселых историй, но, заметив, что Намнансурэн, не теряя спокойствия и присущего ему величия, стремится завершить встречу, не давая ни малейшего повода к подозрениям, решил обострить разговор.
— Прошу прощения, великий нойон, но я хотел бы обсудить с вами некоторые государственные вопросы. Не соблаговолите ли вы отпустить на время сопровождающих вас телохранителей — пусть и они подкрепятся немного.
Намнансурэн усмехнулся:
— Да простит меня, ничтожного, великий министр, но, как говорится, две головы лучше одной, а три — лучше двух! Так не выслушать ли нам ваш указ всем вместе? Вы, может быть, собираетесь открыть какую-то тайну, но сейчас не время держать в тайне вопросы государственной политики. А потому я хотел бы пригласить сюда всю мою свиту, пусть все услышат ваш указ. Надеюсь, у вас нет никаких подозрений. Со мной лишь гун, два телохранителя да дзасаки моего аймака, — надменно ответил Намнансурэн.
«Наш господин знает, когда нужно быть приветливым и веселым, а когда суровым и непреклонным. Видно, пришло время сбить спесь с этого китайского амбаня», — подумал Батбаяр и приосанился. Гун Максаржав раскурил трубку и благодушно пускал дым под потолок.
— Великий нойон, если вы считаете это удобным, то мне и подавно нечего скрывать от ваших сопровождающих. Хотелось бы уточнить лишь один вопрос, — заюлил, оправдываясь, амбань и, помолчав немного, сказал:
— По распоряжению великих ханов, в том числе и вашему, военачальник Тушэтуханского аймака цинь-ван Ханддорж отправился в русскую столицу — город Петербург. Не затруднит ли вас, великий нойон, разъяснить мне, как это произошло? — спросил амбань, не сводя припухших глаз с Намнансурэна.
На лице хана не дрогнул ни единый мускул, и он весело рассмеялся:
— Вас, как и меня, ввели в заблуждение ложные слухи. Вы уж извините меня, но я, право, не знаю, куда и зачем отправился Ханддорж.
— До сего дня я полагал, что вы, нойоны, понимаете всю меру ответственности перед императором Поднебесной и обо всем мне расскажете. Ван Ханддорж, с подписанным вами посланием поехал к русскому царю для установления контактов, я это точно знаю.
— Великий министр! Не вы ли только что поучали меня, что ложные слухи появляются невесть откуда. Однако эта ложь совсем иного свойства, и ее источник известен. Драгоценный шанзотба недавно рассказал мне, что, подавленный вашим величием, он, оставшись с вами с глазу на глаз, сообщил им же самим выдуманные сведения. Очень жаль, что, пытаясь снискать ваше доверие, он побудил вас, великий министр, гнаться за призраком к столь далеким от нас берегам Балтийского моря, — промолвил Намнансурэн. Максаржав, удовлетворенно посмеиваясь, добавил:
— Воистину, за призраком погнались, великий министр, и, говоря вашими же словами, может случиться, что вам самому придется держать ответ перед владыкой Поднебесной.
От долгого стояния у Батбаяра затекли ноги, но он не чувствовал этого. Юноша знал, что его господин всю осень не виделся с шанзотбой и придумал эту историю, чтобы лишить его доверия амбаня, столкнуть их между собой. Было и смешно и горько. «До чего же грязное дело — политика, если даже такой прямой и честный человек, как наш хан, вынужден лгать. Недаром Дашдамба-гуай говорил: «Не верь тому, что видят твои глаза».
Амбань подал знак, и в комнату внесли чай.
— Так где же сейчас цинь-ван Ханддорж? — спросил он.
— Великий министр! Я не дерзну сказать, что вы становитесь чересчур подозрительным, но у меня, вашего преданного слуги, появилось желание доложить о вашем рвении самому императору, когда он осчастливит меня аудиенцией, — с издевкой произнес Намнансурэн и улыбнулся: — К сожалению, я не знаю, где сейчас Ханддорж. Слышал от кого-то недавно, что он заболел и вернулся в родные края. Можно ли этому верить — не знаю. Теперь многие, да тот же шанзотба да-лама, часто лгут. Возможно, цинь-ван и в самом деле отправился в Санкт-Петербург, но просто так, поразвлечься? Или уехал подлечиться на горячие источники Булная или Хятру. Не исключено, что он охотится и пьет кумыс в долине реки Тамчи или в горах Пяти богдо на Алтае. Откуда мне ничтожному и больному, об этом знать?
— Ай-яй-яй! Всегда-то вы шутите. Всегда поступаете мне наперекор. Но где уж мне, глупцу, тягаться с таким умным нойоном, как вы. Тяжело мне, — засмеялся амбань, качая головой.
— Великий министр! — промолвил хан. — Судите сами. Цинь-ван — владетельный нойон и волен поступать как ему вздумается! Сам способен решать столь важные вопросы и не станет спрашивать совета у такого невежды, как я.
«Хан хочет сказать: мы люди вольные и изберем свой путь без ваших подсказок», — подумал Батбаяр.
— Тогда, может быть, вы соизволите объяснить мне другое. Почему из России в Да хурээ прибывают войска?[50]
— Откуда мне знать об этом, ничтожному? Возможно, русский консул счел необходимым вызвать войска для своей охраны так же, как это сделали вы? У нас ведь никто не спрашивает. Известно это вам — наместнику империи. Нам, вашим слугам, не дано счастья знать о делах великого министра, представляющего власть императора. Мы не только лишены права вести переговоры с великой державой по военным вопросам. Вашими заботами мы лишены даже права купить материю на дэл в русской торговой фирме. Не так ли, мой великий министр? — дерзко сказал Намнансурэн, а Максаржав, кивнув головой, добавил:
— Великому министру, вероятно, докладывали, как, согласно его указу, был арестован один из моих адъютантов. Я посылал его в Маймачэн купить кое-что у русских, а его задержали, обыскали ваши таможенники. Дело кончилось тем, что наложили на него штраф в девять голов скота.
Амбань Саньдо бросил на Максаржава недовольный взгляд, словно хотел сказать: «Не с тобой разговаривают», и натянуто улыбнулся.
— Я, амбань, не знаю монгольских обычаев и, возможно, утомил вас, уважаемые нойоны. Если у вас есть какие-либо пожелания, я, ничтожный, буду рад довести их до сведения императора Поднебесной.
«А маньчжурский амбань очень недоволен, что из России прибывают войска», — подумал Батбаяр.
— У меня пока нет никаких пожеланий, — гордо вскинув голову, ответил Намнансурэн.
Амбань Саньдо, видно, догадался, что нойон хотел сказать этим: «Кланяться и просить не станем».
— Тогда я, от имени великого императора, должен сказать вам следующее: цинь-вана Ханддоржа следует незамедлительно отозвать из Петербурга и передать мне вместе с посланием. В случае отказа, я доложу об этом императору, с тем, чтобы министерство внешних сношений договорилось с правительством русского царя об аресте Ханддоржа и препровождении его в Пекин. Полагаю, великие нойоны отдают себе отчет в том, что подобный оборот дела будет иметь для них самые тяжкие последствия, — сказал амбань и поднялся. Поднялся и Намнансурэн.
— Великий амбань, хочу еще раз напомнить, что вы заблуждаетесь. Я, ваш раб, только что вот с этого самого места заверял вас, что не только не могу отозвать столь любезного вашему сердцу цинь-вана, но даже понятия не имею о том, где он находится. Ваши соглядатаи усердны сверх меры, но и у них нет никаких доказательств, что ван имеет ко мне хоть малейшее касательство. Отозвать его вы, очевидно, сможете через шанзотбу да-ламу. Но раз вы, великий министр, сочли возможным поделиться со мной, ничтожным, своими великими заботами, то я, раб, вознося молитву к милости неба, представившего эту возможность, хотел бы довести до сведения императора Поднебесной свои пожелания: прекратите массовое переселение граждан китайской национальности на территорию Монголии, выделение им земель, используемых под пастбища, для распашки и посева зерновых, а также увеличение таможенных пошлин и налогов; не угоняйте людей в солдаты, на пограничные посты и на уртонные ямы, не отбирайте у них продовольствие; прекратите политику изоляции Монголии от внешнего мира. Отзовите из Да хурээ, Кобдо и Улясутая императорских наместников, тогда мы, монголы, преклоняясь перед милостью неба, будем поддерживать с вами дружеские отношения и, уважая оказываемую вами помощь, хранить мир. — Намнансурэн поклонился и вышел. Амбаня будто гром поразил: глаза его округлились, руки затряслись; он лишь смотрел ему вслед, даже не пытался задержать Намнансурэна.
На небе уже сияли звезды, в лицо дул свежий ветерок. Намнансурэн и Максаржав вскочили в седло и поскакали в обратный путь.
— Ну что, ничего не добился от нас амбань? — сказал Намнансурэн и с удовлетворением добавил: — Все получилось так, как мы и предполагали. Под конец, мой гун, я был резок. Не рановато ли? Но кажется мне, что амбань не может вызвать из Китая много войск.
— Он стал запугивать нас, — сказал Максаржав, — вот и получилось, как вы говорите: «На зло отвечают злом, на добро — добром». Амбань сейчас, наверное, мечется по дому, как безумный. Говорят, его аппарат для разговора по воздуху сломался. А тут еще нужно отправлять войска в Дорнодские степи против беженцев с юга[51].
Темные улицы Да хурээ словно вымерли, не унимались только собаки. Подъехав к берегу Сэлбэ, они услышали редкие удары колотушек — это сторожа обходили дворец богдо-гэгэна. Гун Максаржав и Намнансурэн едва слышно переговаривались:
— Зачем все же он пригласил нас?
— Уж не затем, конечно, чтобы с нашей помощью ловить цинь-вана Ханда. Не настолько он глуп. Нет, тут что-то другое.
— Но для чего ему понадобилось строить из себя заботливого, гостеприимного хозяина, а потом запугивать?
— Все это притворство. Чары свои на нас испытывал. Хитрость как будто и незатейливая, а могла подействовать. Простаком прикинулся, надеялся наши планы выведать.
— М-да. Нет сомнений, что у него была какая-то цель.
— А как вам кажется, гун, какая?
— Выяснять, уехал ли Ханддорж в Россию, ему не нужно. Сам знает. Может, хотел вас на крючок подцепить? Или запугать и удалить из Да хурээ?
— Возможно. Как бы то ни было, следовало дать понять Саньдо амбаню, что мы непоколебимы в достижении заветной цели. И этого мы, пожалуй, добились. А покинем ли мы Да хурээ… Скорее амбань уберется отсюда, — улыбнулся Намнансурэн и хлестнул коня.
Люди, прежде приезжавшие к Намнансурэну, с которыми он беседовал ночи напролет, теперь почти не показывались: видно, опасались соглядатаев амбаня, наблюдали за обстановкой и готовились. Хан вообще не выезжал из дома, только на прием во дворец к богдо.
В это время Батбаяр задумал съездить домой. Он бродил по базарам Хурээ, искал недорогую ткань для дэлов — в подарок Лхаме и матери — да кое-какую мелочь. Жалованье его — несколько цэнов серебра — почти полностью уходило на еду, и кошелек его был тощ. Видно, и другие телохранители немногим отличались от Батбаяра по достатку. Батбаяр слушал свист ветра, смотрел на пасмурное, сыплющее снежную крупу небо, вздыхал и думал: «У нас на Орхоне холодает рано. Сейчас, наверное, уже все покрыто снегом. Бедная моя матушка, верно, сама мерзнет, а все хлопочет возле чужого молодняка — не поморозился бы. Лхама молода и холод переносит легче. А Донров, наверное, только и думает о мести. Чем же он нам может навредить?» Разные догадки, одна страшнее другой, теснились в голове Батбаяра. Чем больше холодало, тем сильнее тянуло юношу домой. Но мечты редко сбываются. Ничто не говорило о том, что хан собирается распустить по домам своих телохранителей и свиту, и Батбаяру все чаще приходило на ум сказание о Гэсэре, которому на долгие годы пришлось забыть родной дом.
Но однажды в холодный, снежный день во двор вошел Хайсан — седоусый степенный мужчина с подслеповатыми глазами — и, не спрашивая разрешения, пошел прямо в ханское орго.
— Сколько месяцев не показывался и вдруг явился. С чего бы это? — спросил Батбаяр у Соднома, стоявшего в дверях покоев.
— Да, дела сейчас пойдут быстрее. Этот Хайсан тайно выезжал в Россию вместе с цинь-ваном Ханддоржем. Потом скрывался в горах Хубсугула, чтобы не попасть в руки маньчжурскому амбаню, а когда с севера прибыло оружие, вернулся в Да хурээ. Видал, как у него лицо обветрилось?
Хан приказал никого не впускать, и его разговор с Хайсаном остался для всех тайной. Чиновник задержался у хана ненадолго.
— Если этого седоусого изловить, как только он выйдет за ворота, и передать амбаню, то в награду дадут не меньше пятнадцати лан серебра, — пошутил Содном, глядя вслед уходящему чиновнику.
— Если великие нойоны, у которых целые хошуны крепостных, скот и в городе, и в худоне, грызутся между собой, напускают порчу, проклятия, то кто запретит поступать как заблагорассудится нам, недостойным простолюдинам с пустыми кошельками, кто нас осудит? Надо и нам хватать и пожирать друг друга, — откликнулся Батбаяр.
— Молчи! — ткнул его в бок Содном. Они перемигнулись и беззвучно рассмеялись, провожая глазами проходившего мимо пайтана.
Под вечер нойон ударил в барабанчик, собирая телохранителей, и разослал их с поручениями к разным людям, сам же, как только стемнело, вышел из орго и приказал везти его во дворец богдо. Никто не знал, то ли он едет пировать, то ли обсуждать какие-то важные дела. Намнансурэн пробыл во дворце несколько дней.
Почти все приближенные хана знали Батбаяра, вместе с ним развлекались и веселились, даже готовы были делить еду и питье, и все же из-за его бедности держали парня на расстоянии и не очень с ним откровенничали. Взгляды их выражали презрение, чего, мол, ты стоишь. У Батбаяра не было друга ближе, чем Содном. Содном служил у хана десять с лишним лет, водил знакомство со многими людьми и был в курсе всех событий. Содном никогда не важничал перед юношей, рассказывал все, что знал и слышал, а когда собирался в город к знакомым, непременно брал с собой Батбаяра.
— Да не кисни ты, Жаворонок. Что приуныл? По жене соскучился? Будь мужчиной! Такие крепкие молодцы у квелых девиц из Да хурээ — нарасхват.
Иногда Содном наказывал юноше: «Если что случится — разберись сам», и куда-то исчезал. Возвращался через несколько дней и с удовольствием рассказывал, где и у кого был, что ел и пил, с какой девушкой встретился. Все считали, и не без основания, что Содном себе на уме, он быстро сходился с людьми, умел найти с ними общий язык. Он познакомился с девушкой на возрасте, не сказать, чтобы красавица, зато фигурой не доска. Она жила вместе с матерью неподалеку от молитвенного барабана Дунжингарава, и теперь, как только выдавалось свободное время, Содном пропадал у нее. Нередко посещали знакомых и другие приближенные хана, прихватив с собой присланные из худона чай, арул, масло и молочные пенки. После многомесячного сидения на подворье хана, Батбаяру тоже хотелось сходить куда-нибудь, но знакомых в Да хурээ у него не было, заводить их он стеснялся и целыми днями слонялся вокруг орго. В это время стали все чаще появляться любопытные новости. Говорили, что Монголия выходит из состава Маньчжурского государства и будет государством самостоятельным. Что возможно объединение с южными хошунами, что будет мобилизация, война, что амбаню Саньдо вручили послание об его изгнании.
В один из дней, когда ледяной ветер обжигал лицо, Содном надел поверх подбитого мехом дэла хантаз и уехал сопровождать хана. Как только вернулся, зашел в малое орго и весело сказал телохранителям:
— Итак, свершилось. Из дворца богдо амбаню послали ультиматум с требованием убраться с нашей территории в течение трех суток вместе со своими чиновниками и солдатами. До чего же интересные события развертываются!
— Так ему и надо. Уж очень был кичлив, когда мы приезжали к нему осенью.
— Думаешь, он так просто уберется отсюда?
— Говорят, цинь-ван Ханддорж привез из России много оружия. Если амбань не уберется, мы его, черта зловредного, изловим и прикончим.
— Правильно. Говорят, гун Максаржав вызвал из худона войска и спрятал их где-то в горах Богдо-уул.
Поднялся шум, крик. Телохранители гурьбой вывалились из юрты и пошли выяснять достоверность сведений. Всех мучил один вопрос: что будет, если маньчжурский император пришлет свои войска. Содном и Батбаяр остались одни.
— Нет, наши нойоны… Просто смех… — прошептал Содном.
— А что случилось?
— Заседали они сегодня вместе с высшими ламами. А как стали решать, кому везти послание об изгнании амбаня — перетрусили. Не нашлось ни одного чиновника или нойона, кто бы согласился. Все старались свалить друг на друга.
— Послали бы нас с вами.
— Нельзя. Согласно существующим правилам послание амбаню должен доставить нойон соответствующего чина.
— И что же?
— Видя, что нойоны струсили, хан рассердился и сказал: «После этого вы еще смеете говорить, что на все готовы ради родины? Мне жаль вас. Дайте! Дайте сюда это послание! Я сам отвезу!»
Нойоны стали отговаривать хана, — мол, слишком высока честь для амбаня, и назначили двух насмерть перепуганных князей.
— Амбань наверняка их казнит.
— Вряд ли. Он такой же, как они, за душой ничего, кроме простого высокомерия да черного хурэмта.
— Почему? Он же великий министр, наместник маньчжурского императора.
— Ты лучше слушай, с императором тоже не все ладно. В Пекине беспорядки. А здесь у амбаня хоть и есть войска, только у солдат ни свинца, ни пороха, и жалованья они который месяц не получают, перегрызлись со своими начальниками. К тому же часть войск ушла в Дорнодские степи на подавление мятежа[52] и еще не возвращалась. Сейчас амбаню надо крепко подумать, прежде чем хватать кого-то и резать глотку.
Батбаяр задумался.
— А станет ли лучше после образования самостоятельного государства?
Содном почесал затылок.
— Конечно. Много лет мечтает об этом наш народ. Свобода — что может быть дороже! Ты же слышал, сколько тысяч смелых, мужественных людей сложили за нее головы.
— Слышал.
— Кем были мы? Пылью. А теперь не придется больше раболепно сгибаться перед льстиво улыбающимися, но подлыми душой маньчжурскими нойонами. Ведь так? — сказал Содном.
«Что же, поживем — увидим», — подумал Батбаяр и, глядя в глаза Содному, сказал:
— Уверен в справедливости ваших слов.
— Ты, я смотрю, все стараешься обмозговать, до корня добраться. У тебя, наверное, борода стала расти, еще когда в колыбели лежал. — Содном погладил юношу по голове.
Торжества по случаю провозглашения богдо-гэгэна великим ханом состоялись в погожий морозный день[53]. После обильного снегопада в лучах холодного солнца все было ослепительно белым. Нойоны и сановники облачились в черные хурэмты и шапки с павлиньими перьями, ламы надели желтые шапки и хурэмты и потянулись ко дворцу хутухты Джебзундамбы. Хан Намнансурэн поднялся на заре. Поверх шелкового, затканного золотыми драконами дэла надел хурэмт из золотой парчи, надвинул на лоб бархатную шапку с драгоценным жинсом, на шею повесил пестрые четки, на пояс — кисет и с гордым видом вышел из орго, поражая красотой своей и величием.
Как только он сел в коляску, Батбаяр вскочил на облучок, и коляска, сопровождаемая свитой, покатила в сторону златоверхого дворца.
У дворца великого хана на высоких шестах вились разноцветные флаги. Гордо прохаживались ламы, нойоны и знатные дамы. Когда хан вошел во дворец, Батбаяр попросил телохранителей присмотреть за коляской, а сам подошел поближе. У ворот с шатровой крышей слуги держали белого верблюда с серебряной палочкой в ноздре и белого коня с бубенчиком на шее, предназначавшихся для подношения великому хану. Плыл аромат благовоний, тибетских ароматических палочек, дымившихся в каменных курильницах. Когда все приглашенные прошли во дворец, суеты стало меньше; у ворот толпились лишь слуги и свитские. Унзад лама затянул хриплым басом молитву, готовясь к подношению богдо священного блюда, и тут на высокое крыльцо полез, раскачиваясь из стороны в сторону, какой-то крупный нойон в черном хурэмте. Он карабкался, выкатив глаза, и едва не потерял свою шапку с павлиньим пером и драгоценным жинсом. «Да это же тушэту-хан Дашням. Вина по утру выпил на радостях», — подумал Батбаяр и, сгорая от любопытства, пошел к нему. Хан с неприязнью посмотрел на парня и спросил:
— Ты кто? Впрочем, это не важно. Слушай, что же это делается! Хотят посадить на ханский престол слепого тибетца, чужестранца. Священное блюдо собираются ему поднести, с ног сбились. Что делается-то, а? — сказав это, он, не дожидаясь ответа, плюнул и пошел во дворец.
«Видно, и вправду недоволен, что богдо-гэгэна возводят на ханский престол, — подумал Батбаяр, глядя вслед хану. — А как же с клятвой? Прошлым летом, когда собирались в пади Нухэт, все были согласны посадить на ханский трон хутухту Джебзундамбу, клятву давали, молились.
Правду говорил наш господин: «Мы не слушаем друг друга». Видно, тушэту-хан сам хотел стать великим ханом. Но зачем он тогда в лесу ломался, кривил душой, называл всех мудрецами? Странное все же создание — человек».
После продолжительного богослужения начался большой торжественный прием. Засуетились, забегали слуги, разнося кушанья.
Батбаяр вернулся к коляске и весь день ждал господина. Судя по всему, нойон не собирался в ближайшее время выйти, поэтому остальные телохранители и свита разбрелись кто куда погреться. Рядом с коляской хана стояла зеленая карета, и через заиндевевшее почти до верха окно Батбаяр разглядел сидевшую в ней девушку в парчовом хантазе поверх цветастого шелкового дэла и соболиной шапочке, из-под которой свисали серебряные подвески. Девушка замерзла и дышала на озябшие руки. У нее было светлое лицо, черные брови и большие, несравненной красоты, глаза.
«Где, в каких краях появляются на свет такие красавицы? Кто ты? Небесная волшебница — фея?» Батбаяр выскочил из коляски и, словно зачарованный, открыл дверцу кареты, не отдавая себе отчета в своем поступке.
— Если твои лошади привязаны, забирайся сюда, — девушка улыбнулась — сверкнули белоснежные зубки, и поежилась. — Как холодно!
— Холодно. Но я не замерз. Хочешь, погрею тебе руки, — сказал юноша, усаживаясь рядом.
Девушка засунула ему в рукава свои тонкие холодные ладошки.
— Какие у тебя теплые руки. А я окоченела. Как же долго все это тянется.
— Зашла бы во дворец, погрелась.
— Кому охота стоять там и краснеть, будто пришел за подаянием, — ответила девушка, и между ними завязался непринужденный разговор, словно между старыми знакомыми. Батбаяру казалось забавным держать в руках холодные, мягкие ладошки незнакомой девушки.
— Ты из свиты сайн-нойон-хана?
— А как ты узнала?
— По вашей коляске.
— Ты когда-нибудь ее видела?
— Как же не видеть. Ваш хан частенько наезжает в орго моей госпожи.
— У кого же ты в свите?
— У супруги цэцэн-хана. Ахайтан всегда берет меня с собой, когда едет в гости, а мне приходится ждать.
— Не верится мне, что наш нойон часто навещает вашу госпожу. Некогда ему по гостям разъезжать — дел много, — покачал головой Батбаяр.
— Может быть. Но он приезжает к нам поздно вечером, когда нашего хана нет дома. Обычно ночует две ночи подряд. Хороший ты сопровождающий, ничего не знаешь про своего господина, — засмеялась девушка.
Юноша едва не крикнул: «Ложь!» и сердито уставился на девушку. А она спокойно смотрела ему в глаза.
— Разве осмелится кто-нибудь возводить напраслину на вашего хана! Он хоть и гордый, а добрый, веселый, всегда смеется и к тому же красивый. Редко встретишь такого величавого нойона. «Нойон говорит, что едет на хурал к богдо и пропадает там целыми сутками, — подумал юноша. — Нет, погоди, он же любит свою жену». Батбаяру вспомнилось, как недавно утром княгиня Магсар стояла у дверей своего орго за двойной оградой, но, заметив его, тотчас же скрылась в юрте. «Не верится, чтобы наш хан обманывал свою беременную жену, прикрываясь государственными делами», — подумал юноша.
— По-моему, наши ханы большие друзья. Я сколько раз замечал, когда мы куда-нибудь выезжаем, они все больше друг с другом беседуют.
— Да, да. Наши ханы очень дружны. Я знаю.
— И все же ты утверждаешь, что наш хан наведывается к вашей госпоже, когда ее мужа нет дома? — переспросил юноша.
Девушка выдернула руки из его рукавов и, потупившись, рассмеялась.
— Какие странные вопросы ты задаешь.
— Просто я тебе не верю.
— К сожалению, наш хан холоден с женой. Может быть, из-за этого госпожа и полюбила вашего хана.
— Но почему так случилось? Ведь твоя госпожа наверняка красавица.
— Да, красавица. Лицо чистое, светлое, словно луна, стройнее ее не найдешь. А как нарядно одета! Вот и влюбила в себя вашего хана.
— Ты хочешь сказать, что ваш нойон равнодушен к такой красавице? Что за вздор! Может быть, она больна?
Девушка переменилась в лице:
— Наш хан сам… у него в женах лама, — сердито ответила девушка.
— Что? — вскричал юноша и захохотал.
— Да-да. Он сам прежде был ламой, а нойоном уже потом стал. Все говорят, что ему подыскивали жену-красавицу, но он почти у нее не бывает, развлекается со своим ламой. Как же мне не знать, если я постоянно рядом.
— Так, так. Значит, наши нойоны близкие приятели, и один из них по-братски уступил другому жену, которая ему самому не нужна.
— Нет, нет. Наш господин ужасно ревнив. Узнай он, что жена любит другого, не знаю, что бы он сделал, — глаза девушки блестели.
— Тебя как звать?
— Даваху.
— Ты озябла, Даваху.
— Ноги сильно замерзли.
— Что же делать? Я, конечно, мог бы погреть твои ноги, но вдруг кто-нибудь увидит?
— Фу, что за странные вещи ты говоришь, — сказала Даваху, прижимаясь к юноше. Батбаяр снова сжал ее руки и с нежностью подумал: «Ласковая какая. В разговоре проста. Интересно, чья она дочь». Ему захотелось крепко-крепко обнять девушку, но смелости не хватило. И он лишь ближе придвинулся к ней.
Смеркалось, в небе зажглись звезды. Неожиданно у Батбаяра задергалось правое веко. И хотя он верил, что это дурная примета, ничего не мог поделать с колотившимся в груди сердцем, лишь прижал его ладонью, не сводя взгляда с лица Даваху. В это время вокруг зашумели, засуетились люди, кто-то крикнул: «Прием кончился», и юноше ничего не оставалось, как покинуть зеленую коляску. На прощание он крепко сжал руку девушке.
— Встретиться бы еще разок, красавица моя, — шепнул он и спрыгнул на землю. Свита уже собралась вокруг коляски. Намнансурэн вышел из дворца, когда почти все гости разъехались. Был он изрядно пьян и от его непокрытой головы валил пар, как от бозов, только что снятых с джигнура. Вместе с ним вышла невысокая белолицая княгиня, с точеной фигуркой.
— Вы можете возвращаться домой. Я приглашен в гости, — сказал Намнансурэн сопровождавшим его чиновникам и сел в зеленую карету.
Даваху, пересаживаясь на облучок, выразительно посмотрела на Батбаяра: «Ну что, убедился?» Лошади тронули, заскрипел под колесами снег, и карета укатила.
Батбаяр вскочил на передок ханской коляски и погнал ее на подворье, навстречу дувшему с реки ледяному ветру. «Почему мне было так легко разговаривать с этой девушкой? Ведь я видел ее в первый раз. Может, оттого, что у служанок и у нас, ханских сопровождающих, одни и те же заботы? До чего же она приятная! Встретимся ли еще когда-нибудь? Наш хан наверняка нас и близко не подпустит к этому аилу, чтобы не узнали его тайну», — размышлял юноша, изредка смахивая с ресниц снег.
Хан почти не показывался, Содном постоянно находился при нем, и Батбаяру не с кем было поговорить, отвести душу. Он целыми днями бродил по подворью, выполнял мелкие поручения или околачивался на кухне. Жаворонок подмечал: чистосердечные люди гордятся тем, что Монголия теперь суверенное государство, а нойоны и чиновники стали еще высокомернее, ходят гордые, пыхтя, охая и цокая языками. Где находился хан, юноша не знал: то ли у богдо-гэгэна — вершил государственные дела, то ли веселился с большеглазой красавицей — женой цэцэн-хана. Батбаяр бродил по ставке нойона, слушал, о чем шепчется народ.
А народ шептался о том, что движутся на Халху маньчжуро-китайские войска. Недавно гун Максаржав во главе большого войска прибыл в Да хурээ разоружить солдат амбаня Саньдо, а наместник глянул на него своими лисьими глазками и говорит: «В этом захолустье у нас маловато солдат. Берите пока наши сабли и винтовки. Только смотрите, чтобы не заржавели. Скоро мы их у вас отберем. Не отдадите добром, возьмем силой». Тут Максаржав рассердился, выхватил саблю и говорит: «Мы не на переговоры пришли. Забирайте своих солдат и убирайтесь отсюда». Китайский нойон с высокомерным видом отдал приказ о сдаче оружия и процедил сквозь зубы: «Надеюсь, великий гун, мы скоро встретимся с вами. Подумали бы лучше о будущем», — и пошел прочь. Наверняка он теперь соберет многие тысячи солдат и вернется, чтобы дать бой.
Рассказывали и другое. В Срединном-де государстве свергли императора. Теперь маньчжурским нойонам не то что воевать с нами, — сами не знают, как свои головы уберечь.
Вскоре пошли разговоры о том, что новый президент Китая Юань Шикай по железным проводам передал послание богдо-гэгэну, в котором разделял возмущение великого хутухты и высших монгольских нойонов недальновидной политикой маньчжурского хана и беспринципным поведением его чиновников. Ныне маньчжурское самодержавие уничтожено. Монголия и Китай, как два органа, рожденные в одном теле, должны войти в одну большую семью великого государства, вместе делить горести и радости. Президент заверял, что больше не будет никаких притеснений, как при безмозглом маньчжурском правителе, и просил великих нойонов прислать своих представителей в Пекин для переговоров с новым правительством. И вот теперь нойоны и министры собрались у богдо-гэгэна и обсуждают, как ответить на это послание. Но только цинь-ван Ханддорж и сайн-нойон-хан не желают принимать предложение нового китайского правительства, они считают его ловушкой, новой по форме и старой по содержанию, с помощью которой можно истребить монгольскую нацию, уничтожить наше государство и религию. Необходимо, говорят они, собирать войска и оружие для защиты страны. А новому китайскому правительству прислать ответ: «Монголы и китайцы исповедуют разные вероучения, имеют различный язык и письменность, они далеки друг от друга, как небо от земли, и потому никак не могут находиться вместе, в одной юрте». Им возражает драгоценный шанзотба да-лама. «Зачем, говорит, нам настраивать против себя новое правительство Китая? Не лучше ли решить все миром? Пошлем ответ, который можно толковать двояко: и да, и нет, а сами подождем, посмотрим. Не следует никого пугать поспешными сборами оружия и войск». «Надеюсь, наши ханы и нойоны разобрались что к чему и спорят, стараясь превзойти друг друга остроумием и мудростью, не для того лишь, чтобы выслужиться перед богдо-гэгэном. Иначе мы пропали. Пока они будут договариваться, китайский амбань, цедя сквозь зубы проклятия, вернется с бесчисленной, как стая галок, ратью и обрушится на нас», — слушая разговоры, думал Батбаяр.
После Нового года, отмеченного необычно торжественно и пышно, наступила оттепель. Как-то Батбаяра вызвал один из ближайших сановников хана, вручил ему подорожную и два письма: одно — Гомбо бэйсэ, другое — Дагвадоною и приказал немедленно отправляться в дорогу.
— Учти, это приказ самого министра в правительстве богдыхана. Господин изволил смеяться и сказал: «Он хорошо знает дорогу к бэйсэ. Да и по жене, наверное, соскучился». Ты гонец одного из величайших людей государства, посол богдыхана, держи себя как подобает. Нойон также приказал ознакомить тебя с содержанием посланий. Гомбо бэйсэ надлежит готовить мобилизацию воинов для охраны южной границы; постоянно следить за положением на китайской стороне, а если из южных хошунов прибудут нойоны и чиновники[54], встретить их с миром, дать проводников и, обеспечив свежими подставами лошадей на уртонных ямах, беспрепятственно препроводить в столицу. Второе, Дагвадоной должен передать аймачным джасам: службы нашего хана разрослись, а посему необходимо принять меры по увеличению поставок продовольствия, юрт, лошадей и повозок. Хан приказал попытаться изыскать все это в его хошуне, — пояснил сановник.
Батбаяр был рад, что побывает дома, увидит жену, и в то же время его мучило сомнение: а что, если Гомбо бэйсэ или его жена узнают в гонце своего крепостного и с презрением отвернутся? Не сорвет ли он тогда важное дело? «Может, спросить?» — подумал юноша, но так и не решился.
Батбаяр надел меховой дэл, поверх суконный хантаз, который он сшил, еще когда был ханским коноводом. Послания свернул в трубку и сунул за пазуху. Юноша жалел лишь о том, что не довелось больше увидеть ту красавицу с блестящими шелковистыми глазами — служанку жены цэцэн-хана. «Ну, ничего. У мужчины дорога жизни длинная. Придет время, и я вернусь в Да хурээ. Может, тогда наши пути снова встретятся. Слишком я застенчив, все чего-то выжидал», — корил себя ханский гонец. Он ехал от уртона к уртону, и, хотя времена были скудные, везде радовались новой власти. На каждом яме для Батбаяра варили жирную баранину, давали упитанных, тугоуздых лошадей, так что на пятый день он уже оказался у подножия Зун богдо. В Гоби оттепели начинаются рано. Снег стаял, в степи зажелтел саксаул, в долинах начали вырисовываться миражи, напоминая Батбаяру далекое детство. «Места знакомые, так отчего же не спрямить путь», — подумал юноша и поскакал мимо трех жертвенников по южному склону горы Могойт Хайрхан. Поднявшись на гребень Баг зала, он спрыгнул с седла, положил камень в обон. В это время подъехал на взмыленной лошади отставший уртонщик.
— Уважаемый гонец! Вы случайно родом не из этих мест? Окрестности хорошо знаете, вон на сколько путь сократили. Я было подумал, что вы поскакали вдоль подножия, испугался, как бы не увязли в песках, — рассмеялся он.
Батбаяр закурил трубку с коротким белым мундштуком, которую ему отдал Содном, и, окинув взглядом землю, где родился и вырос, коротко ответил:
— Да, я здешний.
Он смотрел на гобийские просторы, там в детстве он пас верблюдов бэйсэ, на скалу, под которой укрывался от дождя, на долину, где собирал сухой саксаул для костра, — будто все осталось по-прежнему; будто он также пасет ягнят и козлят, и даже не развалилась игрушечная юрта, сложенная им из камней.
— Я родился на южном склоне величественной, дикой горы Хадат Хайрхан. Вырос в лазурной долине. В бескрайних гобийских просторах, которые тянутся до самого горизонта, мы с мамой пасли хозяйский скот. Всю весну, лето и осень не возвращались домой. Мокли под дождем, мерзли в пургу. Но до чего же счастливым я себя чувствовал, когда садился верхом на верблюдицу-трехлетку и ехал собирать свое оранжевое стадо. Пасли его семь-восемь месяцев и не потеряли ни одного верблюжонка. Когда пригнали назад, лица у нас были чернее войлочной подстилки, словно закопченные, а княгиня Норжиндэжид даже доброго слова не сказала. Жестокосердая была госпожа. Может, она и сейчас такая?
Батбаяр вскочил на коня и вместе с уртонщиком поскакал к орго Гомбо бэйсэ. Он вовсе не собирался мстить за то, что десять с лишним лет назад бэйсэ выгнал их — раздетых, разутых, без лошади, но и стыда не испытывал. Лицо его было спокойно и равнодушно. Провожая Батбаяра, Содном посмотрел на него с улыбкой.
— Вот что, парень. В ставку своего прежнего нойона надо ехать в приличном виде. О мужчине судят по его седлу и трубке. Может быть, бэйсэ тебя и не узнает, но его люди вспомнят наверняка, — сказал он, вручая юноше свою трубку и седло, отделанное серебром. — Мне ехать не скоро. Ну, а когда придет срок, хан, я надеюсь, не обойдет меня своей милостью, — добавил он, забирая старое седло Батбаяра. Теперь юноша ехал снаряженный, как и подобает настоящему мужчине, и был очень доволен.
Вскоре Батбаяр увидел три юрты, поставленные в ряд и неподалеку кучу помета — видно, семья бэйсэ переехала на весеннюю стоянку совсем недавно. Новый год давно наступил, но здесь его, видимо, все еще праздновали: на коновязи стоял конь под ковровым потником, с украшенной красными лентами уздечкой; на деревянном настиле у юрт лежали три большие, недавно вырубленные глыбы льда. Батбаяр дерзко галопом проскакал мимо юрт[55], вернулся к коновязи, бросил поводья уртонщику и зашел в орго бэйсэ. В юрте было многолюдно и весело. Во главе накрытого стола, в хойморе, сидел сам бэйсэ в шапке с павлиньим пером. На почетном месте — гость — какой-то тайджи преклонных лет в темном хурэмте и шапке с коралловым жинсом. Батбаяр поклонился бэйсэ, пожелал благоденствия от имени министра сайн-нойон-хана Намнансурэна и поднес хадак.
— Ты поступил согласно с нашими обычаями и законами, — принимая хадак, пьяным голосом буркнул Гомбо. — Розового нойона я знал годовалым, когда у него еще младенческие волосы не обрезали. Говорят, он умен и находчив. Только знаний у него маловато. Разбирается немного в маньчжурском и тангутском языке. Ходят слухи, будто он подпал под влияние скотины, залана Дагвадоноя, у которого мысли черные, как у простолюдина, и стал петь под его дудку: «Надо улучшить жизнь крепостным», «Надо следовать обычаям и законам развитых государств». Что же это такое? Оближи его собака! Похоже, этот голубой хадак послан мне не в знак уважения к старшему и пожелания счастья и благоденствия. За что уважать меня — жалкого бэйсэ, заброшенного судьбою на край земли? — Гомбо бэйсэ показал хадак Намнансурэна сидевшему рядом тайджи и, благословясь, повесил его на изображение бурхана. Таков обычай. Ничего не поделаешь.
Тайджи кивнул головой.
— Ладно, поднесите гонцу угощение. А ты кто? Полномочный гонец или просто рассыльный? Так проскакал мимо юрты, что едва не свалил ее. Ну, думаю, сейчас я ему покажу! — сказал Гомбо бэйсэ. — Срежем у этого наглеца одно стремя, потешимся, поглядим, как он будет носиться. — И Гомбо уставился на Батбаяра своими воспаленными глазами.
— Я прибыл к вам, уважаемый бэйсэ, из Да хурээ по приказу нашего господина, — с достоинством ответил Батбаяр, стараясь унять дрожь в коленях.
— Из Да хурээ? По приказу господина? А какого господина, богдо или Розового нойона?
— Обоих!
— Погоди-ка, богдыхан — это богдыхан, а сайн-нойон-хан это сайн-нойон-хан — каждый сам по себе. Выходит, ты двуликий, как летучая мышь, служишь сразу двум господам, духовному и мирскому? — не унимался бэйсэ.
«Спорить с пьяным — пустое дело», — подумал Батбаяр и произнес с поклоном:
— Бэйсэ-гуай! Вы уж простите меня, ничтожного. Позвольте вручить вам указ в более подходящее время.
— Вы совершенно правы, — вмешался в разговор тайджи. — Бэйсэ выпил немного в честь моего приезда и Нового года, — сказал он и сделал знак глазами бэйсэ, чтобы тот молчал, не болтал лишнего. — Угощайтесь, уважаемый, отдохните с дороги…
— Не верится мне, что он посланник обоих наших владык. Скоро собаки будут лаять, да вороны каркать: богдыхан, богдыхан. А кто он такой, этот богдыхан? Давно ли был послушником, разутым да раздетым. И учености у него не больше нашего, говорят, не очень-то я в него верю. Розовый нойон тоже особой мудростью не отличается. Извел своих родичей — проклятья, видишь ли, они на него насылали, а теперь из кожи вон лезет, чтобы главой государства стать. Только и думает о том, как бы сожрать богдыхана и провозгласить великим ханом себя. Верно я говорю? Ешь его собака. — Гомбо бэйсэ нахмурился и с грозным видом принялся засучивать соболиные обшлага рукавов.
— Мой бэйсэ! Успокойтесь! — старался утихомирить его тайджи. Норжиндэжид была вне себя от страха.
— Нет, пусть он ответит, — ревел бэйсэ. — Прав я или неправ?
Батбаяру хотелось крикнуть: «Врешь! Что ты знаешь о нашем хане». Он готов был выплеснуть пиалу с чаем в лицо бэйсэ, но сдержался. «Свяжешься с пьяным — все дело испортишь!»
— Что мне с ним делать! — запричитала Норжиндэжид. — Как напьется, себя не помнит.
Слова жены, видимо, подействовали. Гомбо присмирел, обхватил голову руками и долго молчал.
— Ты, однако, счастливчик, — заговорил он наконец. — И конь твой не в мыле, и тебе хорошо. Попал ты к нам в день, когда в гости пожаловал наш старший брат — тайджи. Пей кумыс. Наливай водку. Всего у нас вдоволь, спасибо отцу с матерью. Наешься досыта. У нас все до десятого колена были богачами. Хоть титул у меня небольшой, род свой веду от потомков Неба. — Гомбо снова наполнил свою серебряную пиалу.
Батбаяр, сохраняя выдержку, пригубил рюмку. Подали горячие пельмени. Дошло дело и до бараньей лопатки с толстым, в четыре пальца, слоем жира. Батбаяр заметил, как постарел бэйсэ: в волосах засеребрилась седина, набрякли веки.
— Ты, конечно, можешь передать мои слова своим господам. Я, старый бэйсэ, четко и прямо говорю все, что думаю. Но кто со мной считается? Подлизываться к тем, кто стоит выше, я не люблю, — Гомбо повысил голос. Батбаяр молчал, словно не слышал. Норжиндэжид внимательно его рассматривала, заглядывала в глаза. Кожа ее утратила свежесть и гладкость, но была она по-прежнему стройна, легка в движениях, все также блестели глаза, только вспыльчивости прибавилось. Вообще выглядела она молодо, и в Гоби, где женщин не так уж много, могла завлечь и восемнадцатилетнего парня. Под ее пристальным взглядом Батбаяр чувствовал себя неловко: уж не узнала ли она в нем мальчишку-крепостного?
На закате тайджи засобирался, посоветовал бэйсэ не болтать лишнего при посланце и, откланявшись, — «слишком уж официально держится этот посыльный, не доставил бы потом хлопот», — поспешно уехал. Гомбо бэйсэ захмелел и свалился на кровать. Жена его внимательно разглядела трубку посланца, вышла из юрты, осмотрела его седло и, вернувшись, стала еще любезнее: подливала гостю вина, то и дело велела служанке приносить чай.
— Мой старик уже не может много пить. А в молодости, когда выезжали на приемы к высшим нойонам, пьет, бывало, весь день, и хоть бы что. Речи у него суровы, а душа — добрая. Любит он свой народ. Всегда сочувствует бедным. — Норжиндэжид старалась оправдать мужа.
— Да, конечно, человек он хороший. Удивительно, но все люди, имеющие небесное происхождение, очень добры, — ответил ей в тон Батбаяр. «Мне ли не знать его любовь и ласку», — подумал юноша, едва не прыснув со смеху.
— Вы бывали на торжествах в Эрдэнэ зуу? Наверное, ездили на поклонение в монастырь Банди гэгэна во Внутреннюю Монголию. А на моленье к Даяндэрху? А на озеро Биндэръя? — расспрашивала ахайтан, желая показать, как много она всего видела. — Извините, — произнесла она с поклоном. — Но прежде, по-моему, мне приходилось часто вас видеть. Уж очень знакомо мне ваше лицо. Где же мы могли с вами встречаться?
— Вы не изволите ошибаться, — спокойно ответил Батбаяр. — Я был в свите хана, когда вы с бэйсэ приезжали в Да хурээ. Тогда еще пожаловал приглашенный нойонами Далай-лама. Вы заночевали в орго неподалеку от ставки великого амбаня, а когда Онолт арслан схватил амбаня, я тоже прибежал, все ходил вокруг вас, — пересказал Батбаяр историю, услышанную от Соднома. — Молод был еще. Да и вы в то время были совсем молоды. А уж до чего красивы… всадник сходил с коня, а пеший садился, чтобы полюбоваться вами! Вы и сейчас прекрасны.
Норжиндэжид рассмеялась от удовольствия.
— Да, все это было. Когда мы изредка наведывались в Да хурээ, светлейшие ламы и нойоны проходу мне не давали. Помню, великий амбань поклонился мне, а Дагвадоной, заметив это, подмигнул — иди, мол, к нему в орго. Попался тогда амбань на удочку задана.
Батбаяр, смекнув, что своими выдумками сумел набить себе цену, едва сдерживал смех. А еще минуту назад госпожу тревожила мысль: «Уж не сын ли это прислуживавшей когда-то у них женщины, изгнанной за свой длинный язык, которая скиталась, а потом куда-то пропала, и если ее догадка верна, то не исключено, что стараниями этого парня Гомбо бэйсэ сошлют в пустыню, тайгу или какое-нибудь другое гиблое место. Ведь если светлейшим ханам станет известно о том, как принял бэйсэ их указ, его лишат всех чинов. Как же бывают люди похожи», — удивлялась княгиня.
Батбаяр перепробовал все самые вкусные яства, перебрался в малую юрту и, накрыв ноги поверх одеяла дэлом хозяйки, подбитым енотовым мехом, улегся спать. «До чего же льстивыми бывают люди. Сейчас эта ахайтан дала мне свой дэл накрыть ноги, а десять лет назад, дотронься я до края ее одежды, она, пожалуй, сочла бы себя оскверненной и приказала бы служить обряд очищения. Интересно, за кого она меня принимает сейчас? А может, хочет, чтобы я к ней пришел? Бедная она, бедная… а может быть, просто глупая?»
Смуглолицая девушка с большими карими глазами принесла мерлушковый дэл.
— Хочешь потеплее укрыть? — спросил Батбаяр.
— Госпожа боится, как бы вы не замерзли, — ответила девушка, набрасывая на Батбаяра дэл. Батбаяр поймал ее руку, благодарно сжал. «Ишь, как заискивают. Ничего не жалеют».
Батбаяр хорошо выспался, отдохнул, выпил чаю, ждал до полудня, пока изволит подняться бэйсэ, и успел как бы невзначай расспросить слуг о старике, который когда-то, тайком от бэйсэ, вез на воле их плохонькую юрту, провожая в Хангай. Оказалось, что семья старика пасет стадо яловых верблюдов в Гоби, на расстоянии более чем в три уртона, но, как ни ломал голову Батбаяр, так и не смог придумать подходящего повода съездить туда, пользуясь уртонными лошадьми. «Можно, конечно, все объяснить и поехать, но тогда бэйсэ узнает в посланнике своего крепостного, и дело, ради которого он приехал, провалится, — размышлял юноша. — Увидеть бы старика, справиться о его здоровье. Ведь когда им с матерью не стало житья и пришлось убираться подальше, старик отдал им последнее сушеное мясо. Добрый, милый человек. Но ничего, у мужчины дорога жизни длинная. Еще встретимся».
Возле орго ходили крепостные бэйсэ. Многих Батбаяр знал, помнил по именам. Так хотелось заговорить с ними, как с добрыми знакомыми, но он сидел с безразличным видом, стараясь не обращать на себя внимания.
После полудня Батбаяр зашел в орго бэйсэ, чтобы ознакомить его с указом Намнансурэна. Бэйсэ возлежал на огромной деревянной кровати, стоявшей у восточной стены юрты. Его голова и ноги покоились на подушках с большими серебряными бляхами. Гомбо приподнялся, раскурил свою длинную трубку, закашлялся.
— Дайте похмелиться! — крикнул он исступленно, брызжа слюной. — Дэжид! Меня ждут дела!
Служанка подогрела на углях молочную водку, налила ее в большую деревянную чашу и подошла к бэйсэ.
— Говори, что воду даешь, — прохрипел, захлебываясь кашлем, бэйсэ. На губах выступила пена, он затрясся всем телом и скатился на пол.
— Говорите, что это вода! Держите меня! — икнув, заорал бэйсэ. Перепуганная ахайтан, служанка и слуга бросились к Гомбо, прижали его к полу. Бэйсэ бился в судорогах, икал и брызгал слюной, царапал себе лоб, рвал волосы, наконец, расплескав полчашки себе на грудь, сделал глоток-другой и, охнув, задышал. Норжиндэжид, качнув, словно бодливая корова, двумя косами, закрученными, как рога, кивнула Батбаяру — помогай, и приказала служанке:
— Ему сейчас скулы сведет. Быстрей дай выпить!
Лишь теперь Батбаяр понял, сколько нужно силы, чтобы удержать дергающиеся ноги бэйсэ. «Как же такой человек может охранять границы государства, — подумал юноша. — Ведь он ни на что не годен». Вспомнил, как несколько лет назад Аюур бойда приехал домой пьяный, а на утро вот так же маялся с похмелья. Все господа превратились в скотов. Неужели и остальные нойоны столь же «добродетельны»?
Бэйсэ прошиб пот, он похлебал болтушку и долго сидел в полном изнеможении. Батбаяр молча ждал, пока он придет в себя. «О чем мне с ним говорить? Может, отдать послание, пока он еще что-то соображает, да быстрее ехать отсюда?»
Норжиндэжид, стараясь ублажить посланца, поставила перед ним столик, расставила еду. Когда Гомбо бэйсэ очухался, Батбаяр вынул из-за пазухи послание и протянул ему.
— Соизвольте принять, почтенный бэйсэ!
Гомбо вскрыл конверт, несколько раз прочел письмо, положил на столик и, вытерев пот, погрузился в раздумья, тупо уставившись на край тагана. Думал он так долго, что за это время можно было бы сварить чай. Ожидание становилось тягостным. Мертвую тишину в юрте нарушал только лай собак.
— Ну, значит, так! — заговорил наконец Гомбо. — Я, как говорится, пеший как свинья и голый как собака бэйсэ, живу в своей дыре, а должен охранять территории от Восьми жертвенников до горы Навч Вандай.
— Соблаговолите все узнать из высочайшего указа.
— У меня нет десятков тысяч лошадей, как у твоего хана. Я человек бедный. У моих крепостных животины никакой, — одни вши. Как же я буду охранять границу, встречать послов и чиновников из Внутренней Монголии, как буду готовиться к мобилизации? Соответствующего титула мне не дали, а груз вон какой взвалили. Разве это по справедливости? Коли ты посланец великого хана, объясни мне, — потребовал бэйсэ.
— Извольте, бэйсэ-гуай. Это дело поручено вам верховным правителем в надежде, что вы преисполнены усердия послужить государству, и мне, ничтожному, нечего к этому добавить. Возродить нашу государственность можно лишь при условии, что к этому будут, не щадя своей жизни, стремиться все — от высших нойонов до батраков и слуг, и не мне напоминать вам об этом, — ответил Батбаяр.
— Так. Уж не велел ли тебе хан вразумить меня? Я человек бедный и могу говорить правду. Оближи тебя собака!
— Простите меня, великий бэйсэ. Я, раб, не вправе поучать столь мудрого и прозорливого человека, — ответил Батбаяр. — Но пристало ли вам так говорить со мной, ничтожным посыльным? Ведь по самым скромным подсчетам, у вас в одном лишь стаде более десятка тысяч верблюдов. Не сетуйте, не гневите небо, господин! «Я-то знаю, как далеко простирается ваша забота о бедняках и крепостных», — хотел добавить Батбаяр, но сдержался: слово не воробей, вылетит — не поймаешь!
— Ах, так! Богдыхан и его придворный министр приказали тебе одолеть меня в споре! Да я тебя…
— Простите, уважаемый бэйсэ. Но я прибыл сюда не для того, чтобы спорить, а чтобы лично доставить вам это послание. Свое поручение я выполнил. Как вы будете выполнять высочайший указ — это дело ваше. Теперь же дозвольте мне отправиться в обратный путь. — Батбаяр встал.
Но Гомбо бэйсэ приказал ему ждать, надел шапку с павлиньим пером и после некоторой паузы, молвил:
— Это передашь от моего имени сайн-нойон-хану с пожеланием мира и спокойствия, — и протянул большой, развернутый хадак. — И еще передай своему хану следующее: если они хотят, чтобы я служил, пусть присылают сюда все, начиная с коней и кончая фуражом, а мне жалуют надлежащий чин! Ты мне ничем не помог, только бранился, прикрываясь именем верховного правителя. Ну да ничего, дело прежде всего. А потому дозволяю тебе взять лошадей у моих аратов до следующего уртона. Непременно передай хану, что мои крепостные совсем обнищали. Говорят, Розовый нойон старается проявлять заботу о людях? — бэйсэ, не вставая, согнулся в поклоне.
Батбаяр еще раз взглянул в тупое, серое лицо Гомбо бэйсэ, в его мутные глаза и понял, что надеяться на него нечего. Юноша поклонился и вышел из орго. «Если приграничные территории будут охранять вот такие нойоны, вряд ли удастся воссоздать наше государство. Почему же все так?» — Батбаяр зашел в малую юрту, выпил чаю и стал собираться в дорогу. У юрты его ждала княгиня Норжиндэжид.
— Счастливого пути. Я тут вам собрала кое-что в дорогу. Бутылочку, баранью ногу. Кушайте на здоровье. А как будете снова в наших краях, заезжайте. Мы ничего не пожалеем для вас. Наш господин еще раз просил пожелать вам мира и спокойствия!
Глядя, как кланяется ахайтан, Батбаяр едва сдерживал смех. «За кого же она меня принимает? — подумал юноша, кланяясь в ответ. — Если мне снова представится случай приехать сюда, то уж ни трубка, ни седло с узорчатым чепраком никого не обманут».
Батбаяр вскочил на коня, взмахнул плетью. Из юрты вышла смуглая девушка-служанка, с которой он познакомился накануне, и с грустью посмотрела ему вслед.
Батбаяр хлестнул коня и погнал его рысью на север. Он ехал и смотрел на родные места, где родился и вырос, вспоминал душные летние дни, когда босиком брел по этой самой дороге, сгорая от жажды.
— Теперь у меня как будто выросли крылья, — произнес юноша так тихо, что даже ехавший рядом уртонщик не расслышал.
Когда Батбаяр подъехал к Онгинскому монастырю, над поселком кружились крупные снежные хлопья. В орго его приветливо встретил Дагвадоной, прозванный «рожденным в юрте простолюдина». Человек невысокого звания, но большого ума, он, когда хан бывал в отлучке, заправлял всеми делами. Прежде всего залан расспросил о здоровье Розового нойона, о положении в Да хурээ и деятельности вновь образованного правительства. Батбаяру было приятно, что Дагвадоной обсуждает с ним государственные проблемы как с равным, и он очень жалел, что знает так мало.
— Что за человек гун Хайсан, назначенный товарищем министра внутренних дел, из какого хошуна? Ты его видел? — спросил Смурый, поглаживая узкие черные усики.
Батбаяра вопрос не удивил.
— Этого гуна я несколько раз видел в орго хана. Слышал и его разговор, когда разливал кумыс. Мужчина он основательный, немногословный, голос негромкий. Говорят, был поваром у цинь-вана Ханддоржа, потом у да-ламы Чимэдцэрэна, сам из харчинов.
— Так, так. Теперь ясно. Один из четырех ученых южных хошунов, скрывался здесь от репрессий. Наш хан не промах, окружает себя верными людьми.
— И веселиться умеет, — улыбнулся Батбаяр и чуть не выпалил: «Похоже, завел себе любовницу — очень симпатичную княгиню», но вовремя прикусил язык. Залан долго смотрел на юношу, будто угадал его мысли, губы его тронула улыбка.
— Что знатные, что незнатные — все любят побегать, — сказал Смурый, потер короткими толстыми пальцами свое полное смуглое лицо с курносым носом и задумался.
— Такие, как наш господин, постепенно остаются в одиночестве. Людей убежденных и честных — немного, а прочие, испугавшись людской молвы и ненависти, отойдут от него. Слишком он простодушен, ничего не умеет таить. К намеченной цели пойдет до конца. Если же ее не достигнет, с горя запьет, загуляет. Вот что меня беспокоит. Ну да ему виднее. Вообще-то, человек он неплохой. — Залан скрестил руки на груди и погрузился в раздумья.
В орго вбежал Аюур бойда и, заметив Батбаяра, даже подскочил от удивления.
— Ой, да это же наш сынок. Когда вернулся? Хорошо ли съездил? Здоров ли господин? — засыпал он Батбаяра вопросами.
Дагвадоной, словно не замечая бойду, вскрыл письмо хана и принялся читать. Аюур, пораженный сдержанностью юноши, а еще больше тем, что он, приехав с подорожной от самого хана, сидит один на один с его учителем и неторопливо беседует, замешкался, не зная, какими словами его похвалить. Мутные глазки забегали под набрякшими веками, загорелись завистью.
— Каким могучим мужчиной стал наш Жаворонок! Теперь, наверное, поедешь домой своей бедной матери показаться? Наши все здоровы. Приехал Донров. Завтра возвращается обратно. Хорошо бы вам ехать вместе. Если пурга не замела Хангайские перевалы, доберетесь без задержек. А одному ехать не стоит. — Путного он ничего не сказал, хотя без конца тараторил. Батбаяру очень хотелось съездить домой, он умоляюще посмотрел на залана.
— А я забыл, вы с бойдой земляки! Хан когда приказывал тебе вернуться? — спросил Дагвадоной.
— Дел по горло, но самое важное было развезти вот эти послания.
— Мы тоже недавно получили указ собрать две тысячи солдат и отправить их воевать в город Кобдо[56]. Нужно еще подготовить лошадей и провиант. Говорят, сюда приедет сам командующий — гун Максаржав. Вам, Аюур-гуай, следует позаботиться о юртах. Многое придется отправить и из вещей, хранящихся в казне хана. Об этом тоже позаботьтесь. А ты, Батбаяр, возьми лошадь из тех, что привязаны у канцелярии. Даю тебе на поездку домой и обратно три дня. Надеюсь, ты не станешь говорить, что у тебя жена, дети…
— Мой залан! Он же взрослый мужчина. Конечно же, дома у него кое-кто есть. Но, может быть, за несколько месяцев пребывания в Да хурээ он завел себе кого-нибудь еще? Может, и домой-то не очень рвется? — пошутил Аюур.
— Вполне может быть, — откликнулся на шутку залан.
Батбаяр отобрал себе коня и на следующее утро подъехал, как и обещал, к дому бойды. Юрта Аюура стояла во дворе за высоким забором из жердей. Батбаяр подходил к ней с опаской, как бы не встретили его здесь кнутом или ножом, но ничего такого не случилось. Донров, правда, был не очень любезен, что-то буркнул в ответ на приветствие Батбаяра. Отворачивался, избегал смотреть ему прямо в глаза, однако позвал прислуживавшего у бойды монаха, и тот нажарил хушууров, приправленных луком и красным перцем, разложил на столе палочки из слоновой кости, расставил серебряные тарелки и чашки, разлил густое желтое вино. «Почему Донров вдруг так изменился? — терялся в догадках Батбаяр. — Может, надеется с моей помощью обзавестись знакомыми в Да хурээ?»
— Я хотел отметить твое возвращение. Не потому, что жду от тебя подарков, — сказал Донров, — а просто в память о нашем прежнем знакомстве. — Донров осушил чашку. — Давай пить и не ворошить прошлое, как старухи. — Донрову, видимо, хотелось, чтобы бывший батрак поверил в его дружеское расположение. И хотя в душе у Батбаяра шевельнулось подозрение, с едой и вином он расправился, как со злейшими врагами. Донров отер рот и без долгих разговоров достал вторую бутылку. «Знает, что я близок к нойону, вот и завилял хвостом, — подумал Батбаяр. — А если выучусь и встану в один ряд с власть предержащими, будет зад мне лизать. Думает, лестью можно завоевать мир». Захмелев, Донров, захлебываясь от восторга, принялся рассказывать о своих многочисленных знакомствах в Эрдэнэ зуу, в Заинском монастыре.
— Теперь могу достать все, что душе угодно: шелк, золото, лучших девушек, — бахвалился он, словно хотел сказать: «Не то, что ты, нищий попрошайка. Радуйся, что сидишь рядом со мной». Выражение лица Донрова все время менялось, когда он смотрел на Батбаяра, это было не только странно, но и опасно.
«Надо молчать, посмотрим, что будет дальше», — решил Батбаяр.
Они выехали из Онгинского монастыря вечером, на ночь остановились в придорожном аиле, а утром отправились дальше. Кони шли по брюхо в снегу, почти ползком перебрались через Хангайский хребет и выехали к верховьям реки. Донров, в сдвинутом на лоб собольем торцоке и дэле, подбитом мехом рыси, с кресалом и ножом, отделанным золотом, на привязи за спиной, ехал на своем откормленном жеребце впереди. По мере того как путь их подходил к концу, Донров становился все молчаливее и даже стал придерживать коня. За два дня пути он ни словом не обмолвился о доме. «Что-то тут неладно, — подумал Батбаяр. — Но Аюур-гуай сказал, что все здоровы. Не похоже, чтобы лгал. А может быть, случилось несчастье, но Донров решил меня не расстраивать? И от отца своего скрыл, подлец этакий», — все больше волновался Батбаяр. Как только впереди показались очертания юрт, Донров подъехал к Батбаяру.
— Твоя жена упала с лошади, изувечилась. Совсем плоха была. Сейчас, наверное, поправилась. Я не хотел тебе говорить, да вот не утерпел.
Грудь Батбаяру будто опалило огнем. «Если бы ты раньше сказал, я хоть лекарства раздобыл бы, снадобий каких-нибудь. Не ты ли сам что-нибудь сотворил со зла?» — хотелось ему крикнуть, но он лишь огрел коня плетью и вихрем помчался вперед.
Осадив коня, спрыгнул с седла и бросился в юрту. Лхама лежала одна в нетопленой юрте, укрытая дэлом. Она изумленно смотрела на Батбаяра, не веря своим глазам.
— Неужели это ты? — вскрикнула она, протягивая руки, обняла мужа, и слезы покатились градом.
Лхама каждый день оставалась одна. Мать уходила пасти овец бойды, Дашдамба — коров и лошадей. Батбаяр развел огонь, поставил греть чай. Спросил, что с нею приключилось, сел рядом, сжал ее тонкую, исхудавшую руку.
— Больше месяца назад как-то под вечер, — стала рассказывать Лхама, — повалил крупный снег. Я оседлала яловую кобылицу и поехала в Хятрунскую падь собирать пасшихся там, в лесу, коров. Стадо отыскала на краю обрыва. Пока искала отбившихся, совсем стемнело. Я погнала стадо вниз, ехала по узкой тропинке, которую протоптали коровы меж деревьев, как вдруг сверху прямо на кобылу упало что-то большое, черное, гриф не гриф, и раздался крик: ни человек, ни птица так не могли кричать. Лошадь с испугу шарахнулась под обрыв. Я только успела вскрикнуть и почувствовала, что лечу вниз. Что было потом — не знаю. Когда очнулась, увидела рядом твою и мою мать, и моего отца. Они ставили грелки, старались укрыть потеплее. — Лхама рассказывала, а из ее блестящих черных глаз текли слезы. — Я только об одном думала: умру, так и не повидавшись с тобой. Суток десять с постели не могла подняться.
Лхама обвила руками шею Батбаяра, прижалась к его щеке влажными губами, зарыдала.
— Отец в тот день уехал в Довхонский монастырь, Донров в гости, твоя мать и моя и Дуламхорло занялись делами по дому, потом во дворе со скотом возились — ждали пурги. Отец вернулся, а меня нет. Пошли искать в падь, где паслись коровы. Нашли перед рассветом. Ночь была теплой, поэтому я только пальцы обморозила, а то превратилась бы в мерзлый помет. Привезли домой, а на следующий вечер я ребенка выкинула… — Лхама снова залилась слезами.
— Хорошо, что жива осталась, — сказал Батбаяр и, стараясь успокоить жену, стал гладить ее плечи, спину, а у самого из головы не шли слова о ребенке. «Это же моя плоть», — думал он, и глаза застилали слезы. Вскоре пришли братья и сестры Лхамы, вернулись Гэрэл, Дашдамба и Ханда, пасшие скот, и в юрте сразу стало шумно.
— Ведь глаз с нее не спускал, и надо же мне было уехать в тот день, — оправдывался Дашдамба.
— Чуть не потеряли свою бедную дочку. Из-за кого, из-за чего — не знаю, — сказала Ханда авгай, а сама подумала: «Из-за того, что сидела — стерегла твою никудышную юрту».
— Несчастье приходит само. Дитя мое! Какое же у тебя жесткое сердце. Бросил нас здесь, на краю земли, затерявшейся среди гор, и несколько месяцев не показывался. Не про таких ли говорится в пословице: «Мать о чаде своем думает, а чадо о горах», — журила сына Гэрэл.
— Не может же служивый человек дома торчать, — вступился за зятя Дашдамба. — А что приехал — молодец. Государство еще только поднимается. Выпестовать его — на это одного желания мало. Тут всем надо сил своих не щадить. Наш Батбаяр хоть и невелика птица, а тоже к этому делу руку приложил. Когда я услышал, что мы отделились от этой вонючей развалины — маньчжурского ханства, от радости ног под собой не чуял. И то сказать: доведись маньчжурскому хану еще немного похозяйничать в стране — и монголы исчезли бы с лица земли.
Дашдамба лечил Лхаму травами, которые собирал в Хангайских горах, и дело быстро шло на поправку. Батбаяру не давала покоя мысль: «Что же случилось? Из-за чего Лхама упала с коня?» Ему казалось, что тут не обошлось без Донрова. «Подстерег на тропинке и сбросил что-то на голову лошади». Но говорят, он как раз в это время уехал в гости. Улик у Батбаяра никаких не было, но он понимал: другой мог это сделать по указке Донрова. Батбаяр исподволь расспрашивал Лхаму и выяснил, что Донров все время к ней приставал. Как-то раз он догнал Лхаму, несшую с реки флягу с водой и со словами: «Не обрекай на адовы муки свое прекрасное, молодое тело», схватил ее в объятия.
Лхама окатила его ледяной водой. Тогда взбешенный Донров принялся ее вовсю поносить. Но в день, когда Лхама упала с коня, он был в Эрдэнэ зуу, это точно известно.
Батбаяр решил не уезжать до тех пор, покуда жена не окрепнет, отослал коня с проезжающим мимо путником, а Дагвадоною написал письмо с просьбой похлопотать об отпуске. Через несколько дней, когда Лхаме стало лучше, он подарил ей золотое кольцо, полученное в награду от Нинсэндэн. Опасаясь, что мать с тещей могут запретить носить «вещь, на которой лежит проклятие», Батбаяр сказал жене, что купил его на деньги, сэкономленные из жалованья. Лхама надела кольцо и то и дело подносила руку к глазам, любуясь подарком. Но однажды, когда Батбаяр вернулся от аюуровского табуна, задумчиво глядя на кольцо, сказала:
— Мне очень дорог твой подарок. Дуламхорло авгай, услышав от братьев, что у меня появилось красивое кольцо, недавно зашла и долго его рассматривала. Где-то, говорит, я его видела раньше. Или очень похожее. Продай его мне! Просила, просила, да так и ушла ни с чем, — весело поблескивая глазами, рассказывала Лхама.
— Пусть просит, какое тебе до этого дело. Носи сама. У Дуламхорло колец на все десять пальцев хватит. Наверное, когда ездила по монастырям, разглядывала у кого что есть дорогое да красивое и увидела это кольцо. Я его у Соднома купил.
— Уж очень большую власть она над нами взяла. Не мытьем, так катаньем своего добьется.
— А ты не давай. Нет такого закона, чтобы бедным запрещалось иметь золото.
— Ты не злись, Батбаяр. Можно я тебе еще что-то скажу?
— Конечно.
— Я знаю, ты недоедал, чтобы купить кольцо. Мне оно очень дорого. Кто, кроме тебя, подарил бы мне такое. Вот и мама, уж как она была недовольна, что я вышла за тебя, а как увидела кольцо, обрадовалась. И все же я хотела бы его продать.
— Думаешь, принесет несчастье?
— Нет, что ты! Но все в округе смеются, говорят: «жалкая лачуга, а не юрта». Дуламхорло, когда злится, обзывает меня «сторожихой грязного балагана». Донров издевается: «Что, говорит, хорошего жить в такой нищей юрте. Во что ты превратишься, если будешь жить с этим глупым, как медведь, парнем? Или не нашлось для тебя никого другого?» Говорил прилюдно, смеялся по-всякому. Я и подумала: продадим кольцо и купим хорошую юрту. Вот только не хотелось бы его Дуламхорло продавать, — кусая губы, сказала Лхама.
Батбаяр представил, сколько насмешек пришлось вынести Лхаме, и ему стало жаль жену.
— Беднякам везде тяжело живется. Тут уж ничего не поделаешь, — вздохнул он. Наконец решили лишний раз не злить хозяйку и отдать ей кольцо в обмен на юрту-четырехстенку с новыми кошмами. Но хозяйка вдруг засомневалась, стала отнекиваться, и тогда договорились, что Дашдамба-гуай съездит в Довхонский монастырь, продаст там кольцо и на вырученные деньги купит юрту.
На следующий день Дуламхорло зашла в юрту, когда Гэрэл и Батбаяра не было дома, и попросила еще раз показать ей кольцо.
— Матовое, почти не блестит. А чистое золото не тускнеет. С примесью, наверное, — сказала она, разглядывая кольцо. — Продай. Возьму за двух дойных коров.
Услышав ответ Лхамы: «Давайте юрту и забирайте», хозяйка надулась и несколько дней не разговаривала с батраками, даже с Батбаяром, которого до этого готова была просить: «Хоть в степи, где угодно, только обними меня, хоть разок обними». Батбаяр не обращал внимания на обиды Дуламхорло, по-прежнему выгонял на пастбище ее скот и, с утра до вечера ежась на холодном весеннем ветру, присматривал за ним.
«Почему же все-таки Лхама упала с коня? Чего испугалась лошадь?» Он съездил в падь, на то самое место, но не нашел ни пуха, ни перьев. «На голову лошади упала не птица, кто-то бросил мешок из дерюги, хантаз или кусок войлока. Но сделали это нарочно, по злому умыслу, или кто-то просто хотел подшутить, а потом, испугавшись, что искалечил Лхаму, сбежал? Но кто бы это мог быть?» — гадал Батбаяр. Эти мысли вытесняли из его головы все другие. Расспрашивать об этом Дашдамбу-гуая Батбаяр стеснялся. Он вспомнил, как в день возведения богдо-гэгэна на ханский престол сидел в зеленой карете супруги цэцэн-хана и с трепетом в сердце сжимал в руках мягкие ладошки Даваху.
— Как странно. Пока я там развлекался, с Лхамой случилось несчастье. Ну конечно же, у меня дергалось веко. — Батбаяр чуть не вскрикнул, и ему захотелось стукнуть себя по голове кулаком.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ СИГНАЛ К ШТУРМУ
Третий месяц пошел с того дня, как Батбаяр вернулся домой. Здоровье Лхамы шло на поправку, и она, как ребенок, радовалась, что уже может ходить, хотя и с костылем. Лхама часто любовалась турпанами, которые с гоготанием опускались на поверхность реки, и в эти моменты ей казалось, что у нее у самой выросли крылья. Батбаяр гонял скот на пастбище, а по вечерам, устроившись с Дашдамбой-гуаем поудобнее на валунах возле утеса на краю стойбища, охотно рассказывал старику обо всем, что видел и слышал в Урге, в ставке Намнансурэна.
Так Дашдамба-гуай узнал о совещании четырех халхаских ханов в западной пади горы Богдо-уул; как было решено возвести на ханский престол богдо-гэгэна, а тушэту-хан, тоже участник совещания, в день провозглашения независимости напился, чтобы не участвовать в церемонии. Еще узнал старик, что драгоценный шанзотба сообщил амбаню Саньдо имя курьера, посланного халхаскими ханами в Россию; что никто из нойонов не осмеливался вручить маньчжурскому амбаню требование покинуть пределы Внешней Монголии.
— Вот-вот, — выслушав юношу, поддакнул Дашдамба. — Это на них похоже. Якать да засучивать рукава — это они умеют. А как до дела дойдет, все в кусты.
Старик постучал трубкой о землю, выбил остатки прогоревшего табака и с досадой добавил:
— Помяни мое слово, сынок: ничего толкового из этой затеи не выйдет. Пока нойоны норовят занять местечко потеплее да подоходнее и грызутся между собой, незаметно подкрадется китайский «гриф» и переловит всех, как ягнят…
Когда же Батбаяр рассказал тестю, как ездил к Гомбо бэйсэ с посланием и как его приняли, старик от души рассмеялся:
— Эх, ты, простофиля! Не можешь как следует государственную службу нести, отдай чиновничью шапку тому, кто попроворнее. Что же ты ему прямо не сказал, доложу, мол, о вашей строптивости хану. Сразу сбил бы с него спесь.
Незаметно пролетели два месяца, и Батбаяр перевез все семейство на новую стоянку, поближе к Онгинскому монастырю. Теперь у них появились деньги на покупку новой юрты — Дашдамба продал привезенное зятем кольцо.
Но однажды, в день, примечательный тем, что в округе зазеленел ивняк, в их хотон прискакал занги с известием, что Донрова и Батбаяра вызывают в монастырскую канцелярию.
— Пришло время важных перемен — свержения маньчжурского ига, — громко объявил занги. — Батбаяр и Донров, вы зачислены в ряды ополчения, которое отправится в Кобдо изгонять окопавшегося там маньчжурского амбаня с его гарнизоном. В трехдневный срок вам надлежит явиться на своих лошадях к месту сбора. — Занги вручил будущим ополченцам извещения.
Истошно завопила Дуламхорло:
— Не пущу! Ни на какую войну не пущу! Он еще ребенок.
Она рыдала, гневно грозя кулаком куда-то в сторону, где, ей казалось, сейчас находился муж.
— Это все он, Аюур. Числился ведь наш мальчик в ламском сословии, так нет, понадобился, видите ли, ему «хранитель родного очага». Вот и переписал его в миряне. А что из этого получилось?
Дуламхорло проклинала мужа и кричала, что сейчас же отправится в Онгийн хурээ вызволять сына. Она приказала седлать коня, переоделась в шелковый дэл и поскакала к монастырю.
Донров слонялся как потерянный, не находя себе места от страха. Наконец он подошел к Батбаяру, спросил:
— Выходит, надо ехать?
— Выходит, надо. Куда денешься? — нарочито спокойно ответил Батбаяр и с усмешкой, поддразнивая Донрова, добавил: — Пришло, видно, время и тебе показать свою молодецкую удаль!
— Все шутишь, — сказал Донров. — А я за мать беспокоюсь: как она одна останется! А может, еще все образуется?
— Если скажут «иди», пойдем. Выбора нет. Понял?
— Нет, говоришь? — перейдя на шепот произнес Донров. — А что, если нам на коней, да перемахнуть через Мурилзахский хребет, добраться до верховий Орхона? До осени отсидеться, а там, глядишь, война эта проклятая кончится.
— Нет уж, — решительно возразил Батбаяр. — Потом стыда не оберешься.
— Все ясно. Тщеславие тебя одолело. Ты ведь теперь чинуша, — с издевкой проговорил Донров. — А может, ты хочешь с армией махнуть за Орхон да там навсегда остаться, бросив на произвол судьбы жену-калеку?
— О других по себе судишь, ничтожный ты человек, — сквозь зубы процедил Батбаяр.
Чувствуя, что добром их разговор не кончится, он ушел в юрту и увидел, что Лхама плачет.
— Женщины — как дети малые, — сказал Дашдамба-гуай, входя вслед за Батбаяром. — Чуть что — сразу плакать. Слез, видно, им не жалко.
Старик ласково потрепал по плечу дочь и, теребя усы, продолжал:
— Жена Аюура прямо спятила. Понеслась, не разбирая дороги. Старая шельма своего добьется. А тебе, Батбаяр, надо бы рассказать начальству о своем положении. Только без толку все это.
— Почему без толку, отец? — удивилась Лхама.
— А потому, дочка, что на таких бедняков, как мы, никто внимания не обращает, — ответил Дашдамба-гуай и, чтобы хоть как-то успокоить дочь, уверенно добавил: — Не волнуйся: не пошлют нашего Жаворонка на войну. Засадят где-нибудь в канцелярии бумажки марать. Может, все и обойдется.
Через три дня за парнями снова приехал посыльный из монастырского поселка, и пришлось им собираться в путь.
Донров снарядился так, словно на берегу синеющей невдалеке речки ему предстоял бой с врагом. В кожаную переметную сумку он положил недоуздок, путы, дождевик, вяленое мясо, листья чебреца, на поводу вел запасного коня, за спиной висела винтовка. Мать еще не возвратилась из монастыря, и некому было, как это положено в подобных случаях, зажечь благовонные курительные свечи и можжевельник, окропить дорогу. Некому даже было хорошенько покормить Донрова прежде, чем он покинет родное стойбище.
Совсем по-другому было в юрте Батбаяра. Почти всю ночь проплакала Лхама, прижавшись к мужу.
— Ведь там стреляют, рубятся саблями, убивают… — говорила она сквозь слезы.
— Я постараюсь быть осторожным, не буду там, где стреляют и убивают, — как мог успокаивал жену Батбаяр.
С самого утра женщины принялись за стряпню. Скоро на столе появилась тарелка с горячими хушуурами; не беда, что приготовили их из мяса околевшей накануне от сухотки овцы, — все остались довольны угощением. Настроение было приподнятое. Даже Лхама вышла во двор проводить мужа, вышла без костыля, нарочно оставив его в юрте.
Под Батбаяром была яловая кобыла, неказистая лошаденка, на которой Лхама обычно пасла овец. Донров злорадно хмыкнул:
— Не пришел к нам за лошадью, голь перекатная. Ну и черт с тобой, убытку меньше!
Никто не обращал на него внимания. Когда Батбаяр отъехал от юрты, Лхама специальной ложечкой с девятью отверстиями принялась окроплять дорогу молоком. Мать и дочь долго стояли, пока всадники не скрылись из виду.
Поначалу Донров ехал молча; ему было досадно, что никто его не провожал, никто не поцеловал, кроме тетушки Ханды, благословляя в дорогу. Он еще надеялся встретить мать в пути с радостным известием, что он освобождается от службы в армии. Но этой его надежде не суждено было сбыться.
Батбаяра же не покидали все те же мысли: «Как могло случиться, что Лхама упала с лошади и покалечилась?» Он решил воспользоваться замешательством и растерянностью Донрова и расспросить его, а вдруг проболтается.
Но его вопрос как будто не застал Донрова врасплох; он лишь слегка изменился в лице и, покосившись на Батбаяра, пробурчал:
— Не знаю, что и сказать. Меня как раз тогда не было: я ездил в монастырь Эрдэнэ зуу, надеялся напасть на след человека, который тогда, летом, срезал у матери жемчужные нити вместе с косой. Постой, а может быть, это птицы? Копошились в гнезде да и опрокинули его прямо лошади на голову? Ведь могло же быть такое?! Да, жаль бедняжку. На всю жизнь хромоногой останется. Кому она теперь нужна, такая? Работник из нее теперь никудышный, лишний рот, да и только.
Донров ехидно усмехнулся.
В душе Батбаяра поднялась настоящая буря. Он с трудом сдержался, чтобы не огреть негодяя увесистым кизиловым кнутом, который сжимал в руке.
— Кому нужна? Мне нужна! — Зло глянув на Донрова, бросил Батбаяр. — Это ты, подонок, способен был бы отречься от любимого человека!
Донров пропустил оскорбление мимо ушей, отвернулся и стал насвистывать песенку «Саврасый жеребец». «Что толку сейчас с тобой связываться, — думал он. — Посмотрю, каков ты храбрец, когда зайдет разговор об освобождении от армии! Унизить меня тебе не удастся. А вот твои теща да женушка любимая еще приползут на коленях, попросят: «Дайте мяса на похлебку…»
«Доказательств, что Донров сбил с коня Лхаму, нет, — размышлял Батбаяр. — Что из того, что он к ней приставал? Ненавидеть человека за то лишь, что он когда-то волочился за твоей будущей женой? Смешно. Ведь и я был не лучше. Да сам хан гоняется за женой друга. Так уж устроен человек: брюхо набил, а все есть просит…»
И Батбаяр сказал примирительно:
— Я, кажется, лишнего наговорил. Ты уж прости, друг. Поверь, я не забыл, кому мы обязаны всем, что имеем.
За разговором не заметили, как добрались до монастыря. Там сразу отправились в казенный городок, разыскали отца Донрова. Старик сказал, что узнал от жены о мобилизации сына в армию, поговорил с кем надо, и Донрова освободили. Но домой сейчас возвращаться ему не следует. Поэтому он пристроил его к интендантам.
— И о твоих бедах, сынок, я сообщил чиновникам, ведающим военными делами. Так что и тебя скоро освободят, — вкрадчиво произнес Аюур.
Батбаяр поверил ему и спросил:
— Может, мне повидать задана Дагвадоноя?
— Не стоит, — покачал головой Аюур. — От него ничего не зависит. Это он перед нами корчит из себя важную птицу, а на самом деле ни звания, ни знания. Втерся в доверие к нашему господину и этим пользуется. С ним здесь никто не считается, прозвали «коровья бабка…», смех, да и только.
По совету Аюура Батбаяр отправился в монастырскую канцелярию. Там его отчитали за опоздание.
— Войска нашего аймака сформированы и готовы к выступлению, — разглагольствовал чиновник, — а ты отлыниваешь от службы. Да будет тебе известно, что есть указ премьер-министра, нашего хана Намнансурэна о мобилизации мужчин не дамского сословия, годных для военной службы, на войну с маньчжурскими завоевателями. Ты назначен писарем при штабе полка нашего аймака. Иди принимай документацию.
— Я не хочу быть писарем, я хочу воевать, — возразил было Батбаяр, чем окончательно вывел из себя чиновника.
— Молчать! — заорал он. — Мало того что прибыл с опозданием, так еще не желаешь подчиняться приказу? Немедля ступай, куда велено!
Пришлось Батбаяру повиноваться. Единственным для него утешением было известие, что сайн-нойон-хан назначен на пост премьер-министра. «Достойный он человек, — думал Батбаяр, шагая к штабу, — твердых правил, уравновешенный. Не станет ни с того ни с сего орать. Вот и любят его за это. Интересно, что думает по поводу нового назначения хана его учитель, Дагвадоной-гуай…»
Всю ночь Батбаяр сводил воедино сведения, полученные из канцелярий хошунов и дзасаков. Тут было все, начиная со списков цириков и перечня оружия и кончая количеством лошадей, походных палаток, провианта, посуды. К утру сводка для верховного главнокомандующего была готова. Батбаяр вложил документы в кожаную папку и вместе с другими ждал сигнала о выступлении в поход. Командир полка по имени Га предупредил накануне, что выступать надо будет на заре, но время близилось к полудню, а командир еще не поднимался с постели.
Воспользовавшись заминкой, Батбаяр написал домой.
«Не суждено, видно, мне, как подобает настоящему мужчине, идти на войну с винтовкой в руках. Вместо винтовки дали бумагу да кисточку — назначили писарем. Но, как говорится, нет худа без добра: нахожусь при командующем, а значит — голодным не буду…»
Письмо Батбаяр передал через знакомого и попросил отогнать в его хотон коня, на котором он сюда приехал.
Лишь к одиннадцати часам командир полка поднялся с постели. Накануне вечером в его честь был устроен прием. Казначей Аюур не поскупился на выпивку. И, подливая командиру вина, не упустил случая представить ему своего сына. «Может быть, пригодится Донрову это знакомство». После этого Га еще отправился в монастырь, чтобы получить благословение настоятелей хамба-ламы и да-ламы. Здесь ему тоже устроили угощение. Кончилось тем, что командир, захмелев, затеял с кем-то ссору, но, к счастью, до скандала дело не дошло: командир уснул.
Наконец командир появился перед строем солдат: в шапке со стеклянным шариком-жинсом, с толстой косой, с заспанным лицом, на котором темнела крупная родинка. Батбаяру он не понравился. Сразу видно, что пьяница и скандалист.
Га распорядился погрузить на верблюдов палатки, не отставая, гнать за полком сменных лошадей и провиантских волов. Трое цириков должны были поочередно нести знамя аймачного полка. Кое-как закончив сборы, аймачное воинство выступило в поход на запад.
Хоть и был командир Га крутого, сурового нрава, хоть и посылал неоднократно своих гонцов во все хошуны, ко всем дзасакам (а было их не менее шестидесяти), двадцать из них так и не прислали своих воинов. Так что в его распоряжении были только солдаты, значившиеся в сводном списке, который лежал в папке у Батбаяра.
Злой на весь белый свет, он проклинал каждого встречного; на очередном привале выпивал бутылку водки, до отвала наедался вареной бараниной и, сменив коня, ехал дальше.
Лишь на шестые сутки полк добрался до излучины реки Кобдо. Здесь Га поспешил на аудиенцию к главнокомандующему монгольскими войсками гуну Максаржаву.
Прижимая к груди папку с документами, за командиром следовал Батбаяр. В палатке Максаржава сразу бросились ему в глаза развешанные по стенам шаманский бубен, деревянные стрелы, перевязанные разноцветными хадаками, сабля. На суконном тюфяке неподвижно сидел крепко сложенный молодой мужчина, спокойно, но сурово глядевший в сторону Га. Батбаяр сразу признал его: в прошлом году этот человек часто навещал хана и вместе с ним ездил к амбаню Саньдо.
Га хотел произнести приветствие, но Максаржав, вскочив и оборвав его на полуслове, закричал:
— Почему прибыл с опозданием? Наверно, пил в пути да развратничал! — И, не дав опомниться упавшему перед ним на колени обескураженному командиру, продолжал: — Где, в каком порядке расположились твои войска? Какие учения проводятся?
Га молчал, словно язык от страха проглотил. А Максаржав не унимался:
— А может, ты предатель родины и в душе сочувствуешь маньчжурам? Или же ты меня ни во что не ставишь и не желаешь подчиняться моим приказам? Ну, говори же!
Видя, что Максаржав готов тут же расправиться с ним и его приближенными, Га совсем пал духом, его даже пот прошиб.
— Если ты сегодня же не приведешь в порядок свои войска и не расквартируешь их в указанном месте, пойдешь под трибунал согласно законам военного времени. Да и сейчас есть все основания расправиться с тобой. В таком дерьме, как ты, Монгольское государство не нуждается. Понятно?
Максаржав отправил вместе с Га одного из своих помощников, которому было поручено проследить за формированием и обучением войск аймака.
Га, словно ошпаренный, выскочил из палатки, даже не вручив главнокомандующему приготовленные для него дары. Утирая кулаком пот с лица, он приказал двум адъютантам следовать за ним и погнал коня в расположение полка.
— Бедняга. И куда так понесся? Ведь старик уже. Не ровен час, убьется насмерть, — сочувственно глядя вслед командиру, проговорил кто-то из его приближенных.
«Да, с таким командиром много не навоюешь, — с горечью думал Батбаяр, идя к палатке, в которой оставил свои вещи. — Га, наверно, собирался попьянствовать вместе с главнокомандующим, но не вышло».
Батбаяр и другие приближенные Га устроили привал и решили подкрепиться барашком, который предназначался главнокомандующему, но не попал к нему.
— Ну что ж, приступим, — улыбнувшись, сказал один из знаменосцев. — Отведаем милостью гуна Максаржава доставшееся нам мясцо. Хоть перед смертью поедим досыта.
— Максаржав настоящий воин! — восхищенно проговорил другой. — До смерти напугал нашего Га. Правду сказать, я и сам струхнул, думал, и нам несдобровать…
Так, переговариваясь друг с другом, сидели они в степи, отдыхали перед грядущими боями.
Полк занял отведенные для него позиции, укрепилась солдатская дисциплина; теперь целыми днями проводились учения. Учились скрытно перебазироваться с места на место, ходить в кавалерийскую атаку с саблями наголо, карабкаться на скалы, штурмовать укрепления. Даже Батбаяру выдали саблю и тоже иногда гоняли на учения. Но большую часть времени он находился при штабе, вел всевозможный учет, переписывал приказы, а то просто лежал возле палатки, ел солдатскую похлебку. Он был в курсе разных новостей и слухов.
Говорили, будто крепостная стена в Кобдо очень толстая, а в самой крепости — две, а то и три полосы укреплений, что маньчжурская кавалерия, неожиданно покинув крепость, напала на передовые части, что цирики в сумерках незаметно подобрались к крепостной стене и обстреляли маньчжуров. Но самым радостным было известие о том, что монгольские отряды наголову разбили маньчжурские войска, спешившие из Шар сумэ на помощь осажденным. Это известие вселяло уверенность в победу.
Шло время. Среди цириков пошли разговоры о том, что главнокомандующего Максаржава посетил его гений-хранитель — грозный бог Чойжин. А это значит, что в ближайшее время от главнокомандующего спуску не будет, что он будет самолично наказывать бандзой тех командиров, которые отлынивают от военных учений.
Другие говорили о его ближайшем помощнике гуне Дамдинсурэне[57] из Барги[58], тот, мол, не наказывает бандзой, у него всегда найдется острое слово, чтобы приструнить нерадивого. Не давая ему рта открыть, он обезоруживает его вопросом: «Волнует тебя судьба родины или не волнует?»
Рассказы о гуне Дамдинсурэне не оставили равнодушным и Батбаяра. Он решил во что бы то ни стало увидеть этого человека.
Вскоре предсказания цириков стали сбываться. Как-то раз Батбаяр увидел возвращавшегося с военных учений командира Га. Тот был явно не в себе: он медленно ехал, припав к луке седла. Слуга помог ему спешиться, и Га, опираясь на его плечо, доплелся до своей палатки. Когда Батбаяр спросил, что случилось, один из приближенных Га, едва сдерживая смех, ответил:
— Осрамился наш командир, ой, осрамился. К нам в полк на учения приехал сегодня главнокомандующий, а нашего разморило на солнышке, вот он и прикорнул в тени. Максаржав увидел его, а командир с перепугу ляпнул, что болен. Максаржав глядел на него, глядел, пощупал пульс и говорит: «Болен, говоришь? Сейчас я тебя быстро вылечу». Взял первую попавшуюся хворостину и давай его стегать пониже спины.
— Поделом ему, — сказал Батбаяр. — А то взял привычку: валяется с утра до полудня. Теперь, я думаю, Максаржав отбил у него охоту спать.
«Сюда бы еще Гомбо бэйсэ, — подумал он. — Командующий его вмиг приструнил бы: не стал бы больше дурачком прикидываться…»
На следующее утро у Га поднялась температура. Батбаяр ухаживал за ним, как за раненым, кипятил воду, поил. Наконец возвратился в свою палатку и только сел отдохнуть, как вошел дюжий парень, одетый в дэл из коричневого тибетского сукна, с франтовато засученными рукавами.
Незнакомец поприветствовал Батбаяра и расплылся в улыбке, обнажив крупные белые зубы. Батбаяр всмотрелся и только тут признал Донрова. Загорелый, с обветренным лицом, он очень изменился и больше походил на китайского торговца, из тех, что, подбоченившись, стоят на толкучке в Урге, чем на деревенского парня. На нем была рубаха из синей чесучи с плоскими серебряными пуговицами, за пояс заткнут длинный кинжал в сандаловых ножнах, сбоку на толстой серебряной цепочке болтался юфтевый, украшенный орнаментом кошелек.
Донров достал длинную белую трубку, набил ее табаком, закурил, и палатка сразу наполнилась противным вонючим дымом. Держался он свысока, но прямо в глаза Батбаяру смотреть не решался, как нашкодивший кот, прячущий когти.
— Я тоже здорово помотался, — рассказывал Донров, — собирал для вас лошадей. Был на верхнем Орхоне, потом проехался по Гоби, пересек хребет Ушго, спустился вниз по реке Завхан, а дальше через Гузэн тэл попал в Хусинское гоби. Зато пригнал сюда табун отличных лошадей. Хотел попасть на прием к главнокомандующему Максаржаву, так не пустили. Говорят, занят. Да его, видно, и не умаслишь, только лишняя морока. Как думаешь? А я остановился в Кобдо у гавжи Пэрэнлэя. Знатный, богатый старик. Может, слышал? Табун я сдал, бумагу от Га о том, что задание выполнил, получил. А теперь хочу посмотреть, что за война здесь будет.
И надменный вид, и развязный тон — все говорило о том, что Донров здесь неспроста. Он отыскал Батбаяра, желая показать, что занят настоящим мужским делом, не то что Батбаяр.
— А знаешь, здесь можно неплохо развлечься, — продолжал Донров. — Если что, я в общем-то при деньгах. Ты как-нибудь отпросись у начальства, махни в город, встретимся у Пэрэнлэя-гуая. Он давнишний друг отца. А каких там девочек можно найти! И еще, знаешь, у местных китайских торговцев я присмотрел отменные агатовые табакерки и трубки. Помнишь, какую цену дают за них у нас на Орхоне? Вот я и думаю, как только вокруг крепости начнется пальба и наши будут теснить маньчжуров, китайцы отдадут их за бесценок. Да ты и сам, наверное, не прочь раздобыть для своей хромоножки и матери на дэл и какие-нибудь блестящие безделушки, а?
«Да, Донров и его папаша только и думают, где бы что перекупить да перепродать. И связи у этих торгашей повсюду», — подумал Батбаяр и напрямик сказал Донрову:
— А ты, парень, и здесь, на войне, не прочь руки погреть.
Донров ничего не ответил, лишь усмехнулся. Батбаяр между тем принес кувшин с холодным кумысом. Утолив жажду, Донров поднялся.
— Ты тоже неплохо устроился, — не без зависти сказал он, выйдя из юрты и оглядевшись по сторонам. — Пользуешься милостью бога и начальства, прохлаждаешься тут в тени. Ничего житуха, по мне!
— Так, по-твоему, тот настоящий мужчина, кто умеет послаще пожрать да побольше поспать? — в шутку спросил Батбаяр, глядя, как Донров садится на коня.
— Об одном ты забыл, — ухмыльнулся Донров и, хлестнув коня, громко крикнул. — Настоящему мужчине еще нужны женщины! Понял ты? Жен-щи-ны…
Каждый день приносил Батбаяру слухи о том, что час решающего штурма крепости Кобдо приближается.
— Максаржав, — говорили одни, — день ото дня становится все круче и круче. На днях он был на сопке Баян-Улан и увидел в бинокль, что одна из частей вышла на учение с опозданием. Он тотчас же вызвал к себе командира этой части и его помощника и собственноручно выпорол их кнутом…
— Командующий Максаржав ходит мрачнее тучи, — рассказывали другие. — Приказал привезти из близлежащего храма огромный котел, в котором кипятят чай, и теперь в нем днем и ночью толкут порох…
— Командующий Максаржав приказал пригнать из степи табун дербетского далай-хана и выбрать из него триста лучших лошадей для нашего войска, — говорили третьи.
— Несколько ночей кряду наши цирики делали подкоп под крепость, а вчера, добравшись до стены, заложили под нее несколько мешков пороха и взорвали. Только сквозного пролома не получилось — стена чересчур толстая. А китайцы открыли бешеный огонь и стали поливать наших расплавленной смолой…
Однажды вечером командира полка Га вызвали к командующему. Когда он вернулся оттуда, было объявлено общее построение. Га огласил приказ о том, что полк перебазируется на другое место.
По прибытии в новое расположение Га вызвал Батбаяра.
— Выбери себе коня порезвее и немедленно поезжай в ставку главнокомандующего, сообщи, что полк занял новые позиции. Только не вздумай докладывать кому попало, лично главнокомандующему Максаржаву. Понял?! — Голос командира дрожал от волнения.
Батбаяр погнал коня, не выбирая дороги. Как назло, тьма была кромешная. К счастью, сопровождавший его цирик знал дорогу, и они быстро добрались до ставки. Командующего Батбаяр нашел одиноко сидящим на высокой скале с трубкой во рту. Батбаяр поклонился и доложил о передислокации полка.
— Долго же ты ехал, молодец, — сурово проговорил командующий. Он посмотрел в иссиня-черное небо, вытащил из ножен саблю и, указывая ею на гору, чуть севернее сопки, где они находились, добавил: — Поднимешься на гору Улан-уул и передашь мой приказ: как только я дважды выстрелю, зажечь большой костер. Что же ты мешкаешь? Отправляйся!
Батбаяр, надеявшийся вместе с полком штурмовать крепость, замялся было и робко проговорил:
— Господин командующий! Мне приказано доложить вам и тотчас же возвращаться назад.
— Не разговаривать! — прикрикнул на него Максаржав.
Зная крутой нрав командующего, Батбаяр не стал спорить, отправил цирика назад, в полк, а сам, пришпорив коня, поскакал выполнять приказ.
Некоторое время он ехал вверх по крутому склону. Конь тяжело дышал, с каждой минутой двигался все медленнее, а потом остановился. Привязав коня к кусту, Батбаяр подобрал полы дэла и полез вверх. Он спотыкался, падал, хватаясь за камни, вставал и снова карабкался.
Наконец, выбившись из сил, он все же добрался до вершины горы. На ровной площадке, укрытой от ветра и дождя нависшей над нею скалой, вповалку спали какие-то люди, судя по виду, цирики. Батбаяр отыскал командира и передал приказ командующего.
— Все понятно, — сказал командир. — Вот ты и побудь здесь до сигнала, как раз сам и разожжешь костер.
— Чей, говоришь, приказ? Командующего? — послышался голос из темноты.
Батбаяр присмотрелся и увидел нескольких лам, сидевших вокруг догоравшего костра в глубине площадки. Подойдя к костру, он повторил донесение.
— Пользуйся милостью нашего хутухты, — сказал один из лам, протягивая ему вареное баранье ребрышко и мозговую кость.
«Не сам ли Джалханза-хутухта[59] одаривает меня своей милостью, — с любопытством посматривая на лам, думал Батбаяр. — Однако вот где обосновался тот, кому поручено поддерживать боевой дух наших цириков! Да, сюда ни одна пуля не залетит. И ламам из свиты хутухты, видно, живется здесь недурно, если они каждый день так сытно едят».
Батбаяр присел к костру и, вооружившись ножом, вмиг начисто оглодал кости, которые дал ему лама. Стоит ли говорить, каким аппетитным показалось проголодавшемуся Батбаяру сваренное на костре мясо.
На востоке едва забрезжил рассвет, когда у подножия горы один за другим прогремели два выстрела.
— Эй, парень! Скорее разжигай костер! — в один голос закричали ламы у костра и командир отряда, лежавший невдалеке.
«Верно гласит пословица: «На усталого коня — много кнутов, у бедняка — много господ». Где бы я ни появлялся, — с досадой думал Батбаяр, — всякий, кому не лень, норовит командовать мною».
Он взял из костра горящую головешку и, подойдя к заранее сложенной огромной куче хвороста, поджег лежавшее в ее основании сено.
Вмиг яркое пламя озарило все вокруг. Батбаяр стоял, не чувствуя его жгучего жара. Он больше не испытывал досады, лишь гордость от того, что именно он дал сигнал к решающему штурму крепости Кобдо.
К сигнальному костру в сопровождении нескольких послушников подошел на первый взгляд ничем не приметный лама. Моложав, худ, высок ростом, поверх ламского одеяния видавшая виды куртка из первосортного, желтого цвета, шелка, на голове — башлык. Угрожающе потрясая кулаками в сторону вражеских позиций, лама читал молитвы.
«Это и есть тот самый хутухта?! Никогда не подумал бы. Снять с него этот балахон, точь-в-точь мирянин-караванщик. Да, немудреное это дело — быть священником на войне. Поглядывай себе со стороны. В случае победы скажет, «бог внял моим молитвам», в случае поражения все свалит на «плохого» командующего», — думал Батбаяр, глядя на ламу.
Тем временем широкая долина реки Буянт огласилась оглушительной канонадой, криками наступавших, ржанием коней.
«Пока я тут прохлаждаюсь, наши ребята уже штурмуют казармы маньчжуров. Вот бы мне туда сейчас», — досадуя, думал Батбаяр. Он не находил себе места, сердце его с каждой минутой билось все чаще.
Хутухта напряженно прислушивался к звукам, долетавшим снизу.
— Подать жертвенную чашу с кровью, — вдруг приказал он.
При свете огромного костра было хорошо видно, как, продолжая читать молитвы, хутухта кропил кровью из серебряной чаши, подвязанной хадаком, в направлении вражеских казарм.
Утренняя заря разгоралась все ярче. Новый день смотрел на мир своими большими светлыми глазами.
Из долины по-прежнему доносилась пальба и крики «ура» наступающих монгольских войск.
— Наши солдаты ворвались в крепость! — радостно воскликнул лама, наблюдавший за ходом боя в подзорную трубу.
«И я мог быть вместе с этими смельчаками, — думал Батбаяр, всматриваясь в даль. — И чего, спрашивается, я здесь торчу? Приказ командующего выполнил: костер зажег. Больше мне делать здесь нечего».
Батбаяр бросился вниз, где стояла его лошадь. Вслед за ним ринулись и другие цирики, не желавшие здесь отсиживаться, пока их друзья погибали в бою с врагом. На горе остались лишь ламы, они продолжали молиться…
Группа всадников, возглавляемых Батбаяром, неслась во весь опор прямо к крепости. Перед глазами мелькали лошади, под седлами и без седел, снующие туда-сюда люди; было трудно понять, что происходит, кто кого одолевает.
Уже у самых стен крепости Батбаяр увидел, как падает с высокой башни желтовато-пестрое знамя маньчжуров. За время осады Кобдо Батбаяр не раз видел это ненавистное знамя и думал при этом, что развеваться ему здесь недолго. И сейчас он едва не закричал от радости, видя, что наконец-то пала последняя крепость врага…
Батбаяр и его спутники скакали вдоль крепостной стены, пока не достигли ворот, ведущих в крепость. Некогда неприступные, они были распахнуты настежь, и беспощадный огонь лизал их створки. Горели и внутренние постройки, густой дым поднимался высоко в небо. Повсюду валялись убитые монголы и китайцы.
Батбаяр присоединился к группе монгольских цириков, которые окружили китайцев в одном из фортов крепости. Он спешился и теперь вел огонь из-за груды кирпича, служившей ему надежным прикрытием. После продолжительной перестрелки оставшиеся в живых китайцы выбросили белый флаг.
Вдруг Батбаяра кто-то окликнул. Это был цирик из их полка.
— Ты-то мне и нужен, — радостно сказал цирик. — Командир полка Га ранен. Он лежит где-то под стенами крепости. А тут, понимаешь, от командующего прибыл посыльный: всех писарей приказано направить в северный форт. Так что валяй, брат, туда.
Во время боя Батбаяр потерял коня, поэтому однополчанину пришлось подвезти его до указанного в приказе места. Там дожидался чиновник с красным жинсом на шапке. Рядом стояло еще несколько человек, тоже, видимо, писари. Узнав имена вновь прибывших, чиновник сказал:
— Вы должны принять канцелярские и бухгалтерские книги бывших маньчжурских властей. Это приказ заместителя командующего гуна Дамдинсурэна.
Их проводили в большой кирпичный дом, полный дыма: это догорали валявшиеся на полу документы, которые маньчжуры, видимо, решили сжечь перед отступлением. Вместе со всеми Батбаяр принялся подбирать с пола полуобгоревшие бумаги, кое-какие документы вытащил из шкафов и стал пробегать глазами, благо рядом не было никого, кто помешал бы ему. Так, в руки ему попала тщательно скрепленная, увесистая пачка документов, где на маньчжурском и монгольских языках было перечислено несколько сот имен и фамилий монголов, представителей всех сословий, начиная с князей и кончая простолюдинами. Каждое имя сопровождал перечень его родственников и подробная информация о его материальном положении, месте жительства, целях и направлениях поездок, людях, которые его навещали, и прочее. Были тут и «откровения» периодически сменявших друг друга наместников-амбаней.
«Ни на минуту нельзя спускать глаз с этих людей…» — прочел Батбаяр. — «Если даже они спрячутся в нору, как тарбаган, или же подобно грифу взлетят в небеса, они не должны ускользнуть от недремлющего ока владыки нашего…», «Несчастья минуют нас лишь в том случае, если мы, слуги императора, будем помнить о всех неблагонадежных этого края…»
«Нет, — с гневом думал Батбаяр, читая все это, — маньчжурский император и его чиновники не успокоятся, пока не уничтожат нас до последнего…»
В другой пачке документов его внимание привлекло послание драгоценного шанзотбы да-ламы маньчжурскому амбаню в Кобдо.
«Почтительно припадаю… Довожу до Вашего сведения, что некоторые наши нойоны-смутьяны решили в своей политике опираться на русского царя. Среди этих изменников в первую очередь следует назвать цинь-вана Ханддоржа, сайн-нойон-хана Намнансурэна и да-ламу Чимэдцэрэна. Пресечь греховные их деяния мне, чьи средства и власть столь незначительны и скудны, не под силу. Посему докладываю обо всем этом Вам и смею просить о совете и помощи…»
«Выходит, это послание самого да-ламы Билэг-Очира! — стал размышлять Батбаяр. — Вот показать бы это письмо моему господину Намнансурэну-гуаю. А вообще-то, не стоит соваться в эти дела. Все равно все документы попадут к премьер-министру».
Батбаяр положил послание Билэг-очира в общую стопку бумаг и продолжал работу.
Солнце уже клонилось к закату, когда Батбаяр и остальные писари, наполнив документами мешки и взвалив их на спину, вышли наконец из бывшей канцелярии кобдоского амбаня.
Сражение закончилось: власть в городе полностью перешла в руки монголов. Монгольские войска стояли на отдыхе на берегу реки Булган. В эти дни у Батбаяра работы было по горло. Он не только составлял для командующего сводку о потерях в живой силе, лошадях и оружии, но еще и ухаживал за ранеными.
Однажды, когда Батбаяр у своей палатки, прохудившейся во многих местах, копал яму для установки походного котла, к нему, также неожиданно, как и в прошлый раз, подскакал Донров в дэле из дорогой чесучи, на прекрасном иноходце.
— Здорово, Жаворонок! — небрежно бросил он Батбаяру. — Ехал я мимо и думаю, дай навещу приятеля, может, не пристрелили его маньчжуры во время штурма.
Посмеиваясь, Донров слез с коня, туго закрепил поводья на луке седла.
«Что он все рыщет здесь? — думал Батбаяр. — Что замыслил? Ведь этот прохвост сейчас, в военное время, способен на все!»
— С чем пожаловал? — продолжая работу, сухо спросил Батбаяр.
— Собираюсь домой, — отвечал Донров, — и думаю, не взять ли мне у вашего командира бумагу, что я участвовал в штурме. Весь день вас ищу. Кого не спрошу, все по-разному говорят…
— А ты что, штурмовал крепость? — недоверчиво спросил Батбаяр.
— Штурмовал, говоришь? Да я, если хочешь знать, одного маньчжура так саданул плетью, что он на месте дух испустил.
— Что же это был за солдат, который позволил тебе догнать его и убить? — усмехнулся Батбаяр. — Ври, да не завирайся.
— Ничего я не вру, — обозлился Донров. — Еду я мимо фирмы Ажиндай. Вдруг из-за угла выскакивает этот самый маньчжур. От наших, видно, бежал, из крепости. Тут я его и хлестанул. Он вскрикнул и сразу упал.
Хотел Батбаяр сказать, что если кого Донров и хлестал, так это девок гулящих из веселого дома, где Донров ошивался, пока другие воевали, да не стал с ним связываться.
— Жаворонок! — не отставал Донров. — А ты воевал? Поди, отсиживался тут в палатке.
— Я-то воевал, не в пример тебе, — ответил Батбаяр.
— Как же ты воевал? Расскажи.
— Я лично дал сигнал к решающему штурму крепости. Понял?
— Как это? — не понял Донров.
— Ты видел костер, который запылал среди ночи на горе Улан-уул? Знай же: этот костер по приказу командующего зажег я, — гордо ответил Батбаяр.
— Помню, помню. Люди говорили, что видели зарево в ночи. Пожалуй, это и был твой костер, — проговорил Донров, доставая из-за пазухи трубку с блестящим зеленым мундштуком.
— А ты, смотрю, своего добился, — сказал Батбаяр, разглядывая трубку.
— Достал! — с гордостью ответил Донров. — Двух добрых коней отдал за нее вашим солдатам. Они взяли ее в доме китайского торговца, бежавшего из Кобдо. У нас на Орхоне за нее десять коней дадут! Это факт. А ты что добыл в сражении, друг Жаворонок?
— Добыл? Я не искал добычи.
— Знаю я тебя, ты своего не упустишь!
— Опять судишь по себе. Ты лучше скажи, что увозишь домой?
— Да всего ничего: купил здесь несколько пар гутулов, чепрак, подушку для седла… Всего двух лошадей нагрузил.
— А деньги где взял?
— Известно где. Я же на интендантской службе состою: скот, лошадей пригнал. Жалованье получил. Ты по старой дружбе сделай бумагу, где было бы написано, что я участвовал в этом сражении.
— Написать, конечно, можно все, что хочешь, — сказал Батбаяр. — Только вот командир наш ранен, лежит без памяти. А такую бумагу никто другой не имеет права подписать. И печать у него. А без печати, сам понимаешь, какой документ?
— Ну ты постарайся, — стал упрашивать Донров, — поставь печать. А за мною дело не станет… Хочешь, отвезу твоей жене чесучи на дэл.
— Да пойми ты, дурья башка, печать эта хранится у главнокомандующего Максаржава.
— Придется идти к нему!
— Так он тебе ее и дал, дожидайся.
— А это мы посмотрим, кстати, при Максаржаве служит один знакомый отца. Пожалуй и без твоей помощи обойдусь, — зло проговорил Донров, садясь на коня. — Я через несколько дней возвращаюсь домой. Может, передать что-нибудь твоей хромоногой? Вас ведь еще не скоро отпустят. Слышал я, вы будете охранять этот край. Смотри, как бы не околеть тебе в своей рваной палатке.
— Будь ты человеком, я передал бы с тобой весточку своим. Но ты не человек, ты крыса, — с презрением ответил Батбаяр и плюнул вслед уезжавшему Донрову.
На берегу реки Буянт, где по-прежнему располагались монгольские войска, с каждым днем становилось все холоднее. Во всем чувствовались приметы осени. Цирики, в надежде на то, что их скоро отпустят домой, приводили в порядок конскую сбрую, укладывали в походные сумки нехитрые пожитки. Но домой возвращаться им не пришлось. Было объявлено, что на южных границах страны по-прежнему неспокойно, и командующий Максаржав приказал продолжить учения, а также приступить к ремонту маньчжурских казарм в Кобдо, где солдатам, по-видимому, предстояло провести зиму.
Батбаяра одолевали невеселые думы. «Как там Лхама? Что передаст ей Донров? Этот черт наверняка затаил злобу, особенно после нашей последней встречи. От него можно ждать, чего угодно. Не навредил бы он Лхаме и всем нашим. Может, разыскать его, наладить отношения?..»
Как нарочно, Донров больше не появлялся, видно, уехал домой.
Однажды Батбаяра вызвали в штаб и сказали, что он в составе специального отряда охраны будет сопровождать до Шар сумэ нескольких маньчжурских нойонов, которые сдались при штурме крепости Кобдо. Батбаяр приготовил себе на дорогу кое-что из съестного, привел в порядок и подготовил к сдаче дела. Но ехать в Шар сумэ ему не пришлось. Неожиданно его вызвал к себе вновь назначенный командир полка из аймака. Батбаяр нацепил свою плохонькую саблю и, прихватив всю документацию, явился в палатку командира.
— В Шар сумэ ты не поедешь, — сказал ему командир. — Будешь сопровождать чиновника, который едет в Ургу докладывать премьер-министру о положении в Западном крае. Мы выбрали именно тебя, учитывая твои способности в ведении дел и составлении документов. Так что ступай, готовься.
Так хотелось Батбаяру поездить, посмотреть новые земли. Но приказ есть приказ. Батбаяр поступил в распоряжение высокопоставленного чиновника, молчаливого и дотошного, и в течение нескольких дней писал доклад о результатах военных действий в Кобдо и общем положении в Западном крае. Когда доклад был наконец готов, чиновник в сопровождении довольно большой свиты выехал в Ургу.
Батбаяр надеялся, что путь их пройдет вблизи его родных мест, но чиновник приказал ехать через крупные монастыри — Джалханзы-хутухты и Заяын-гэгэна[60], которые находились намного севернее. Так Батбаяру и не удалось побывать дома.
Переезжая от одной уртонной станции до другой, лишь на десятые сутки, вконец измученные, они добрались до столицы.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ НА БЕРЕГУ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Не успел Батбаяр вернуться в столицу, как его тотчас же отправили в ставку сайн-нойон-хана Намнансурэна. Радуясь скорому возвращению домой, Батбаяр поспешил в ставку хана, чтобы получить подорожную. Там он встретил своего старого друга Соднома и еще многих добрых знакомых. Все обрадовались Батбаяру, засыпали его вопросами о событиях в Кобдо и как всегда принялись шутить.
— Слышали, слышали, что ты отправился на войну. А теперь пожаловал к хану на аудиенцию? Хочешь звание героя получить.
— Вы посмотрите на его физиономию, до чего черна! Настоящий вояка!
— Его вызывают в столицу, а он деру дал на войну. Мы, признаться, решили, что ты подался за Алтай в зятья к маньчжурам!
— Ну, герой-победитель, поделись с нами своей богатой добычей, — сказал кто-то, и все разом бросились к походной сумке Батбаяра.
Но в ней, кроме отреза чесучи на дэл, привезенной в подарок Содному, ничего не было, и приятели с явным разочарованием продолжали балагурить.
— Посмел явиться к нам с пустыми руками! Надо сказать, чтобы выгнали этого бродягу.
— Его надо судить. Ведь эту чесучу он наверняка украл из китайской лавки…
— Точно! Судить его! Ведь он привез ее для служанки цэцэн-хана, с которой снюхался прошлой зимой. Ни стыда ни совести у этого парня: в худоне у него жена, а он здесь решил обосноваться…
Весь вечер в юрте Соднома не смолкало веселье. Весь вечер над Батбаяром подтрунивали, и он от души смеялся вместе со всеми, радуясь встрече с друзьями. Но, как говорится, все имеет конец. Когда Содном без обиняков спросил, не ему ли предназначается чесуча, Батбаяр, чтобы покончить с шутками и намеками, быстро ответил:
— Конечно же, друг, тебе.
Он достал чесучу из сумки и отдал Содному.
Лишь за полночь все разошлись по своим юртам. Остались Батбаяр и Содном. При свете масляной лампы Батбаяр, захлебываясь, рассказывал другу о днях, проведенных в Кобдо.
— Посмотрел бы ты, как храбро сражались наши парни, — говорил он. — А ведь поначалу казалось, не одолеть нам маньчжуров. Суди сам, одеты наши были кто во что. В гутулах драться трудно. А маньчжуры! Одеты с иголочки, у всех лошади одной масти. Сунутся наши к крепости, оттуда конница вылетает, и наши бегут. Но стоило дать сигнал к решающему штурму, как цирики тучей налетели на неприступные стены и, сметая все на своем пути, ворвались в крепость. Откуда только силы взялись…
— Нет, не вечно сидеть маньчжурам на нашей шее! — с горячностью произнес Содном. — Верно сказал как-то хан: «Как бы ни кичились маньчжуры своим могуществом, настанет время, и придется им убираться восвояси».
Содном улыбнулся, но тут же лицо его приняло серьезное выражение.
— Победить-то мы победили, да легче от этого наше положение не стало. — Он прислушался к голосам на улице. — Династия маньчжуров пала, а все равно китайские нойоны покоя нам не дают. Говорят, из Пекина шлют телеграмму за телеграммой, и одна воинственнее другой. Тяжело нашему господину приходится! Забот у премьер-министра по горло, а казна пустая. Помощи ждать не от кого. Вот и вертись… А ламы и нойоны свое гнут, по-прежнему на юг оглядываются. Намнансурэн-гуай терпеть их не может. Он считает, что если уж отделяться от Китая, так на деле, чтобы никогда больше перед Пекином голову не склонять, что нашему многострадальному народу надо искать верных и честных друзей, которые помогут нам в борьбе за независимость. Хан решительно против тех, кто снова готов идти на поклон к китайцам. На этом он стоит твердо, а значит, своего добьется.
— По-моему, хан прав. Интересно, что думают об этом другие? — спросил Батбаяр.
— А что другие? — продолжал Содном. — Люди ученые, знающие толк в этих делах, на стороне хана. А простые, вроде нас с тобой, ничего не смыслят. Во всяком случае, все мы, подчиненные хана, с ног сбились. Хуралы, визиты, приемы… Везде приходится сопровождать хана; круглые сутки верчусь, как белка в колесе. Прошлым летом тебя вызвать хотели, но узнали, что ты воевать ушел. А уж теперь, брат, не мечтай быстро выбраться отсюда. Хочешь, по старой дружбе будем вместе при хане телохранителями? Я доложу о тебе хану…
«Я многим обязан этому человеку, — думал Батбаяр, — и должен помочь ему, оправдать его доверие».
— Человек я подневольный, — после некоторого молчания проговорил Батбаяр. — Мое дело слушать и повиноваться…
— Вот и хорошо, вот и договорились, — обрадовался Содном. — А за чесучу, друг, спасибо. Дэл из нее получится замечательный. А я знаю, как тебя отблагодарить… Наверное, не забыл еще служанку жены цэцэн-хана? Так и быть, сведу вас при случае…
На следующий день Батбаяра зачислили в группу телохранителей премьер-министра Намнансурэна. Начальник охраны распорядился, чтобы ему сшили новый форменный дэл. Батбаяр сообщил родным в письме, что оставлен на службе в столице.
Через несколько дней Батбаяр по вызову Намнансурэна явился в ставку и застал хана сидящим в глубине юрты на тюфяке, в дэле, по-домашнему, без пояса. Он доставал из изящной фарфоровой пиалы с горячим молочным чаем нарезанные туда мелкие кусочки вареного мяса и не спеша отправлял их в рот. Батбаяр приветствовал хана поклоном.
Намнансурэн встретил его, как встречают старых друзей, радостно улыбнулся.
— Наконец-то прилетел наш Жаворонок. Тебе, брат, война пошла на пользу: возмужал, настоящий солдат. Ну садись, рассказывай, как воевал, как добрался до столицы.
Батбаяр подошел к Намнансурэну, сел на суконную подстилку. Они не виделись около года, и хан за это время заметно постарел: он располнел, кожа на лице лоснилась, появился второй подбородок.
Батбаяр обо всем подробно рассказал хану, но, видимо, от волнения упустил главное: те два документа, которые попались ему на глаза в канцелярии кобдоского амбаня.
— Тебе, наверно, приходилось встречаться с гуном Максаржавом, — спросил Намнансурэн. — Ну, как он? Суров, правда?
— Мало сказать «суров», — ответил Батбаяр. — Все перед ним дрожали. Особенно он был крут с командирами.
— Что правда, то правда. Держать в страхе он умеет. Это у него в крови. И на врага наводит ужас, парализует его. А главное — умеет добиться своего. — Намнансурэн задумчиво посмотрел на видневшееся сквозь тоно небо и снова обратился к Батбаяру: — По дороге в столицу тебе, наверное, приходилось встречаться со многими людьми. О чем говорит, чем живет народ? Мне это очень важно знать.
— Виноват, мой господин, специально я этим не интересовался. Но судя по тому, что говорят, араты всей душой рады отделению от маньчжурской империи и образованию своего государства. По правде говоря, всех волнует и другое: станет ли теперь жизнь лучше?
Намнансурэн изменился в лице. Видно, слова Батбаяра задели его за живое, вновь навели на мысли, которые давно не давали хану покоя.
— Хвалю тебя, друг мой, — сказал Намнансурэн со вздохом. — Ты подметил очень важное. Увы, пока, видно, не суждено сбыться всем чаяниям народным. Сил у нас еще для этого маловато. Да и желания тоже. Вам, молодым, суждено воплотить в жизнь извечные мечты народа.
Не все понял Батбаяр в их разговоре, но последние слова Намнансурэна удивили, пожалуй, даже ошеломили его.
Теперь Батбаяр вместе с Содномом неотступно, как тень, следовал за ханом. Одет он был в синий хантаз поверх форменного дэла. Шапку украшал дымчатый жинс, у пояса висел мешочек для пиалы.
Дел у Намнансурэна хватало, да и развлечений тоже: целыми днями он разъезжал по городу то верхом, то в коляске. Ездил на аудиенцию к богдо-гэгэну, встречался с другими министрами, частенько навещал русского консула. Не раз Батбаяру и Содному приходилось дожидаться господина на улице всю ночь напролет.
Но все эти визиты обычно не радовали господина. Напротив, он выходил расстроенный и раздраженный долгими и, по всей вероятности, бесплодными разговорами.
Частенько телохранители коротали долгие ночные часы под стенами резиденции богдо-гэгэна. Они не знали, что делал их господин за этими высокими стенами, — то ли обсуждал важные государственные дела с богдо-гэгэном, то ли пьянствовал с ним, то ли, забыв обо всем на свете, развлекался там с прелестной женой цэцэн-хана?
Батбаяр с нетерпением ждал вестей из дома, но письма не было. Особенно он беспокоился за Лхаму. «Как там она, бедняжка? Ждет меня не дождется. Залает собака — прислушивается. Увидит всадника — застынет на месте, пристально глядя вдаль. Любит она меня, вот и страдает. Все это время жила в неведении — то ли я жив, то ли погиб. Как бы Донров со зла не сделал еще какой-нибудь пакости. Наверняка он так устроил, что Лхама упала с лошади. Кроме него, больше некому…»
Когда у Батбаяра дергалось верхнее веко, он радовался доброй примете: «Значит, дома все хорошо»; когда дергалось нижнее веко, его одолевали тяжелые предчувствия.
Так он и жил в постоянной тревоге о доме. Минула зима, земля сбросила свой белый наряд, весенняя оттепель предвещала приближение благодатной поры пробуждения природы. Только события, происходившие на земле, не сулили никакой радости. Время было тревожное.
Вскоре по столице разнеслась весть, что китайские войска снова вторглись в пределы Монголии и на юге страны идут ожесточенные бои.
«Повоевать бы по-настоящему, — с волнением думал Батбаяр. — А то ведь я, как говорится, пороху еще не нюхал. Одна слава, что воевал в Кобдо… В бумагах копался, а не воевал. А уж сигнал к штурму и без меня дали бы…»
И Батбаяр решил обратиться к начальнику охраны с просьбой отпустить его в действующую армию. Тот рассмеялся:
— Ты что, парень, прославиться захотел? Храбростью своей похвалиться? Запомни: мы здесь нужны нашему господину! Так-то!
Каждый день в столицу приходили вести с юга. Во главе разделенного на две части монгольского воинства как и в боях за Кобдо стояли хатан-батор Максаржав и манлай-батор[61] Дамдинсурэн. И хотя китайцев было больше, монгольские цирики сражались храбро, то и дело обращая врага в бегство.
— Будь у нас оружие, мы с тобой дали бы жару этим бандитам в черных мундирах. Воевали бы не хуже других, — сказал как-то Батбаяр Содному.
— Молод ты еще, — рассудительно ответил Содном. — Не знаешь, до чего коварны эти китайцы. И не заметишь, как саданут тебя тесаком промеж ребер. Подумать страшно, сколько крови прольется в этой войне, сколько останется вдов и сирот.
Эти слова, видно, подействовали на Батбаяра: пыл его заметно поубавился.
Премьер-министр Намнансурэн минуты не имел свободной. Особенно тревожили его вопросы снабжения армии оружием, провиантом и лошадьми. Одного за другим слал он гонцов во все концы страны с приказами. Ждать помощи из-за границы не приходилось, поэтому он подготовил указ изъять и направить в армию все ритуальное оружие, используемое в храмах и монастырях во время богослужения. Но, когда на аудиенции у богдо-гэгэна Намнансурэн изложил свои соображения, тот резко возразил:
— Кто позволит тебе разорять священные храмы? И без того немало бед свалилось на наши головы!
Богдо-гэгэна поддержал шанзотба Билэг-Очир.
— Не будет нам пользы от этой войны. Уж лучше пойти на уступки китайцам, прямо сейчас и прекратить кровопролитие!
Тут Намнансурэн вскочил с места и вне себя от гнева крикнул:
— Если мы пойдем на уступки врагу, то окончательно потеряем независимость. Да-лама, видно, хочет выслужиться перед китайцами. И движут им своекорыстные цели. В столь трудный для страны час подобное двурушничество преступно и должно караться законом.
Богдо-гэгэн попытался было унять их, однако Намнансурэн не сдавался:
— Все беды наши именно из-за этих двуличных господ. Сумеем мы справиться с ними, преодолеем трудности. Тогда позиции наши упрочатся, и политика станет последовательнее.
Да-ламе ничего не оставалось, как покинуть зал. И тогда Намнансурэн смело обратился к богдо-гэгэну:
— В государственных делах у нас пока нет опыта. Поэтому предлагаю немедленно собрать хурал, и всем сообща решить важнейшие вопросы.
Обо всем этом Батбаяр узнал от Соднома, который в тот день сопровождал Намнансурэна.
— Хоть и говорят, «одна голова хороша, а две лучше», да что-то не верится мне, что выйдет так, как желает наш господин, — сказал Батбаяр, выслушав друга. И тут, словно в подтверждение этой его мысли, Батбаяру пришли на память слова Доной залана: «Помяни мое слово, — сказал однажды старик. — Останется наш Намнансурэн в одиночестве…»
Наступило лето. По указу Намнансурэна во всех хошунах, а также в столице принялись за изготовление холодного оружия, пик, сабель и прочего.
Каждый день с южных границ приезжали к премьер-министру гонцы. Они сообщали, что боевые действия там то затихают, то вновь разгораются. Богдо-гэгэн издал указ повсеместно совершить богослужение в честь гения-хранителя Желтой религии, свирепого красного сахиуса. В храмах курились благовонные свечи, бубнили свод молитвы ламы. В монастыри сгоняли скот, везли кумыс, молочные продукты. И называли это ламы-сборщики, разъезжавшие по аилам, «вкладом» аратов в победу над врагом.
В разговорах о войне все чаще упоминали имя Сухэ, смелого, умного, решительного бойца, прозванного за храбрость Несгибаемым героем.
«Интересно, что он за человек, — думал Батбаяр. — Хоть бы взглянуть на него. Может, это второй хатан-батор Максаржав, надежда и опора страны…»
— Очевидцы говорили, — рассказывал Содном, — что этот смельчак косит врагов направо и налево. Китайцы, как только завидят его, скачущего на вороном коне, так сразу разбегаются.
Однажды гонец принес в столицу радостную весть: монгольские войска отбили атаки китайцев и перешли в контрнаступление.
Надо сказать, что вести с фронта с молниеносной быстротой распространялись по городу, обрастая, как это обычно бывает, все новыми подробностями. Причем рассказчик говорил так горячо, с таким увлечением, словно сам участвовал в боях, или же, на худой конец, был очевидцем.
В один из погожих летних дней шумная компания в нескольких колясках выехала из Урги и взяла направление к верховьям реки Сэльбы. Премьер-министр Намнансурэн пригласил на загородную прогулку консула царской России Коростовца, а также нескольких монгольских князей и чиновников с женами. Как всегда за Намнансурэном следовали Содном и Батбаяр.
Дорога была неровная, каменистая, рессоры у колясок то и дело прогибались, лошади, спотыкаясь о кочки и бугры, недовольно фыркали. Батбаяр, ехавший верхом рядом с одной из колясок, стал невольным свидетелем происходившего в ней разговора. Речь шла о недавней беседе Намнансурэна с русским консулом. «Тогда Коростовец, — негромко говорил ехавший в коляске нойон, — потребовал, чтобы монголы прекратили военные действия в южных хошунах. На что Намнансурэн резко ответил: «Если Вы не собираетесь в сговоре с китайцами завоевать нас, не вмешивайтесь в наши внутренние дела. Кстати, вы обещали помощь, так сейчас самое время помочь. Больше всего мы нуждаемся в оружии!» Эти слова привели консула в ярость, и, чтобы сгладить неловкость, Намнансурэн устроил эту загородную прогулку. И, надо сказать, она удалась на славу».
И тут Батбаяр вспомнил, что сказал ему его тесть Дашдамба год назад: «Не найдется ни одной державы, сынок, которая бескорыстно поддержала бы нас. На словах все они добренькие, а сами только и думают, как бы поживиться за чужой счет. По мне эти «друзья» опаснее врагов…»
«Прав был старик, — отметил про себя Батбаяр. — Умный он у меня. Все наперед знает».
Въехали в живописную Хандгайтскую падь. В сосновом бору на склонах сопок куковали кукушки, стоял одуряющий аромат ярких летних цветов, извиваясь и журча на порогах, несла свои прозрачные воды река. У подножия лесистой сопки были разбиты пестрые шатры и голубые палатки. Между палатками сновали слуги, на кострах готовили угощение. Выйдя из колясок, премьер-министр, русский консул и сопровождающие его чиновники, а также монгольские нойоны приветствовали друг друга поклонами и направились в просторный шатер, устланный коврами. На столах были расставлены блюда с европейской и монгольской едой, молочные пенки, сыр. В специальных кувшинах пенился кумыс.
Русский консул занял место за главным столом, и переводчик принялся переводить ему все, что говорили нойоны. Консул внимательно слушал, время от времени поглаживая густые брови. Батбаяр, стоявший у входа, с интересом рассматривал высокого русского гостя. Чем-то он напоминал ему амбаня Саньдо, маньчжурского наместника в столице.
Выглянув наружу, Батбаяр неожиданно увидел Даваху. Она стояла возле соседнего шатра, где разместились чиновники рангом пониже, а также все женщины. В своем бледно-голубом дэле Даваху напоминала нежный пион, вдруг выросший в таежных дебрях. Ни один мужчина не устоял бы перед такой красотой, если сердце у него не из камня…
— Содном-гуай, — робко обратился Батбаяр к другу. — Побудьте здесь на случай, если вдруг господину что-нибудь понадобится.
И, не дожидаясь ответа, Батбаяр поспешил к соседнему шатру. Даваху в это время смотрела через входной проем на свою госпожу — жену цэцэн-хана Наваннэрэна. Батбаяр тоже ее заметил. Она сидела в окружении молодых нойонов.
— Приветствую вас, госпожа! — От волнения у Батбаяра перехватило дыхание. Девушка же совершенно спокойно, словно ждала Батбаяра, повернулась к нему и с усмешкой ответила:
— Здравствуйте, господин!
— Что ж, господин так господин. Во всяком случае, я рад, что наконец встретил вас, прекрасная невидимка, — уже более уверенно, даже игриво проговорил Батбаяр, еще крепче сжимая руку девушки.
— И вас давненько не было видно в наших краях, — кокетливо произнесла Даваху. — Слышала я, что вы воевали в Кобдо и прославились как герой.
— Кто, интересно, наплел вам все это?
— Никто не наплел. Я сама все знаю…
Молодые люди бросали друг на друга взгляды, полные тайного смысла, и им казалось, что они давно знают и любят друг друга.
— Госпожа! Не соизволите ли вы прогуляться со мной? — предложил Батбаяр, кивнув в сторону реки, где на берегу начинался лес.
— Какой вы, однако, прыткий! Разве можно отлучаться от господ?! И потом, прошу вас, не зовите меня «госпожой». Неужели вы не понимаете, что простой служанке слышать подобное обращение тяжелее, нежели выполнять свою работу.
— Извините меня, Даваху. Что поделаешь: язык мой — враг мой. Я хотел как лучше, а получилось наоборот.
В это время из шатра вышла госпожа, и девушке ничего не оставалось, как последовать за ней.
«А она, видимо, наводила обо мне справки. Добрая душа, ничего не скажешь», — глядя вслед девушке, думал Батбаяр.
Когда он возвратился к главному шатру, пир был в разгаре. Гости, перебивая друг друга, шутили, громко смеялись. Русский консул опрокидывал рюмку за рюмкой. Видимо, любил выпить. Намнансурэн, когда консул провозглашал очередной тост, поднимал рюмку, но не пил, а лишь пригублял и ставил обратно.
Шум и веселье все нарастали. Монгольские князья и нойоны, как могли, старались угодить высокому русскому гостю. Появились трое музыкантов-певцов. Аккомпанируя себе на хуре и хучире, они спели протяжную народную песню. Их сменили седовласый старец — известный в столице хурчи и не менее известная шанзистка по прозвищу «рябая из Маймачэна». Как только музыканты коснулись струн хура и шанза, перед гостями появилась Даваху. Она вышла на середину шатра, с горящим от волнения лицом поклонилась и стала танцевать. Двигалась она плавно, грациозно, словно рыбка, резвящаяся в воде. Взмахнет руками — и кажется, будто во все стороны расходятся волны. Стройный стан танцовщицы, туго перехваченный шелковым поясом, был гибким, словно лук. Своим изяществом она вызывала восхищение. Свет ее глаз, яркий, как пламя в ночи, озарял всех, кто здесь был.
Батбаяр, как завороженный, смотрел на девушку и думал: «Редко встретишь такую танцовщицу. Она может служить украшением любого праздника. Почему все же она так добра ко мне?»
Содном легонько подтолкнул Батбаяра:
— Замечательно танцует. Редкий талант!
— Где же это она выучилась? — не сводя глаз с девушки, произнес Батбаяр.
Русский консул тоже был очень доволен и долго аплодировал, когда Даваху кончила танцевать. А Намнансурэн гордо поглядывал на русского гостя, мол, знай наших.
После обеда Батбаяру не удалось встретиться с Даваху. Намнансурэн, русский консул, а за ним и другие гости вышли из шатра и, разбившись на группки, прогуливались по опушке леса.
Супруга цэцэн-хана то и дело оказывалась рядом с Намнансурэном и всячески старалась обратить на себя его внимание. Звонко смеялась, громко говорила, заводила беседы, отвечала на реплики и приветствия. Наряд ее бросался в глаза: поверх шелкового дэла была надета ярко блестевшая на солнце парчовая безрукавка. На густо напудренное лицо свисали жемчужные подвески. Легко ступая по пестрому цветочному ковру, она шла под руку с Даваху с таким видом, словно ей никто больше не нужен.
«Ну что поделаешь с этими женщинами, — с досадой думал Батбаяр, провожая взглядом Даваху. — Мало того что ходит по пятам за моим господином, так еще и Даваху от себя никуда не отпускает».
Сегодня Батбаяр против обыкновения не прислушивался к разговорам гостей, сосредоточив все свое внимание на этой веселой, ясноглазой девушке, что не ускользнуло от опытного взгляда Соднома.
К вечеру небо затянули тучи, грянул гром, и полил дождь. Гости бросились по своим коляскам. Жена цэцэн-хана, увлекая за собой Даваху, тоже поспешила укрыться в коляске. Проходя мимо Намнансурэна, который проводил только что отбывшего русского консула, она небрежно бросила:
— Уважаемый хан! Идите ко мне. Вдвоем будет не так скучно в пути…
— Возвращайтесь домой, — приказал телохранителям Намнансурэн, а сам побежал к коляске своей возлюбленной.
От внимания телохранителей не укрылось, что господин их чем-то сильно расстроен: он как будто даже осунулся. «Значит, разговор с русским консулом не дал желаемого, — думали телохранители. — Сколько денег снова выброшено на ветер…»
— Так-то, брат, — с усмешкой произнес Содном. — Ты весь день бегал, как собака, за девчонкой и остался ни с чем, зато наш господин возвращается с добычей. Только промашки какой-нибудь не вышло бы.
— Какая может быть промашка, — зло проговорил Батбаяр, первым залезая в коляску. — Ведь она сама его пригласила!
Всю дорогу дождь лил как из ведра, полыхала молния, грохотал гром, да так сильно, что запряженная в коляску лошадь то и дело вздрагивала. Друзьям словно передалось настроение их господина: всю дорогу они ехали мрачные, до самого дома так и не проронили ни слова.
В один из первых осенних дней пайтан, начальник охраны премьер-министра, вызвал к себе Соднома и Батбаяра.
— Наш господин отправляется в столицу России — Петербург. Вы будете сопровождать его в пути. Кстати, хан вызвал к себе Дагвадоноя, чтобы обсудить с ним некоторые вопросы, касающиеся предстоящей поездки. Хан просил дозволения богдо-гэгэна пожаловать Дагвадоною титул бэйсэ. Вам же следует хорошенько подготовиться к поездке. Сопровождать будете не кого-нибудь, а самого премьер-министра Монголии. Да и путь не близкий. Сегодня же закажите себе новое платье…
Хорошо поглядеть мир! Но радость омрачало беспокойство о доме. Надеясь на оказию, Батбаяр тотчас же написал письмо родным, в котором сообщал, что собирается ехать в далекую Россию.
Холодным осенним днем монгольская делегация выехала из столицы, и через несколько дней транссибирский экспресс, выбрасывая клубы дыма и подавая протяжные гудки, уносил их на северо-запад.
Премьер-министр Намнансурэн и заместитель министра иностранных дел Доржийн Очир — добродушный, еще совсем молодой, широкоплечий, с большой черной родинкой на щеке, сразу нашли общий язык и, уединившись, подолгу беседовали.
В пути работы у Батбаяра фактически не было; еду приносили русские официанты из вагона-ресторана. Поев, Батбаяр садился у окна и смотрел на мелькавшие за ним пейзажи: на деревья, уже пожелтевшие или совсем сбросившие листву, на селенья, на коров, которые мирно паслись, свиней и разных домашних птиц. Табуны коней и отары овец попадались значительно реже.
В больших городах было много церквей с золотыми крестами на куполах. Колокольный звон наводил Батбаяра на невеселые мысли о доме.
С давно убранных полей, где теперь высились скирды соломы, тянуло незнакомым Батбаяру странным запахом. Глядя на небольшие, но аккуратно срубленные избы на берегу реки или неподалеку от леса, Батбаяр думал, что, наверно, счастливо и привольно живется здесь людям, если, конечно, они могут есть досыта.
На каждой станции к поезду подбегали русские женщины: старухи и молодые, в своих неизменных шерстяных платках и толстых поддевках, с ведрами в руках. Они предлагали различные овощи, яйца, рыбу и что-то быстро говорили на своем языке. Всякий раз при виде этой картины Батбаяру вспоминался столичный рынок и китайцы разносчики, торгующие с лотков всякой всячиной.
Как-то вечером на одной из станций в вагон вошел мужчина средних лет, в стеганой куртке, не то китаец, не то японец. Он не сразу привлек внимание, и лишь когда поезд тронулся, Батбаяр спросил шепотом Соднома:
— Что это за тип?
— Почем я знаю, — ответил тот. — Вообще-то, вагон предназначен для нашей делегации, так что посторонним здесь делать нечего.
Тем временем незнакомец прошел по вагону, остановился возле купе, из которого слышны были голоса Намнансурэна и Доржийн Очира, и стал смотреть в окно. Батбаяру показалось, что незнакомец прислушивается к их разговору, и он обратился к Содному.
— Давай спросим, что ему нужно, — предложил Батбаяр.
— Думаешь, он нас поймет? Скорее всего это китаец, — не сводя глаз с незнакомца, сказал Содном.
— Кто бы он ни был, мне он не нравится.
— Не исключено, что его подослали те же китайцы, чтобы убить нашего господина.
Прежде чем что-либо предпринять, друзья решили доложить обо всем Намнансурэну. Но когда Батбаяр вошел в купе, увлеченные беседой премьер-министр и его заместитель не обратили на него никакого внимания.
— Ума не приложу, как нам действовать, — говорил Намнансурэн. — Помнится, Дагвадоной-гуай перед отъездом сказал, что, если сразу несколько государств признают нашу независимость, Китай не сможет этому противостоять.
— То-то и оно, что вряд ли нам позволят встретиться с послами третьих стран, — сказал Доржийн Очир. — Кстати, Коростовец обещал, что в помощь нам дадут знающих советников.
— Не верю я ему, — задумчиво произнес Намнансурэн. — Под видом советников к нам приставят людей, которые будут следить за каждым нашим шагом. Не может консул выполнить свое обещание, если оно идет вразрез с политикой его правительства. Это ясно!
— И все же выход наверняка есть. Нужен особый подход, здесь, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Те же ордена, за изготовление которых отдано столько скота, думаю, придутся весьма кстати. Кого надо наградим, и отношение к нам, возможно, изменится.
— Это верно, — подтвердил Намнансурэн. — Право давать награды — признак независимого государства. И если они получат эти награды, вынуждены будут признать нас…
Батбаяр наконец кашлянул, и лишь после этого на него обратили внимание.
— Прошу прощения за беспокойство, — сказал Батбаяр. — В нашем вагоне появился какой-то подозрительный тип. Он стоит напротив вашего купе и, видимо, подслушивает.
— Что за человек? — спросил Намнансурэн.
— Похож на китайца, — ответил Батбаяр.
Доржийн Очир вышел в коридор, подошел к незнакомцу и обратился к нему по-китайски:
— Ты — китаец?
Незнакомец, блеснув глазами, улыбнулся и замотал головой, показывая, что не понимает вопроса.
— А монгольский знаешь?
Тот снова покачал головой. Доржийн Очир вернулся в купе и, затворив за собой дверь, сказал почти шепотом:
— Это либо китаец, либо японец. Не исключено, что лазутчик. Вам, господин премьер, ни в коем случае не следует выходить из купе! А вы, — он повернулся к Батбаяру, — глаз с него не спускайте! При нем может быть оружие, даже бомба. Надо как-то от него отделаться.
— Да что вы, право, — спокойно произнес Намнансурэн, наливая в стакан минеральной воды. — Это наверняка безбилетник: решил воспользоваться случаем и доехать до нужной ему станции. Вот и все…
Батбаяр вышел в коридор и шепнул Содному, чтобы тот встал рядом с незнакомцем и внимательно за ним наблюдал.
Незнакомец молча, словно статуя, стоял на старом месте и всматривался в темноту. Он простоял так всю ночь, не сомкнули глаз и Содном с Батбаяром. Из купе Намнансурэна время от времени доносились голоса. Когда на востоке едва забрезжил рассвет, поезд остановился на каком-то разъезде. За окном мелькнула фигура удаляющегося проводника. Батбаяр поймал взгляд Соднома и кивнул на незнакомца. Содном вначале не понял, но уже в следующий миг разгадал замысел друга. В мгновение ока они подхватили неизвестного и, не дав ему опомниться, выставили из вагона. Вскоре поезд тронулся, за окном вновь замелькали телеграфные столбы.
Утром премьер-министр вышел в коридор и первым делом спросил:
— Куда девался ваш «шпион»?
— С ним покончено, — ответил Содном.
— Как это покончено?
— Мы выставили его из вагона, — как ни в чем не бывало доложил Батбаяр.
— Что же вы натворили! На чужой территории, не разобравшись, выкинуть человека из вагона? Ведь, кроме служебного рвения, должен быть еще и здравый смысл!
По тому, как долго, не говоря ни слова, стоял премьер-министр у окна, было ясно, что случившееся его огорчило.
Около десяти дней длилось путешествие, и вот наконец монгольская делегация прибыла в Петербург, знаменитую во всем мире столицу России. Делегацию поселили в «Гранд Отеле». Гостиница поразила их своим пышным и богатым убранством: потолок поддерживали мраморные колонны, в нишах и на постаментах стояли скульптуры, на стенах висели картины, с которых застенчиво взирали на мир обнаженные женщины. Повсюду царили чистота и порядок.
Русские взяли на себя охрану премьер-министра Намнансурэна, поэтому у Батбаяра и Соднома, хотя они по-прежнему везде сопровождали своего господина, нет-нет да и выдавалось свободное время, чтобы побродить по городу, осмотреть его достопримечательности.
Город «ста рек и тысячи мостов», конечно же, ошеломил Батбаяра, простого худонского парня.
Величественная Петропавловская крепость с золоченым шпилем собора, Зимний императорский дворец, каменные колонны, многочисленные суда и суденышки, снующие по Неве, богатые дворцы знати на Васильевском острове, Исаакиевский собор с медными орлами, нависшими над площадью, словно грифы над пропастью, Невский проспект с его особой, ни на миг не смолкающей жизнью, памятник Петру Первому, — все это казалось Батбаяру истинным чудом, рождало в нем восхищение разумом и мастерством людей, сотворивших эту красоту, это великолепие. В то же время все увиденное всколыхнуло в нем желание сделать его родную страну такой же величавой и красивой. Батбаяр пристально всматривался в зеленоватую воду Невы, по которой, обгоняя друг друга, торопливо катились волны, и перед ним, словно живой, вставал образ девушки, самозабвенно кружившейся в танце…
В номер к Намнансурэну зачастили посетители; высокопоставленные чиновники в сюртуках и белоснежных рубашках с черными галстуками, чины военного ведомства в мундирах с ослепительно сверкающими золотыми позументами. Они подолгу беседовали с премьер-министром, после чего премьер-министр неизменно устраивал в их честь обед. Неоднократно бывал у Намнансурэна и русский консул в Монголии Коростовец.
— И этот пожаловал сюда, — сказал как-то Содном. — Видно, надеется навязать нам свои «предложения»…
Судя по разговорам чиновников, сопровождавших Намнансурэна, с самого начала было ясно, что дело, которое привело премьер-министра в Петербург, не увенчается успехом. И все же премьер-министр упорно стремился к намеченной цели: добиться у России и материальной помощи, и моральной поддержки. Изо дня в день он ездил в коляске то в один конец города, то в другой, в очередной раз с надеждой переступал порог очередного дворца, но, так и не добившись положительного ответа, выходил мрачный, подавленный. На обратном пути он все время тер виски, чтобы унять головную боль.
Дни проходили за днями. Но все, с кем встречался премьер-министр, выслушав его, уклонялись от прямого ответа и посылали его к другим, а те, другие, к третьим…
В один из дней состоялась церемония вручения монгольского ордена «Эрдэнийн очир» русским министрам. Все они явились на прием во фраках. Грузные, лысые, они с нескрываемым высокомерием посматривали на членов монгольской делегации. Премьер-министр Намнансурэн с развернутым хадаком в руках вышел на середину зала и спокойным твердым голосом произнес:
— Господа министры! Высоко ценя ваши заслуги в деле укрепления независимого монгольского государства, богдо-гэгэн награждает вас этой высокой наградой, символизирующей крепость и могущество.
Он называл фамилии награждаемых и вручал им ордена. А те в знак благодарности кланялись. Батбаяр видел, как русские чиновники, отойдя в сторону, прикалывали ордена к лацканам своих фраков. «Если они получат эти награды, вынуждены будут признать нас». Вспомнив эти слова, сказанные Намнансурэном в разговоре с Доржийн Очиром, Батбаяр радостно улыбнулся.
После церемонии премьер-министр Намнансурэн и премьер-министр России, он же министр финансов Коковцов, уединились в соседней комнате. Сказать о Коковцове «толстый» значило бы ничего не сказать; он был непомерной толщины и страдал одышкой. Говорил мало, видимо, придерживался принципа: «молчание — золото». Сановник сидел, развалившись в кресле, и по привычке посасывал свою маленькую трубку.
— Уважаемый премьер-министр! — обратился к нему Намнансурэн. — Дела наши продвигаются плохо, и без вашей помощи нам не обойтись. Я имею в виду просьбу нашего правительства о новом займе в размере трех миллионов рублей, а также согласно предварительной договоренности новую партию оружия для нашей армии. Хочу напомнить, что по вашему настоянию, мы прекратили военные действия против китайцев и отозвали свои войска. Однако китайцы, вместо того, чтобы вывести свои войска из известного вам района, активизировали свои действия. Как мне стало известно вчера, они захватили хошуны Хух нур, Авга да вана и сейчас угрожают хошуну Егузэр хутухты. В столь грозный для нашего государства час мы надеемся на вашу бескорыстную помощь.
Намнансурэн, не вставая с кресла, почтительно склонил голову. Ему пришлось ждать довольно долго, прежде чем Коковцов наконец заговорил:
— Со своей стороны мы могли бы порекомендовать Китаю вывести войска из Внутренней Монголии. В этом случае военные действия будут прекращены, и вам не понадобится новая партия оружия. Что же касается займа, то мы хотели бы, во-первых, получить от вас официальное разъяснение, на что будут использованы полученные деньги, а во-вторых, заручиться вашим согласием принять русского специалиста в качестве советника, прежде всего по вопросам использования вышеуказанного займа. И наконец, исходя из практики международных отношений, решать вопрос о новом займе следует после тройственной конференции[62], которая, надеюсь, окончательно определит международно-правовое положение Монголии.
Коковцов предложил также внести ясность в вопрос о пошлинах.
— Надеюсь, господину премьер-министру понятно, чем руководствуется наше государство, продолжая взимать пошлину с русских товаров, имеющих хождение в Монголии, — спокойно ответил Намнансурэн. — С финансами у нас туго.
— Ваша позиция в этом вопросе неправомерна! — возразил Коковцов. — Ведь мы не изымаем с вас пошлины.
— Хочу заметить господину премьер-министру, что до сих пор мы не вывозили свои товары в Россию. Вот если бы это было разрешено…
— К данному вопросу мы вернемся, когда ознакомимся с мнением нашего экономического эксперта, который будет аккредитован при вашем правительстве и на месте ознакомится с положением дел, — оборвал Коковцов Намнансурэна. — Полагаю, на этом нашу беседу можно закончить?
— Уважаемый премьер-министр! Не откажите в любезности выслушать еще одну просьбу, — поклонившись, произнес Намнансурэн. Коковцов кивнул.
— Не соблаговолите ли ознакомить меня с русским экземпляром тайной декларации, непосредственно касающейся Монголии, которую вы подписали с Китаем в ноябре нынешнего года в Пекине?
Для Коковцова эта просьба была неожиданной, и он пришел в замешательство. Изменились в лице и чиновники, присутствовавшие при беседе.
— Мое правительство полагает, что упомянутая декларация не представляет для вас никакого интереса, господин премьер-министр, — произнес наконец Коковцов и пристально посмотрел на Намнансурэна.
— Дело в том, господин премьер-министр, что сразу же после подписания этой декларации мне удалось получить китайскую копию этого документа. И я хотел бы сопоставить ее с русским экземпляром, чтобы вынести на обсуждение ряд вопросов. Если же вам не угодно ознакомить меня с этим документом, я позволю себе высказать свое мнение о нем, основываясь на китайском экземпляре.
— Я охотно познакомил бы вас, господин премьер-министр, с этим документом, но поскольку вы уже знаете его содержание, мы готовы выслушать ваше мнение, — сказал русский премьер. Он был явно раздосадован таким неожиданным оборотом дела и бросал грозные взгляды на чиновников, словно хотел сказать: «Уж не вы ли, голубчики, за взятку продали монголам государственную тайну?»
— Мы, разумеется, рады, — заявил Намнансурэн, — что намечено провести тройственные переговоры, которые могли бы определить международно-правовое положение нашей страны. Мы расцениваем это как предпосылку полного признания Монголии в дальнейшем, как подтверждение того, что вопрос о судьбе Монголии нельзя решить без ее личного участия.
В комнате воцарилась мертвая тишина, все напряженно слушали, а Намнансурэн, почти слово в слово стал излагать упомянутую декларацию.
— Но мы никак не можем согласиться с теми пунктами декларации, — продолжал Намнансурэн, — где исконные монгольские земли объявлены частью Китая, а также закрепляется раскол страны на Внутреннюю и Внешнюю Монголию. Посему, от имени моего правительства убедительно прошу вас, господин премьер-министр, оказать нам, желающим вечно жить в мире и дружбе с вашей великой державой, действенную помощь и поддержку в деле полного отделения нашей страны от Китая, а также выступить в роли гаранта независимости и самостоятельности нашего государства. Хочу также уведомить вас о том, что мое правительство готово обратиться с подобной просьбой ко всем великим державам; мы и впредь намерены стремиться к укреплению нашего государства.
«Да, их теперь голыми руками не возьмешь, — думал Коковцов, попыхивая трубкой. — Как могло случиться, что эти пугливые овцы вдруг образовали свое собственное государство? Надо быть с ними поосторожней, не то столкнут нас с китайцами, а от подобной стычки добра не жди…»
— На переговорах с новым китайским правительством мы как могли отстаивали интересы вашей страны, — сказал Коковцов тоном, в котором уже не было прежнего высокомерия, — и многого удалось достичь. Ваши просьбы, господин премьер-министр, я незамедлительно доведу до сведения государя и уверен, что государь благосклонно к ним отнесется.
— Господин премьер-министр! Мне поручено передать русскому государю личное послание богдо-гэгэна Монголии, а также вручить ему орден «Эрдэнийн очир» первой степени. Не могли бы вы исхлопотать для меня высочайшую аудиенцию?
— Мы немедленно доложим государю и об этой вашей просьбе, сделаем все возможное, чтобы ее удовлетворить. Однако прошу вас не утомлять его величество длинными беседами. Вас же, господин премьер-министр, прошу нынче у меня отобедать.
Коковцов учтиво склонил голову и расплылся в улыбке. Было очевидно, что и добродушный тон, и приглашение на обед не более, чем попытка хоть как-то выйти из неловкого положения, в которое он попал в связи с подписанием русско-китайской декларации.
В ожидании высочайшей аудиенции монгольские гости продолжали знакомиться с достопримечательностями русской столицы. После того как русско-китайская декларация перестала быть тайной, отношение царских сановников к монгольской делегации заметно изменилось в лучшую сторону.
Куда бы ни возили теперь монгольских гостей, будь то фабрика, океанский пароход или же торговые ряды, Намнансурэн везде был на редкость сдержан в словах. Конечно же, он по достоинству оценивал все интересное, что ему показывали в российской столице, выражал благодарность гостеприимным хозяевам, но делал это без тени подобострастия.
Однажды, побывав на текстильной фабрике и в магазине «Пассаж», монгольская делегация приехала на скотобойню; здесь их свели в подвал, где располагалась холодильная установка, замораживавшая только что освежеванное мясо Намнансурэна очень заинтересовала работа скотобойни, в особенности холодильная установка; он подробно расспрашивал о принципе ее работы, поинтересовался ценами на мясо. Затем подозвал Доржийн Очира и сказал:
— Вот бы нам такую, а? Тогда, вместо того, чтобы перегонять скот через границу на продажу, мы забили бы его и заморозили. Глядишь, цена на мясо стала бы более высокой.
— А шерсть и шкуры оставались бы у нас, — неожиданно выпалил Батбаяр, стоящий рядом с премьер-министром.
— Ты прав, Жаворонок, — повернувшись к телохранителю, ответил Намнансурэн. — Мы бы и их могли продать по сходной цене…
Делегация долго пробыла на скотобойне. Намнансурэн расспрашивал владельца, с кем можно заключить контракт на ее строительство, во сколько оно обойдется.
Вечером того же дня Намнансурэн и Доржийн Очир допоздна обсуждали создавшееся в последние дни положение.
— Стоило им узнать, что нам известно содержание декларации, — сказал премьер-министр, — как они резко изменили к нам свое отношение.
— Вы правы, господин премьер-министр, — согласился Доржийн Очир. — Не исключено, что нам удастся договориться с русскими и о предоставлении нам займа, и о поставках новой партии оружия. А вот признать нас как самостоятельное государство пресловутая декларация им мешает. Они и у царя не дадут нам высказаться, а после аудиенции постараются как можно быстрее выпроводить нас из России.
— Ничего, брат, — уверенно произнес Намнансурэн. — Попробуем высказаться…
Через несколько дней премьер-министр отправился из Петербурга в Ялту на аудиенцию к царю. Сопровождал его в этой поездке Содном, Батбаяр остался в столице.
Погода стояла сырая, промозглая, даже Нева еще не замерзла, и Батбаяр весь день провел в номере. А на следующий день, когда уже смеркалось, в дверь постучали. Это был служащий гостиницы Медведев, монголы между собой звали его Бавгайжав[63], и с ним еще какой-то человек, как выяснилось потом, волжский калмык, которого Бавгайжав попросил быть переводчиком. Надо сказать, что Бавгайжав весьма дружелюбно относился к членам монгольской делегации.
— Скучаешь? — обратился он к Батбаяру. — А я хочу пригласить тебя в гости.
Батбаяр растерялся.
— Да не бойся ты, — сказал Бавгайжав. — Мы такие же простые люди, как ты.
Через несколько минут они втроем уже шагали по едва освещенным лунным светом столичным улицам. Мрачные, серые здания, казалось, наступавшие на них со всех сторон, напоминали Батбаяру огромные разбросанные по степи валуны. Все время, пока они шли, Батбаяра не покидало тревожное чувство. Затем они долго плыли в лодке по незастывшим еще каналам, оставляя позади себя многочисленные мосты.
Наконец лодка причалила к берегу. Неподалеку стоял деревянный дом с окнами на залив. В этом доме и жил Бавгайжав. На крыльце гостей радостно встретили жена Медведева, моложавая, высокого роста, с пышными белыми волосами и двое его ребятишек — мальчик и девочка. Все вместе они вошли в дом, где было три светлых, аккуратно прибранных, скромно обставленных комнаты. Гостей пригласили к столу.
— Чувствуйте себя как дома, — сказал хозяин. — Если желаете — вот, пожалуйста, наш семейный альбом. — Бавгайжав подал альбом Батбаяру. — С минуты на минуту должен подойти мой приятель. Он хотел познакомиться с вами. Вообще-то, мы думали пригласить вас вместе с вашим другом Содномом, но пока премьер-министр был здесь, все было недосуг, а теперь друг ваш уехал.
Батбаяр впервые попал в русскую семью и ему все было интересно — и необычное убранство, и новые знакомые. Надо сказать, что сама атмосфера оседлой, устроенной жизни сразу пришлась ему по душе. Батбаяр невольно сравнил ее с извечными скитаниями и мытарствами по бескрайней степи своих соотечественников-монголов и подумал: «Может, именно в оседлой жизни путь к культуре и счастью?» Вскоре в дом вошел мужчина лет сорока, в черной крылатке, очках, с рыжеватой бородкой на бледном лице.
— Здравствуйте! Рад познакомиться с монгольским другом! — сказал он, крепко пожав Батбаяру руку. — Зовут меня Петр Иванович Железнов.
— Зовите его Тумуржавом[64], — улыбаясь, сказал по-монгольски калмык-переводчик. — Так вам будет проще.
Тумуржав был словоохотлив и держался очень непринужденно.
Бавгайжав очень внимательно прислушивался к каждому слову Тумуржава, и было ясно, что он относится к нему с большим уважением. Когда мужчины сели за стол, хозяин разлил по рюмкам желтоватого цвета вино.
— Выпьем за знакомство!
— А ты — молодец, Медведев, — опорожнив рюмку, сказал Тумуржав. — Французское вино у тебя в доме не переводится. Видно, ценят тебя твои господа.
— Я-то молодец, а вы что задумали? Царя-батюшку сбросить, меня без куска хлеба оставить, — в тон ему шутливо ответил Бавгайжав.
— Трудись, трудись! Ради общей пользы трудишься. Глядишь, поставят тебя когда-нибудь послом в этой самой Франции.
— Нравится вам в России? — спросил Тумуржав.
— Очень нравится, — ответил Батбаяр.
— А нам, представьте, совсем не нравятся здешние порядки. Зато женщины нравятся. — Он игриво взглянул на жену Бавгайжава. — А вам? Полноваты немного, а вообще хороши. Верно?
— Даже очень, — в тон Тумуржаву ответил Батбаяр. — У них такие красивые золотистые волосы, длинные, до плеч, такая белоснежная кожа. Настоящие горные козочки! Я, правда, близко ни с кем из них не знаком, но уверен в их душевности и прямоте.
— Братцы, а он недалек от истины. Что же касается близкого знакомства, надеюсь, эта женщина сумеет вам помочь. — Тумуржав указал на хозяйку дома и рассмеялся. Глядя на него, Батбаяр подумал: «У каждого, видать, свои привычки. Этот вот все пальцем тычет да усы подкручивает».
— А как вам нравится наша еда? — снова спросил Тумуржав. — Трудовой люд к разносолам у нас не привык.
— И еда ваша мне нравится, — ответил Батбаяр. — Вам ведь известно, что я сопровождаю премьер-министра Намнансурэна. Может, поэтому меня везде хорошо кормят. Да и вы меня пригласили в гости по той же причине.
— По-твоему, выходит, что нет ничего лучше, чем сопровождать своего господина?
— Как вам сказать. Хороший господин, и слугам хорошо. Но, как говорится: «Поссоришься с собакой, оторвет подол, поссоришься с нойоном — оторвет голову».
— Как? Как ты сказал? Очень любопытно!
— Еще у нас говорят: «Нойону не доверяйся, на гнилое дерево — не опирайся». Поэтому я не могу сказать, что нет большего счастья, чем следовать везде за господином.
Тумуржав вытащил из кармана записную книжку.
— С вашего позволения я запишу эти пословицы. Пригодятся. Может, вы еще какие-нибудь пословицы вспомните? Тоже про нойонов?
— Пословиц много, сразу все и не упомнишь. Ну вот хотя бы эту запишите: «Собака всех кусает, нойон всех угнетает». Или вот эту: «Собака живет без лести, а нойон — без чести».
— Мудро сказано, — быстро записывая, проговорил Тумуржав. — Видно, сильно в монголах стремление к борьбе. В пословицах — душа и чаяния народа.
— Вот что я вам скажу, друзья, — вмешался в разговор Бавгайжав. — В одном я с вами не согласен. Не все господа одинаковы. Намнансурэн совсем не похож на наших российских господ. Он честный, бескорыстный, а главное — искренне желает лучшей доли для своей многострадальной страны. За это я его и уважаю.
— Возможно, ты и прав, Медведев, — протирая очки, произнес Тумуржав. — В стране, изнывающей под гнетом своих и иноземных господ, всегда найдутся борцы, которые жизни не пожалеют ради освобождения народа от иноземного рабства и ради ее счастья. Может, Намнансурэн и есть один из этих борцов.
— Боюсь, как бы наши правители не отбили у Намнансурэна охоту бороться, — сказал Бавгайжав. — Хоть и говорит ваш премьер-министр, что никакие трудности его не остановят, а без помощи извне ничего у него не получится. Наши же господа не то что помогать, напротив, стараются еще и палки в колеса ставить. Да и не мудрено. Они думают, раз монголы смогли провозгласить независимость, то теперь, дай им только свободу, предпримут еще что-нибудь. А твой господин, Батбаяр, как увидит, что все усилия его напрасны, возьмет и уедет на родину, так и не поняв, что Россия завтрашняя будет иной. Иным будет и ее отношение к вашей стране.
— Ты прав, тысячу раз прав, — поддержал его Тумуржав. — Но пока рано говорить о завтрашнем дне. Однако разумный, трезвый политик, я думаю, разберется в сути происходящего.
— А что будет завтра? — спросил Батбаяр.
— Говоря о завтрашнем дне, мы имели в виду ближайшее будущее, — пояснил Тумуржав. — Настроение трудящихся масс в России таково, что в ближайшее время могут произойти важные перемены. Конечно, дело это — наше, внутреннее. Но и ваш народ, друг мой Батбаяр, должен для себя решить: страдать ли ему по-прежнему под гнетом эксплуататоров или же, взявшись за оружие, завоевать себе право на новую, лучшую жизнь. Я, брат, журналист, работаю в печатном органе одной рабочей организации. Интересуюсь Монголией, желаю ей только добра. И, если позволишь, хотел бы кое-что у тебя спросить.
— Я с радостью расскажу вам все, что мне известно, — смутившись, сказал Батбаяр. — А если чего не знаю, не обессудьте. Я ведь только слуга своего господина.
Беседа затянулась до поздней ночи. Тумуржав расспрашивал Батбаяра о климате и географическом положении Монголии, об образе жизни монголов, о положении бедных и имуществе богатых, о китайских и русских купцах, торгующих на территории Монголии, о газетах, которые выходят в стране, о недавних боевых действиях против маньчжурских войск. Тумуржав слушал очень внимательно, а потом сказал:
— Судя по твоему рассказу, Батбаяр, Монголия — страна очень отсталая, да и народу вашему несладко живется. Вы вот находились под гнетом Маньчжурской империи, а Маньчжурская империя сама явилась объектом экспансии великих держав. Не стало империи, и все же китайцы пытаются держать вас в повиновении. Делают все, чтобы Монголия оставалась бедной, экономически отсталой страной. Ваше стремление освободиться от чужеземного рабства, провозгласить независимость вполне справедливо. Но глупо было бы винить в ваших бедах китайский народ; он такой же бесправный, как и мы с вами. Власть предержащие — вот кто истинный виновник ваших страданий и бед. Так же обстоит дело и у нас в России: самодержавие — слепо и глухо к чаяниям народа…
Батбаяр слушал, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни единого слова, и думал: «Вот это человек! Как верно он говорит! Как широко мыслит, как искренне волнует его все, что происходит в нашем огромном мире».
Уже перевалило за полночь, а они все сидели и разговаривали.
Временами Батбаяр слышал, как шумит река. На сердце у него было радостно. «Хорошие люди, — думал он. — Со мной, простым слугой, беседуют как с равным. Интересно, о каких переменах они говорили?»
— Вот мы и познакомились друг с другом поближе. Надеюсь, что встречаемся не в последний раз, — сказал Бавгайжав, разливая по рюмкам вино.
— И я искренне рад нашему знакомству, — пожимая руку Батбаяру, проговорил Тумуржав. — Прекрасный был вечер, мы провели его с пользой. Счастливого вам возвращения на родину, уважаемый Батбаяр.
Они чокнулись, выпили и стали прощаться. Бавгайжав пошел провожать Батбаяра.
Они шли берегом залива, и тут Батбаяру показалось, что мир, весь огромный подлунный мир, вдруг ожил и, словно волны, бушует, грохочет…
Намнансурэн вернулся в Петербург через пять дней. Батбаяр встретил своего господина у входа в гостиницу и не заметил на его лице ни малейшего проблеска радости.
Не успел Содном войти, как Батбаяр его спросил:
— Ну, как съездили? Что видели?
— Проехались вдоль берега Черного моря. Замечательные места, скажу тебе. А какие женщины на набережной! Эта им и в подметки не годится, — сказал Содном, указывая на картину, висевшую на стене.
— Выходит, кроме баб на пляже, ты ничего не видел?
— Ну что ты! Мы плавали на пароходе, показали нам военные корабли. Поел я там вдоволь винограда и других фруктов. Словом, многое удалось посмотреть, спасибо господину.
— Спасибо господину, говоришь? А может, народу? Ведь это его волей мы сюда приехали, — возразил Батбаяр.
— А-а, не знаю, не знаю. Мы люди темные, тебе не чета. Где уж нам разбираться в таких премудростях, — с досадой ответил Содном.
— Ладно, нечего кипятиться. Лучше расскажи, как обстоят дела у нашего премьер-министра? Как вас там принимали?
— Э-э, брат. Принимали-то нас хорошо и угощали отменно. Да только вот дела наши недалеко продвинулись. Сейчас расскажу тебе все по порядку. Принимал нас царь в огромном дворце. Народу видимо-невидимо: все знать да высшие армейские чины. Сколько залов прошли, пока до главного дошли, я и со счета сбился.
— Ну и что дальше?
— Дальше. Вошли мы в зал для аудиенций. Премьер-министр подошел к царю и царице, развернул хадак, приветствовал их от имени богдо-гэгэна Монголии, а затем вручил им обоим ордена «Эрдэнийн очир». Царь что-то шепнул на ухо царице, а потом обратился к Намнансурэну:
— Много ли в Монголии таких, как вы, бравых мужчин?
Намнансурэн улыбнулся и, глядя на царя, не задумываясь, ответил:
— Таких, как я, государь, в Монголии бравыми не называют.
— Это — последнее, что я услышал с того места, где стоял. Господа сели в кресла и долго беседовали, переводчик переводил. Он-то и рассказал мне, о чем был разговор. Наш господин требовал, чтобы Россия признала Монголию как суверенное, независимое государство и чтобы был исключен из русско-китайской декларации пункт, где говорится, что территория Монголии является частью Китая. Намнансурэн прямо заявил, что наша страна никогда не согласится на вассальную зависимость от Китая. На это царь ответил:
— Мы думаем, что вам не следует пока ставить вопрос о создании суверенного государства. Наведите сперва порядок у себя в стране. Этого требует история! Возьмите хотя бы свое государство времени Чингисхана.
— Преклоняюсь пред вашей мудростью, государь! — сказал Намнансурэн. — Однако позволю себе возразить. Именно зависимость от другой державы и является главным препятствием на пути решения всех наших проблем, как внутренних, так и внешних. В сложившейся ситуации многое зависит от вашей страны, а посему нижайше просим вас, государь, нам помочь.
Царь помолчал и сказал:
— Так мы можем долго дебатировать, господин премьер-министр. А вы, я вижу, заядлый спорщик! Но на сегодня достаточно. Вернемся к этому вопросу после русско-китайско-монгольских переговоров. Благодарю за награды и прошу вас, господин премьер-министр, передать богдо-гэгэну привет и наилучшие пожелания!
— Прошу прощения, государь, за назойливость, — поднимаясь со своего кресла, сказал Намнансурэн. — Вряд ли нам представится возможность еще раз побеседовать, поэтому я позволил себе столь долго утруждать вас. На прощанье хотелось бы просить вас дать указание своему правительству руководствоваться на предстоящих переговорах по Монголии не только положениями русско-китайской декларации, но и законными интересами моей страны.
— Что ж, постараюсь, — уклончиво ответил монарх.
— Вот и все, — закончил свой рассказ Содном.
Батбаяр сидел за столом, подперев рукой подбородок. Не обрадовал его Содном новостями.
— Выходит — нам на роду написано быть вечно у других в подчинении, действовать по чужой указке, — едва слышно произнес Батбаяр, словно обращаясь к самому себе.
«И почему так получается? — думал он с грустью. — Сказал же Тумуржав: «У вашей страны тяжелое прошлое. Столько лет были вы под игом чужеземных завоевателей. А все же не захирела, не иссякла монгольская земля. Есть у нее и светлое будущее. Возродится на ней независимое государство. И тогда никто не скажет, не посмеет сказать, что бесследно исчезла монгольская нация, монгольская культура. А свою отсталость и мрачное прошлое вы должны предать забвению!» Вот как говорит он о нас, монголах! А царь и его чиновники испокон веку нас презирали, и не собираются менять своего отношения к нам. А ведь все они граждане одной страны: и Тумуржав, и царь, и его чиновники. Отчего же мыслят они по-разному? О каких это «важных переменах» говорил Тумуржав? И как могут они повлиять на судьбу нашей страны?..»
— А не прогуляться ли нам с тобой, друг, — прервал размышления Батбаяра Содном. — Частенько ты что-то грустишь в последнее время. По дому заскучал, что ли?
Они оделись и вышли из гостиницы. Декабрьская стужа пробирала до костей, но друзья, словно не чувствуя холода, шли и шли навстречу ледяному ветру. Они долго бродили по набережной Невы, наблюдая не очень понятную и необычную для них жизнь огромного города. Торопились по своим делам прохожие, сигналили зазевавшимся пешеходам трамваи. Батбаяру казалось, что всех их подгоняла какая-то невидимая сила. «Скорее! скорее!» «А где же сила, которая расшевелит, подтолкнет и нас там, в Монголии?» — думал Батбаяр.
Намнансурэн все же решил втайне от русских провести встречи с послами некоторых стран, аккредитованными в России. С утра до позднего вечера в его номере слышалась разноязычная речь. Лысеющего седовласого старца, опирающегося на трость, сменил франтоватый молодой человек в смокинге и котелке. За ним, ведя на поводке собаку, явился представительный мужчина в летах. Премьер-министр принимал их очень радушно, щедро угощал и за трапезой вел с ними долгие беседы. О чем шла речь на этих полуофициальных встречах, Батбаяр не знал. Лишь однажды ему довелось быть невольным свидетелем беседы премьер-министра с послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. В тот день Батбаяр прислуживал гостям.
Посол, приехавший в сопровождении помощника, был в сером костюме. Большие темные стекла очков скрывали глаза.
На этой встрече, как и на остальных, премьер-министр выражал надежду, что великая держава, которую представляет господин посол, признает независимость Монголии и между обеими странами будут установлены дипломатические и иные отношения. Посол, попивая чай и потягивая сигару, живо интересовался разными сторонами жизни Монголии.
— Я слышал, — говорил он с улыбкой, — что в Монголии считают скот на миллионы голов.
— Не совсем так, господин посол, — с лукавой усмешкой отвечал Намнансурэн. — Мы считаем свой скот не на миллионы, а на десятки миллионов.
— А болеют животные?
— Всякое бывает. Случается, что и болеют.
— И тогда бывает падеж?
— Бывает и падеж.
— У нас в королевстве созданы специальные ветеринарные пункты.
— Я слышал об этом, господин посол. Но наши скотоводы сами хорошо лечат скот.
— А, это не то! В ветеринарных пунктах леченье проводится научными методами.
— Знаю.
— Так вот, мы могли бы создать в Монголии такие пункты. А здоровый, тучный скот можно выгодно продавать за рубеж.
— Что ж, мы согласны. Вы нам — ветеринарные пункты, а мы вам что?
— Скот, шерсть, шкуры — у вас можно многое взять…
— Допустим, мы заключим с вашим королевством соглашение о создании в Монголии ветеринарных пунктов. Сколько таких пунктов вы могли бы у нас организовать?
— По крайней мере, сто. Не меньше.
— Сто? Зачем нам столько! Давайте начнем с одного.
— Да разве один ветеринарный пункт может обслужить столько голов скота?
— Организуете один такой пункт, а монголы народ понятливый: выучимся, и сами будем их строить.
Посол сделал недовольную мину и, не вынимая изо рта сигару, проговорил:
— Нет, это нас не устраивает. Что же касается признания вашей независимости, то этот вопрос мы решим после консультации с китайским правительством. Честь имею кланяться, господин премьер-министр.
Посол с трудом поднялся с кресла, надел шляпу и с важным видом удалился.
Во время беседы в номере находился Доржийн Очир. Когда за послом захлопнулась дверь, он встал и, нервно теребя родинку на щеке, сказал:
— Эти господа пекутся лишь о своей выгоде. Словно сговорились против нас.
— Да, вряд ли в мире найдется страна, которая нас поддержала бы, — со вздохом произнес Намнансурэн. — Кто посильнее, так и норовит проглотить слабого.
Батбаяр видел, как тяжело его господину и едва сдержался, чтобы не сказать то, что слышал от Тумуржава: «Россия завтрашняя будет иной. Иным будет и ее отношение к вашей стране». Вряд ли эти слова приободрили бы совсем приунывшего Намнансурэна.
— На худой конец нам хоть винтовки у русских заполучить бы, а там и возвращаться можно, — сказал Доржийн Очир.
— Полагаю, русские не меньше нашего обеспокоены развитием событий, — спокойно проговорил Намнансурэн. — Может, сыграть на этом? Есть тут у меня кое-какие соображения.
— Хотите припугнуть русских: если, мол, вы не станете нас поддерживать, придется у других стран искать помощи.
— Совершенно верно. Надо намекнуть, что мы собираемся дальше на Запад. Деньги, правда, у нас на исходе, но сидеть сложа руки не годится.
В тот же день Доржийн Очир отправился в Министерство иностранных дел сообщить о решении премьер-министра и уладить дела с паспортами, а премьер-министр поехал в военное ведомство все с той же просьбой о предоставлении Монголии оружия. Вместе с премьер-министром поехал Содном, а Батбаяр остался в гостинице.
Через некоторое время к премьер-министру явился японский дипломат, с которым Намнансурэн уже был знаком. В руке он держал газету. Затем пришли еще какие-то люди, которых Батбаяр видел впервые. Не успели они уйти, как появился Бавгайжав, тоже с газетой в руке, которую тут же развернул перед Батбаяром, и ткнул пальцем на одну из статей.
— Железнов — молодец! — произнес он, подняв вверх большой палец, и затем, мешая русские и монгольские слова, добавил: — Орос-хятад[65] договор, договор!
Батбаяр уловил, что речь идет о русско-китайской декларации.
— Я и Железнов, — улыбаясь, Бавгайжав указал сначала на себя, а потом на газету.
«Видно, хочет сказать, что он и Тумуржав написали статью», — подумал Батбаяр.
— Отдашь сайду! — Бавгайжав положил перед Батбаяром газету, крепко пожал ему руку и быстро вышел из номера.
Вскоре возвратился Доржийн Очир. Батбаяр отдал ему газету, хотел рассказать, как все было, но передумал. Ведь он умолчал о том, что был у Бавгайжава и там познакомился с Тумуржавом, сказал лишь, что газету принес Бавгайжав и просил передать ее премьер-министру.
Доржийн Очир вызвал переводчика, и тот перевел ему содержание статьи.
«Русско-китайская декларация, подписанная недавно в Пекине и непосредственно затрагивающая интересы Монголии, — позорный акт, имеющий своей целью раздел и порабощение вышеупомянутой страны. Все прогрессивные люди России гневно осуждают совместную русско-китайскую декларацию и надеются, что их поддержат правительства и народы других стран…»
«Наверняка это написали Тумуржав и Бавгайжав. Вот настоящие друзья Монголии. Много шума наделает эта статья. Японский дипломат чуть свет заявился к премьер-министру…»
Батбаяр с нетерпением ждал Намнансурэна, чтобы рассказать ему о событиях сегодняшнего дня. Но тот вернулся поздно, бледный, измученный, раздраженный. Видно, опять у него что-то не ладилось. Не переодеваясь, он стал шагать из угла в угол, погруженный в свои мысли. Таким и увидел Батбаяр премьер-министра, когда вошел к нему в номер. Руки у Намнансурэна слегка дрожали. Заметив Батбаяра, он сказал:
— Иди сюда, Жаворонок! Я должен тебе кое-что рассказать. Не успокоюсь, пока не поделюсь своими мыслями.
Батбаяр подошел.
— Сегодня я встретился с русским военным министром Сухомлиновым и снова завел с ним разговор о предоставлении Монголии новой партии оружия, в количестве, достаточном, чтобы вооружить десять тысяч цириков. Министр в конце концов согласился продать нам винтовки, но лишь половину того, что мы просим. Но и за это ему спасибо. Теперь, по крайней мере, мы будем обеспечены огнестрельным оружием. Как бы то ни было, русские нам помогли. А сами-то мы хороши! Так бессовестно обкрадывать свою родину, свой народ! Это просто уму непостижимо!
Таким Батбаяр еще не видел господина — на нем лица не было.
— Что случилось, Намнансурэн-гуай? — осторожно спросил Батбаяр.
— Поверь, тяжко даже говорить об этом! Так вот, распинаюсь я сегодня перед военным министром, молю продать нам оружие, а он возьми да и скажи: «На кой черт вам новое оружие понадобилось? Ведь в позапрошлом году двое ваших послов — один лама, другой как будто светский — закупили у нас две с половиной тысячи винтовок по три лана[66] за штуку». Тут я вспомнил, что действительно в позапрошлом году ван Ханддорж и да-лама Цэрэн-Чимид привезли из России винтовки. Только, по их словам, не три, а пять ланов платили они за каждую винтовку, да еще на границе по приказу иркутского губернатора с них содрали по три лана пошлины за каждую винтовку. Словом, здорово нажились эти двое на винтовочках. И это в такое тяжелое для страны время! Так-то, Жаворонок.
Намнансурэн вздохнул и снова зашагал по комнате.
— Послушай, Жаворонок! — Премьер-министр вплотную подошел к Батбаяру. — О том, что я тебе сейчас сказал, помалкивай. Поделился я этим с тобой, чтобы душу свою успокоить. А приеду в Монголию, ничего никому не скажу, не то, чего доброго, обвинят в интриганстве. Мне-то что! Пусть обвиняют. Но такое разоблачение может повредить нашему и без того не очень прочному единству. Прав я, Жаворонок! К тому же неизвестны подробности этого дела. О ване Ханддорже я всегда был высокого мнения: самоотверженный, всего себя отдавший борьбе за независимость монгольского государства. Мало кто имеет такие заслуги перед родиной, как он. А деньги? Сколько мы сами тратим их здесь на разные пустяки?!
Выговорившись, Намнансурэн успокоился. Даже порозовел.
Вошел Доржийн Очир с газетой и переводом напечатанной в ней статьи. Батбаяр поклонился премьер-министру и вышел из номера с таким видом, словно хотел сказать: «Я сохраню эту тайну».
На следующий день монгольскую делегацию пригласили посетить Петергоф. Запряженные породистыми лошадьми коляски выехали из Петербурга рано утром. По обеим сторонам дороги высились могучие сосны с седыми от инея кронами. Батбаяр радовался быстрой езде, прозрачному морозному воздуху, а главное тому, что наконец позади осталась вечная суета большого города.
Живописной была природа Балтийского побережья. Над бескрайней водной гладью высоко в небе плыли облака, а над самой водой, клубясь, поднимался пар, стелился туман. Эта картина напомнила Батбаяру замысловатые гобийские миражи, которые ему запомнились с детства. Недалеко от Финского залива в великолепном парке, сверкая позолотой крыш, стоял зеленый дворец. К его парадному подъезду и подкатили коляски с монгольскими гостями. Грянула музыка. С нарочитой помпезностью русские приветствовали премьер-министра Намнансурэна, явно испытывая неловкость после статьи во вчерашней газете.
Монгольским гостям показали картинную галерею. Затем в их честь был дан обед. И хотя за обедом чиновники Министерства иностранных дел произносили хвалебные речи в адрес монгольского премьер-министра, всячески превознося его мудрость, словом, как это обычно бывает на официальных приемах, Намнансурэн решил воспользоваться случаем и еще раз высказать свое мнение о событиях последних дней.
— Главная цель нашего приезда в вашу великую страну, — начал свою ответную речь премьер-министр, — к великому сожалению, не достигнута, но мы по-прежнему убеждены в том, что в будущем Россия станет надежной опорой нашей страны. Министерство иностранных дел России отрицательно отнеслось к желанию нашей делегации посетить другие зарубежные страны и установить с ними дружеские отношения. Нам было также заявлено, что до проведения трехсторонних переговоров Россия не может взять на себя роль посредника между Монголией и другими государствами. Что ж, на сей раз мы вынуждены подчиниться. Однако мы не пали духом, поскольку уверены, что рано или поздно своего добьемся.
Желая уклониться от обсуждения каких бы то ни было вопросов, сидевший рядом с премьер-министром высокопоставленный чиновник поднял бокал:
— Мы искренне уважаем вас, господин премьер-министр, за вашу рассудительность и проницательность…
Премьер-министр прервал чиновника и продолжил свою речь.
— Мы согласны принять, учитывая предложение вашего правительства, русского советника. Уверен, что он окажет нам помощь в деле укрепления независимого монгольского государства. В свою очередь, в целях упрочения отношений между двумя нашими странами мы желали бы иметь своего представителя в вашей стране. Я имею в виду гуна Доржийн Очира, он сейчас здесь, в этом зале.
Премьер-министр повернулся к Доржийн Очиру и представил его всем присутствующим. Тот поднялся со своего места и, поклонившись, сказал:
— Благодарю за доверие, господин премьер-министр! Сделаю все, что в моих силах, чтобы его оправдать.
В зале воцарилась тишина; чиновники переглядывались, как бы спрашивая друг друга: «Как понимать этот демарш главы монгольской делегации? С какой стати мы должны принять и аккредитовать у себя какого-то гуна?»
— Прошу прощения, господин премьер-министр! — первым нарушил затянувшееся молчание все тот же высокопоставленный чиновник, сидевший рядом с Намнансурэном. — Нам не совсем понятно ваше последнее заявление. Мы, пожалуй, можем продлить пребывание гуна Доржийн Очира в столице, познакомить его с различными промышленными предприятиями, но не более того…
— Уважаемые господа! Весьма признательны вам за внимание и заботу, — спокойно ответил Намнансурэн. — Особо хотелось бы поблагодарить вас за любезное согласие принять у себя в столице нашего представителя гуна Доржийн Очира, и пользуюсь случаем довести до вашего сведения, что наше правительство наделило гуна Доржийн Очира правами полномочного посла Монголии в России.
Чиновники снова начали переглядываться, шептаться. Наконец с места поднялся самый старший из них и сказал:
— Просим прощения, уважаемый господин премьер-министр! Но принять или не принять гуна Доржийн Очира в качестве полномочного посла Монголии может решить только государь. В нашу компетенцию это не входит…
— А как скоро нам станет известно решение государя?
— Еще раз извините, господин премьер-министр! Точно ответить на этот вопрос я не могу. Может быть, через три дня, а может, через три года. Не исключено также, что сразу же после предстоящих тройственных переговоров…
«Три года? — подумал Батбаяр. — А что, спрашивается, эти три года будете делать вы, если без царя не в состоянии решить ни одного важного вопроса?»
Вечером на обратном пути в Петербург Батбаяр спросил у Соднома, почему господин так настаивал на том, чтобы русские приняли гуна Доржийн Очира. Содном, не задумываясь, ответил:
— А как же иначе, дурья твоя башка! Этот ход господин наш, видать, обдумал заранее.
— Как?
— А вот как! Если Россия примет гуна Доржийн Очира в качестве полномочного посла Монголии, значит, она признает и само наше независимое государство!
«Да, мудреное это дело — политика, — размышлял Батбаяр. — И так старался наш господин, и этак. Но этих русских, видно, не проведешь. Хитрые они». Теперь Батбаяр понял, что имел в виду Намнансурэн, когда говорил, что у него есть какие-то соображения…
Накануне отъезда премьер-министр пригласил к себе в номер членов делегации и, когда был подан обед, и остатки архи, привезенной из Монголии, разлиты по рюмкам, обратился ко всем:
— Друзья мои! Какие же вы везете подарки вашим женам и детям? Ну что ж, погуляли, поездили мы с вами вволю. Верно говорится: «На хана нет узды, на нойона — недоуздка». Итак, если кому-то нужны деньги, не стесняйтесь, говорите.
Съездили мы не напрасно. Возвращаемся не с пустыми руками. Займ нам предоставили, оружие продали. Только пошли бы эти деньги на дело. Не промотали бы их… Не наша вина, друзья, что не удалось добиться главного: признания Россией нашего суверенитета. Да и в любой другой стране мы вряд ли нашли бы большее понимание, чем здесь. Зато здесь, в России, мы поняли, что многие люди с сочувствием относятся к нашим стремлениям. Что будет дальше? Как говорится, поживем, увидим!
В день отъезда монгольской делегации утром в гостиницу пришел Бавгайжав. Он всем пожал руку, пожелал счастливого пути, а Батбаяру сказал:
— Тумуржав просил передать тебе большой привет!
Батбаяр растерялся. Ведь рядом стоял премьер-министр и, конечно, слышал, что сказал Бавгайжав. «Вдруг начнет допытываться, кто такой Тумуржав. Что я ему скажу?» Однако Намнансурэн сделал вид, что ничего не слышал.
— Приезжайте к нам еще, непременно! — обратился Бавгайжав ко всем. — В следующий раз наш город не покажется вам таким мрачным и неприветливым.
Он поклонился и вышел из номера. Премьер-министр проводил его взглядом и, когда за ним затворилась дверь, задумчиво произнес:
— Бавгайжав вобрал в себя лучшие черты русского человека, честный, прямой, без тени лицемерия, с такими, как он, можно говорить откровенно и спорить. Неспроста, видно, монголы считают, что именно северная сторона приносит удачу и благоденствие.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ ОТСТАВКА
Зима в Монголии в том году выдалась снежная, с трескучими морозами. Батбаяр очень тосковал по дому. Он скопил немного денег на подарки для жены и матери, но когда пошел к начальнику стражи с просьбой отпустить его домой, тот ответил:
— Ты прямо как дитя малое, все к матери тянешься. И не проси, все равно не отпущу!
А Содном сказал:
— По жене соскучился? Ступай к дому цэцэн-хана. Твоя Даваху тебя ждет не дождется. Помнишь, как она танцевала тогда в Хандгайтской пади? Горная козочка, да и только! — Он помолчал и со вздохом добавил: — Нет, друг, не отпустят тебя, и не думай.
Пришлось Батбаяру смириться.
Намнансурэн круглые сутки разъезжал в своей коляске по городу, и Батбаяр неотлучно находился при нем. Лишь раза два ему удалось отлучиться, ноги сами несли его к высокому забору, за которым находилась ставка цэцэн-хана. Но, как выяснилось, цэцэн-хан с семьей и прислугой уехал в свои родовые владения. Это известие очень огорчило Батбаяра. Даже в Петербурге он мечтал о встрече с Даваху, живо представляя себе, как это будет.
Незаметно наступила весна, и в один из погожих дней Батбаяр как обычно дожидался господина, на этот раз возле дворца богдо-гэгэна. Он с интересом рассматривал каменных львов, «охранявших» вход, как вдруг из ворот вышел премьер-министр Намнансурэн и какой-то лама. Они о чем-то жарко спорили. На священнослужителе поверх традиционного желтого халата была шелковая куртка с вытканными на ней золотом драконами, на голове ладно сидела шапка с золотым очиром и жинсом из драгоценных камней. Желтое дряблое лицо его очень напоминало облупившееся лаковое деревянное блюдо.
Намнансурэн решительно направился к своей коляске. Лама семенил за ним, яростно размахивая руками, почти невидимыми из отделанных соболем рукавов, и что-то бубня себе под нос. Намнансурэн резко остановился и, повернувшись к нему, спокойно произнес:
— Драгоценный шанзотба! У меня нет ни малейшего желания продолжать разговор. Лишь из уважения к вашему сану я не стану говорить, что думаю о вас.
— Ясное дело, — огрызнулся лама. — Привык ты прятаться за чужими спинами. Вот и сейчас: привез этого русского и думаешь — всех осчастливил. А этот русский ничего не смыслит в наших делах.
— Э, нет, лама-гуай! — возразил Намнансурэн. — Это вам не ваш бывший покровитель, маньчжурский наместник Саньдо. Русский советник принесет нашему государству большую пользу. И не вам, который жалованье свое сосчитать не может, судить о таком образованном человеке, да еще требовать, чтобы его отправили обратно в Россию. Слишком много вы себе позволяете, любезнейший!
— Это вы, уважаемый премьер-министр, много себе позволяете! — вспыхнул священнослужитель. — Однажды даже объявили меня тайным агентом Цинской империи. А чем я вас сейчас не устраиваю, разрешите спросить? Может, вернемся к богдо-гэгэну, и вы при нем скажете, что я себе позволяю?
— Если понадобится, скажу и при богдо-гэгэне.
— Так скажите! Мне нечего бояться, я не вгонял в гроб свою мать, как некоторые…
— И скажу. Ваша глупость, алчность, зависть, низкопоклонство, ваше вероломство перешло все границы! Этого вам, надеюсь, достаточно.
Только сейчас он заметил стоявшего рядом Батбаяра, коротко бросил: «Поехали» и, не оборачиваясь, зашагал к коляске.
Лама так и остался стоять на месте, злобно глядя вслед Намнансурэну.
Батбаяр поспешил распахнуть перед своим господином дверцу коляски; Намнансурэн вдохнул полной грудью свежий весенний воздух и, усмехнувшись, спросил:
— Не слишком ли круто я с ним обошелся? Впрочем, поделом ему! А то вздумал меня отчитывать, что, мол, продался я русским, привез на нашу голову невежду-советника, и все в таком духе.
Намнансурэн уселся поудобнее и подал знак трогаться. Вид у него был спокойный, умиротворенный, словно и не было у него никакой стычки с ламой.
Батбаяр следовал на коне за коляской и размышлял над тем, что только что ему довелось услышать. «Не зря, видно, говорят, что ламы, прикрываясь именем богдо-гэгэна, пытаются в последнее время вытеснить с важнейших государственных постов светских феодалов-нойонов. Вот как нагло вел себя этот шанзотба. Он ненавидит русских. Но что будет дальше? Ведь этот желтолицый не оставит в покое Намнансурэн-гуая? Чересчур быстро успокоился мой господин. Самоуверен сверх меры. А ведь этот лама на любую подлость способен. Взять хоть те письма, которые я прочел в канцелярии в Кобдо. Это он их писал. Я точно знаю!»
Хоть Батбаяра и занимали все перипетии внутриполитической борьбы и, в частности, взаимоотношения премьер-министра с главой духовного ведомства, они не могли вытеснить из его головы мысли о доме. Намнансурэн как будто собирался к себе на родину, но скоро в Кяхте предстояли переговоры с участием России, Китая и Монголии, а до их окончания нечего и думать о возвращении домой. Всю весну и все лето Намнансурэн с утра до позднего вечера рылся в книгах, встречался и вел продолжительные беседы с разными нойонами и чиновниками. Чаще других у премьер-министра бывал высокий, худощавый мужчина. Как правило, он приезжал на коне, одет был просто: поверх дэла видавший виды жилет. Если бы не красный жинс — знак отличия гуна, — его можно было бы принять за простолюдина. Батбаяр долго присматривался к нему, пока наконец не вспомнил, что видел его во время осады Кобдо рядом с главнокомандующим Максаржавом. Он тогда ничем особым не выделялся — простой командир, один из многих. А ведь это был сам манлай-батор Дамдинсурэн, правая рука главнокомандующего Максаржава.
Всякий раз Намнансурэн угощал гуна Дамдинсурэна обильным обедом, после чего они подолгу беседовали.
Во время одной из таких встреч Намнансурэн вызвал Соднома. На кухню, где его ждал Батбаяр, тот возвратился не в духе.
— Эти господа, скажу я тебе, с жиру бесятся! — сердито проговорил он. — Есть чай с молоком, так нет, — подавай им байховый.
Ворча что-то себе под нос, Содном принялся разводить огонь. Батбаяр сидел на лавке и со скучающим видом поглядывал на приятеля.
— А Дамдинсурэн этот — малый что надо! — вдруг сказал Содном.
— А что? — оживился Батбаяр.
— Мы с вами, — сказал он прямо при мне Намнансурэну, — живем в достатке: хотим — работаем, хотим — пьем и едим. А наши подданные? Они света белого не видят от податей да повинностей. Их надо упорядочить и сократить. И если сейчас, на переговорах, китайцы потребуют с нас долги, я ни за что не соглашусь, делайте со мной что хотите!
— А господин что ответил?
— Как же без податей и повинностей? — говорит. — Без них нельзя! — а сам посмеивается.
За разговором друзья не заметили, как вскипела в котле вода.
В леса горы Богдо-уул, в окрестностях Урги, пришла осень, расцветив кроны деревьев всеми красками своей палитры. В городе жизнь шла своим чередом: монгольская делегация отправлялась на переговоры в Кяхту, и премьер-министр Намнансурэн ее провожал.
— Советую вам, друзья, — сказал он на прощание, — не очень-то расшаркиваться перед русским послом. Это может навредить нам в отношениях с Китаем. Наши просьбы мы уже довели до сведения русских. Другое дело — найти среди членов русской делегации полезного для нас человека. Над этим стоит поломать голову.
Намнансурэн преподнес главе делегации гуну Дамдинсурэну белый хадак. После того как все распрощались, гун Дамдинсурэн вскочил на коня и со словами «ну, с богом!» хлестнул его плеткой.
Намнансурэн долго стоял, глядя вслед удаляющимся. Он думал о гуне, от которого многое зависело на предстоящих переговорах.
— Смел и решителен гун, — вслух размышлял Намнансурэн. — Такой не унизится ни до обмана, ни до интриг даже ради достижения цели!
Батбаяр вместе с другими глядел вслед удаляющимся всадникам и думал, что мешок, притороченный к поясу манлай-батора Дамдинсурэна, который бился на ветру, раскачиваясь из стороны в сторону, очень похож на кусок мокрого войлока, с которым спешат тушить степной пожар. Но что пожар в сравнении с трудностями, которые встретятся на пути этому человеку…
Через несколько дней из Китая пришла телеграмма: «Сегодня начинаются переговоры». Получив ее, Намнансурэн быстро оделся и в сопровождении Батбаяра поскакал к зданию телеграфа и телефонной станции. На Намнансурэне был уже не новый дэл из коричневого шелка, на голове — торцок. Если бы не коса, в этом наряде его легко было принять за ламу из монастыря Гандан, который, сменив свое одеяние на простой дэл, спешит под вечер в районы простолюдинов. Батбаяр уже привык к тому, что последнее время его господин лишь в исключительных случаях надевал свой парадный дэл, парчовую безрукавку и шапку с султаном и жинсом. Даже на службу он часто отправлялся одетый скромно, по-домашнему.
На станции премьер-министр потребовал немедленно соединить его с главой монгольской делегации на тройственных переговорах в Кяхте. Молодой служащий не признал в скромно одетом человеке премьер-министра страны и разговаривал с ним сидя.
— Если разговор у вас не служебный, — сказал он, — вам следует прежде всего внести плату. Если же служебный, предъявите соответствующий документ с указанием своего имени и цели разговора.
Премьер-министр пришел в замешательство.
— Как же быть? — обратился он к Батбаяру. — Ведь переговоры уже начались! У тебя нет денег, Жаворонок? Второпях я не захватил кошелек.
У Батбаяра денег не оказалось, и он предложил:
— Я съезжу в министерство, привезу бумагу.
— В министерстве сейчас никто этого не сделает, да и печать на замке. Поезжай лучше ко мне домой, только быстрей. Скажешь госпоже, Намнансурэн прислал за деньгами.
— Сколько будет стоить два разговора с Кяхтой? — обернулся он к телефонисту.
Телефонист, все это время прислушивавшийся к разговору, видно, смекнул, что перед ним важная особа и спросил:
— Как ваше имя, господин?
— Намнансурэн.
— Перед вами премьер-министр Монголии, — добавил Батбаяр.
Телефонист сперва опешил, затем вскочил со своего места и пролепетал дрожащим голосом:
— Господин премьер-министр! Простите меня, ничтожного раба. В этом дэле я принял вас за простого…
— Ты ни в чем не виноват! — перебил его Намнансурэн. — Ты требовал то, что положено по закону. Я сам виноват: явился без надлежащего документа, без денег. А дэл мой тут ни при чем. Или ты думаешь, что министры должны всегда ходить франтами? Не пристало нам, монголам, гнушаться дэла!
— Ну что ж, сынок! — ласково глядя на телефониста, произнес Намнансурэн. — Поскольку мы с тобой уже познакомились, соедини-ка меня поскорее с Кяхтой. А деньги, или что там у вас положено, мы непременно принесем.
«Не сон ли это? Сам премьер-министр Монголии оправдывается передо мной!» Через несколько минут Намнансурэн уже говорил с одним из членов монгольской делегации на тройственных переговорах в Кяхте:
…— у нас-то все нормально. А вы как добрались? Живы-здоровы?.. Ну, слава богу. Переговоры начались?.. Так, так, хорошо. Говорите, прием устроили? Изложили свою позицию? Какова реакция?.. Китайцы отмалчиваются? А русские что?.. По-прежнему ни «за», ни «против»? Что ж, этого следовало ожидать. Теперь слушайте меня внимательно. И передайте все, что я сейчас скажу, гуну Дамдинсурэну. Во-первых, не заискивайте перед русскими. Во-вторых, ни в коем случае не соглашайтесь на консультации с китайцами без русских. Ясно? Ну и хорошо… Вот еще что: выступление главы китайской делегации запишите слово в слово и сразу же передайте мне. Жду ваших сообщений.
Пока премьер-министр беседовал с Кяхтой, телеграфист сидел как на иголках.
— Как же все неудобно получилось! Сказал бы сразу, что это премьер-министр Намнансурэн, — косясь на Батбаяра, прошептал он. — А теперь неизвестно, чем все это кончится.
— Да брось ты в самом деле! Не казнись. Мой господин уже все забыл.
— Только бы не подул ветер…
— А если подует?
— От ветра бывают помехи, слышно хуже, а то и совсем связь прерывается, — пояснил служащий.
Телеграфно-телефонная станция в Урге помещалась в небольшом, ветхом здании с черным от копоти потолком. Но ни грязный потолок, ни спертый воздух в тесной каморке, ни прочие неудобства не тревожили премьер-министра. Поговорив с Кяхтой, он прошелся по комнате, и взгляд его случайно упал на Батбаяра и служащего, которые словно застыли на своих местах.
— Уже поздно, — сказал Намнансурэн. — Зажгите здесь свет и идите домой, ужинать. Я буду ждать звонка из Кяхты.
Служащий вопросительно посмотрел на Батбаяра. Тот кивнул: «Чудак, конечно же, ступай домой».
Служащий робко поднялся с места и направился к выходу. «Кажется, пронесло», — было написано на его побледневшем лице. Но можно было с уверенностью сказать, что ночью он не сомкнет глаз.
Намнансурэн дневал и ночевал на телеграфе; сюда ему приносили еду, здесь же на деревянных нарах он отдыхал.
По несколько раз в день он разговаривал с Кяхтой. И вот, когда ему наконец сообщили, что выступил китайский представитель, Намнансурэн сказал в трубку «минуточку» и позвал Батбаяра:
— Быстро бери бумагу и карандаш и пиши.
Батбаяр приготовился записывать.
— Слушаю вас, — снова в трубку сказал Намнансурэн. — Диктуйте все слово в слово, мы будем записывать… Так!.. «Мы требуем ликвидировать суверенитет Внешней Монголии, считать ее впредь провинцией Китая и свести до минимума все ее права… Упразднить во Внешней Монголии правительство и все министерства. Все чиновники исполнительно-распорядительной власти должны назначаться властями Китая… Служащим китайских фирм и китайским гражданам, проживающим на территории Внешней Монголии, должна быть обеспечена неприкосновенность. Монголам запрещается иметь свой календарь, все монгольские чины и звания упраздняются…»
— Вот так требования! — вырвалось у Батбаяра.
Намнансурэн положил трубку. Внешне он был совершенно спокоен.
— Что скажете, друзья мои? — произнес премьер-министр, поглядывая то на Батбаяра, то на служащего. — Стоит нам принять требования китайских господ?
Буря бушевала в душе Батбаяра, но он лишь покачал головой.
— Это уж слишком, господин премьер-министр, — ответил молодой служащий.
— Я знал, что китайцы выдвинут подобные требования, — невозмутимо продолжал Намнансурэн, — а русские будут уклоняться от прямого ответа, хотя рады бы нас поддержать.
— Отчего же, мой господин? — удивился Батбаяр. — Разве русские не обещали вам в Петербурге помощь и поддержку на переговорах в Кяхте?
— Обещали. Но до этого они много китайцам наобещали, подписав с ними декларацию. И если нарушат свое обещание, китайцы тут же зашевелятся на их южных границах. А русским, конечно, не резон воевать на два фронта[67]. Китайцам же дай только повод, они живо сообразят, как его использовать в своих целях. Нет, братцы, в конце концов нам придется принять их требования. Но торговаться будем до последнего. Пусть потомки наши поймут, что этот шаг был временным отступлением, а не поражением. Вот что, дружок, соедини-ка меня с Кяхтой.
— Говорит Намнансурэн. Срочно передайте гуну Дамдинсурэну следующее. Путь заявит, что Монголия не может принять все двадцать два пункта, изложенные китайским представителем в ультимативной форме и настаивает на обсуждении внесенных нами ранее предложений. Как это сделать, пусть решает сам, в зависимости от обстановки. Если же изменений в позициях сторон не предвидится, пусть спросит напрямик у русских и китайских дипломатов: «Чего вы добиваетесь? Чьи интересы защищаете? Или вы полагаете, что монголам на роду написано вечно гнуть спину на маньчжурских и китайских господ? Почему нас на переговорах называют «Внешней Монголией», а не как подобает в равноправных международных отношениях «монгольской стороной» или же просто «Монголией»? Прежде всего гун Дамдинсурэн должен добиваться признания Россией и Китаем полной независимости нашей страны и заявить, что лишь в этом случае мы согласны должным образом обсуждать любые предложения других сторон. Если китайская делегация не сделает ни шагу в этом направлении, мы, в свою очередь, не пойдем ни на какие уступки. Пусть он так и скажет! Но избави его бог сказать лишнее, перегнуть палку — там сидят такие крючкотворы!.. Все записали? Хорошо. Ответ русских или китайцев сразу же телефонируйте…
Не прошло и минуты после разговора с премьер-министром, как с кяхтинского телеграфа к зданию, где проходили тройственные переговоры, сломя голову, помчался посыльный.
Переговоры длились несколько месяцев. Точнее говоря: не переговоры, а словесная перепалка, во время которой так и не удалось решить ни одного вопроса. Пессимисты уже поговаривали о том, что переговоры зашли в тупик. Но премьер-министр продолжал борьбу; регулярно разговаривал по телефону с Кяхтой, давал указания, встречался и консультировался со многими людьми здесь, в Урге.
Как-то Намнансурэн остался дома — ему нездоровилось, и Батбаяр с Содномом пошли прогуляться по городу. Они долго бродили по улицам, по базарам и наконец зашли в большой магазин фирмы Бэжин Содномдаржа. Пока они разглядывали разложенные на полках товары, из-за двери с окном, забранным решеткой, до их слуха донеслись голоса. Разговаривали двое — монгол и китаец. Голос монгола показался Батбаяру очень знакомым.
— Лучше отправить с письмом конного сегодня же, — сказал монгол.
— Хорошо, хорошо, — коверкая слова, проговорил китаец. — Я сегодня же пошлю человека.
Тут дверь распахнулась и из нее вышел и быстро зашагал через торговый зал сутулый, желтолицый лама. В нем Батбаяр сразу признал того самого ламу, с которым у его господина недавно произошла стычка. Одет он был в куртку из первосортного шелка и шапку с очиром. Потупив взор, лама быстро пробирался к выходу. За ним семенил пожилой, в шелковой ермолке китаец.
— Эй! Смотри! — подтолкнув друга локтем, сказал Со дном. — Что здесь понадобилось драгоценному шанзотбе?
Вслед за ламой и китайцем друзья вышли на улицу. Китаец, провожавший шанзотбу, заметил, что лама привлек внимание этих двух монголов, и поспешил их задержать.
— Я продавал этому большому ламе шелк и гутулы. А он не дает настоящую цену, торгуется. Ой, тяжело, тяжело, — китаец хитро улыбнулся и побежал обратно в магазин.
Содном, кивнув в сторону да-ламы, проговорил:
— Хитрая лиса этот святой отец. С виду овечка, а бодлив, как бык.
— Что ему здесь понадобилось? — недоумевал Батбаяр.
— Этот святоша способен на все, — ответил Содном. — За ним разве уследишь? Кого хочешь обведет вокруг пальца.
«Да, умен, ничего не скажешь, думал Батбаяр. — Вот если бы он свой ум на хорошее дело направил. Так нет же! Взять хотя бы то злосчастное письмо в Кобдоской канцелярии. И сегодня с китайским торговцем снова шла речь о каком-то письме. Что за письмо? Кому?»
Письмо, которое да-лама шанзотба переправил через китайского торговца в Кяхту, предназначалось главе китайской делегации на тройственных переговорах, и было для китайцев как бальзам на раны.
Прошло более полугода, и переговоры в Кяхте окончательно зашли в тупик. Пыл китайцев, упорно стремившихся навязать монголам свои требования, заметно поубавился. Дело в том, что Поднебесную раздирали внутренние противоречия, которые подтачивали и без того нестойкий ее организм.
Почему письмо, переданное шанзотбой, так обрадовало китайцев?
«…Уважаемый министр! — писал глава духовного ведомства Монголии. — Не смею поучать Вас. Позволю себе лишь довести до Вашего сведения, каково настроение наиболее влиятельных нойонов и представителей духовенства в Урге. Некоторые готовы принять выдвинутые вами на тройственных переговорах требования, в том числе и святейший богдо-гэгэн, при условии, что ему будут сохранены прежние звания, награды и соответствующее содержание. Главными противниками принятия ваших требований являются премьер-министр, хан Намнансурэн, и его единомышленник, глава нашей делегации на нынешних переговорах, манлай-батор Дамдинсурэн. Они с недоверием относятся к вашей стране, более того, затаили против нее лютую ненависть. Полагаю, Вы сами соизволите решить, как поступить с этими господами… Напоследок позвольте заметить, что упорство некоторых наших нойонов и лам может быть сломлено лишь при условии, что Великая Поднебесная будет твердо проводить свою мудрую политику…»
Уже через несколько дней китайский представитель получил письмо да-ламы и с пометкой «совершенно секретно» срочно отослал его в Пекин.
Неподалеку от храма Дэчингалбы к Батбаяру и Содному подошел лама с переброшенным через плечо орхимжи.
— Не купят ли господа чиновники жемчужное украшение? — спросил лама и показал небольшое, но великолепной работы женское украшение из жемчуга в позолоченной оправе. Батбаяру оно показалось очень знакомым. «Не этот ли жемчуг срезали у Дуламхорло, когда мы ездили на цам в Эрдэнэ зуу? — подумал он и, взяв украшение в руки, стал внимательно его рассматривать. — На том была коралловая бусинка с небольшой черной щербинкой. А здесь бусина без щербинки. Пожалуй, не то», — решил Батбаяр.
Содном, видя, что Батбаяр заинтересовался вещицей, решил прицениться на всякий случай.
— Купил я эту вещицу у одного знакомого ламы, а тому ее пожертвовал кто-то из верующих, — принялся объяснять лама. — Купил ее для сестры, и недорого: всего за семнадцать ланов. А тут случилось несчастье — из худона сообщили, что тяжело заболела мать. Хотел тут же поехать, да не на чем. Есть тут у одного человека пара добрых коней, но у меня денег нет. Вот и решил продать украшение…
— Нам некогда, — оборвал его Содном. — Говори прямо, сколько хочешь за эту безделушку?
— За сколько купил, за столько и продам, — с опаской поглядывая на друзей, проговорил лама.
— Покупай, Жаворонок! Жемчуг стоящий. У нас на родине за него пять яловых кобылиц дадут, — подтолкнув локтем друга, шепнул Содном. — Только скажи: куплю, мол, за пятнадцать ланов. Потом выгодно продашь…
Но Батбаяр сейчас думал не о выгоде, а о своей Лхаме: «Ведь у бедняжки никогда не было ничего подобного. Привез ей тогда кольцо, она продала его, чтобы купить юрту. Всю жизнь только и знала нужду и заботы. Вот возьму и привезу ей в подарок это украшение».
— Давай за пятнадцать ланов, — сказал Батбаяр ламе.
Лама почесал в затылке и кивнул:
— Ладно. Только расчет сразу!
Все вместе они пошли к юрте, где жили Батбаяр и Содном. По дороге Содном спросил:
— А жемчуг у тебя не краденый?
— Что вы такое говорите, господин чиновник, — замахал руками лама. — Я не какой-то там проходимец. Живу при помощнике настоятеля монастыря Гандан. Если что, можете меня там разыскать.
Дома Батбаяр подсчитал свои сбережения — нескольких ланов недоставало. Содном, не задумываясь, отдал ламе недостающие деньги.
— Да, брат, теперь жена тебя еще больше будет любить, — пошутил Содном. — Такую приличную вещь да так дешево отхватил! Смотри только, не снеси ее служанке жены цэцэн-хана…
В постоянных разговорах о возвращении домой проходили день за днем. Однажды утром, когда Батбаяр и Содном уплетали на кухне арул и пенки, споря, чья жена лучше готовит молочные яства, вошел Намнансурэн в домашнем одеянии, без пояса.
— Вот вы где, служивые! — весело проговорил он. — Все о доме да о женах толкуете. Видно, невтерпеж стало, и вовсю ругаете меня, что держу вас здесь так долго?
— Да что вы, господин, — чуть ли не в один голос ответили друзья.
— Вижу я, уже который месяц в глазах у Жаворонка написано: «Отпустите меня домой», — ласково сказал Намнансурэн, подходя к Батбаяру. — Угадал я твое заветное желание?
Батбаяр кивнул и опустил глаза.
— Все правильно. — Намнансурэн похлопал Батбаяра по плечу. — Молодой парень. Наверное, и жена у тебя молодая да красивая… Еще бы не рваться к ней!
Друзья заулыбались.
— Ну да ладно. Пошутили и хватит, — серьезно сказал Намнансурэн. — Потерпите еще немного. Скоро поедем домой — вот где вы вволю попьете кумыса, надышитесь багульником.
— А как же переговоры в Кяхте? — неуверенно спросил Батбаяр.
— Да, сложный вопрос ты задал мне, Жаворонок, — вздохнув, медленно проговорил Намнансурэн. — Больше полугода в Кяхте идут переговоры. Обсуждают, спорят господа послы, да так до сих пор ни о чем и не договорились. Дело дошло до того, что китайцы стали обвинять нас и русских в тайном сговоре. Русские же ввязались в войну на Западе и пока не в силах нам помочь. Китайцы всячески стараются свалить вину за срыв переговоров на нас. Теперь они требуют, чтобы мы прислали другую миссию. Не нравится им, видите ли, манлай-батор Дамдинсурэн. Слишком заносчив и крут, говорят. А остальных обвиняют в незнании международных норм и законов. Вот и сидим, ломаем голову, что предпринять.
— Как что? — проговорил Содном. — Уйти с переговоров — и все. Не вымаливать же нам у них свои права!
— И то верно, — поддержал друга Батбаяр. — Пусть китайцы поймут, что ни при каких условиях мы теперь не примем их требований. Ведь у нас независимое государство. Какое же они имеют право нам диктовать…
— Все вы верно говорите, — сказал Намнансурэн. — Только с китайцами так просто не повоюешь. Они всеми правдами и неправдами решили подмять нас под себя. А некоторым нашим ламам, да и нойонам, это пришлось по вкусу. Найдут китайцы зацепку, объявят всему миру, что мы одни во всем виноваты, и двинут на нас свою армию, а она по численности в несколько раз превосходит наше население. Мы рады бы постоять за себя, только где оружие взять? Русские не смогут помочь, а другие не захотят. Главное же, у наших правителей нет единства во взглядах по этому важнейшему вопросу. Их не тревожит, что страна снова пойдет на разграбление чужеземцам, страдать от этого будет народ. Сейчас нам необходимо как-то потянуть время. Но как?..
Через несколько дней по Урге прошел слух, что на переговоры в Кяхту поедет новая миссия и уже подписано тройственное соглашение[68]. Как стало потом известно, это соглашение ограничивало политическую свободу Монголии: страна хоть и признавалась самостоятельным государством, однако находилась в вассальной зависимости от Китая.
Стоит ли говорить, какой болью и возмущением отозвались в сердце каждого монгола эти недобрые вести!
Наступило лето, гора Богдо-уул укрылась ярко-зеленым ковром, на ее склонах зашумели листвою деревья. Оживленно стало на берегу реки Дунд: то тут, то там араты собирались группами, чтобы поиграть в свою любимую игру — шагай.
В один из таких дней премьер-министр Намнансурэн с Содномом вернулись домой необычно рано.
— Вот так-то, Жаворонок! — шепотом проговорил Содном, когда они с Батбаяром вошли во двор. — Видно, скоро поедем домой.
— Хорошо бы, — сказал Батбаяр. — А что случилось?
— Так и быть. Тебе расскажу, — ответил Содном, озираясь по сторонам. — Сижу я сегодня у ворот дворца богдо-гэгэна, дожидаюсь господина. Вдруг выходят два ламы-лекаря. Сели на скамейку, меня не видят, греются на солнышке да четки перебирают. Вдруг один из них и говорит: «Сайн-нойон-хан Намнансурэн — человек образованный, умный. Лучше бы оставался на своем посту. Но если будут настаивать, он, конечно, откажется».
Я ушам своим не поверил, тихонько подошел ближе и слышу, второй лама ему отвечает:
«Что толку теперь говорить об этом. Раз китайцам неугоден, ничего не поделаешь. Придется ему уйти». «Что правда, то правда, — говорит первый. — Китайцы об этом прямо сказали в своем послании».
«А что там в этом послании? — спросил второй. — Я, по правде сказать, не знаю».
«В нем говорится: «Срединное государство выражает глубокое удовлетворение восстановлением вечных дружеских отношений между Поднебесной и Внешней Монголией и будет способствовать укреплению единой семьи наших народов. Вам, святейший богдо-гэгэн, сохраняются все титулы, ибо у Срединного государства нет основания в чем-либо вас обвинять. Прочные узы, связывающие наши государства, ослабли, исчезло доверие. Вы, святейший богдо-гэгэн, были введены в заблуждение людьми неразумными, ваном Ханддоржем, сайн-нойон-ханом Намнансурэном, так называемым ваном, а на деле простым кочевником Дамдинсурэном. Их дальнейшее пребывание на занимаемых постах недопустимо. Все эти господа заслуживают самой суровой кары за свои преступления, направленные на раскол нашей единой великой державы».
«Да, яснее не скажешь, — проговорил второй лама. — Только наш богдо-гэгэн благоволит к сайн-нойон-хану, снимать Намнансурэна с поста премьер-министра не собирается. А да-ламе, видно, эти слова пришлись не по вкусу…»
— Вот, дорогой Жаворонок, что мне довелось сегодня услышать, — сказал Со дном. — Может, рассказать обо всем министру? Как думаешь?
— Наш господин и без тебя это знает, — ответил Батбаяр. — Потому и сказал, что скоро поедем домой. Да и зачем господину оставаться на своем посту? Чтобы ходить в холуях у китайцев?
— Может быть, ты и прав, — после некоторого молчания проговорил Содном.
Через несколько дней премьер-министр Намнансурэн, министр иностранных дел Ханддорж и военный министр манлай-батор Дамдинсурэн подали в отставку. Говорили, что они сделали это по собственному желанию, но Батбаяр знал, почему так случилось. «Хорошо, если на этом все кончится, — думал он. — Не дай бог, чтобы господина постигла участь его бывшего приближенного гуна Хайсана. Говорят, он узнал, что да-лама шанзотба обрюхатил свою служанку, а дочь, которую она родила, подарил своему приятелю-китайцу. Опасаясь, как бы Хайсан не дал делу огласку, шанзотба оклеветал его перед богдо-гэгэном, обвинив в государственной измене. Хайсана схватили и бросили в тюрьму. Да, с этим шанзотбой надо держать ухо востро…»
Наконец-то настал день, когда Батбаяр, сопровождая своего господина, теперь уже бывшего премьер-министра Монголии Намнансурэна, увидел родную и знакомую с детства долину реки Онги. Устланная белым цветочным ковром, она, казалось, раскрыла объятия навстречу своему сыну.
На просторном дворе господского поместья Аюур бойда без конца кланялся Намнансурэну. Потом подошел к Батбаяру.
— Как доехал, сынок? — лицо его расплылось в умильной улыбке. — Давно ты у нас не был. А бойкий ты у нас. Уехал на запад простым цириком, а возвращаешься с востока, и не как-нибудь, а в свите самого господина. Дошли до нас слухи, что вместе с господином ты чуть ли не полмира объехал, даже в России побывал. Молодец! Мать твоя жива, здорова. Недавно заходил к ним…
Аюур бойда запнулся и, не зная, что бы еще такое сказать, заторопился, будто по делам.
Батбаяр, зная лисьи повадки своего прежнего хозяина, нисколько не удивился такому ласковому приему. Аюур бойда же, видно, решил окончательно поразить Батбаяра своим гостеприимством: в юрте, где разместили телохранителей Намнансурэна, он велел приготовить для него деревянную кровать и поставить ее на самом почетном месте — в хойморе.
Тем временем хозяева отобедали в своих покоях и отдыхали. Улучив минутку, Аюур бойда пригласил Батбаяра к себе в небольшой деревянный дом, где жил все эти годы.
— Присаживайся, сынок. Видно, устал ты с дороги, проголодался. Я велел приготовить для тебя обед.
Старик поставил перед Батбаяром тарелку с дымящейся бараниной, а рядом — кувшин с холодным кумысом.
— Ты не стесняйся, сынок. Ешь, ешь. — Аюур бойда достал графинчик с молочной водкой, разлил по пиалам и, поднеся Батбаяру, сказал: — Отведай. Это наша Дуламхорло своими руками делала.
От водки старик стал еще более разговорчивым.
— Любо-дорого на тебя смотреть, Батбаяр. Господин тебя ценит, да и сам ты парень не промах. Чего только ни повидал, когда ездил с господином. Так мы за тебя радовались, когда узнали, и говорим с женой: «Господин у нас мудрый, сразу отличит хорошего человека от плохого». А наш Донров так и остался непутевым. — Аюур бойда безнадежно махнул рукой. — Много о себе понимает, мать с отцом ни во что не ставит. Только и слышим от людей о его проделках. Чего-то мы с женой не доглядели. Вот и сел он нам на шею…
Странно было Батбаяру слышать от своего бывшего хозяина подобные речи. «Неужели Аюур бойда на старости лет решил покаяться? А может, это он юлит, потому что сынок его снова где-то напакостил?»
Аюур бойда то и дело подливал себе то водку, то кумыс. В конце концов он изрядно захмелел и, склонившись над столом, из-под тяжелых век сверлил Батбаяра своими мутными глазами. От его колючего взгляда Батбаяру стало не по себе, и он подумал: «Этого человека надо постоянно остерегаться».
— А мы недавно перебрались на летнюю стоянку, — еле ворочая языком, продолжал Аюур бойда. — Теперь все наши в Бадае. Тебе повезло, сынок: лето выдалось нынче хорошее. Поезжай-ка ты в Бадай, попьешь вдоволь кумыса, покатаешься на лошади. Выбирай любого жеребца из моего табуна, какой понравится, не стесняйся. Одним словом, отдыхай. А то, не ровен час, опять уедешь в столицу. Такая уж наша доля — всегда быть рядом с господином.
От этих слов подозрения Батбаяра рассеялись, он поблагодарил старика за угощение и пошел спать.
На следующий день Батбаяр отправился к Намнансурэну. Тот разрешил ему взять жеребца из его табуна и съездить на полмесяца домой.
— Дай Жаворонку побольше конфет и печенья. Пусть угостит соседских ребятишек, — приказал Намнансурэн Аюуру бойде.
— Будет сделано, мой господин, — ответил казначей с поклоном, видимо, задетый за живое столь благосклонным отношением хозяина к простому слуге. Аюур бойда даже в лице изменился. Но Батбаяр ничего не заметил. Ему сейчас было не до старика. Он рвался домой, чтобы поскорее увидеть жену, и вечером того же дня отправился в путь. Он переправился через реку Онги, затем во весь голос затянул свою любимую песню и погнал коня вперед. Перевалив через Хангайский хребет в районе Хятруна и обогнув сопку Хоргой хурэм, Батбаяр решил дать отдых взмыленному коню. К тому же впереди уже показался тот самый скалистый утес, возле которого они с Лхамой провели свою первую ночь. Он помнил все до мельчайших подробностей: как они скакали вдвоем на одной лошади, как он обнимал Лхаму, а она смотрела на него своими большими, чуть испуганными глазами. «Странно, — думал Батбаяр, сидя у утеса и дымя трубкой. — Как давно все это было, а кажется, будто вчера…»
Вот он и дома: ласкает слух журчание Орхона и курлыканье журавлей, радуют глаз поросшие тенистыми лесами величественные горы Хангая. На широком зеленом ковре долины белеют четыре юрты. «Пожалуй, самая большая из них и есть новая восьмистенка Аюура бойды, о которой он говорил мне», — подумал Батбаяр и на довольно большом расстоянии от нее увидел свою плохонькую юрту. Радость захлестнула Батбаяра: наконец-то он дома!
Из юрты выбежала мать в наспех наброшенном на плечи дэле.
— Сынок! Ты приехал? — вскрикнула она, надела дэл в рукава и только после этого обняла и поцеловала сына. Из соседней юрты, бросив половник и котел, — она готовила творог, — выбежала Лхама. Не передать словами радость, заискрившуюся в ее влажных от слез глазах!
Мать заметно поседела, еще больше осунулась, на лице прибавилось морщин. Не ускользнуло от Батбаяра и то, что Лхама, словно ребенок, то и дело смущенно отводит в сторону глаза. Ее густые волосы поредели, лицо было все в веснушках. Она исхудала, только живот заметно выдался вперед. Лишь глаза остались прежними: их теплый доверчивый взгляд, как и раньше, согревал Батбаяра.
— Эх, сынок, сынок, — с тяжелым вздохом проговорила Гэрэл. — Сколько мы тут без тебя горя хлебнули. Из-за меня, дуры, и жене твоей досталось. Ну да все теперь позади. Слава богу, дождалась я тебя. И к нам пришла радость!
Старуха засуетилась у печки. Тем временем в юрту вошли братья и сестры Лхамы. Начались расспросы, обмен новостями. Вдруг Батбаяр заметил в дверном проеме юрты Донрова, бегущего к коновязи. На нем был длинный, с разрезами по бокам дэл. Оседлав быстроногого коня, он умчался в направлении Онгийн хурээ. «Что это с ним? — удивился Батбаяр. — От меня, что ли, прячется?»
Вскоре пришла теща и тесть, только что вернувшийся с пастбища. Ханда расцеловала зятя и принялась расхваливать его на все лады. Обычно сдержанный и немногословный тесть, увидев белый стеклянный жинс на шапке Батбаяра, не отставал от жены.
— Здравствуй, сынок. Поздравляю тебя с повышением! Ты у нас и впрямь как перелетная птица. Оперился и полетел по свету. Мир посмотреть, ума-разума набраться — это дело хорошее, достойное мужчины. А у нас все по-прежнему. Слава богу, живы, здоровы. Ну, рассказывай, где был, что видел.
— Повидал я много, — сказал Батбаяр. — Но вот что я вам скажу: мало на земле мест, где была бы такая неразбериха, как у нас, в Монголии, где бы люди, которым, казалось бы, и делить нечего, вечно грызлись и топтали друг друга. Впрочем, ладно, не будем об этом.
Батбаяр раскрыл свою походную сумку и раздал всем свои немудреные подарки. Когда же очередь дошла до Лхамы и он протянул ей жемчужное украшение, та умоляюще на него посмотрела, словно хотела сказать: «Я не достойна твоего подарка, потому что не сохранила верность тебе, любимый». Не выдержав пристального взгляда Батбаяра, она отвернулась и тихонько заплакала. В юрте воцарилась напряженная тишина. Ее нарушил Дашдамба-гуай. Нервно теребя усы, он сказал:
— Жизнь, сынок, — непростая штука. Много в ней грязного, мерзкого. Но ты, я уверен, не падешь духом при первом же ударе судьбы.
Батбаяр понял: что-то случилось здесь, пока его не было, и обвел взглядом сидевших с мрачным видом родственников.
Когда все разошлись, с хлопотами по хозяйству было покончено и Батбаяр с Лхамой остались вдвоем, Лхама крепко обняла мужа, уткнулась лицом ему в грудь и дала волю долго сдерживаемым слезам отчаяния.
— Что с тобой, Лхама? — лаская жену, без конца спрашивал Батбаяр. Лхама никак не могла успокоиться. И лишь перед самым рассветом, едва слышно проговорила:
— Я тяжелая.
У Батбаяра перехватило дыхание. Он не знал, что делать, что говорить. Но усилием воли поборол минутную слабость и после некоторого молчания сказал:
— Что ж теперь сделаешь, Лхама. Ты только не плачь, не мучай себя.
Лхама была уверена, что Батбаяр ее оттолкнет, не захочет с ней говорить. Но, услышав слова утешения, почувствовав, что он еще крепче ее обнимает, успокоилась и с благодарностью взглянула на мужа.
— Я думала, ты… — дрожащим голосом начала было Лхама, снова брызнули слезы из глаз, и она спрятала лицо у него на груди.
«Бедная! Как она страдает! — думал Батбаяр. — Но ведь я тоже виноват. Порою, забывая ее, думал о Даваху… А что, если это ребенок Донрова? Нет, только не это». Он боялся спросить, но удержаться не мог.
— Когда это случилось? Кто отец ребенка?
— Мне тяжело об этом с тобой говорить, — сквозь слезы произнесла Лхама. — Но я должна рассказать тебе все, чтобы навсегда не потерять твоей любви, твоего доверия.
— Лхама, милая! Мы не должны скрывать друг от друга свою боль…
— Знаю, дорогой, знаю, только боюсь ранить твое и без того настрадавшееся сердце.
— За меня, Лхама, не беспокойся. У меня нервы крепкие. О себе подумай, — нельзя же так убиваться.
— Ну что ж, тогда слушай, — тяжело вздохнув, сказала Лхама. — Мы думали, ты скоро вернешься. Все ждали тебя. А ты как уехал, как будто пропал. Весной на Цаган сар[69] к хозяевам наехало много гостей, твоя мать весь день простояла у котла — пельмени готовила. Вспотела и вышла во двор, вот ее и продуло. Ночью у нее сделался жар, а через несколько дней она и вовсе слегла. Все сокрушалась, что не дождется тебя. Отец мой принес ей лекарство, чтобы она пропотела. Я пошла к хозяйке попросить мяса на бульон, но ее дома не застала, она уехала на несколько дней к родным. В юрте никого не было, кроме Донрова, он топил печку. Я так обрадовалась, когда в ответ на просьбу он предложил взять из загона любого барашка. Но только было я собралась выйти из юрты, как он взял меня за руку, подвел к хоймору и погасил лампу. Я не сразу поняла, в чем дело, помню только, сердце бешено застучало, всю меня затрясло. Хочу закричать — ведь отец тут же, в соседней юрте — а не могу…
Голос Лхамы дрогнул, и она снова заплакала.
— Ну будет тебе, Лхама, успокойся…
Наутро, выйдя из юрты, Дашдамба увидел, что гость стоит на краю стойбища, курит и всматривается в даль. «Помирились, видно», — очень довольный подумал старик и подошел к Батбаяру. Они поговорили о том о сем, а потом Дашдамба сказал:
— Послушай меня, старика, сынок. Недобрыми вестями мы тебя встретили. Но хоть и молод ты годами, а немало пришлось пережить. Ума тебе не занимать. Сам понимаешь, был бы ты рядом, ничего не случилось бы.
Как бы то ни было, Лхама пострадала из-за матери Батбаяра. Это, видно, хотел сказать старик.
Батбаяр молча слушал тестя и все смотрел на поросшие лесом высокие сопки. Затем, резко повернувшись, сказал:
— Отец! Что теперь говорить об этом — только душу травить. Видно, так предопределено свыше: одним править и богатеть, другим подчиняться и страдать.
После этих слов старик почувствовал угрызение совести и сказал:
— Как легко, однако, ошибиться в человеке… — Ведь он был уверен, что Батбаяр, узнав о случившемся, бросит его дочь. Батбаяр понял, что творится в душе старика. Да и сам он был не так уж мирно настроен, как это могло показаться на первый взгляд.
— Как бы то ни было, мы еще встретимся с этим Донровом и поговорим как мужчина с мужчиной, — решительно заявил Батбаяр. — Всякие скоты будут поганить наши дома, позорить наших жен, а мы что же, должны молчать? Нет уж! Судиться я с ним не стану. Закон все равно будет на его стороне, да и вас на всю округу ославишь. Но защитить честь жены — мой долг!
Видя, как распалился зять, Дашдамба стал его урезонивать:
— Твоя мать и мы с моей старухой жизнь прожили. Нам уже ничего не страшно. А вот вам, молодым, еще жить да жить. Так что, сынок, прежде чем действовать, все хорошенько обдумай. А о нас не беспокойся. Куда ты, туда и мы.
И Батбаяр уже не в первый раз подумал: «Умный у меня тесть, рассудительный. — Он с благодарностью посмотрел на Дашдамбу-гуая. — Понимает, что, нацепив на шапку этот стеклянный жинс, я не стану, как другие, ни перед кем пресмыкаться, даже перед ханом, а сам смогу за себя постоять».
— Донров — трус, он побоится встретиться с тобой с глазу на глаз, — продолжал Дашдамба. — Видел, как он удрал, заметив тебя? Но и ты, сынок, не давай волю гневу. Не ровен час, и оступиться можно. Вот о чем лучше подумай. С каждым годом нам все трудней и трудней становится жить при семье Аюура бойды. Хозяйство ханского казначея растет как на дрожжах. Вон у него какие юрты! А на наши посмотри — войлок как тряпка стал, весь латаный-перелатаный. Коз наших по пальцам пересчитать можно, да и те кожа до кости. А хозяйский скот в загоне не умещается.
Батбаяр оглянулся. Да, действительно, батрацкие юрты отличались от хозяйских, как небо от земли.
— Папаша тайком свозит сюда ханское добро, — говорил Дашдамба. — А сынок тут же сбывает его на стороне. Сундуки ломятся, а все мало!
Дверь хозяйской юрты отворилась, и из нее вышла Дуламхорло. Увидев Дашдамбу и Батбаяра, она быстро вернулась в юрту, подвязала пояс, надела торцок и чуть ли не вприпрыжку подбежала к Батбаяру. После традиционных взаимных приветствий Дуламхорло чмокнула его в лоб и игриво сказала:
— Настоящим мужчиной вернулся наш Жаворонок!
Хозяйка вела себя как ни в чем не бывало, будто понятия не имела о том, что натворил сынок. Батбаяр тоже ничем не выдал себя. Дашдамба одобрил его в душе. Разговор зашел о повседневных делах, о том, что лето обещает хороший нагул скота.
— Повезло тебе с погодой, — сказала Дуламхорло. — Попьешь кумысу, навестишь родных и знакомых. Чем не отдых! А вот наш бездельник от рук отбился. Вечно шляется где-то. Совсем дорогу домой забыл. А все отец — избаловал свое чадо. Теперь ума не приложу, что с ним делать. А ведь как было бы хорошо вам обоим оседлать резвых скакунов и в степь…
Батбаяр слушал Дуламхорло и вспоминал, что примерно то же слышал совсем недавно от ее мужа. Видно, сговорились, как держаться на случай, если вдруг приедет Батбаяр.
Дуламхорло, хорошо себе представляя, как настроен сейчас Батбаяр, решила о сыне больше не заговаривать и спросила:
— И надолго ты залетел в наши края, Жаворонок? Хоть бы до осени пожил. Какой у нас нынче кумыс! Зайдешь отведать или прислать тебе кувшинчик? Не стесняйся, заходи.
С этими словами она повернулась и, покачивая бедрами, пошла к своей юрте.
После объяснения с мужем у Лхамы отлегло от сердца, и, едва проснувшись, она вышла из юрты, щурясь под лучами яркого утреннего солнца. Словно впервые в жизни услышала она журчание реки, увидела вдали вершину Сарьдаг, почувствовала, какой свежий и чистый воздух в ее родном краю. Постояв немного на дворе, она вернулась в юрту, попила чаю, вплела в косы подаренный Батбаяром жемчуг — пусть видит хозяйка — и пошла доить кобылиц. Глядя на Лхаму, родные от души радовались, так проворны и легки стали ее движения, так заблестели ее глаза.
Дуламхорло сразу приметила украшение в волосах Лхамы и буквально сгорала от желания поближе его рассмотреть. Она налила в кувшин кумыс и подошла к Батбаяру, который сидел вместе с Лхамой на перевернутой корзине.
— Отведай, Жаворонок, нашего кумыса. Думаю, тебе понравится, — сказала она и повернулась к Лхаме: — Ой, какое замечательное украшение! Дай-ка посмотреть поближе.
Дуламхорло вытащила у Лхамы из косы нить жемчуга и принялась разглядывать.
— Какая прелесть! Точь-в-точь какой был у меня. Хотя нет, у того оправа была поизящнее, да и жемчужины побольше. Но этот мне тоже очень нравится.
Батбаяр и Лхама хорошо знали хозяйку. Что ей приглянулось, непременно отнимет, любым путем. Кто вправе носить дорогое украшение? Никто, только она. Так считала Дуламхорло, и если у кого-нибудь из женщин такое украшение появлялось, приходилось либо продать его Дуламхорло, либо запрятать подальше в сундук.
Над Онгинским монастырем сгущались сумерки. В монастыре затрубили в ритуальные трубы и рожки, возвещая о начале вечернего богослужения. Донров, ведя на поводу коня, вошел во двор, где стоял плохонький домишко отца. Лама-сторож, признав сына Аюура бойды, побежал к дому сайн-нойон-хана, чтобы позвать старика казначея. Аюур бойда тотчас же вышел. С толстой палкой в руках, которой он отбивался от бродячих собак, в непомерно длинном дэле, испуганный, бледный, он походил на кладбищенского вора. Они вошли в дом. Аюур бойда, глянув на сына из-под тяжелых век, спросил:
— Что-нибудь случилось дома? — на языке вертелся совсем другой вопрос: «Как Батбаяр? Не от его ли ножа ищешь ты здесь спасенья?»
— Все в порядке, — ответил Донров.
— Какого же черта ты вызываешь меня сюда, вместо того, чтобы явиться прямо в дом хана? — обозлился Аюур бойда.
— Как ты не понимаешь, отец! Нельзя мне сейчас попадаться на глаза дружкам Батбаяра.
— А сам-то он приехал домой?
— Приехал. Куда он денется.
— Виделись вы с ним?
— Ты что говоришь, отец?!
— Ничего особенного. Встретились бы, поговорили.
— Вот простота-то… Ты что, ничего не знаешь?
— Что-то припоминаю. Мать говорила. Опять напакостил, сукин сын. Значит, не встретились?
— Какое там! Смотрю, слезает с коня — важный такой, на шапке жинс. Ну, я тут же ускакал, только меня и видели.
— А сюда зачем пожаловал? Нет чтобы встретиться с Батбаяром, как подобает мужчине! Куда там, убежал как последний трус. Заячья твоя душа!
Донров сидел молча, уставившись в пол. Аюур бойда достал из кожаного чехла, украшенного искусным орнаментом, трубку с длинным каменным мундштуком, набил ее табаком, закурил.
— Поделом тебе! Сам заварил кашу, сам и расхлебывай, — сурово сказал старик, а про себя подумал: «Не каждый может сына в люди вывести. Тяжелое это дело».
— Отец! — чуть не плача, проговорил Донров. — Что мне делать, скажи! Жаворонок теперь не овечка, как прежде, а настоящий волк!
— Понимаю, сынок, — тяжело вздохнул Аюур бойда.
— Скоро Батбаяр перевезет семью сюда, в монастырь. За ними поедут тесть с тещей. А мы с матерью без них как без рук. Моей торговле конец. Теперь ты больше не сможешь таскать господское добро. Думаешь, люди не знают, на чем мы разбогатели? Все знают! Особенно этот Дашдамба. Прошлой весной пригнал я из монастыря Эрдэнэ зуу десять коров, так он говорит: «Ваше стадо растет, как грибы после дождя», а сам посмеивается. Попомни мое слово, он все расскажет Батбаяру. А тот пойдет к господину и передаст. Это тебе не пугало огородное!
— Нельзя сказать, что ты ничего в жизни не смыслишь, — сказал Аюур бойда, — но Батбаяр шустрее тебя оказался. Ходит у господина в любимчиках.
— Правда? Что-то не верится?
— Точно тебе говорю! Ведь сколько приближенных у хана, а взял с собой за границу Соднома да Батбаяра.
— А ты что смотрел? Ведь к хану близко стоишь, хозяйством его заправляешь!
— Заправляю хозяйством! Это вы с матерью так думаете. А я у него просто на побегушках. Дни и ночи тружусь, дрожу над каждой монетой, чтобы вам с матерью, когда я умру, можно было жить, никому в ножки не кланяясь. А вы только и знаете, что за тряпками гоняться да шкодить. Не успокоитесь, пока в могилу меня не сведете. Думаешь, я не видел, как твоя мать на этого сопляка пялится?
Аюур бойда побагровел, но тут же справился с собой и сказал:
— Вот что, сынок. Пережди несколько дней. Съезди в Заяын хурээ, купи несколько оленьих рогов. При случае обменяем их в одной китайской фирме на отличные чепраки. А я завтра же доложу господину, что у меня заболела жена, и не поздней, чем послезавтра, буду у нас в стойбище. Да, да, мне надо самому туда съездить. Не то и впрямь все работники разбегутся. Здесь, сынок, нужен особый подход…
Вошел послушник, принес ужин. Судя по запаху, похлебку из сушеного мяса.
С самого утра мать Батбаяра вышла из юрты открыть дымник и, возвратившись, сказала:
— Во дворе — конь Аюура бойды. Наверно, ночью приехал.
«Меня ищет, — подумал Батбаяр. — Донров, видно, наплел, что я убить его собираюсь».
Между тем Аюур бойда спал допоздна, проснувшись, попил чаю и спросил у жены:
— Как тут Жаворонок? Заходил?
— Не заходил, только на улице виделись, — ответила Дуламхорло. — Держится как всегда спокойно.
— Жена наверняка расписала ему, как Донров с ножом ее домогался. Это вы, бабы, умеете!
— Да, нехорошо получилось. Теперь Донров носа сюда не кажет. Наверное, к тебе прискакал? Боюсь, как бы с кручи какой-нибудь не сорвался. Не в себе он.
— Поздно хватилась! Сейчас другого надо бояться. Не сегодня завтра работники наши возьмут да и откочуют. Кто тогда будет на нас спину гнуть?
— Бог с тобой, что ты говоришь, Аюур! Где еще мы найдем таких покладистых работников? С Жаворонком все ясно: он отрезанный ломоть. А старики с какой стати за ним потащатся неизвестно куда?
— Это ты точно сказала, что Жаворонок — отрезанный ломоть, — вздохнув, поддакнул старик.
— Чем он дальше, тем лучше…
— Что, разонравился? — ухмыльнулся Аюур бойда.
— Хватит тебе, Аюур. Неужели не надоело ревновать меня к каждому встречному. Подумай лучше, как мы будем без них управляться. Старуха Гэрэл просто незаменима в домашнем хозяйстве, а такую доярку, как Лхама, поискать надо. И Дашдамба-гуай. Если б не он, наше стадо давно сожрали бы волки. Уедет — бросай все и приезжай сам пасти скот. Мы с сыном одни ни за что не управимся.
— Дура ты! Не волков надо бояться, а людей.
— Кого ты имеешь в виду?
— Да твоего Жаворонка! Он теперь чуть ли не правая рука господина. Первым и донесет Намнансурэну, как я добром его распоряжаюсь. И наставник — Дагвадоной — любит этого парня. А мы с наставником вечно враждуем.
— Тебя послушать, так наши дела совсем плохи, — Дуламхорло недоверчиво посмотрела на мужа. — Значит, надо побыстрее избавляться от Батбаяра. Но каким образом?
— Сначала попробуем миром, — перейдя на шепот, произнес Аюур бойда и спросил: — Что Батбаяр привез? Может, есть за что уцепиться?
— Жене привез дорогое жемчужное украшение для волос. Красивое — глаз не оторвешь! Очень похоже на то, что у меня пропало. Помнишь? Только жемчужины немного помельче.
— Вот оно что! Любопытно, — многозначительно произнес Аюур бойда.
Через некоторое время старик велел жене пригласить в гости Дашдамбу и Батбаяра и, когда те пришли, усадил их на почетное место.
Он всячески ухаживал за гостями, то и дело подливая им водки. Потом обратился к Дашдамбе-гуаю:
— Днем пригонят овец, так не посчитайте за труд, забейте баранчика. Побалуем на прощанье нашего Жаворонка, пусть поест, ведь скоро он нас покинет. А я его очень люблю. Вырос у меня на глазах. А каким человеком стал! Хан своей милостью таких не обходит.
Расхваливая Батбаяра, Аюур бойда вытащил откуда-то бутылку китайской водки и сказал, что приберег ее специально для этого случая.
— Хозяин наш скоро уедет, — как бы невзначай произнес Аюур бойда. — Мне приказано готовить вещи в дорогу Оно и неудивительно. Тяжелые времена переживает наше государство. Кто же спасет его, если не такие люди, как наш господин! Значит, и тебе, Жаворонок, пора собираться. А нам, старикам, только и остается, что окроплять ваш путь молоком. Да, чуть не забыл. Вчера хан справлялся, когда ты вернешься в ставку. Полюбился ты ему, Жаворонок.
Услышав, что Намнансурэн уезжает, Батбаяр встревожился. «А иначе и быть не могло, — думал он. — Разве станет господин сидеть сложа руки, когда китайцы посягают на нашу независимость?»
Дашдамба-гуай, знавший от Батбаяра о последних событиях, не мог спокойно отнестись к словам Аюура бойды. Он раскраснелся и, энергично жестикулируя, сказал:
— Чтобы не снесло юрту, когда налетает ураган, подтягивают веревки, укрепляют баганы. Сейчас на страну налетел ураган, и наш господин не может бездействовать.
— В народе говорят: старость — мудра, — повернувшись к Дашдамбе-гуаю, произнес Аюур бойда. — Глядя на твоего тестя, Батбаяр, тысячу раз убеждаешься в правдивости этих слов. Но вот что еще я думаю, друзья: в столь трудное время каждый должен отдать все силы свои, чтобы защитить независимость. Жаль, что я чересчур стар для борьбы… — Аюур бойда со скорбным видом покачал головой.
Тем временем Дуламхорло разлила по рюмкам водку и собственноручно поднесла ее Дашдамбе-гуаю и Батбаяру.
— Как приятно, черт возьми, хоть иногда посидеть вот так, всем вместе, обсудить свои радости и горести. У меня даже от сердца отлегло. — Аюур бойда готов был пустить слезу. — Как я корю себя за то, что вырастил такого непутевого сына. Есть же счастливцы, у которых нормальные дети! О боже, в чем согрешил я перед тобой в прошлой жизни? А ведь Донров мог стать таким же уважаемым человеком, как Жаворонок. Сами мы с матерью виноваты: дали парню волю, вот он и сел нам на шею. Где он сейчас, что еще натворил — не знаю. Иногда я думаю, что лучше совсем не иметь детей, чем такого лоботряса, как мой!
Говоря это, Аюур бойда так и сверлил взглядом Дашдамбу-гуая.
На дворе заблеяли овцы, их загоняли в хотон.
— Дашдамба-гуай! Вы не забыли насчет баранчика? — спросил Аюур бойда, — так хочется тепленькой требухи! Да, вот еще что. Ваши юрты совсем прохудились. Я тут по случаю войлок достал. Нам он пока ни к чему. Приезжайте через денек-другой ко мне в Онгинский монастырь да возьмите.
— Это ты хорошо придумал, Аюур! — вмешалась в разговор Дуламхорло. — Бедняга Дашдамба! На нем все наше хозяйство держится.
Услышав «бедняга», Батбаяр усмехнулся и вспомнил пословицу: «Врун о правде толкует, богач о жалости».
На следующий день Аюур бойда с самого утра уехал в монастырь. Вторую неделю жил Батбаяр дома. Еще немного, и надо будет возвращаться в ставку сайн-нойон-хана. Батбаяр решил перейти на службу в канцелярию и перевезти поближе к себе семью. Но когда он заговорил об этом с матерью, она сказала:
— Нет, сынок, куда мне ехать на старости лет?! А потом увезет тебя хан, что станем мы делать?
Лхама готова была хоть сейчас ехать. Родители же ее были на стороне старухи Гэрэл.
— На хозяев нам обижаться не приходится, — сказала Ханда. — На Батбаяра надежда слабая. Уедет неизвестно куда, а нам что, с голоду умирать под забором у хана? Нет! Вы как знаете, а я с детишками никуда не поеду.
«Что верно, то верно, — думал Дашдамба. — Батбаяр здесь не задержится. Не сегодня завтра уедет хан и Батбаяра с собой увезет. До самой смерти с ним не расстанется». И Дашдамба-гуай после долгих раздумий сказал:
— Повременим мы пока что, сынок, с переездом. Нелегкие времена наступили. Боюсь, что сила сейчас не на стороне нашего господина. Но он, видно, решил бороться до конца. Ну, а ты будь рядом с ним, не обмани его доверия. Может все обойдется. Одного я не понимаю: неужели наш господин, который сил своих не щадит ради укрепления независимости, не видит, как живут его подданные, как выбиваются из сил, не замечает, что процветают и богатеют за его же счет разные ловкачи. Но кончится народное терпение, помянешь мое слово.
Батбаяр, слушая тестя, думал, что во многом он прав.
Незаметно пришел день, когда Батбаяру надо было возвращаться в Онгинский монастырь. С тяжелым сердцем оставлял он жену и был ей очень благодарен за то, что, провожая его, она держалась мужественно, не пролила ни единой слезы.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КРАСНЫЙ ХАДАК
Батбаяр выехал из дома, стараясь не думать ни о чем — ни о прошлом, ни о будущем, ни о хорошем, ни о плохом. Свернув с дороги, он подъехал к подножию утеса Байц хада, дорогого его сердцу, спешился и огляделся. Казалось, ничто не сможет разрушить серо-синюю громаду гранитного утеса, такого величественного среди буйно разросшейся зелени. Отсюда видны были покрытые лесами изумрудные горы, вьющаяся внизу, в долине, лента реки, озера и пруды — милая, до боли знакомая картина.
Батбаяр, ведя на поводу коня, обошел утес и долго смотрел на его вершину, вспоминая слова Лхамы: «Мне так нравится пасти здесь овец. Я всегда вспоминаю о тебе и пою».
«Ты один был свидетелем наших свиданий, утес. Ты один знал наши сердечные тайны, Знаешь ты и о том, как мы живем сейчас. Ты можешь сосчитать удары наших сердец, тоскующих друг о друге. Можешь укрыть от метели и ветра». Какое-то предчувствие мучило Батбаяра. Он вскочил на коня и поскакал дальше.
Вернувшись в Онгинский монастырь, Батбаяр снова оказался в свите хана. Участвовал в надоме, устроенном семью хутухтами и двадцатью хошунами на высоком зеленом берегу бурной Онги. Во время надома Намнансурэн беседовал с ламами, нойонами, чиновниками, убеленными сединами стариками — хотел узнать их настроения и суждения. Ездил он везде в простом дэле. Чувствовалось, что на душе у него неспокойно. Может быть, оттого, что он больше не был премьер-министром? Или еще от чего-то. Трудно сказать.
Как-то вечером Розовый нойон пригласил в летний дворец приехавших на праздник аймачных хутухт, лам, дзасаков. Из огромного ящика, установленного возле дворца, вдруг повалил вонючий дым и вырвался острый белый луч. Батбаяр и Содном, видевшие все это в Петербурге, со знанием дела принялись объяснять, что свет этот называется электричеством, и обладает он такой же силой, как молния. А железная штука, похожая на ящик, называется мотором и питается земляным маслом[70].
По знаку Намнансурэна погасили свет и на белом полотне появились скачущие всадники, самоходные коляски с людьми в красивых, пестрых одеждах, видимо, ханами и военачальниками, затем на обширном поле, окруженном со всех сторон лесом, появилось множество конных и пеших воинов. Они вели стрельбу, а когда над полем поднялись клубы порохового дыма, с саблями наголо и длинными пиками наперевес устремились навстречу друг другу. Ряды смешались, и началась рукопашная схватка. Казалось, будто сражение происходит совсем рядом, страх и недоумение отразились на лицах. Женщины подталкивали друг друга и едва не визжали.
— Это теневой театр, он есть почти во всех странах, кроме Монголии и Китая, — объяснил Намнансурэн. — Поработившие нас маньчжуры, как и мы, не знали ничего, кроме кремневых ружей, поэтому мы и отстали настолько, что не способны воспринять одно из самых простых современных чудес — теневой театр. Настало время задуматься о нашем будущем, разумно решить, как зажечь этот сегодняшний свет в наших юртах. Но мы ничего не добьемся, если и дальше будем находится в зависимости от Китая.
Показали еще несколько теневых представлений.
— Посматривайте, не ходят ли вокруг дворца лазутчики? Не подослали ли соглядатаев китайские торговые дома из Южного Шивээ? — напоминал время от времени Намнансурэн своим телохранителям. Гости разошлись лишь на рассвете.
До монастыря дошел слух, что китайский амбань, прибывший в Да хурээ, не может попасть на прием к богдо-гэгэну вот уже сорок девять дней. В чем причина? — терялись в догадках люди. Это знал Намнансурэн, но предпочитал молчать. А дело было в следующем. Когда Намнансурэна, тогда еще премьер-министра, вызвали к богдо-гэгэну, богдо указал ему на сандаловый стул, стоявший у стола, и больше часа молча сверлил своими мутными желтыми глазами. В душной, пропахшей тибетскими благовониями комнате стояла тишина, нарушаемая лишь тиканьем часов. В ожидании пока богдо-гэгэн заговорит, Намнансурэн разглядывал обитые атласом стены. Плечи затекли под тяжелыми парадными одеждами. «Как же человек, который боится сказать: «Я освобождаю тебя от занимаемого поста», может стоять во главе государства? — подумал Намнансурэн. — Да, это мой просчет. А если бы ханский престол занял кто-либо другой или я сам, можно было бы что-то сделать? Наше государство словно козленок, который дрожит у логова леопарда. И все же четыре года у нас была независимость…»
Богдо откашлялся и несмело произнес:
— Значит, так. Необходимо привести в порядок дела, учитывая сложившуюся обстановку и пожелания тех, кто стоит у власти.
— О, государь наш! Истину глаголят уста ваши. Новый премьер-министр драгоценный шанзотба да-лама доложит вам, что, собственно, и каким образом следует привести в соответствие с положениями Срединного государства, — спокойно ответил Намнансурэн.
Богдо вздрогнул, выронил из рук драгоценные четки, и они с треском упали на пол. «Вот дьявол! Мы обсуждали требование китайских нойонов сместить его с поста премьер-министра при закрытых дверях и никого кроме шанзотбы Билэг-Очира здесь не было. Вряд ли я найду человека, который обладает таким же острым умом, как Намнансурэн. Но, увы, я больше не в силах сносить его суровый, решительный нрав», — думал богдо.
— Надеюсь, Намнансурэн, ты всегда будешь рядом со мной! Я полагаю…
— Да, я, ваш раб, хотел бы вечно возносить молитвы рядом с вами. Однако сейчас вам не нужна и капля моей помощи. И все же я, ничтожный, склоняю колени и молю вас выполнить одну мою просьбу.
— Что же ты хочешь просить у меня?
— Я, ничтожный, о милости не прошу.
— О чем же?
— Светлейший, общеизвестно, что ваш преисполненный совершенства разум обременен бесконечными думами о государстве. Но монголы бесправны, и потому, шагая по золоту, умирают от голода. Теперь, когда власть снова перейдет к китайцам, положение станет еще тяжелее.
— Что же делать? Ведь у нас не хватает сил…
— Скоро в Да хурээ приедет китайский амбань, чтобы поднять свой стяг и поставить нас на колени. Вероятно, он уже в пути.
— Поскольку была договоренность на тройственной конференции в Кяхте, то так оно, пожалуй, и будет.
— Мой милосердный богдо! Прошу вас об одном. Постарайтесь не принимать амбаня хотя бы семь недель, — сказал Намнансурэн с поклоном.
— Зачем? — удивился богдо. — Ведь из-за этого меня могут вызвать в Пекин…
— Соизвольте выслушать меня, мой господин! Сейчас у нойонов Срединного государства нет на это ни смелости, ни сил. Но если мы встретим амбаня, склонив головы, он сядет нам на шею, начнет погонять и, возможно, никогда не слезет.
— Но я не могу не принять его. Не стану же я бегать от него как мальчишка.
— Мой господин! Это очень легко устроить. Амбань явится сюда, высоко задрав нос, но испросить разрешение на аудиенцию он обязан. А вы сошлетесь на нездоровье, и он ничего не сможет сделать. Без вашего дозволения он и шагу не посмеет ступить. Чем дольше он будет ждать аудиенции и бездействовать, тем больше будет бояться, что не выполнит миссию, возложенную на него правительством, а это собьет с него спесь и наглость. Пусть пекинские нойоны поймут, что монголы остаются верны своей политике…
— А если они двинут на нас войска?
— Мой богдо! Не тревожьтесь об этом. Еще никто не начинал войну из-за того, что один человек заболел, а другому пришлось отложить дела, — сказал Намнансурэн. Богдо-гэгэн перестал перебирать четки и, подперев голову рукой, долго молчал.
С тех пор прошло несколько месяцев. Намнансурэн уже жил в своем хошуне и был приятно поражен, когда услышал, что прибывший в столицу великий министр Срединного государства не может попасть на прием к богдо-гэгэну. Однако Намнансурэн ни словом об этом никому не обмолвился. Он по-прежнему был угнетен невеселыми мыслями, приглядывался к жизни народа в худоне, прислушивался к его разговорам. Княгиня Магсар, боясь проклятий, долгое время жила взаперти. Ребенка своего никому не показывала, прятала за глухим хашаном, а когда он окреп, объявила, что это сын одного тайджи из восточного аймака, которого они взяли на воспитание. Мальчику уже исполнилось восемь лет, он ни на шаг не отходил от Намнансурэна. Игры с сыном тешили сердце отца, хоть немного отвлекали его от тяжких дум.
Батбаяр сопровождал своего господина во всех поездках. Иногда, испросив отпуск, отправлялся в родные места, повидаться с матерью и женой. Приехав однажды, он узнал, что Лхама родила, но ребенка отдала на воспитание в другой аил. Батбаяру не казалось, что «так будет лучше», не было ему жаль и ребенка, но всей душой он жалел жену. Вот и еще одна разлука вошла в ее жизнь.
Донров ни разу не попался на глаза Батбаяру, всячески избегал встреч с ним. Лхама рассказала, что Донров ее и беременную не оставлял в покое. «Ты у меня этот перевал еще разок-другой одолеешь», — говорил он, показывая глазами на ее вздувшийся живот. «Какая же он скотина, ничего человеческого в нем не осталось», — думал Батбаяр с ненавистью.
Вскоре дошло известие еще об одном несчастье — умер отданный на воспитание ребенок.
Наступила весна седьмого года правления многими возведенного. Однажды из Да хурээ прискакал гонец с вестью, что богдыхан срочно вызывает Намнансурэна. И хан, который обычно читал до глубокой ночи сутры и вставал лишь к малому полудню[71], на следующий день поднялся на заре, пригласил к себе багшу — Дагвадоноя и беседовал с ним несколько часов кряду.
— …Я не могу сказать вам: действуйте так-то и так-то. В любом случае уничтожение автономии и признание суверенитета Китая, как вы и предполагаете, вызовут недовольство народных масс. Вам, вероятно, следует воспользоваться представившейся возможностью и высказать свое мнение…
— Мои слова, как эхо в скалах, будут лишь пустым звуком, — ответил Намнансурэн и, задумавшись, взглянул на лучи солнца, падавшие в юрту через тоно, словно призывая на помощь небо. — Вообще-то, русские — открытые, добрые, смелые люди. Ни за что не поверю, что происходящие у них события могут поставить мир на грань катастрофы. Мне приходилось слышать, как русские выражали недовольство политикой своего царя. К чему вы стремитесь? — поинтересовался я. В их ответе не было ничего сомнительного. «Наши стремления к переменам, — говорили они, — не должны беспокоить вас, а заинтересовать могли бы…» А кое-кто — не сановники, конечно! — прямо говорили: «Ничего удивительного, если ваша поездка не принесет никаких результатов, но не всегда Россия будет холодна, как лед, и неприветлива, наступит время, и мы обогреем свой дом». — Намнансурэн взял послание, недавно прибывшее из столицы, перечел его.
— Мой господин! — промолвил Дагвадоной. — Всего я не в силах постичь. Но вы не раскаивайтесь, что не слишком усердствовали, дабы завоевать себе влияние среди знати. Ничтожный, я молюсь лишь о том, чтобы вы никогда не отреклись от своих убеждений. Никто не в силах предотвратить молнию, ливень или разлив реки. Дожди побеждают засуху и приносят благодатное лето — это закон природы.
Погода резко переменилась, завыла метель. Намнансурэн вышел из ставки, обменялся хадаками с прибывшими на его проводы ламами и сановниками.
— Само небо не хочет меня отпускать, — сказал Намнансурэн, хмуро глядя сквозь пургу на темнеющие вдали Хангайские горы. — Передайте хамба-ламе, пусть уймет метель. Не знаю, когда вернусь, и вернусь ли. Но в любом случае я оставлю о себе память. Выплачивая двойные налоги купеческим фирмам Улясутая и Жанчху, я освободил весь свой хошун от долгов. Переписаны сутры «Ганжуура» и украшены девятью драгоценностями. Устроен цам в честь красного сахиуса. Но по-прежнему всюду беды, всюду несчастья. Угодно ли богу и небу, чтобы мы все это сносили безропотно. Больше молитесь своему ангелу-хранителю.
Когда Намнансурэн сел в коляску, люди поднесли к глазам рукава, утирая слезы.
Содном и Батбаяр как обычно сопровождали господина верхом на конях. Жену Намнансурэн отправил по другой, более удобной дороге, а сам поскакал напрямик. Батбаяр все старался понять смысл слов, сказанных господином в то утро.
Тот словно бы прощался со всеми. Может, он о чем-то догадывается, или его мучит недоброе предчувствие? В столицу они прибыли к вечеру четвертого дня. Намнансурэн, войдя во двор, обмахнул дорожную пыль с лица, торопливо переоделся и в сопровождении Соднома спешно отбыл во дворец богдыхана.
— Сейчас же скачи к Номин дар ахайтан и скажи, что я здесь. Пусть приедет. Только смотри, чтобы тебя никто не заметил, — шепнул Намнансурэн Содному. — Может, от госпожи я узнаю, какая здесь обстановка. — Содном помчался в аил цэцэн-хана и, к счастью, застал княгиню в юрте одну.
— Ваш хан только что прибыл? — спросила княгиня испуганно. — Погодите, как же мне быть? Муж сейчас у себя в орго. Вы приехали в коляске?
— Нет, верхом, но есть свободная лошадь.
— На улице светло?
— Уже темнеет.
— Ждите меня, только подальше от ворот. Я сейчас. — Все это госпожа произнесла шепотом и позвала служанку. Уже в дверях Содном столкнулся с хорошенькой, стройной, как молодое деревце, Даваху, чьей прелести позавидовала бы любая красавица с картины.
«Жаль, что поехал я, а не Жаворонок!» — подумал Содном, выходя со двора.
Хлопнула дверь. Содном помог княгине сесть на коня, а она, в страхе озираясь, проговорила:
— Мне не удалось выйти незаметно. А стражникам у ворот что я скажу? Я даже не успела сменить безрукавку.
Когда подъехали к шатровым воротам дворца богдо-гэгэна, какой-то человек, взяв под уздцы лошадь госпожи, сказал Содному:
— Твой господин велел тебе отправляться домой.
Содном, возвратившись на подворье хана, рассказал Батбаяру о случившемся.
— Что творится с нашим нойоном? — покачал головой Батбаяр. — Везде хочет поспеть…
— Да, конечно. Говорил же нам Смурый перед отъездом, что тяжело сейчас господину, и надо хорошенько за ним присматривать. А мы его оставили…
— Что же делать?
— Это еще ничего. А я теперь знаю, что супругу цэцэн-хана с нашим нойоном связывает не только любовь.
— Что же еще?
— Госпожа сообщает нашему нойону о том, что происходит, чтобы завоевать его сердце. Потому и встречаются они лишь в исключительных случаях.
— Возможно. Ханша так торопилась, что даже наряд не сменила, не надела украшений и из дома вышла крадучись. — Так строили всевозможные догадки телохранители, сидя за чашкой чая.
Вскоре после приезда в Да хурээ они услышали новость, передававшуюся под большим секретом. Богдо не велел ее разглашать, дабы не сеять смуты в народе. В России, говорят, объявилась так называемая партия красных, свергла с престола хана и образовала новое красное правительство. Это правительство предает огню религиозные святыни, уничтожает богатых и знатных, словом, творит самое мерзостное, сеющее беды и несчастья, самое греховное дело. Русские нойоны говорят, что оно как зараза липнет ко всем, сеет смуту в душе. Слушая это, Батбаяр с волнением думал: «Сбылись, видно, предсказания Тумуржава».
— Что же это такое творится на свете? — сказал Содном. — Куда деваться, если эта зараза перекинется к нам и у нас тоже начнут уничтожать святыни?
На второй день, к вечеру, когда в столицу должна была приехать княгиня Магсар, в чужой коляске возвратился Намнансурэн, усталый, осунувшийся. Торопливо переодевшись, он сел на тюфяк, пригладил волосы и стал пить чай.
«Видно, трудный был у него разговор, до сих пор никак не успокоится», — подумал Батбаяр, заметив, как дрожит чашка в руках хана.
— Госпожа прибыла?
— Нет пока, мой господин.
— Как долго они добираются! Не заболела ли в дороге?
В это время послышался шум и скрип открываемых ворот, видно, приехала княгиня Магсар, но только Батбаяр хотел выйти, как Намнансурэн его окликнул:
— Жаворонок! Подожди! — и, взглянув на тоно юрты, спросил: — Содном здесь?
— Здесь.
— Возьмите двух-трех коней из тех, что пригнали из аймака, и держите наготове где-нибудь в тихом месте. Предстоит одно дело. Только помалкивайте.
Через пять дней, как только перевалило за полночь, Намнансурэн и Батбаяр с заводным конем на поводу выехали со двора. Сопровождать господина должен был Содном, но он простудился, и пришлось ехать Батбаяру. Он слышал, как сказал, прощаясь с женой, Намнансурэн:
— Я скоро вернусь. Приближенным скажи, что я отправился на хурал к богдо. Если же прибудет гонец от богдо, скажи, что я заболел и поехал к источнику Гун-галу лечиться. — Намнансурэн достал из сундука красивый нож в серебряных ножнах с огнивом и протянул Батбаяру.
— Свой оставь. Возьми пока этот. Путнику нужен хороший нож, огниво и кресало. Вообще-то… бери насовсем!
Какой же мужчина откажется от такого подарка.
В непроглядной тьме слышно было лишь, как лаяли собаки. Было неприятно ехать, крадучись, по улицам крепко спавшего Да хурээ. Выстоянные лошади то и дело пугались, вскидывали головы, натягивая поводья.
— Мы едем с тобой на север, вверх по реке Сэлбэ. Там у Шадавлинского монастыря нас будет ждать проводник. Надеюсь, ты не боишься дальней дороги?
Батбаяр не знал, куда и зачем они едут, но смело, как и подобает настоящему мужчине, ответил:
— А чего же бояться?
— Много на свете страшных вещей. А вдруг нас схватят, что станешь делать тогда?
— Драться до последнего.
— Смотри только, не делай глупостей, как тогда по дороге в Петербург, когда человека из вагона высадил. Сначала разберись что к чему. Будут допрашивать, не сболтни лишнего. Говори одно: сопровождаешь, мол, своего господина, торговца скотом.
— Слушаюсь, светлейший! Да придаст мне силы ваша милость!
— Да что моя милость. Смилостивилось бы небо над нашим народом.
Поднимаясь вдоль берега вверх по течению Сэлбэ, они на рассвете въехали в Шадавлинскую падь, где их ждал какой-то человек на лошади. Обменявшись приветствиями, они все втроем отправились дальше. Восход солнца застал их на перевале Гунт. Спешившись, чтобы дать отдохнуть лошадям, они устроились в тени дерева и закурили. Батбаяр разглядел наконец проводника. Это был мужчина средних лет: узкое, с острым подбородком лицо — темное, почти черное. Усы начисто выщипаны, возле уха крупная родинка. Не походил он ни на простолюдина, ни на ламу. Господин называл его Цэнджавом и обсуждал с ним дела. Видно, давно знал его. Проводник, в свою очередь, с уважением относился к Намнансурэну.
— Скажите, почтенный нойон, не пристукнут нас в России красные, приняв за белых, или белые, приняв за красных? — улыбаясь, спросил Цэнджав.
— Нас не примут ни за красных, ни за белых — разве только за синих, если в России будет такой же холод, как у нас, — пошутил хан. — И тем и другим сейчас нужно мясо, поэтому будем по дороге заключать торговые сделки. А уж если суждено умереть, то умрем. Только не надо трястись от страха, заставлять свою душу умирать дважды. — Намнансурэн сел на коня. — Чем больше почестей, тем труднее таскать свое брюхо. В свое время я перелетал на коне и горы и долины, — сказал Намнансурэн, поглаживая живот.
Только сейчас Батбаяр понял, что они едут к тем самым красным, которые свергли своего хана и побросали богов в огонь. По пути горы и реки перемежались лесами, неяркие лучи весеннего солнца пригревали спину. Иногда они заезжали в аил попить горячего чаю или переночевать, но чаще, пустив коней пастись, лежали на траве, утоляя голод вареным мясом, которое везли с собой в тороках.
Цэнджав был человек бывалый. Трудно сказать, где он встретился и как подружился с Намнансурэном, но роднило их одно — тревога за судьбу родины.
— Благодаря отцу я многое повидал на свете и могу сказать, что нигде люди не живут так, как у нас, будто под перевернутым котлом, в кромешной тьме.
— А никто не задерживал тебя в пути, не допрашивал?
— Как сказать. В Да хурээ я отдал семьдесят коров русским и английским купцам, за это они снабдили меня паспортами и деньгами, так что я получил возможность преодолевать любые преграды. Вообще-то, с деньгами такому одинокому, как я, страннику, можно побывать везде.. Я без труда добрался из Петербурга до Польши. Зато, когда попал в Германию, у меня все вещи перетрясли. Напрасно старались, ведь у меня ничего не было. По пути в Индию на корабле тоже досматривали. А из Индии в Китай, по-моему, можно проехать свободно.
— Почему же ты не пожил подольше в Индии или в Китае? Почему заторопился обратно?
— В Индию я приехал, чтобы поклониться Будде и испить воды из священной Ганги, — ответил Цэнджав. — Но там стояла такая жара, что, побывав в Дели и Бомбее, я сразу же отправился дальше. А когда приехал в Китай, финансы мои были на исходе. Я посмотрел на нищих в лохмотьях и подумал: «Когда-нибудь и я стану таким же. И что мне тогда делать? Как они, попрошайничать?» Нет, не мог я там оставаться. К тому же мне было известно, что китайские фирмы перепродают за границу нашу шерсть и шкуры втридорога, я видел суда, вывозившие сырье морем… Трудно было это терпеть.
Однажды, переправившись через Селенгу, они расположились на берегу, в кустах, перекусить. Цэнджав сидел, поджав под себя ноги и пил черный, без молока, чай.
— Уважаемый сайд! Меня удивляет одно: вы имеете чины и добрую славу, живете в свое удовольствие, зачем же вам было связываться с таким безродным бродягой, как я, мучить свою душу и тело?
Намнансурэн рассмеялся.
— Что, пришло время испытать друг друга? Уж не сам ли шанзотба приказал тебе проверить меня? А, Цэнджав? — пошутил он.
— По-вашему, мой хан, все мы трое должны подозревать друг друга? — спросил в ответ Цэнджав и, достав халцедоновую табакерку, с шумом втянул в нос понюшку табаку.
Они переглянулись и рассмеялись.
— Наш шанзотба и впрямь освоил науку стравливать приближенных, чтобы они рвали глотки друг другу. А сам такой безобидный с виду.
— А как же иначе? Он сначала прикидывает: выгодно это лично ему или нет. Потом думает, с кем и как встретиться и чьими руками убрать преграды со своего пути. И так всю жизнь. Так что поднаторел он в подобных делах. Ему все равно, как будет жить монгольский народ, лишь бы самому извлечь хоть какую-то выгоду. Остальное его не касается, пусть у других вместо головы хоть ноги на плечах растут.
— Совершенно точно, именно такой он человек. А из-за чего вы недавно целый день ссорились с богдыханом? Старались задеть друг друга побольнее?
— Что было делать? Прибыв в Да хурээ, я в тот же вечер встретился с женой цэцэн-хана. Она мне сообщила, что к богдо-гэгэну несколько раз приходил русский консул Орлов-гуай, от которого и стало известно, что в его стране началась опаснейшая смута, низложили царя, уничтожают людей знатного происхождения и религиозные святыни. Принимайте, мол, меры, Великий лама, по защите своего государства от этой опасности. А то вы слишком спокойно живете. Эта красная смута хуже чумы. Мы ведем против нее жестокую борьбу, а вы не должны оставаться в стороне и спокойно взирать на происходящее. Иначе вашим нойонам придется седлать коней и бежать на юг.
Я-то знал, что происходит в России. Однако на следующий день премьер-министр шанзотба да-лама, как только увидел меня, сразу сказал:
«Составь послание и проси китайцев прислать побольше войск для защиты наших северных границ. Как напишешь — представь на рассмотрение богдо». Несколько часов кряду уговаривал он меня. А на мой вопрос, зачем я должен это делать, ответил руганью, кричал, что я «продался русским», «не доверяю» хану, а при упоминании о Пекине хватаюсь за голову и отворачиваюсь. Я не стерпел, сказал, что не целовал, подобно ему, тапочки китайского Да жунтана, чтобы получить золотой очир на шапке. Тогда он сам написал послание и потребовал, чтобы я его подписал, но я сказал: «Умирать буду, а не протяну руки к китайским нойонам с просьбой о спасении» и покинул хурал. И вот я еду, чтобы собственными глазами увидеть край, в котором распространилась эта «чума», и разобраться: где правда, а где ложь.
Наконец Батбаяр понял, куда они едут, и в душе одобрил своего господина. Он вспомнил, как в бревенчатом домике на берегу Балтийского моря Тумуржав говорил о грядущих великих событиях, и порадовался — теперь-то он узнает, что там на самом деле произошло.
— А зачем, собственно, почтенный Билэг-Очир велел вам подписаться под посланием? — поинтересовался Цэнджав.
— Я думаю, он преследовал не одну цель. Прежде всего он хотел показать китайским нойонам, что я, хотя и боролся за отделение Монголии от Китая, в конце концов зашел в тупик и вынужден был склонить перед ними голову. Кроме того, он намеревался свалить на меня вину в случае, если начнутся волнения, когда прибудут китайские войска. И, наконец, он надеялся извлечь для себя выгоду, если китайских войск окажется достаточно, чтобы контролировать положение в стране.
— Узнаю Билэг-Очира, — произнес Цэнджав, поднимаясь.
— Этот лама с давних пор вынашивал подобные замыслы, — не стерпев, вмешался в разговор Батбаяр. — Когда мы воевали в Кобдо, во дворце маньчжурского амбаня я нашел одно послание. Видно, он его и писал.
— Что же это было за послание? — спросил хан. Батбаяр рассказал. Тогда Намнансурэн и Цэнджав в один голос воскликнули:
— Где же оно?
А Намнансурэн упрекнул телохранителя:
— Почему ты не взял его с собой и не рассказал о нем, как только приехал? Билэг-Очир наверняка нашел его и сжег, ведь он просматривал все захваченные документы. Эх, ты!
«Ну и дурак же я», — ругал себя Батбаяр.
— Сейчас шанзотба, пользуясь расположением Пекина, старается всю власть прибрать к рукам, — сказал Цэнджав.
— Я сделал все, чтобы этого не допустить, но не получилось. Нет сейчас человека, который мог бы стать во главе государства. Нет и мудрого политика, способного разобраться во внешних и внутренних событиях. Я думал, что будет лучше обсуждать все дела сообща, вместо того, чтобы передоверить их какому-нибудь слабовольному и ничтожному человеку, тирану, который мечется, словно искусанный пчелами медведь, и не знает, что делать. О своих соображениях я доложил богдо и образовал хурал из двух палат — Верхней и Нижней. Жаль только, права у них куцые.
— Я давно с интересом слежу за всеми вашими делами и очень хотел с вами сблизиться. Вот и представился наконец случай… — Цэнджав не договорил, поднялся с земли и сел на коня. С его лица не сходила радостная улыбка. «Торговцы» двинулись дальше. Границу они решили перейти в Кяхте, но, узнав, что в городе неспокойно, двинулись вниз по реке Зэлтэр, перешли границу и тотчас же натолкнулись на группу всадников с круглыми белыми бляхами на папахах. Намнансурэн показал им визу на пересечение границы, но те и смотреть не стали, а направили на них дула винтовок.
— Вы можете нас обыскать. Ничего кроме шелка да нескольких ланов серебра у нас нет, — сказал Намнансурэн, доставая еще одну бумагу за подписью царского консула Орлова, в которой говорилось: «Сей купец и чиновник совершает свое путешествие, имея самые добрые чувства к нашей державе, а посему всех официальных лиц на русской территории прошу оказывать ему помощь и содействие». Вернув бумагу, солдаты откозыряли. Любой принял бы сейчас Намнансурэна за бывалого торговца в его сдвинутом набок войлочном торцоке, в дэле из тибетского сукна с закатанными рукавами, с трубкой из дорогого камня, торчавшей из-за голенища расшитых узорами гутулов.
— А я, признаться, думал, что все, конец. Когда же это вы успели раздобыть такую бумагу? — с восхищением спросил Цэнджав.
— На белых эта бумага подействовала. А вот как быть с красными? С ними придется говорить начистоту, — сказал Намнансурэн и с решительным видом поскакал вперед.
Добравшись до Байкала, «торговцы» оставили лошадей в одном из аилов, добрались на телеге до железной дороги и сели в поезд. В дороге у них не раз проверяли документы, допрашивали, но, видно, им «покровительствовало само небо», и через несколько часов «торговцы» вышли из вагона, вскинули на плечи свои кожаные мешки и двинулись по темным улицам Иркутска. Шел дождь вперемешку со снегом, где-то стреляли, но разобраться толком, что здесь происходит, было невозможно. Цэнджав привел их в знакомый бурятский аил. Старик хозяин напоил гостей чаем и отвел на постоялый двор на окраине города. Выслушав просьбу «торговцев» помочь им встретиться с представителями новой власти, сказал:
— Постараюсь. А вы пока запритесь и носа не высовывайте. Положение в городе сложное, всякое может случиться.
Ночь прошла беспокойно. К ним несколько раз стучали в дверь, спрашивали: кто такие, зачем приехали. Весь следующий день «торговцы» просидели в комнате. К вечеру старый бурят привел двух пожилых русских мужчин. Один из них — в потертой кожанке — представился зампредом Центрального исполкома Советов Сибири, а другой — в солдатской шинели — членом реввоенсовета города.
— Я должен принести свои извинения за то, что мы тайно, по-воровски переступили порог вашего уважаемого дома, — начал разговор Намнансурэн. «Эти люди совершенно не походят на лощеных, надутых чиновников в блестящих мундирах, с которыми наш господин встречался в Петербурге, — подумал Батбаяр, разглядывая пришедших, их грубые, мозолистые руки. — Ни высокомерия, ни пустого тщеславия, не строят из себя всезнаек, хотя видно, что стараются во всем разобраться, постичь истину, познали тяжелый труд и знают ему цену».
— Буду говорить с вами начистоту, — сказал Намнансурэн. — Я халхаский нойон. Несколько лет тому назад приезжал в вашу страну.
— Нам об этом известно. Жаль только, что вы прибыли к нам в неспокойное время и мы не можем принять вас как подобает. В России произошла социалистическая революция. Наше государство отражает сейчас ожесточенные наскоки внешней и внутренней контрреволюции, нам предстоит гигантская работа по восстановлению народного хозяйства, разрушенного многолетней войной, — говорил человек в кожанке.
— У нас в Монголии тоже настали смутные времена, — сказал Намнансурэн. — По правде говоря, некоторые наши ламы и нойоны, стоящие у власти, не понимают, что у вас происходит; отсюда их опасения и страхи. Кое-кто все чаще высказывает различные подозрения насчет политики вашего нового правительства в отношении Монголии. Мы прибыли сюда, движимые единственным желанием: разобраться во всем на месте.
Зампредисполкома сразу понял, что Намнансурэна прежде всего интересует, будет ли новое правительство придерживаться политики царской России, каким оно видит Монголию, как будет строить свои отношения с Китаем, и ответил:
— Мы с уважением относимся к суверенитету Монголии и готовы ее поддержать. Наша политика в отношении отсталых стран будет коренным образом отличаться от захватнической политики царского правительства. Мы придерживаемся совершенно иных взглядов. Разделять наши взгляды или нет — дело самих монголов. Только вы сами можете решить, каким будет ваше государство. Мы же, со своей стороны, готовы сотрудничать с любой страной в целях достижения прогресса и справедливости, о чем советское правительство сообщило правительству богдо-гэгэна[72].
Намнансурэн был поражен и с нескрываемым волнением спросил:
— Вы можете сказать, кому именно было адресовано сообщение?
— Назвать кого-либо персонально мы не можем. Телеграммы были направлены правительству великого хутухты.
— Если дело обстоит таким образом, мне хотелось бы выразить надежду, что в случае нападения на нашу страну китайских полчищ, если нам придется подняться на защиту своей родины, ваша могучая держава окажет нам помощь войсками и оружием, — сказал Намнансурэн.
— Я думаю, наша страна в состоянии оказать вам любую помощь. А какую именно — это может решить только Москва.
— Кто стоит во главе вашего правительства: хан или президент?
— У нас нет ханов. Всеми делами ведает Совет Народных Комиссаров во главе с председателем Совета — Лениным.
— Ваш Ленин — нойон? Какой титул имел он до революции?
— Ленин никогда не был нойоном. Почти тридцать лет он вел легальную и нелегальную революционную деятельность и никогда не был на царской службе.
— Что такое революционная деятельность? Он стремился создать красное правительство? Это чрезвычайно интересно. Считаете ли вы, что наши государства, если каждое будет следовать своим принципам, смогут дружественно сосуществовать друг с другом? — Намнансурэн улыбнулся.
— Еще как смогут! Наше государство никому не навязывает своих воззрений. В любой стране только народ может решить, каких ему взглядов придерживаться.
— Мы полностью доверяем вашим словам. Наши южные соседи собираются напасть на нас, разрушить наши очаги. Не могли бы вы посоветовать, как нам быть?
— Уважаемый нойон! Мы не можем советовать вам: у нас нет достаточного представления о настроении народных масс в вашей стране. Поезжайте в Москву! Мы можем предоставить вам эту возможность.
— Давайте так и сделаем, — с воодушевлением воскликнул Цэнджав.
Намнансурэн задумался.
— Нет! Сейчас мы никого не представляем, а следовательно, не можем ехать в Москву. Надо быстрее вернуться в Да хурээ и не допустить ввода китайских войск… Разыщем телеграммы из России и уже в открытую обсудим все с ламами и нойонами, стоящими у власти. — Намнансурэн вытащил из кожаной сумы красный и голубой хадаки и, развернув, поднес их русским, сказав при этом: — Мы будем молить небо о нашей новой встрече. Желаем вам всех благ и прочного становления вашего государства.
«Почему он преподносит им хадаки разного цвета? — удивился Батбаяр и тут же подумал: — Наверное, красный хадак это как бы их правительство, а голубой — наше».
Русские представители пожелали всего самого лучшего, выразили надежду на новую дружескую встречу и, распрощавшись, ушли.
— Вы вот боитесь китайских черномундирников, — сказал, задержавшись в дверях, бурят переводчик. — А ведь русские белогвардейцы не менее страшны. Если, отступая под ударами Красной Армии, они побегут в Монголию, натворят там бед. Так что у вас есть еще один враг.
«Видно, во всех концах земли сейчас появились лютые звери, которые рыскают, как голодные волки, жаждущие крови, — подумал Батбаяр. — Скоро спрятаться от них будет некуда».
— Хорошо вы сделали, что поднесли русским хадак красного цвета, — произнес Цэнджав, — только напрасно отказались ехать в Москву. Надо было идти до конца, полностью выяснить замыслы и намерения красного правительства. А то мы только полдела сделали.
— Не то сейчас время, чтобы разъезжать взад-вперед, — ответил Намнансурэн. — Нас сейчас взяли за горло. Сколько честных людей, ратовавших за восстановление нашего государства, извел своими интригами шанзотба да-лама. А теперь еще китайские нойоны собираются осквернить наши очаги. Мы задыхаемся, где же тут ездить…
В тот же вечер они покинули Иркутск.
На следующий день по возвращении в Да хурээ, теплым солнечным утром, когда впервые раздались голоса перелетных птиц, Намнансурэн облачился в полный парадный наряд, чтобы ехать на прием к богдо. Хурэмт из сверкающей золотой парчи великолепно оттенял его слегка порозовевшее лицо. Сопровождал господина в этот раз Содном.
Войдя во дворец, Намнансурэн сразу же натолкнулся на стоявших у расписанной драконами колонны шанзотбу да-ламу и цэцэн-хана. Они о чем-то шептались. После обмена приветствиями Намнансурэн без обиняков спросил:
— Уважаемый премьер-министр, вы написали послание в Пекин?
Приветливое выражение на лице шанзотбы сменилось легким недоумением.
— Чтобы не обременять вас, хан, — ответил шанзотба, — мы его обсудили и тут же отправили.
— Значит, вы его передали китайскому амбаню без моей подписи?
— Да. Так пожелал богдо-гэгэн.
— Надеетесь, когда прибудут китайские «воины-защитники», пожинать плоды счастья?
— Уважаемый хан! Мы — опора государства. Так стоит ли нам ссориться?
— А-а, значит, опора монгольского государства — вы да я? Тогда не удивительно, что оно качается из стороны в сторону. Только сдается мне, что скоро все мы полетим с крутого обрыва.
— Почтенный Намнансурэн! Вы глубоко заблуждаетесь и не способны правильно оценить создавшееся положение.
— Уважаемый премьер! Постараюсь внять вашим поучениям. Но прежде соизвольте показать телеграммы из красной России.
Шанзотба переменился в лице. «Кроме богдыхана и меня, никто о них не знал. Откуда же эти сведения у Намнансурэна? Значит, я не ошибся. Он связан с партией красных».
— Что за послание вы имеете в виду, уважаемый? — изобразив удивление, спросил шанзотба.
— Я прошу вас, милостивый министр, показать мне спрятанные в вашем сейфе депеши из России, — ответил Намнансурэн.
Цэцэн-хан, молча перебиравший четки, пристально посмотрел на шанзотбу и обратился к Намнансурэну:
— Уж не претит ли вам вид желтых ламских одежд?
— А что случилось, мой хан?
— Ну как же: на да-ламу, занимающего пост премьер-министра, вы смотрите косо, когда я отбываю по ламским делам в монастырь, вызываете к себе мою жену, позорите мое имя. Разве это угодно богу и государству?
— Мой хан, благоволите поговорить со мною об этом в следующий раз. Я тороплюсь на прием к богдыхану, — сказал Намнансурэн, желая избежать ссоры с цэцэн-ханом.
— Что за срочное дело у вас к государю? — заискивающе спросил Билэг-Очир, вытирая слезящиеся глаза бобровым обшлагом рукава.
— Я намерен просить государя снизойти к моей просьбе и показать телеграммы, которые вы так старательно прячете, — ответил Намнансурэн и стал подниматься по лестнице.
— Не видать их тебе до самой твоей смерти, — процедил сквозь зубы Билэг-Очир, провожая Намнансурэна ненавидящим взглядом.
— Он и мне не дает покоя. Прелюбодействует с моей женой. Такую обиду нельзя простить, — пожаловался цэцэн-хан.
— Это бы еще ладно, но Намнансурэн установил тайные связи с бунтарским правительством красной партии русских и замыслил, сбросив нас с вами, занять престол государя. Вы, вероятно, заметили, что он где-то пропадал несколько дней…
— Мне, ничтожному, не дано разбираться в таких тонкостях. Это у вас — будто тысячи глаз, и вы видите все насквозь. А насчет жены… я этого так не оставлю. Мне ее сам богдо сватал. И не дай бог мне дожить до того, чтобы пренебрегать его милостями, — снова заскулил цэцэн-хан.
— Он, видно, вынашивает грандиозные планы. Что ж, за свои грехи он жестоко поплатится. Идите и ни о чем не волнуйтесь, — сказал Билэг-Очир и легонько толкнул цэцэн-хана локтем, давая понять, что найдет способ усмирить обнаглевшего Намнансурэна.
Почти никто не заметил, что премьер-министр тепло приветствовал вошедшего через задние двери дворца сойвона с выпуклым лбом и запавшими глазами, и они, дружески беседуя, сразу же вышли, и никто не слышал, о чем шел разговор между премьер-министром и прислужником богдо.
Намнансурэн долго сидел, дожидаясь приема у богдыхана. Лишь около полудня, когда богдо поднялся и ему подали трапезу, Намнансурэн вошел в покои и с почтением поклонился. В большой спальне было сумрачно. Богдо-гэгэн в атласной накидке, сидевший на сандаловой кровати со стеклянным пологом, долго всматривался своими близорукими глазами в вошедшего и наконец спросил:
— Ты ли это, Намнансурэн? Что-то тебя не было видно. Где ты пропадал?
— Мой государь! Я заболел и несколько дней пролежал дома.
— А-а, ну то-то же. Я и подумал, что не можешь ты после спора с Билэг-Очиром уехать к себе в родные края, не сказавшись. Ну ладно, садись поближе. Мы недавно устроили здесь небольшой пир. Я оставил тебе твою долю. Принеси-ка английскую водку! — приказал он слуге. Тот достал из укромного места бутылку с блестящими золотыми наклейками, до краев наполнил золотую пиалу и с поклоном подал Намнансурэну.
— Мой господин! Я не могу пить, простите меня, — сказал Намнансурэн с поклоном, взял пиалу, но лишь пригубил.
— Ты всегда так: просишь прощения и не пьешь. Выпей же сейчас хоть две пиалы, чтобы расслабить тело и душу.
Пришлось Намнансурэну выпить.
— Ну, какие новости у нас и за границей? Я никого не вижу, а ты встречаешься с людьми из разных мест Что они рассказывают?
— У меня, мой государь, пока нет для вас никаких особо интересных вестей, — ответил Намнансурэн.
— Вы, мои приближенные, все слышите, все знаете, а рассказывать не хотите. Так я, ваш учитель, могу превратиться в говорящего попугая.
— Мудры ваши слова, они наводят на размышления. Не могли бы вы, мой господин, приказать вашим министрам все доводить до вашего сведения? Мне, со своей стороны, хотелось бы прочесть направленные вам, хану спасителю, телеграммы из красной России, о которых я случайно узнал. Заранее преклоняюсь перед вашей милостью. Простите, мой государь.
— Да, что-то припоминаю. Погоди-ка! Не то осенью, не то зимой, нет, кажется, весной, премьер-министр говорил о каком-то любопытном послании. А ты в это время где был? У себя в аймаке? Его как будто принес посол — господин Орлов? Э-э. Или я ошибаюсь?
— Так, значит, в то время меня не было рядом с вами.
— Нет. Орлов мне еще сказал: «Краснопартийцы обманывают вас. Это послание — ширма, которой они хотят прикрыть все свои прегрешения». Жаль, что тебя тогда не было рядом. Мне так хотелось спросить, что за дела там творятся. — Богдо долго молчал, а потом спросил: — А зачем оно тебе понадобилось?
— Украшение вселенной, мой богдо! Я хочу знать, что думают эти красные русские о вас, священном богдо, а также о монголах. Дозвольте его прочитать, и тогда мы доведем до вашего слуха достойные вас вести. Так думаю я, ничтожный…
— О, господи! Столько тревожных вестей за последнее время! Это все грехи наши, — сказал богдо и, помолившись, продолжал: — Ты спроси у сойвона! Он наверняка знает. Если послание у Билэг-Очира, он не даст его не только тебе, но и мне, — почти шепотом произнес богдо, словно испугался собственных слов. Был он похож на старуху, которая никак не разберется в своем сундуке, наполненном хламом. Богдо всячески скрывал одолевавший его страх.
От выпитой водки Намнансурэн захмелел. Откланявшись, он вышел и на лестнице столкнулся с сойвоном.
— Как вы себя чувствуете, мой хан? — спросил сойвон, выказывая дружелюбие и почтение, а когда Намнансурэн сказал ему, что желал бы с ним встретиться по одному важному делу, тот, не переставая кланяться, ответил: — Мой господин! Я готов выполнить любое ваше желание. Вы чистосердечны, доброжелательны и потому достойны доверия… Вам доверяет и сам богдыхан, и весь наш народ. — Сойвон видел, что Намнансурэн пьян, и бессовестно ему льстил. Намнансурэн отвел сойвона в сторону и попросил найти и показать ему послание красного правительства.
— Пока не могу вам ничего обещать. У моего господина много разных бумаг, одни спрятаны, другие лежат на виду. Но уж для вас я постараюсь.
Намнансурэн, проникнувшись доверием к сойвону, попросил его разыскать документы как можно быстрее.
— Ну, конечно, конечно. Я разыщу их, где бы они ни были. Вообще-то, положение сейчас сложное. Необходимо найти те кочки, по которым можно было бы выбраться из трясины тысяч и тысяч конфликтов. И мне, уважаемый министр, давно хотелось с вами об этом поговорить. С Билэг-Очиром мы давно в дружбе, но с некоторых пор перестали понимать друг друга. — Последние слова сойвон произнес доверительно, и Намнансурэн за них ухватился. — Не найдется ли у вас, почтенный министр, немного времени, чтобы зайти ко мне в мою маленькую юрту? — любезно проговорил сойвон и повел Намнансурэна к большой белой юрте позади дворца.
Юрта была устлана разноцветными коврами и подстилками и украшена золочеными фигурками бурханов.
— Прошу вас занять место в хойморе, — сказал сойвон и распорядился подать чай. Вскоре на столе появились разные яства и бутылка китайского вина в фарфоровой бутылке с золотыми письменами, которую сойвон достал из шкафчика.
К вечеру Намнансурэн вышел из юрты сойвона и, поддерживаемый слугой, едва добрался до коляски.
«Впервые вижу, чтобы господин так напился, — подумал Содном. — Что же случилось?»
Среди ночи Намнансурэн очнулся, обвел глазами стоявших у постели жену и телохранителей, сказал ясно и отчетливо:
— Где я нахожусь? Дома? Государство наше мерзостно, а люди в нем — ничтожны. Да, я люблю своих подданных. И подданные любят меня. Сейчас вы должны погрузить мой труп и возвращаться обратно. — Услышав это, все испугались, заплакали. Тогда Намнансурэн сказал: — Не слушайте, это пьяный бред!
Несколько дней Намнансурэн пролежал без сознания. Госпожа отправилась к богдо и поднесла блюдо со ста ланами серебра.
— Это рок! — произнес богдо. — Пусть читают молитвы священного Аюуша! Лечить его будет мой придворный лекарь.
Когда читали молитвы о спасении, Намнансурэн будто очнулся и, глядя на тоно, проговорил:
— Подождите. Мне душно! Сойвон должен был показать мне одно послание. Дайте же воды из источника Хятру, мне станет легче.
Вошел лекарь Сэрэнэн, он принес мешочек с лекарствами. Лекарь пощупал пульс у Намнансурэна, запричитал:
— Надо было меня раньше позвать, — и, отсыпав зеленоватого порошка, сказал, что его надо развести в воде. Врач нойона, который тоже был здесь, спросил:
— Что это за лекарство? По-моему, лечить господина надо одним молоком.
— Молоко не лекарство, а питье, — ответил лекарь и потребовал кипяченой воды.
— Прошу вас, великий лекарь! Я думаю, что у нашего нойона обожжены желудок и кишечный тракт, — опять заговорил врач.
— Если вы не доверяете мне, пусть прежде примут лекарство телохранители. Да я сам могу его выпить, чтобы вы не сомневались, сердито сказал Сэрэнэн, подняв чашку с лекарством.
Намнансурэн лежал с закрытыми глазами, то ли в сознании, то ли в беспамятстве, но вдруг открыл глаза и, спокойно глядя в лицо склонившегося над ним лекаря, произнес:
— Это снадобье приказал выпить богдо-гэгэн? Любой из моих подчиненных согласился бы выпить его вместо меня. Ну да что теперь об этом толковать. — И Намнансурэн выпил лекарство.
— Это — последнее средство. Если он выдержит, то будет жить, — сказал лекарь врачу нойона и, захватив свой мешочек с лекарствами, вышел. Не прошло и получаса, как Намнансурэна стало рвать и рвало часа полтора.
— Ох, как мне тяжело, — произнес Намнансурэн, глядя на голубое небо, видневшееся через тоно, вздохнул и в изнеможении упал на подушки. Лицо его покрыла мертвенная бледность. Врач пощупал пульс и едва слышно произнес:
— Он покинул нас.
В ставке не было ни единого человека, который не заплакал бы, когда перед деревянной кроватью с золочеными головками тихо опустился шелковый полог с вытканными на нем драконами и кистями по углам. Зажгли лампадки, и по всему дому распространился аромат благовоний. В наступившей тишине Содном, закрывавший тоно юрты, прижимая к лицу мокрые от слез обшлага рукавов, прошептал:
— Да, боролся он за праведное дело. Жаль, что оказался один…
Человек, побежавший с поминальным хадаком во дворец богдо, вскоре возвратился и передал его слова: «Для всеобщего блага сорокатрехлетний Намнансурэн отправился на службу в Тридцать три небесных царства!»
Все склонились в поклоне. А Батбаяр подумал: «Да, как же!.. Расскажи это глупым старухам богомолкам»
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ В ПОИСКАХ ПРАВДЫ И СЧАСТЬЯ
Приближенные и телохранители, погрузив гроб с телом господина в карету, с великой скорбью отправились в родной хошун. Только Батбаяр остался. Он должен был сторожить двор, пока казначей не соберет все вещи нойона. Целыми днями Батбаяр сидел во дворе, заросшем бурьяном, и попивая перестоявший айрак, размышлял: «Непонятно почему вдруг наш господин умер? Ведь он был совершенно здоров. Может быть, его отравили? Но за что? Разве не отдавал он все силы большим и малым делам, разве не считался с ним богдо, не почитал народ? И кто мог его отравить? Ну, конечно же, те, кто стоит у власти. У них каменное сердце. Разве справедливо что человек, отдававший все силы государству, умер такой смертью? Неужели так бывает? Неужели власть имущие всегда устраняют ставших им неугодными людей пусть даже у них большие заслуги. Неужели и в других странах инакомыслящих убирают таким путем? Подло! Отвратительно! Стравливать людей, сеять подозрения и злобу. Нет, такая власть никому не нужна. Без нее жили бы мирно и спокойно. А может, было бы еще хуже. Стали бы процветать воровство и грабеж, бесчестье и обман, сильный в открытую притеснял бы слабого. Значит, власть все же нужна. А говорили «Вот мы освободимся от маньчжурского владычества, заживем счастливо». А где оно, это счастье? Власть кучки интриганов, готовых и друг друга сожрать, никому не нужна. А может быть власть другой, заботливой и милостивой? Конечно, может. Тумуржав тогда сказал, что наступят такие времена, когда будут уважать честность. Так вот, власть красных наверняка справедливая. Эх, задержись мы на несколько дней в Иркутске я разобрался бы что да как».
Близился закат, край неба на западе зажегся багрянцем. Батбаяр сидел на деревянном помосте, где раньше стояло большое ханское орго, курил. Огромный двор притих, опустел. Глазу не на чем было остановиться: лишь трава тянулась вверх вдоль выложенной камнем дорожки к воротам, да бурно разросся по углам бурьян. Батбаяр выбил трубку, затоптал упавшие на доски искры. «Недавно здесь возвышалось белоснежное восьмистенное орго с красным хольтроком. Туда входил наш господин в хурэмте из золотой парчи. Хороший он был и очень красивый. Увы, жизнь не всегда ласково обходится с человеком. Недолго пришлось ему ходить по земле, но повидать успел много. Жил трудно, часто страдал. Редко выпадали на его долю счастливые, радостные дни. Всегда тревожился о семье. Как умел — избегал направленных в него острых клинков. Даже брат и названая мать собирались его отравить. И все же не миновала его беда. Зверь в человеческом облике сгубил обоих его сыновей, а теперь сгубили его самого. На хане, возможно, и был грех, а дети чем виноваты? Или зависть не знает жалости? Хан был настоящим мужчиной: всегда достигал поставленной цели, себя не жалел. Всего несколько лет был он у власти, но успел завоевать в народе любовь. Не оттого ли и стал он кое-кому ненавистен? Верно говорил Дагвадоной, что хан остался в одиночестве. Видно, не искал единомышленников и соратников… Странно. Еще совсем недавно мы преклонялись перед этим величавым человеком, он казался нам вечным, и вот его уже нет», — Батбаяр вздохнул и чуть слышно произнес:
— Но голову он держал высоко. В любую непогоду мечтал о завтрашнем солнечном дне.
С улицы донесся рев верблюдов, заскрипели створки ворот. Во двор вошел Аюур бойда: бархатная шапка надвинута на лоб, в руках длинный кнут. «А бойда наш, видно, рад кончине нойона. Прикидывает, наверное, нельзя ли на этом настиле свою юрту поставить».
Батбаяр поднялся навстречу бойде. За бойдой шли проводники и вели с полсотни верблюдов с упряжью.
— Ох-хо-хо! Какое несчастье! Потерять такого господина! И все из-за этого слепого бродяги богдо! — причитал Аюур и чуть не бил себя кулаками по голове.
Батбаяр не решился сказать: «Убил господина один из сойвонов богдо, подлил ему отравы в вино. А придворный лекарь напоил его лекарством, которое ускорило кончину». Он лишь кивнул:
— Конечно, не обошлось без него, — и поник головой.
Несколько дней они разбирали вещи покойного господина, увязывали их в тюки. Батбаяр работал в поте лица, с утра до ночи. Аюур, казалось, тяжело переживал вдруг обрушившееся несчастье, весь почернел, осунулся. Дав указания, как укладывать вещи, он садился куда-нибудь в тень и курил. Батбаяр посматривал на него и жалел: «Стареет, бедняга. Соображать стал хуже, и все суетится. Никак не может смириться с несчастьем» Как-то к вечеру Батбаяр сбегал на базар, купил мяса, сварил суп. «Он здорово помог нам с матерью, когда мы голодные и бездомные пришли в Онгинский монастырь. Вот и покойный господин наказывал видеть в людях не только плохое».
Аюур задумчиво перебирал четки, когда к нему подошел Батбаяр и подал полную чашу дымящегося супа, от которого шел легкий аромат чеснока. Бойда вздрогнул от неожиданности, растерянно посмотрел на Батбаяра, вздохнул. За разговором не заметили, как съели суп. Батбаяр достал из переметной сумки нож и принялся нарезать мясо. Казначей взял нож и залюбовался тонкой работой.
— А ну-ка, дай ножны с кресалом, — попросил он. — Золотые руки у мастера. Видно, с душой трудился. Я такого еще не видел. На ножнах, кресале и подвесках выбил символ двенадцатилетнего круга, а это дело непростое. Да чего же тонкая резьба! — Аюур восхищенно качал головой.
— Да, сработан искусно.
— Спору нет. А что за мастер делал? Где ты этот нож раздобыл? Его любому мужчине носить не зазорно.
— Господин подарил, когда еще был в добром здравии. Сказал, что ему привезли из западных хошунов.
— А-а! Когда же это господин так тебя облагодетельствовал?
— Когда я сопровождал его на север. Об этом знает одна ахайтан. Этот нож мне теперь дороже жизни, — ответил Батбаяр и подумал: «Теперь покоя не даст, — будет упрашивать, чтобы продал».
— Ты, когда в город выходишь, с собой его не носи, — посоветовал бойда, любуясь ножом. — Еще потеряешь. Господин наш теперь стал бурханом, и его подарок будет тебе талисманом, — сказал Аюур, возвращая нож.
Когда вещи были уложены, Аюур ушел в город, сказав, что ему еще нужно зажечь лампаду в храме и полистать «Лхого» — «Книгу грядущего», и долго не возвращался. Батбаяр тем временем погрузил вещи и нашел сторожа для бывшего ханского подворья. В день, когда караван должен был отправиться в путь, бойда был особенно ласков с Батбаяром, а перед выстрелом, возвещающим о наступлении полудня, вынул из-за пазухи запечатанный конверт и протянул Батбаяру.
— Вот ведь, чуть не забыл! Сбегай, отнеси письмо в министерство внутренних дел. Имя чиновника там указано. Да смотри, не оброни по дороге. Тут написано об одном гуне, который забрал из казны кое-какие вещи покойного господина, да так и не вернул. Поторапливайся, а то ехать скоро, — предупредил бойда.
Батбаяр сунул письмо за пазуху и помчался к министерству. Там он спросил, как найти следователя, и его отвели в маленькую комнату с облупившимися стенами. Важный полнолицый чиновник вскрыл конверт, прочел письмо, покосился на подателя, спросил имя и задумался. «Что это он так посмотрел на меня?» — удивился Батбаяр, и сердце вдруг заныло от недоброго предчувствия.
Чиновник между тем вызвал надзирателей и приказал:
— Заковать в кандалы! — Надзиратели схватили Батбаяра и надели на него кандалы.
«Что это они? Может, перепутали?» — недоумевал Батбаяр, но сопротивляться не стал, даже когда на шею ему надели колодку.
— Господин нойон! В чем моя вина? Нам нынче вечером уезжать надо… — начал объяснять Батбаяр, но чиновник не стал его слушать.
— Отведите этого вора в управление делами премьер-министра шанзотбы. Да смотрите, чтобы не сбежал по дороге. Такой на все способен. — Надзиратели набросили на шею Батбаяру цепь из восьмидесяти полукилограммовых звеньев и погнали вперед.
«И цепи, и шейную колодку приготовили, будто ждали. Но почему к шанзотбе ведут? Может, подозревают, что связался с красным правительством, когда ездил с покойным господином в Россию? Видно, сайд Билэг-Очир решил отправить меня вслед за господином. Неужели Аюур все знал и специально послал меня с письмом? То-то он старался мне в глаза не смотреть. Видно, недолго мне теперь жить осталось».
Батбаяр шел, обливаясь потом под тяжестью цепей. Во дворе Управления шанзотбы его посадили у стены большого деревянного здания.
К вечеру, когда служивый люд стал расходиться, Батбаяра втолкнули в деревянную избу и поставили на колени перед каким-то зайсаном с короткой жиденькой косой и лицом, изрытым оспой. Краем глаза Батбаяр заметил, что в дверях встали два палача — один с бандзой, другой с шахаем[73] в руках.
— Ну что же, молодой человек! Советую вам лучше сразу чистосердечно признаться, — сказал рябой зайсан, — и молиться Манжушри — богу грядущего.
— Богу я помолюсь. А вот в чем признаваться, не знаю.
Зайсан укоризненно покачал головой.
— Ты, видно, закоренелый преступник, хочешь выудить у меня, что нам известно, а остальное скрыть. Но у нас ты не вывернешься. Сейчас посмотрим, что крепче: твои челюсти или пытки, твое терпение или тюремные стены. Готовьте шахай! — приказал зайсан.
Один палач навалился на плечи Батбаяру, а другой стал его бить по щекам прошитым веревками кожаным шахаем. В голове у Батбаяра загудело, челюсти заломило так, будто зубы вырывают из десен, но он терпел.
— Ну что, будешь говорить? — заорал зайсан. Батбаяр махнул рукой, чтобы пытку остановили.
— Помилуйте, уважаемый чиновник! Я все же хотел бы знать, в чем меня обвиняют?
— Я перечислю сейчас твои преступления. Тогда признаешься?
— В чем виноват, в том признаюсь.
— Пятнадцать лет назад ты украл у своей хозяйки жемчужное украшение, оправленное в золото.
— Нет, я никогда ничего не крал.
— А серебряное кресало и нож у бывшего министра Намнансурэна, когда тот был на смертном одре?
— Нет, мне подарил их господин, еще пребывая в добром здравии.
— Ах вот оно что! Не ты ли говорил, что «господина убил слепой богдо»?
Теперь Батбаяр понял, что его схватили по доносу Аюура бойды, приподнялся и крикнул:
— Нет, не я. Это сказал ваш Аюур бойда. Я собственными ушами слышал.
— Ах вот оно что. «Ваш бойда!» Ты зачем вскочил? Уж не собирался ли ударить меня, представителя власти хранителя законности. Дать ему восемьдесят ударов бандзой. Послушаем, как он тогда заговорит.
Пытали Батбаяра несколько дней подряд. На лопнувшую кожу сыпали горячие угли и били снова и снова. Мясо висело лоскутьями, раны гноились и дурно пахли. Когда в очередной раз он потерял сознание, его вынесли во двор и окатили водой. Очнувшись, Батбаяр с трудом сообразил, что лежит на солнцепеке, под стеной управления.
— Ну что, будешь признаваться? — донесся голос рябого зайсана.
Пересохшее горло саднило, и Батбаяр с трудом произнес:
— Правда все же есть. Ее-то и буду держаться. «Хитро придумал Аюур. Сделал так, что я сам себя на расправу привел. Избавиться от меня решил. Но если суждено мне умереть, так хоть имени своего не опозорю», — стиснув зубы, думал Батбаяр.
— Не признаешься, закон не остановится и перед крайними мерами. Бейте! — произнес зайсан.
— Ох-хо-хо, дружище Вандан! Куда бить-то? — спросил надзиратель, утирая пот рукавом. Сквозь пелену, застилавшую глаза, Батбаяр заметил, как взлетела над ним коричневая от запекшейся крови бандза. И он опять потерял сознание. А когда очнулся, с трудом сообразил, что на лицо падают капли дождя, и снова перед глазами все закачалось, поплыло… Немного спустя, Батбаяр догадался, что лежит на дне арбы. «Куда меня везут? В тюрьму? Сам, наверное, не смог идти, вот и повезли». Дождь усиливался. На каждый толчок тело отдавалось мучительной болью. Батбаяр, стиснув зубы, попробовал шевельнуться, но руки и ноги были словно чужие. Он то терял сознание, то приходил в себя. Колеса постукивали о камни — видно, ехали по степи. Свежий прохладный ветер холодил горевшую грудь. Батбаяр слизнул с губ дождевые капли. «Куда это меня? Может, на Желтую скалу?»[74]
В угольно-черном небе вспыхнула молния, и в глазах запрыгали огненные зайчики. Между громовыми раскатами Батбаяр услыхал приглушенные проклятия возчиков. В памяти проплывали воспоминания детства. Вот они с матерью в долине Зун богд ар смотрят на «падающего дракона». Может, сейчас исполнится его мечта, он уцепится за хвост дракона и взлетит вместе с ним в священную страну, где обретет покой? Нет, все это сказки. Туда не попасть, да и падающих драконов не существует на свете. Но он был мал тогда и ничего не знал про шаровую молнию, да и кто из взрослых мог ему это объяснить?
Скрипя и подпрыгивая на выбоинах, арба скатилась в котловину. Возчики закурили.
— Здесь бросим? Или отвезем подальше? — услышал Батбаяр. «Что они сказали? Бросить? Меня привезли сюда, чтобы убить?» — ему захотелось крикнуть: «Не надо, не убивайте! А может, они думают, что я умер, и потому хотят бросить?» Затаив дыхание, Батбаяр прислушивался к разговору.
— Зачем нам тащиться под проливным дождем? Бросим здесь и назад.
— Ох-хо-хо, дружище Вандан! Твоя правда: что здесь, что дальше — все равно собаки сожрут.
— Он точно умер? А то нехорошо получится живого на съедение собакам бросим.
— Ох-хо-хо. Он еще на закате дышать перестал. По-другому и быть не могло: сколько дней подряд пытали! Жилистый парень был. Долго терпел, бедняга.
— Даже не охнул ни разу.
— Э-э, дружище Вандан! Когда пытали гуна Хайсана, он тоже ни разу не вскрикнул.
— Тот — ясное дело. За политику страдал. А на этого, видно, напраслину возвели. Вот он и решил не покоряться. Жалко, красивый был парень. Ну да теперь ничего не поделаешь.
— Бедняга! Что и говорить. Э-хе-хе, дружище Вандан! И за что мне такая доля — шкуру с людей заживо спускать? Ох-хо-хо.
Возчики распрягли лошадь и, взявшись за оглобли, приподняли передок арбы, — видно, не хотели касаться «мертвеца» руками. «Не вскрикнуть бы, если ушибусь», — подумал Батбаяр. Он скатился по склону оврага и рухнул на кучу песка. От боли потемнело в глазах. Последнее, что он услышал, был скрип колес и голоса возчиков, бормотавших молитву…
Очнувшись, Батбаяр долго лежал, прислушиваясь к боли во всем теле. «Я умер, и меня бросили в степи», — шевельнулась мысль. Но на лицо по-прежнему падали капли дождя, спину холодил песок. «Так это не сон, я и в самом деле лежу где-то на дне оврага. Лучше бы мне умереть раньше, чем начнут рвать собаки». Он приподнялся и заметил, как метнулась в сторону большая черная тень. Батбаяр дернулся, хотел закричать, но не хватило сил. От резкого движения тело пронзила такая боль, что он задохнулся и едва не потерял сознание, затем осторожно перевернулся на живот и пополз по дну оврага. Дождь лил не переставая. Отдышавшись, Батбаяр приподнялся, огляделся и понял, что находится на северо-востоке от Гандана[75]. Светало. Батбаяру нестерпимо хотелось пить. В детстве, когда они с матерью, умирая от жажды, шли через Батганскую гоби, он, стараясь забыться, думал о чем-то другом, но сейчас не было сил и на это. Огромным усилием воли он заставил себя встать на ноги и едва брел, движимый единственным стремлением добраться до людей. Обессилев, Батбаяр ложился, потом снова брел дальше, пока не добрался до большого деревянного хурда на восточной окраине Гандана. Занималась заря. «Что же теперь делать?» — подумал Батбаяр.
На молитвенной дороге вокруг Гандана появились ламы, старухи богомолки. Сидеть Батбаяр не мог, поэтому встал на колени и привалился к одному из столбов, поддерживающих молитвенный барабан. Он не знал, что ждет его впереди, но в душе забрезжил свет надежды на спасение. Из монастыря на гнедом коне возвращалась женщина. Когда она подъехала ближе, Батбаяру показалось, что он уже где-то видел ее, и он махнул ей рукой. Это оказалась служанка Номин дар — жены цэцэн-хана.
— Даваху! — прошептал он. — Помоги.
Девушка спрыгнула с коня. «Кто бы это мог быть», — удивилась она и нерешительно шагнула к мужчине с разбитым, кровоточащим лицом.
— Это я, Батбаяр, телохранитель сайн-нойон-хана, — едва слышно ответил мужчина. Девушка бросилась к нему.
— Что с тобой?
— Принеси воды.
— Довезти тебя до подворья хана?
— Нет.
— Что же мне с тобой делать?
— Есть у тебя какой-нибудь знакомый аил, кроме ханского? Помоги спрятаться.
— Тут неподалеку живет мой брат. Поедем к нему? — ласково спросила Даваху. «Значит, не здесь суждено мне лечь в землю», — подумал Батбаяр и кивнул. Девушка накинула на плечи Батбаяру свою накидку, чтобы прикрыть его вымазанный глиной дэл, и помогла подняться в седло.
Батбаяр ехал, стиснув зубы, чтобы не закричать от боли. Он не помнил, как добрался до северной окраины Да хурээ, где во дворе, огороженном хашаном из жердей, стоял деревянный домик бедного ламы — старшего брата Даваху. Тот посмотрел на багрово-синее лицо Батбаяра, но расспрашивать ни о чем не стал. Осмотрев раны, он сразу понял, что парня пытали, и десять дней отпаивал его отваром из полевых шампиньонов и травы алтан гагнур, раны смазывал еще горячей собачьей кровью, кормил, поил, выхаживал. Трое суток Батбаяр метался в бреду, а на четвертые болезнь отступила: раны на лице стали заживать.
Очнувшись, Батбаяр вспомнил все, что с ним произошло. «Какая счастливая случайность привела Даваху в то утро в Гандан? Почему я очнулся в дороге? Ведь меня считали мертвым. Откуда во мне взялись силы добрести? И почему я полз именно в ту сторону, а не в другую? Почему судьба даровала мне эту встречу? А может быть, неспроста я встретился с нею впервые в день возведения на престол богдо-гэгэна? Чем отплачу я этой девушке и ее брату за их добро?» Теперь Батбаяр сам убедился в справедливости слов Дашдамбы: «Помогают лишь бедняки».
Даваху прибегала навещать Батбаяра каждый день, радовалась его выздоровлению, присев на край постели, рассказывала последние новости.
— Жаворонок наш повеселел. Скоро защебечет и улетит, — шутила она, а в глазах таилась грусть.
— Какой счастливый случай привел тебя в то утро в Гандан? — спросил однажды Батбаяр.
— Был сорок первый день, как умер ваш нойон. А наша Номин дар ахайтан каждый день посылает меня зажечь лампаду перед Жансрайсэг бурханом и помолиться за будущее перерождение вашего нойона. Когда она, бедняжка, узнала, что На-сайд «отправился в Шамбхалу», чуть не умерла с горя. Наш господин с ней из-за этого рассорился.
— С чего это им ссориться, когда наш хан уже на том свете? — с сомнением спросил Батбаяр.
Уловив в его голосе недоверие, Даваху сказала:
— Так мы с тобой ни о чем не договоримся.
— Ты меня не поняла, — стал оправдываться Батбаяр, стараясь загладить неловкость. — Я знаю, мой нойон и твоя госпожа были очень близки. Но мне непонятно, почему ссора связана со смертью моего господина.
— Что же тут непонятного? Наш хан узнал, что жена любит вашего господина без памяти, и стал ее ругать. «Ты, говорит, продавала тело и душу, разносила политические сплетни. Выпытывала все, что можно, у меня и ламы Билэг-Очира и передавала Намнансурэну. Он заставил тебя наушничать. Ты предательница. Не будет тебе за это прощения ни на земле, ни на небе». Меня господин заподозрил в соучастии. Несколько раз вызывал в орго своего министерства, допрашивал: «Какие вести они велели тебе передавать друг от друга? Не скажешь — удавлю на собственной косе. Будешь знать, как разносить слухи». — По щеке Даваху скатилась на ворот жемчужина-слезинка. — Я ответила, что ничего не знаю, никому ничего не передавала, а уж тем более слухов и сплетен. Вскоре стало известно, что ваш хан скончался. Тогда княгиня Номин дар не стерпела и говорит мужу: «Вы проклинали Намнансурэна, тряслись от страха, как бы он не узнал, что и вы поставили свою подпись под посланием с просьбой ввести китайские войска. Вы отреклись от клятвы, данной на священной горе Богдо-уул. Это на вашей совести его гибель». Наш цэцэн-хан побледнел как смерть и молчит, слова вымолвить не может. Видно, ваш господин умер не своей смертью.
— Наверняка, — вздохнул Батбаяр. — В этом мире правды не найдешь. Взять хоть меня…
Даваху слушала, качала головой, и ее большие черные глаза гневно сверкали.
— Ваш бойда самый последний негодяй. Задумал избавиться от тебя. Наверняка дал следователю взятку, да еще не из собственных денег, а из ханской казны. — Девушке до боли жаль было Батбаяра.
— Наверное, так, — ответил Батбаяр. — Аюур-гуай набросился на добро нойона как волк на отару овец, потерявших хозяина. Что там взятка, он брал из казны, сколько хотел.
Батбаяр и не подозревал, насколько он прав. Аюур бойда преподнес гладкому, словно обкатанный водой голыш, следователю расшитый серебром чепрак ценою в пятьдесят ланов. Не меньше получил и плешивый рябой зайсан, написавший бойде прошение о возбуждении дела, а сам даже поленился проверить, достоверна ли запись «преступник скончался, не выдержав допроса», и закрыл дело.
— Если бойда вдруг увидит тебя, сердце у него разорвется.
— Не разорвется. Всю жизнь он делал подлости, и теперь его ничем не проймешь, как могильщика. Сердце у него словно чугун.
— Да, ты прав. Тогда остается лишь по-мужски спросить с него за все.
— Разве что. Страшно даже подумать, сколько людей еще пострадают от Аюура и его сынка, — сказал Батбаяр, задумавшись на минуту, и продолжал: — И все же дело не только в них. Везде процветают клевета, лицемерие, предательство. Придет ли когда-нибудь им конец?
— Я дрожала от страха, когда ты рассказывал, что с тобой произошло. Я и сама теперь под подозрением: могу так же, как ты, оказаться в тюремной яме, из которой лишь один выход — на тот свет. Как бы мне из служанок уйти? А тут еще, как назло, княгиня ни на шаг от себя не отпускает. То ли привязалась так, то ли боится за меня? Очень она Намнансурэна любила, ничего для него не жалела. А сейчас, бедняжка, словно осиротела. Одной мне доверяет. И все же нужно от нее уходить, как ты думаешь?
— Не знаю, что и сказать. Только такой позорный порядок, как сейчас, не может держаться долго. Покойный хан, человек большого ума, говорил: «И строй, если он несправедливый, может сломаться, причем в самом, казалось бы, прочном месте», — ответил Батбаяр, вспомнив, что Намнансурэн сказал это два месяца назад в Иркутске, где они своими глазами видели крушение самодержавной власти, казавшейся вечной в своем могуществе и величии.
Шли дни. Батбаяр быстро поправлялся. Даваху и радовалась и печалилась. «Какой путь он выберет? Как будет жить? Если по-прежнему, с душой нараспашку, тяжело ему придется».
Но еще больше, чем Даваху, тревожился о своем будущем сам Батбаяр. Он часто лежал, закинув руки за голову, вздыхал и думал: «На этот раз я вывернулся. А как быть дальше? Ведь бойда, вернувшись домой, наверняка всем рассказал, что я обворовал нойона, был арестован. И что он никак не мог меня вызволить. Как же страдают теперь мать и жена. И как злорадствует Донров, какими грязными ругательствами осыпает мать и Лхаму? Поверил ли в это Содном? Как же мне известить их, что я жив? Добраться до аила можно пешком. А там что? Аюур обчистил казну, а стоит мне появиться, он всю вину на меня свалит. И тогда уже мне казни не избежать. Следователь, с которым Аюур вошел в сговор, немедля пошлет солдат для поимки «преступника». Нет показываться на глаза Аюуру нельзя. Но не прятаться же все время в горах? Встретить такую чистую девушку, добрую да к тому же красавицу все равно что днем звезду в небе увидеть. И брат ей под стать. Прекрасной души человек. Ведь узнай кто-нибудь, что они меня прячут — беды не миновать. Другие на их месте донесли бы на меня и получили награду. Может, нам всем вместе уехать в их родные места, где меня никто не знает? Ведь чиновники уверены, что я давно сгнил. Заработаем себе на пропитание. Предложу Даваху выйти за меня замуж… Нет, нельзя. На кого я брошу мать и Лхаму? Я обязан о них заботиться. Да и вряд ли Даваху согласится за меня выйти. Но все же, какое счастье, что я встретился с ней, когда отчаянье мое достигло предела. Видно, сама судьба нас свела.
А если я узнаю, что мама умерла, а Лхама, поверив в мою гибель, с кем-то сошлась? Обидно, но вины ее в этом не будет».
Как-то, когда Даваху забежала проведать Батбаяра, он попросил:
— Отпросись у хозяйки на денек-другой, побудем вместе. Благодаря вам я снова стал человеком. Теперь надо думать, как жить дальше. Посоветоваться с тобой хочу. «Была не была, открою душу, послушаю, что она скажет» — решил Батбаяр.
Через несколько дней Даваху, как и обещала, пришла домой на два дня. Она принесла еду, села на постель и сказала:
— Тень вашего хана до сих пор приводит в трепет его врагов.
— Что ты хочешь этим сказать? — удивился Батбаяр.
— Китайские нойоны и доверенные фирм не верят в его смерть.
— С чего ты взяла?
— Вчера моей госпоже богдо пожаловал титул бэйлэ, и купец, доверенный одной пекинской фирмы, устроил в ее честь прием. Госпожа взяла меня с собой. Каких только кушаний там не было! Разные вина, водка. Весь вечер купец вокруг ахайтан увивался, веселил ее, развлекал. И вдруг спрашивает: «А правда, что сайн-нойон-хан умер?» Ахайтан побледнела, подумала и говорит:
«Точно не знаю, но слышала, что скончался. Наверное, так и есть». Купец заулыбался: «Я, говорит, просто так спросил. Ведь всякое бывает на свете. Давно еще, в старину, один из сайдов убил своего далай-ламу, к которому благоволил государь Поднебесной, а стало это известно только через шестнадцать лет, все были уверены, что далай-лама пребывает в добром здравии. Но бывает и наоборот — человека считают умершим, а вдруг оказывается, что он жив. Поговаривают, будто Намнансурэн выехал в Петербург».
— В таких случаях говорят: «Холощеный верблюд даже мертвого самца боится». Не очень-то умная у вас ахайтан.
— Почему это?
— Ответила бы: «Вполне возможно, что хан жив». Напугала бы нойонов, чтобы еще больше тряслись. И не зря они боялись хана. Он всегда разоблачал их черные замыслы и в своей борьбе с ними был беспощаден. Лишь когда человек умрет, начинаешь понимать, каким он был. Сейчас каждый, у кого болит душа за родину, скорбит о моем господине, — сказал Батбаяр.
Даваху загрустила, притихла. Батбаяр постарался утешить ее, а потом принялся рассказывать о том, как думает жить дальше.
— Как бы мне хотелось всегда быть рядом с тобой, делить и горе, и радость. Но это невозможно, пойми, ты ведь умный. Ты не можешь бросить свою жену, ты должен непременно к ней вернуться, она ждет тебя и будет ждать хоть всю жизнь, — спокойно ответила Даваху и печально вздохнула.
— Будь по-твоему. Я вернусь, но не сейчас, а когда стану сильным.
— Как понимать твои слова?
— Мне нужны силы, чтобы победить Аюура.
— А-а, конечно. Но о каких силах ты говоришь?
— Пока не знаю.
— Подашь прошение богдыхану? Или возбудишь иск?
— Кто станет слушать бедняка? Что бы я ни говорил, господа никогда не признают моей правоты. Искать у них справедливости все равно что самому себе рыть могилу.
— Ты прав. О Дари-эхэ, богиня моя!
— Вот я и думаю: куда идти, где и какие силы искать? «Надо уходить в красную Россию. И себя спасу, и других не подведу», — подумал Батбаяр, но говорить об этом поостерегся.
Через несколько дней Батбаяр сказал ламе:
— Спасибо вам за все; за то что приняли, выходили, на ноги поставили. Пойду теперь правду искать. Оставаться у вас мне нельзя. Дознаются — худо вам будет.
Батбаяр простился с Даваху, пожелал ей счастья, благополучия, ночью выбрался из столицы и зашагал на север. За пазухой у него были припрятаны пять янчанов, которые дала ему девушка. Батбаяра тревожило, что все лицо у него в шрамах — как бы не вызвать подозрений Но стоило ему очутиться в степи, и он снова поверил в свою удачу. И хотя теплившееся в уголке души чувство к ясноглазой Даваху порой влекло его назад, сердце рвалось вперед, к любимой, к Лхаме, которая наверняка все глаза проглядела, всматриваясь в каждое облачко пыли показавшееся на дороге.
Он не знал, куда именно держать путь, но понимал одно — надо уходить к красным через границу.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ СМУТА
Бежит река Зэлтэр по узкой долине, журчит, несет свои прозрачные воды меж величавых гор, покрытых густыми лесами. Поросла долина высокой — по стремя, травой; цветами пестрит. Под легкими порывами ветра трава колышется, и кажется, будто это бегут разноцветные волны. Все здесь напоминает Хоргой хурэмт: и росинки-жемчужины на цветах по утрам, и леса, отливающие червонным золотом на закате, и радуга в небе после дождя… Разносится по долине рев быков, ржание лошадей, крики турпанов и песни, которые во все горло распевают мальчишки, пасущие коров. Араты из торгутских аилов, перекочевавших недавно на Зэлтэр из южных хошунов, заметив на опушке леса молодого мужчину, погоняющего вола, груженного вязанками дров, переговариваются:
— Наверное, издалека пришел.
— Да, натерпелся парень. Видел, какие рубцы у него на скулах?
— Жизнь заставила покинуть родные места, вот и пошел скитаться, а здесь работу нашел и остался.
— А может, он беглый преступник?
— Все может быть, только не похож он ни на вора, ни на грабителя.
— Да, парень хороший. Всегда помочь готов людям Отобьется корова от стада или лошадь от табуна, он не посмотрит, чья она, — пригонит назад.
— Повезло Нэрэн-гуаю. Детей нет, а тут судьба такого парня послала. Теперь они со старухой не нарадуются.
— Радуются — это ладно. Главное, что он скот не угонит. Сразу видно. Не такой человек.
— Откуда ты знаешь? Халхасцы говорят: «У змеи пестрота снаружи, у человека подлость — внутри».
— Не-е, парень говорил, что перегонял скот русских торговцев, а где сливаются Орхон и Селенга, потерял лошадь, отстал. Теперь ждет, когда торговцы будут возвращаться назад. А пока решил денег подзаработать.
— Может, и так. По дому, видно, скучает, по жене с детишками. Сядет на берегу реки и слушает, как кричат турпаны, и все думает о чем-то. А у самого лицо грустное такое, — говорили между собой араты.
Батбаяр шел к границе той самой дорогой, по которой ему уже приходилось ездить. По пути он встретил русских купцов, нанялся к ним перегонять скот, но потерял лошадь и отстал. До реки Зэлтэр добирался пешком. Здесь он узнал, что по всей границе идут бои между белыми и красными. «Смутное время, — говорили араты. — Убивают всех без разбора». И Батбаяр решил выждать, осмотреться, а при возможности раздобыть коня. «Идти пешим, не зная дороги, — опасно, — думал он. — Как бы не вызвать подозрения». На реке Зэлтэр Батбаяр встретил семью старика торгута, у которого было немного скота. Старик разрешил ему пожить у них в аиле, что для Батбаяра было, как говорится, настоящим даром судьбы. Нэрэн увидел в Батбаяре такого же усталого и измученного человека, как он сам, и от всей души пожалел.
— Ешь и пей, что тебе хочется, а надумаешь ездить — любую лошадь бери, — сказал старик.
Старуха поначалу противилась:
— Кто его знает, что он за человек. Сейчас всяких полно.
Но старик отмахнулся.
— Ничего. Беды нам от него ждать не приходится. Видно, досталось парню не меньше, чем нашему покойному сыну. Прости меня, господи, — ответил он и пошел в юрту ставить еще одну кровать. Батбаяр прожил у стариков лето и осень. Днем пас скот, а вечером брал старую кремневку Нэрэна и уходил в тайгу за косулями. На закате, когда долину заливал палевый свет заходящего солнца, Батбаяр гнал с пастбища скотину и пел:
Сказал, оседлаю серого коня, Да сбежал он в табун. Хотел встретиться с любимой, Да нельзя, засмеет малышня из аила. Сказал, поеду на черном, как туча, коне, Но и он убежал от меня! Решил встретиться с любимой, Да нельзя — ровесники засмеют.Эту песню он пел еще в родных местах, и каждому, кто ее слышал, она бередила душу.
— Видно, у этого парня в родных местах осталась любимая, — переговаривались девушки, доившие коров. Вышел из юрты старик Нэрэн, прислушался к песне, подумал:
«А парню нашему, видно, что-то жжет сердце».
С полсотни, а то и больше семей, говорящих на своем диалекте и называвших себя жителями хошуна Ялгун-батора, перекочевали на Зэлтэр недавно. Были они небогаты и на первый взгляд прижимисты. Но вскоре Батбаяр узнал и полюбил этих открытых, простодушных людей за то, что умели они довольствоваться малым, за их отзывчивость, веселье и шутки.
Однажды теплым осенним вечером старик Нэрэн и Батбаяр накосили на опушке травы, сгребли ее в копну и прилегли отдохнуть. Закурили и разговорились о жизни.
— Чего только не приходится человеку пережить на своем веку, — сказал Нэрэн. — Сами-то мы из Синьцзяна. Ну и поиздевались над нами китайские войска. Житья от них не стало — пришлось бежать. Откочевало аилов шестьдесят, а то и больше. Но не все приехали сюда, некоторые еще раньше осели. А сын мой навечно в Синьцзяне остался. Его схватили и замучили за то, что он сказал: «Как бы мне хотелось оказаться там, где нет китайских нойонов».
Старик умолк, в глазах его было страдание.
— Сидел бы сейчас рядом со мной, — помолчав, продолжал старик. — Славный был парень, как ты. Но я отплатил им за все. Когда Ялгун-батор пошел воевать с черномундирниками, я поехал вместе с монгольскими цириками. Немало положил я китайских солдат в сражении при Сайхан тал.
«Скрывают плохое, о хорошем рассказывают», — вспомнилось Батбаяру, и он открылся старику без утайки поведал обо всем, что с ним произошло.
— Я догадывался, сынок! По глазам видел. Но смотри, никому ни слова об этом. И здесь найдутся любители порадоваться чужой беде. Время сейчас тревожное, надо бы откочевать в верховья Зэлтэра, подальше от людской суеты. Возвращаться сейчас домой тебе никак нельзя.
С того дня старый Нэрэн еще больше привязался к Батбаяру, полюбил его, как родного сына. Было ему за шестьдесят, но выглядел он совсем стариком. Сдержанный, скупой на слова, Батбаяру он напоминал Дашдамбу, только, не в пример тестю, то и дело поминал бога.
Батбаяр все чаще седлал коня, брал ружье и уезжал в Зэлтэрскую тайгу искать следы кабанов. На лесных тропах ему нередко встречался рябой, высокий мужчина лет сорока на белом коне, с берданкой за плечами. Был он, видно, удачлив и никогда не возвращался с охоты с пустыми тороками. Познакомился с ним Батбаяр при довольно забавных обстоятельствах. Батбаяр искал косуль на северном склоне перевала Сахалтын даваа и выехал на опушку. Там у костра сидел охотник и обжаривал на огне разрубленную на огромные куски тушу изюбря.
— Пусть будут полными ваши торока, — приветствовал его Батбаяр, спрыгнув с коня.
— Да будут твои уста всегда смазаны маслом, — ответил охотник. У Батбаяра, весь день ездившего по лесу, при виде жареного мяса потекли слюнки.
— Ну что, халхаский молодец, твои торока тоже полны? — спросил рябой охотник, протягивая ему на вертеле кусок мяса.
«Откуда он знает, что я из других мест? Может, обо мне уже разговоры пошли?» — подумал Батбаяр, отрезая ножом кусок мяса и отправляя в рот.
— Видел, как ты по лесу ездишь. Думаю, парень наверняка из Хангая. Нравится тебе здесь? Привыкаешь?
Охотник долго рассказывал, каких косуль и где можно найти, как их загонять. Говорил он лишь об охоте, ничем другим, видно, не интересовался.
— Зачем вы жарите все мясо? — спросил Батбаяр.
— Есть на то причина. Всю жизнь меня кормит хангай. Если обжарить мясо, даже добытое в летнюю пору, вот так, на открытом огне, оно не скоро испортится, — объяснил охотник.
— А, так это рябой Чулудай. Что ж, вдвоем вам будет веселей, — сказал старый Нэрэн, узнав о знакомстве Батбаяра. — Бедняк он, семья большая, вот и кормится тем, что бог пошлет в горах. С таким человеком дружбу водить не зазорно.
Теперь Батбаяр все чаще ездил на охоту с Чулудаем. Время летело незаметно. Батбаяр учился загонять кабанов устраивать засады, ставить западни и ловушки. Вместе ходили на косуль. Однажды, подкрадываясь к стаду кабанов, Батбаяр зашел с подветренной стороны и неловко наступил на сухую ветку. Вспугнутые животные бросились бежать.
— Нет у тебя таланта к охоте. Если будешь ходить и думать лишь о жене, над тобой не только антилопы, мыши с сусликами станут смеяться, — шутил Чулудай.
«А правда, не слишком ли я приуныл, — подумал Батбаяр. — Надо бы взбодриться, глядеть веселей». Но перед глазами и днем, и ночью стояла маленькая серая юрта, седая мать с добрым взглядом; черноглазая Лхама с легким румянцем на щеках. Вот она бежит за аргалом, идет по воду, звонко смеется… Казалось, совсем недавно он выезжал на берег Орхона, с шумом несущего свои воды на север, и каждый раз встречался там с Лхамой, пригнавшей отару на водопой. Она сидела на валуне, смотрела на свое отражение в воде и что-то напевала, а он, взволнованный, мчался к ней…
«Какое это было прекрасное время! Лхама всегда была рядом, согревала мне душу», — грустил Батбаяр. Скалы в долине реки Зэлтэр напоминали ему утес в верховьях Орхона, где они стояли, прижавшись друг к другу.
— Аюур превратил мою жизнь в ад, — стиснув зубы, шептал Батбаяр. — Нет более зловредной скотины на свете, чем этот подлец.
Чтобы отвлечься от грустных мыслей, Батбаяр вспоминал, как гулял в России по берегу Финского залива, как танцевала Даваху в пади Хандгайт, куда возили на прогулку русского консула; как он, Батбаяр, приехал к Гомбо бэйсэ с посланием от богдо-гэгэна; как нежно сжимал тонкие пальцы смуглой Даваху. Но это лишь на время заставляло его забыть о Лхаме, а легче не становилось.
По первому снегу Батбаяр и Чулудай поехали охотиться на лис и волков. Возвращались с полными тороками. В долине пустили коней попастись.
— Прошлой ночью к Ялгун-батору приехал человек. Рассказывал, что в Да хурээ полно китайских солдат, — сказал Чулудай.
«Это Билэг-Очир пригласил их для защиты от красных», — подумал Батбаяр.
— Ах, вот оно что? Ну и как?
— Добра от китайских солдат не жди. Мы-то их хорошо знаем. В Синьцзяне познакомились. Китайские нойоны только и мечтают, как бы передавить будто насекомых таких бедняков, как мы, а потом захватить их землю, любую, какая понравится, — задумчиво произнес Чулудай, попыхивая трубкой.
«Оказывается, и он не безразличен к политике. Да и нельзя в такое время быть безразличным».
— Теперь уже ни для кого не секрет, чего добиваются китайцы, — сказал Батбаяр. — А что делают прибывшие солдаты?
— В третий год многими возведенного мы в южных хошунах всыпали им хорошенько. Так что прежде всего они возьмутся за нас.
«Что же теперь будет?» — думал Батбаяр.
Пришла зима, всю долину завалило снегом. Батбаяр по-прежнему охотился, пас скот, носил дрова. Прошел слух о жестокости солдат в Да хурээ, о том, что китайский командующий нойон Сюй потребовал отказаться от автономии. А да-лама, нынешний премьер-министр, всякий раз возвращается от Сюй-нойона с мешком серебра. Когда мелкие нойоны и чиновники собрались на хурал и решили не соглашаться на ликвидацию автономии, да-лама разгневался, набросился на них с руганью. Прибывший в Да хурээ генерал Сюй Шучжэн устроил для крупных нойонов и чиновников прием. Большой пир, говорят, закатил. Заставлял играть в разные игры. Видно, хотел узнать, насколько умны монгольские нойоны, как относятся к государственности и что думают о нем самом. Потом заявил, что государство должно быть уничтожено. Мы, говорит, увеличим население ваших северных окраин. Будем зерно выращивать. Это значит, что часть Монголии заселят китайцами, чтобы монголы растворились в их массе. И ни один из наших нойонов рта не открыл, не попытался себя защитить, разоблачить эти черные замыслы. Только пили да ели. А затем, опьянев, стали приставать к китайским служанкам, чуть было не осрамились. Генерал Сюй посмотрел на них и сказал своим приближенным: «Животные, которых не заботит ничто, кроме собственного желудка». Тогда, видно, он и поверил: «Здесь можно делать все, что пожелаю». Объявил себя «главой Западного края». По улицам каждый день маршируют солдаты — гамины, мощь свою показывают, всех недовольных хватают.
Вскоре стали поговаривать, что стараниями китайского генерала монгольское государство больше не существует.
— Сюй издал указ о выплате старых долгов вместе с процентами, — шумели араты. — Китайские торговцы и представители фирм ликуют от радости. Повытаскивали на свет все долговые книги, доставшиеся им еще от предков. А как ругаются, как проклинают нас! Где же выход?
Слушая все это, Батбаяр не знал, что делать. Он готов был ехать в Да хурээ, домой, пересечь границу, уйти на север — все, что угодно, только не сидеть сложа руки. Поделился своими мыслями со старым Нэрэном.
— Кто же идет тушить пожар голыми руками. Я уже потерял одного сына. Подожди, разберись в обстановке, — ответил старик. — Я, вообще-то, собираюсь переселиться в верховья реки, там и тебе будет спокойнее.
Вскоре несколько аилов откочевали в верховья Зэлтэр, места глухие, малонаселенные. Туда редко кто забредал, в основном охотники. Там и пережили зиму и весну.
Батбаяр с охотниками бродил по горам, больше нечем было заняться. А когда начал таять снег и река сбросила свой ледяной покров, парень с утра до вечера пропадал на берегу — бил острогой тайменей. Казалось бы, грустить некогда, но на душе у него было тревожно. Он часто видел во сне жену и тогда утром вставал задумчивый, сидел на берегу и смотрел на виду. Зазеленела на склонах трава, и Батбаяр с Чулудаем поехали в долину Селенги раздобыть немного муки и чая. Встречавшиеся по дороге люди с грустью говорили: «Попали в руки китайских солдат, теперь будем заживо в аду маяться». Батбаяр вез несколько лисьих и волчьих шкур, добытых прошлой и позапрошлой зимой. У лабаза фирмы Хорхой спешились, подошли к аратам, толпившимся у дверей, от них услышали, что представитель фирмы уехал вместе с китайскими нойонами вверх по реке осматривать крестьянские поселения и деревни, выяснять сколько у кого скота и инструмента. «Он и за людей-то нас не считает, — говорили араты, — зовет коровами. Вы, говорит, не вздумайте тут мычать, ваш богдо кланяется портрету нашего да жунтана, а вы скоро будете моим тапочкам кланяться, отруби вымаливать».
Лабаз открыли лишь к вечеру. Батбаяр вошел в лавку и положил на прилавок шкуры. Торговец в наброшенном на плечи черном хурэмте потряс их, подул, покачал головой.
— Шкура весенняя, линялая. Таких не берем.
— Да нет же. Мы их зимой добыли, — возразил Батбаяр.
— Знаю я. Прошло время, когда мы втридорога брали у вас весеннюю линялую пушнину! — заорал торговец. — Скоро вы ее задаром отдадите. Бери свое гнилье и выбрось его подальше отсюда. Пошел прочь, скотина! — Торговец схватил шкуры и швырнул на пол.
— Что это с вами? Или брюхо набили, больше не лезет? — обозлился Чулудай.
— Что ты сказал? Это ты, корова, нас кормишь?
— Если мы коровы, то ты…
— Что, хочешь сказать — ишаки? Значит, и генерал Сюй ишак? Мы отправим тебя в Да хурээ, там с тебя живо шкуру спустят.
Батбаяр вскипел, сжал в руке кнут.
— Мы сюда не побираться пришли, — сказал он сквозь зубы.
— Зря вы с ним связываетесь, — стали уговаривать араты Батбаяра и Чулудая. — С тех пор как приехали китайские нойоны с солдатами, их так и распирает от спеси. Уезжайте быстрее. Лучше чай из травы пить. У них в доме ружья.
— Представитель фирмы с китайскими нойонами вверх по реке уехал. Вернется скоро. Не спорьте вы с ними, не то беду наживете.
Чулудай подобрал с пола шкуры, подошел к двери и принялся их вытряхивать, подняв в лавке столбы пыли. Торговец завопил дурным голосом.
— Не ори, не то запрем и подожжем лавку, — пригрозил, выходя, Батбаяр.
Возвращались на Зэлтэр и без чая, и без муки. «Китайские торговцы словно взбесились. Но почему? — недоумевал Батбаяр. — Может, чуют, что нам, монголам, не долго жить осталось? Да, пожалуй. Кто теперь моей матери чаю достанет? Как там Лхама? Если генерал Сюй разогнал правительство, значит, и следователя, и рябого зайсана из Управления шанзотбы лишили постов. Но стало ли меньше покровителей у Аюура бойды? Он может наговорить обо мне в монастырской джасе все, что угодно. Да и китайские нойоны его наверняка жалуют. Он давно с Шивэ оворскими торговцами поддерживал отношения. Чем всего бояться, лучше сразу лечь да умереть. Поеду на родину, там найдется, кому меня защитить. Раздобуду коня и поеду. Сообщу домой что жив и здоров, а с Аюуром придумаю, как расправиться. Положу его живьем в гроб, а после этого к красным подамся».
И Батбаяр сказал Нэрэну:
— Надо мне возвращаться домой. По-другому я поступить не могу.
— Раз так решил, бери любую лошадь и поезжай. Не забывай старика! У вас, халхасцев, есть пословица: «Длинна дорога у мужчины». Спаси тебя господи.
Чулудай пообещал достать другу седло, уздечку и ружье. Ехать Батбаяр решил летом, но с ним случилась беда, которая сорвала все его планы. Однажды, когда гнал раненую косулю, он поскользнулся, сорвался со скалы и повредил ногу. До юрты старого Нэрэна едва добрался. Старик ухаживал за ним как только мог, лечила старуха знахарка. От сильного ушиба вскрылись старые раны.
— Видно, местному духу-хранителю не хочется меня отпускать, — невесело шутил Батбаяр. Он пролежал все лето и осень. А когда с деревьев стали падать листья, снова пошли всякие слухи. Однажды, когда старик погнал на пастбище скот, а старуха ушла за дровами, в юрту заглянул Чулудай.
— Это тебе на суп, — сказал он, вынимая из мешка половину оленьей туши, разрубленной на куски. — В Да хурээ, говорят, китайским солдатам не дают покоя. Повсюду расклеивают листовки «гамины — людоеды, убирайтесь прочь!». А китайцы озверели. Хватают всех подряд, даже лам с нойонами бросают в тюрьму. И еще рассказывают, будто в Да хурээ появились какие-то люди, которые называют себя представителями Народной партии. Они собирают всех, кто хочет бороться с гаминовским отребьем, учат их воевать, расклеивают по городу листовки, призывая подняться на борьбу с китайскими захватчиками, собирают оружие. Не похоже, чтобы эти люди хотели на войне руки погреть, нажиться.
— А вот это, действительно, интересная новость, — оживился Батбаяр. — Не слышал, кто возглавляет Народную партию?
— Как будто Сухэ-Батор. Говорят, он и семеро членов этой партии поехали в красную Россию за оружием.
— Все правильно. Кто думает о родине, должен обращаться к красному правительству, — сказал Батбаяр. В радостном возбуждении, он приподнялся и тут же упал на постель — нестерпимо заныла больная нога.
— Погоди-ка. Ты откуда знаешь, что все правильно?
— Как же мне не знать? Я встречался с людьми, которые были на стороне красного правительства.
— Да ну? Так, может, ты агент этой самой Народной партии, а не погонщик скота?
— Я — не агент. И не погонщик. Я был у моего господина телохранителем. И вместе с ним ездил в Россию. А теперь я беглец.
— Что ты беглый, я догадывался. Вот только не знал, откуда и почему сбежал. — Чулудай повеселел, приободрился и Батбаяр. Вытряхнув последние крошки табака из кисета, они закурили.
— Начнутся сейчас дела. О Сухэ я слышал еще во время войны с черномундирниками. Они его тоже боялись. Уж очень он храбрый. Знаешь, есть такая присказка:
Не знает никого, кроме жены, Не поднимался никуда выше седла. Возьмется за вьюк, — ноги подкашиваются, Приподнимет полвьюка — падает. Увидит тарелку с мясом — до неба подпрыгивает.— Так вот, Сухэ совсем другой, — сказал Батбаяр и попросил: — Ты слушай, что говорят, и все мне рассказывай.
Батбаяр потерял покой. «Съездить бы посмотреть, что за Народная партия. Хоть бы скорее выгнали всех этих негодяев: толсторожего следователя, рябого зайсана, большеголового бойду и вместе с ними — гаминов, — думал он. — Невезучий я все-таки. Сколько на мою голову бед свалилось! И за что, спрашивается. Никогда никому зла не причинил».
Вершины гор надели серебряные короны, пришли холода. Батбаяр пил медвежью желчь, натирал медвежьим салом больную ногу, и день ото дня ему становилось все лучше. Он уже выходил из юрты, собирал хворост, но на коне еще ездить не мог. В это время разнесся слух, что с севера прибыли отряды атамана Сухарева. Все чаще попадались на глаза русские и буряты в солдатских шинелях с винтовками за плечами, группами по пять-десять человек разъезжали на конях.
— Трудное время настало. С севера к нам приближается война красных с белыми, на юге грабят гамины. Как бы это сделать, чтобы через неделю-другую ты мог встать на ноги, — бормотал старый Нэрэн.
Пошли разговоры, что атаман Сухарев переправился через Зэлтэр и на Селенге, в местечке Дух нарс, в глухом сосновом лесу его солдаты строят дома. Сгоняют на строительство всех, кого можно, скупают коней, скот. Золотых янчанов у них видимо-невидимо. Похоже, туда еще солдаты придут, будут грабить, отбирать лошадей, скотину. А не дашь, по всякому может обернуться, видно, страшные они люди. Вдоль границы пожгли все русские и бурятские аилы, которые не хотели с ними идти, а людей перебили. Но как пришли в Монголию, стали приветливыми, ласковыми.
К этому времени на Зэлтэр потянулись с севера обозы переселенцев. Русские и бурятские семьи гнали коров, свиней, домашнюю птицу, ставили в лесах шалаши, копали землянки. «Ищем, где бы укрыться. В России красные с белыми передрались, никакой жизни нет», — жаловались беженцы.
«Интересно, что стало с теми семерыми, которые уехали в Россию, — думал Батбаяр. — Эх, скорее бы нога поджила. В седле и смерть встретить не стыдно».
Однажды приехал Чулудай, привез тушу косули. Поглядел на друга, сказал:
— Скоро ты будешь скакать по горам, как олень. А теперь слушай. В Да хурээ, видно, плохи дела. Гамины, говорят, просто взбесились. Хватают всех, даже нойонов. Богдо-гэгэна арестовали.
— Ох, грехи наши тяжкие, везде плохо. Куда нам теперь деваться? Уже и так забрались в самую глушь, — сказал старый Нэрэн, тревожась за Батбаяра, который все еще хромал.
— Ничего. Найдем, куда деться, — спокойно ответил Чулудай. — Сейчас пару косуль завалить бы, чтобы семья не голодала. Времена-то какие настали, ничего не достанешь. Ты выздоравливай побыстрее, на охоту пойдем, — сказал он на прощанье Батбаяру.
В семье старого Нэрэна варили мясо косули и поминали Чулудая добрым словом: «Дар друга — золото». Через несколько дней охотник прискакал снова и, торопливо поздоровавшись, сказал:
— Мы в солдаты уходим.
— В какие солдаты? — в один голос воскликнули Батбаяр и старый Нэрэн.
— В Дэд шивэ пришли цирики Народной партии, с боем выбили гаминов и теперь проводят мобилизацию. Недавно к Ялгун-батору приехали два человека передали ему послание командующего армией Сухэ-Батора. Собирай, говорят, всех мужчин, которые способны держать оружие, и приезжай. Будем вместе бороться за восстановление нашего государства. Как только они уехали, Ялгун-батор отправил младшего брата посмотреть, что у них там да как. Он вернулся и рассказал, что цирики Народной партии — это сила. Им красное правительство России помогает. Начальники караулов из Хярана, Булгатая, Хулдая, Хавтгая, Ордока и Эрэна договорились идти на соединение с ними. Завтра уходим, — весело произнес Чулудай.
— Все уезжают, а я как же? — заволновался Нэрэн.
— Ялгун-батор велел старикам оставаться дома, присматривать за хозяйством.
— И много таких, которые, сидя в глуши, будут сторожить женщин и детей?
— Немного, наверное. Кстати, Мэнгэ залан сказал: «Если Ялгун-батор перейдет на сторону Народной партии, нам с ним не по пути». Прошлой ночью он вместе с семьей куда-то уехал, — сказал Чулудай.
— Ялгун-батор с заланом давно на ножах. Мэнгэ все делает наперекор ему. «Если сороки соберутся в стаю, перед ними и тигр не устоит», — с горечью промолвил Нэрэн. — Э-э, спаси нас, господи.
— Я бы с вами поехал, да лошади нет, — пробормотал, помрачнев, Батбаяр.
— Бери любую, да вот нога…
— Старик прав, — поддержал Нэрэна охотник.
— А что же мне делать?
— На одной ноге не повоюешь, — сказал Нэрэн. — Наберись терпения, полежи, не двигаясь, несколько дней, тогда нога у тебя заживет и ты на коне их догонишь.
— Так, действительно, будет лучше, — согласился Чулудай. Они поговорили еще немного, Чулудай попил чаю и к ночи уехал. С уходом охотника юрта словно опустела. Сухие смолистые ветки, пылавшие в очаге, стреляли искрами, в котле булькал суп из косули, и в юрте вкусно пахло диким луком. Батбаяр, не отрываясь, смотрел на красноватые языки пламени, и в его памяти вставали картины Орхонского водопада, живописное озеро Хятрун, облюбованное турпанами, Хоргой хурэмт и пропасти Бадая, благоухающая, пестрая от цветов степь, лохматые кроны кедров, гранитный утес, с которым связано столько воспоминаний. «Лхама уверена, что я сплю вечным сном в промерзшей земле. Мама страдает, все глаза выплакала. Донров радуется», — эти мысли чуть ли не каждую ночь мучили Батбаяра.
— Надо возвращаться домой, — прошептал он.
Шли дни. Араты на Зэлтэре гадали: что будет? Почти все одобряли Ялгун-батора, который пошел за Народной партией, считали его умным и опытным. Но некоторые сомневались.
— Э-э, кто его знает. Красные, говорят, греха не боятся, добродетель забыли. Мэнгэ залан тоже немало повидал на своем веку, русский атаман, к которому он примкнул, и силен, и богат.
Старый Нэрэн оседлал коня и уехал, а вернувшись, рассказал:
— Э-э, спаси нас, господь. С северо-востока через Онон и Керулен идет с огромным войском очень серьезный человек. Командующий барон Да хурээ приступом взял, гаминовских солдат, говорят, перебил — не сосчитать: кучами лежат. А сам барон от пуль словно заговоренный. Когда на окраине Да хурээ сражался с китайскими солдатами, снаряд угодил ему прямо в живот. Лошадь под ним рухнула на землю, а барон как ни в чем не бывало стоит, в бинокль смотрит. Все надеется, что скоро водворятся мир и покой.
Старый торгут с гордостью рассказывал о том, что русский командующий, как только вошел в Да хурээ, сразу же освободил из гаминовской тюрьмы богдо-гэгэна и попросил его снова пожаловать на ханский престол. Богдо издал указ, в котором назвал русского полководца «пожаловавшим к нам хубилганом черного Манжушри» и наградил его званием «Великого героя — восстановителя государства». Богдо-гэгэн наверняка предвидел его приход.
— Милостивый, благодетельный человек наш богдо. Когда несколько торгутских аилов не знали, где головы приклонить, он нам пожаловал эту прекрасную долину Спаси нас, господи, сказал Нэрэн. — Вот так. А эти грабители в черных мундирах, когда их погнали из Да хурээ, отступая, сожгли уртон Хурэмт, вырезали лам Харагинского храма. В Маймачэне их видимо-невидимо собралось. Может, мстить собираются, кто их знает Теперь небось схватили там наших и мучают. Хорошо, что ты не поехал, сам бог тебя спас. Видно, прав был Мэнгэ. Ничего не скажешь — бывалый мужик, — Нэрэн прищелкнул языком. Батбаяр недоумевал: «Выходит, войска красного правительства России прошли стороной? С ними ведь наверняка были и сторонники Сухэ-Батора. Эх, скорее бы встать на ноги!»
— Значит, барон — командующий войсками красного правительства России? — спросил Батбаяр.
— Нет, — покачал головой Нэрэн. — Он на красного не похож. Говорят, красные поклялись убивать даже своих отцов, матерей, жен и детей, если они не будут соглашаться с их идеями. Так разве отдали бы они ханский престол нашему богдо? Ты к красным не ходи. И к атаману тоже. Повремени немного. Это мой добрый тебе совет. Посмотрим, кто победит. А то примкнешь к одним, а победят другие. Тогда не поздоровится. Попробуй отгадай, кто кого одолеет. Спаси нас, господи! Нам, старикам, ничего не страшно. Мы свое пожили, за тебя тревожусь. Сына я потерял, а ты мне все равно что сын.
На южных склонах начал таять снег. Стада оленей все чаще выходили на лесные поляны пощипать траву на проталинах. В этом году оттепель началась рано, дни стояли тихие, солнечные.
«Нечего мне отсиживаться в этой глуши. Попрошу у Нэрэн-гуая коня и поеду следом за Чулудаем», — думал Батбаяр. В это время разнесся слух, будто Мэнгэ залан привел множество солдат — русских и бурят, ездил в Хужир, Хулдай, Гурван толгой, грозил отомстить всем, кто перешел на сторону красных, отбирал лошадей, скот. Ночью трое солдат атамана приехали в хотон Чулудая, который стоит в роще на берегу реки, влезли через тоно в юрту, просидели там до утра, а потом согнали всех в загон для скота и собственными руками передушили, чтобы не тратить патронов. Кричали: «Теперь можете идти к красным». Весь скот угнали. «Надо спасаться пока не поздно», — говорили люди и, наспех собравшись, откочевывали на север, в горы. Целыми днями не смолкали крики, детский плач, лай собак, мычанье коров.
— Как быть? Может, откочевать вместе со всеми? Я теперь могу ехать куда угодно, — сказал Батбаяр.
— Не знаю, что и делать, — ответил старик. — Это все из-за того, что Ялгун-батор бэйсэ увел с собой людей к красным. Но из наших с ним никто не пошел. Я Мэнгэ знаю. Вообще-то, он неплохо относился к своим податным аратам.
— Видел я несколько раз этого залана. Высокомерный и смотрит косо. Злой, что ли? — спросил Батбаяр.
— Ладно, — сказал Нэрэн. — Погодим пока откочевывать, посмотрим, что дальше будет. Всю жизнь служил я Мэнгэ верой и правдой, чего же ему разорять наш аил.
На стоянке осталось всего две юрты: Нэрэна и многодетной женщины, ожидавшей возвращения мужа.
— Болтаешь всякую ерунду, парня с толку сбиваешь, — ругалась старуха, которой хотелось перекочевать в более спокойное место. — Не иначе как совсем из ума выжил. Смотри, хватишься, да поздно будет. Сидишь здесь, как тарбаган, впавший в зимнюю спячку.
Но старик с места не сдвинулся. Трое суток в Гурамсае было спокойно. Ночи стояли лунные, и Батбаяр как всегда долго не мог уснуть, ворочался в постели. Вдруг у соседней юрты всполошилась и залилась лаем собака, но тут же жалобно взвизгнула, как будто ее ударили. Батбаяр прислушался. К соседней юрте подъехали какие-то люди.
— Эта юрта кто есть? Выходи, — крикнул кто-то на ломаном монгольском языке.
Батбаяр вскочил и начал торопливо одеваться. Сердце колотилось. Старики тоже проснулись, Батбаяр посмотрел в щель над притолокой. Возле соседней юрты стояли четверо всадников с винтовками, на откормленном караковом жеребце гарцевал Мэнгэ залан в собольем торцоке. Из юрты вышла женщина, «гости» спросили ее о чем-то и повернули коней к юрте Нэрэна. Батбаяр отскочил от двери, схватил кремневку старика, лежавшую за сундуком, и просунул дуло в щель. Старый Нэрэн ухватился за приклад. Некоторое время они возились в темноте.
— Не стреляй!
Если бы не старик, Батбаяр расправился бы с Мэнгэ, а затем попробовал бы отбиться от остальных.
— Нэрэн! А ну-ка, выйди!
— Эй, старик! Кто там у тебя есть? — крикнули всадники, подъехав к юрте. Двое спешились, вошли в юрту, вынули какие-то блеснувшие металлом предметы, и тут же юрту залил ослепительно-яркий свет. Старуха успела подхватить упавшее на пол ружье и спрятала под кровать. В юрту вошел Мэнгэ и подозрительно глянул на полуодетого Батбаяра.
— Ты кто? Зачем приехал сюда и что здесь делаешь?
— Меня зовут Бандьху, — не моргнув, ответил Батбаяр, как ни в чем не бывало глядя на залана.
— Никакой он не Бандьху, — сказал один из всадников. — Это, наверное, тот самый хромой беглец, о котором ходили всякие слухи.
— А-а, вот оно что. Значит, ты закадычный дружок рябого охотника, который ушел с Ялгун-батором, — сказал Мэнгэ. Набив табаком трубку, он велел солдату поднести огонь. — Уж не ты ли мутишь народ, явившись сюда тайком из Верхнего Шивэ? — снова заговорил Мэнгэ. — А ну, выходи!
— Нет, нет, мой залан! Я перегонял коров русского купца и в пути заболел.
— Он здесь давно, — подтвердил сидевший у очага Нэрэн.
— Ты от старости совсем из ума выжил, беглеца укрываешь! Может быть, у тебя есть на то причины? Взять старика! Пусть пасет коров! — крикнул Мэнгэ.
— Да что вы, залан мой! — запричитала старуха. — Мы до сих пор преклоняем перед вами колени, просим благословения у земли возле вашего порога. Пощадите моего старика, дорогой залан!
Солдаты связали руки Нэрэну и Батбаяру и, подталкивая прикладами, вывели из юрты. Вскоре они исчезли в кромешной тьме, словно в объятиях огромного черного чудовища-мангаса.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ КОЗЛИНЫЙ БОДОГ
Батбаяра, связанного, привезли в глухой сосновый лес. На большой территории, обнесенной частоколом, он вместе с десятками таких же горемык собирал ночами хворост для костра; тепло огня согревало их, и пленники засыпали. А утром поднимались чуть свет и шли на Селенгу строить мост.
Насильно согнанные сюда русские, монголы, китайцы — свыше ста человек — трудились от зари до зари, чтобы закончить строительство, прежде чем река сломает свой ледяной панцирь.
Сквозь непрерывный стук топоров и скрежет пил слышались только окрики охранников. Обессилевших волокли на высокий скалистый берег. Воздух сотрясал залп, с шумом взлетали вспугнутые птицы, замирал стук топоров и скрежет пил. «Когда мой черед?» — невольно думал каждый, и сердце мучительно сжималось, тускнели глаза. Думал и Батбаяр о том, что суждено умереть ему на чужбине, под чужим именем, что от атамана Сухарева не вырваться.
Пленники распиливали толстые обледеневшие стволы на брусья, стягивали их между собой крепкими веревками, долбили лед и мерзлую землю под опоры, клали дощатые настилы… Казалось, работе не будет конца, руки покрылись волдырями, а солдаты наотмашь стегали людей нагайками, словно скотину. Пилы не брали промерзшую древесину, и пленники затачивали зубцы камнями.
«Не может быть ничего подлее того, что с нами здесь делают», — возмущался Батбаяр, но, чтобы лучше кормили, старался изо всех сил: обливаясь потом, таскал бревна, буравил доски. Недаром говорят: «Чем тяжелее, тем легче»: ушибленная нога у Батбаяра перестала болеть, раны затянулись.
Еще два месяца назад старика Нэрэна отправили пасти стадо атамана, и с тех пор о нем не было никаких вестей. «Что с ним случилось? — тревожился Батбаяр. — Не могли же его убить, ведь его род из поколения в поколение служил предкам Мэнгэ залана.
Зачем пришел в Да хурээ этот барон Унгерн? Неужели в верховьях Орхона хозяйничают белые и гамины? Живы ли мать и Лхама?»
Батбаяр смотрел на вершину высокой горы Бурэнхан, синевшей на юге, и тяжело вздыхал. Выберется ли он отсюда? Главное, ничем не выдать своих намерений.
Селенга сбросила ледяной покров, в воздухе запахло молодой зеленью. С каждым днем росло число людей, схваченных людьми атамана. Вооруженные всадники то уезжали то приезжали видимо, грабежи не прекращались.
Все чаще слышалась ругань белых офицеров в папахах, с деревянными колодками маузеров на поясе, они скандалили по любому поводу. Иногда появлялись раненые солдаты. Белые часто собирались в доме на высоком берегу реки, поросшем соснами, всю ночь играли на гармони, орали песни.
Однажды в ночной тишине грянули выстрелы, послышались крики людей, рыдания женщин. Сердце Батбаяра сжалось, и опять он подумал о Лхаме.
Днем на опушке леса он видел двух русских женщин, бледных, с толстыми серыми платками на голове. «И они, наверное, в разлуке с любимыми, — подумал Батбаяр. — А бандиты что-то забеспокоились. Может быть, народные партизаны, собравшиеся в Северной Кяхте, набрали силу? По какому праву эти белые грабят и убивают на чужой земле?»
По шаткому, едва наведенному через Селенгу мосту с утра до вечера не прекращалось движение. С противоположного берега сухаревцы привозили на телегах мешки с мукой и рисом и складывали в бревенчатых домах в глухом лесу.
От вновь пригнанных в лагерь Батбаяр узнал, что в деревнях Тийрег, Цуц и Манхтай сухаревцы убили несколько китайцев, которые оказывали гостеприимство гаминовским нойонам и вместе с ними зверствовали. Дома и все хозяйственные постройки сухаревцы сожгли а реквизированные рис и муку свозят сюда.
Батбаяр сидел на берегу, кипятил на костре чай и разговаривал с недавно прибывшими.
Между прочим поинтересовался:
— Что с фирмой Хорхоя?
— Одни головешки остались, — зло усмехнулся один из прибывших.
— Туда ей и дорога, — сказал кто-то. — Прошлой осенью ее хозяин-китаец орал: «Эй, коровы, зачем покупаете муку для пряников? Белого месяца[76] не будет. Будет красный или черный». Шкуры браковал, потом и вовсе перестал покупать. Ну, а после того, как у него в гостях побывал гаминовский начальник, еще больше обнаглел.
— А как она сгорела? — спросил Батбаяр.
— Подъехали всадники и вместе с местными аратами сожгли лавку, хозяина раздели, погнали к яру и там, не обращая внимания на его мольбы и посулы, забили лопатами. Никто его не жалел, разве что жены…
— Да, поговаривали, будто хозяин взял себе в жены двух монгольских женщин, да еще девки какие-то к нему бегали. Нашлись же такие!
— Нашлись нет ли, да только породнился он с одним из самых богатых аилов! Мудрецом себя объявил, по книгам предсказывал…
Слушая эти разговоры, Батбаяр думал: «Настанет ли время, когда на нашей земле перестанут хозяйничать люди лживые и коварные? Чем атаман лучше представителя хорхойтской фирмы? Оба — колеса одной телеги, ловчат и обманывают, оба жестоки».
Когда ивовые заросли покрылись молодой зеленью, а шуга перестала появляться у берегов реки, белый офицер провел замеры неподалеку от моста и приказал наводить другую, скрытую от глаз переправу. Хитрость заключалась в том, что сбитый из толстых брусьев настил лежал на сваях ниже уровня воды.
Насильно согнанные сюда русские и буряты под угрозой смерти ныряли в холодную черную воду. Трудно было представить себе, как можно навести мост из постоянно относимых течением брусьев. Плавающие в бурлящем потоке, они напоминали лапшу в кипящей воде. Но люди не знали, что самое страшное впереди.
Один бурят, умело орудовавший плотницким топором, воспользовался отлучкой охранника, подошел к Батбаяру, достал щепоть махорки из кисета, бросил в рот, покачал головой:
— Вот, видно, и конец нам пришел, — сказал он, глядя на зеленоватый водоворот в излучине реки.
— А что случилось? — быстро спросил Батбаяр.
— Выходит так, что всех, кто строит этот потайной мост, атаман перестреляет.
— Почему же, аха?
— Ты что, не понимаешь? — шепнул тот. — Чтобы красные не узнали о подводной переправе.
— Возможно, — едва слышно ответил Батбаяр и спросил: — А как они сейчас, эти страшные люди из красной партии?
— Знать не знаю. Говорят, дерутся. А почему ты об этом спросил у меня? — В голосе бурята слышалась угроза. Он подозрительно глянул на Батбаяра.
Батбаяр подумал: «Господа готовы сожрать друг друга, узники друг друга боятся и подозревают».
Батбаяр пошел к реке, всматриваясь в ее бурные воды. Крики турпанов вызывали дорогие сердцу воспоминания о том времени, когда на Орхоне, в местечке Бадай, объезжая лошадей, он увидел на берегу Лхаму, пасшую овец. Точно так же, покрикивая, кружилась тогда пара турпанов, и Лхама с любовью и нежностью следила за свободно парящими в голубом небе птицами. Вдруг со стороны леса донеслись выстрелы.
«Прав был бурят — никто нас не пожалеет. Надо бежать отсюда» Увидев приближающегося охранника, Батбаяр взял топор и стал стесывать с досок кору.
Несколько ночей он наблюдал за охранниками и выяснил, что перед рассветом они куда-то уходят, видимо, спать. «Если незаметно подкрасться к частоколу и перелезть через него, можно проскользнуть в ивовые заросли у реки. Никто не заметит, что меня нет, до самого выхода на работу. Надо попытаться», — решил Батбаяр.
Всю ночь сухаревцы шумели, кричали, палили из винтовок. Батбаяр тихонько вышел из сарая, как будто оправиться. Охранник, услышав шелест травы, предостерегающе крикнул и щелкнул затвором. Батбаяр кашлянул, мол, предупреждение понял и пошел к частоколу, где довольно долго сидел на корточках. «Ну, что, не устали у тебя глаза смотреть в темноту? — усмехнулся Батбаяр. Будь всегда начеку, как сторожевой гусь в стае. Но и я не дурак, чтобы ждать наступления лунных ночей».
Вернувшись в сарай, Батбаяр лег и стал думать. «Выйти отсюда можно. Но куда я пойду? В Кяхту, к цирикам из Народной партии? Но смогу ли я туда добраться, и как они меня примут? Куда же деваться? Добраться до Хурээ? Но зачем? Не лучше ли повернуть в сторону родных мест? А там Аюур бойда прикончит меня еще до того, как узнают о моем возвращении. Застанет врасплох, свяжет и бросит в Орхонский омут или вниз со скалы… Мать и Лхама будут думать, что я где-то бродяжничаю, а может быть, и в живых меня давно нет. Будут молиться. А Дуламхорло с Аюуром станут морочить им голову своей жалостью… Рябой Чулудай… Где он, что делает, как живет? Немало мытарств выпало на его долю, но сердце у него доброе он мне поможет…»
На следующее утро Батбаяра как обычно погнали на берег реки буравить отверстия в брусьях для подводного моста. Из дома вышел белый офицер, подтянутый, с закрученными вверх усами, в голубоватой папахе и светло-сером кителе, в черных лакированных сапогах, с маузером на боку. Поигрывая плеткой, он в сопровождении нескольких офицеров и солдат направился к пленным. Охранники, одергивая гимнастерки, побежали ему навстречу, выстроились в шеренгу. Старший охранник откозырял и начал что-то докладывать. В ответ загремел голос офицера. Его резкие движения и надменный вид внушали страх. «Кто он такой, и какой беды от него ждать?» — подумал Батбаяр, наблюдая за офицером. Он видел, как тот пошел к берегу реки, и, подбоченясь, долго стоял там, осматривая торчащие из воды сваи — опоры будущего тайного моста, о чем-то спрашивал сопровождающих. Вытягиваясь, те громко и кратко отвечали. Невольно Батбаяр вспомнил дворцовую охрану в Санкт-Петербурге. «Мы никогда не чествовали так нашего покойного нойона, — подумал Батбаяр. — По-видимому этот нойон имеет очень высокий чин. Уж не сам ли это барон Унгерн? Нет, солдаты из его охраны говорили, что по приглашению атамана сюда должен прибыть для проверки главный инспектор из отдела политической разведки барона Унгерна. Возможно, это и есть тот самый инспектор».
На шапке инспектора блестел желтоватый значок, белизной сверкали перчатки, на новеньких узконосых сапогах мелодично позвякивали шпоры. Важно расхаживая среди пленных, белый офицер, заметив непорядок, так грозно кричал, словно готов был немедля снять с провинившихся головы.
Когда офицер, выпятив грудь, проходил мимо, Батбаяру показалось, что он уже где-то видел его.
Но где? Может быть, в гостинице «Гранд-отель» в Петербурге? Или во время прогулки русского посла в Хандгайт? Не из тех ли он господ, которые восхищались Даваху, когда она танцевала? Батбаяр еще раз внимательно взглянул на офицера. Лицо и в самом деле очень знакомое.
— Где же все-таки я мог его видеть? В Петербурге? В Да хурээ? В Иркутске? На границе в таможне?.. Нет-нет, — шептал он, не сводя глаз с офицера, а сам делал вид, что продолжает буравить брусья.
Офицер вглядывался в каждого пленного, словно искал потерянную овцу или выбраковывал стадо. Подошел он и к Батбаяру. Тот не успел отвернуться, и пронзительный взгляд, скользнув по его лицу, ожег словно пламенем. Батбаяр невольно попятился. Офицер остановился. Наверное, внимание его привлекли шрамы на лице Батбаяра, он что-то заподозрил и оглядел пленного с ног до головы. Затем спросил о чем-то у сопровождавших его нойонов; те удивленно переглянулись, замялись и позвали переводчика.
— Господин капитан спрашивает, кто ты и откуда?
Батбаяр замялся, не зная, что ответить. Инспектор нахмурил брови, звякнул шпорой.
— Что молчишь? Или забыл, откуда родом? — перевел толмач его вопрос.
— Я из хошуна сайн-нойон-хана, жил в верховьях реки Орхон.
— А как сюда попал? Может, ты конокрад? Или беглый политический? А может, охотишься за чужими женами? — тыкая пальцем в грудь Батбаяра, спросил офицер и громко захохотал, видно, очень довольный собственным остроумием. Батбаяру стало не по себе, и он уклончиво ответил:
— Я перегонял коров русского купца и остался, не смог перейти границу.
Капитан, грызя ноготь, краем глаза наблюдал за Батбаяром, потом приказал записать что-то одному из сопровождавших его офицеров и направился дальше.
— Что он сказал? — спросил Батбаяр у бурята, знавшего русский язык, когда офицеры ушли.
— Приказал доставить в первое отделение. Сам, говорит, допрошу Что-то он мне подозрительным показался. Что теперь с тобой будет, один бог ведает, — сказал бурят.
Пораженный Батбаяр посмотрел вслед инспектору «Я встречался с ним в Петербурге. Точно, он! Не может быть двух так похожих друг на друга людей. Помню, он точно так же подкручивал усы и тыкал в грудь пальцем при разговоре. Только сейчас лицо у него обветренное, красное, да ногти грызть стал… Это он тогда, в Петербурге, сказал: «Какой станет ваша страна, может решить только сам народ. Я думаю, что у нас в России скоро произойдут важные перемены…» Кем же он стал? Мне казалось, что он должен быть на стороне красных, А эти бандиты никак не могут быть красными. Они говорили, что ненавидят красных лютой ненавистью и готовы уничтожить любого, кто перейдет на их сторону. Почему же он стал белым офицером? Ведь он, кажется, был другом Бавгайжава. Хотел, чтобы свергли царя. В чем же дело? Может, это не он? Узнал он меня или не узнал? Я ведь упомянул имя сайн-нойон-хана нарочно, потому что он ездил в Россию. Разглядывал он меня пристально, значит, узнал. А зачем приказал доставить в какое-то первое отделение? Чтобы после допроса немедленно расстрелять? Что же делать? Бежать или ждать? Эх, двум смертям не бывать, а одной не миновать! Подожду!»
После приезда инспектора в лагере атамана Сухарева стало еще оживленнее, офицеры ходили подтянутые, веселые. «Что сулит мне этот допрос, счастье или беду?» — думал Батбаяр. А пленные шептались:
— Инспектор страсть как суров. Чуть что, хватается за пистолет, орет: «У тебя на роже написано, кто ты такой. В это трудное для страны время, когда идет борьба между силами зла и добра, каждый, кто исповедует желтую веру, должен честно служить своему богдыхану, насмерть биться с красными, забывшими и бога, и совесть, и добродетель. Нет обязанности более святой, чем отдать все силы на уничтожение красной опасности». Скажет так, а потом объявляет, что ты мобилизован в белую армию. Русских, что пригнали сюда, очень сурово допрашивает. Кричит: «Ты разносчик красной заразы», но в солдаты почему-то их не берет.
— Этот нойон объявил, что если монголы пойдут в солдаты, им будут платить по тридцать янчанов в месяц.
— Атаман, видно, скоро поведет солдат на север. В Россию, воевать… Инспектор говорил, что барон Унгерн обещал сбросить так называемое «красное правительство» России, ударить по нему с востока, и сказал, что все обязаны в это верить. Еще инспектор приказал прекратить попойки и не бегать за девками, а также проявлять больше усердия на учениях. Потому что борьба — это не забава. Ее ведут ради спасения мира от «красной заразы»… Скоро начнут воевать, и если мы впутаемся в эту войну, белые будут нас гнать впереди вроде щита.
«Раз пошла в народе молва о войне, значит, и вправду будут воевать. Инспектор этот наверняка человек барона Унгерна. А я, вместо того, чтобы бежать, чего-то жду. Но они могут победить, и если потом меня схватят, то, как говорится, «заставят семь раз умереть». Во всяком случае, воевать за чужую землю я не пойду. Не стану сражаться против красного правительства, я видел в Иркутске этих людей…»
— Бандьху! — Сердце чаще забилось. — А ну-ка живее, скотина, тебя господин инспектор кличет, — орал солдат, подгоняя Батбаяра прикладом.
Они остановились у большого бревенчатого дома, возле которого росли исполинские кедры. Пришлось подождать, инспектор был занят, видимо, вел допрос; слышно было, как бьют кого-то.
«Вот и конец, — подумал Батбаяр. — Так и не добрался я до Хоргой хурэмта, не обнял мать, не поцеловал Лхаму. Доведется ли еще хоть разок увидеть на заре подернутую дымкой долину Селенги?»
Из дома выволокли голого по пояс, чернолицего, заросшего бородой, человека и втолкнули туда Батбаяра с такой силой, что он пролетел всю комнату и очутился прямо у инспекторского стола. И тут отлегло от сердца. Пришла уверенность: этого человека в пенсне, сером кителе и галифе он видел в России, в доме Бавгайжава.
«Я не мог ошибиться, — подумал Батбаяр, — хоть видел его ночью, при свете лампы». Инспектор полистал записную книжку. Равнодушно глядя на Батбаяра, закурил, выпустил вверх струйку дыма. Толмач переводил его вопросы: имя, хошун, имущественное положение, возраст, национальность… Инспектор сидел подбоченясь, вскинув голову, надменный и неприступный, но что-то его тревожило, и это не ускользнуло от Батбаяра.
— Как часто ездил ты поклоняться своему господину — богдо-гэгэну? — спросил инспектор.
— Пять, а то и шесть раз.
— Любишь его?
— Да, господин, верую и молюсь на него.
— Когда в последний раз ты виделся с Сухэ-Батором?
— Я ни разу его не видел.
— Думаешь, нам неизвестно, что Сухэ-Батор послал тебя на Зэлтэр выяснить настроения и взять на заметку каждого, кто готов встать на его сторону? Говори правду, если хочешь спасти свою жизнь, — стукнув по столу кулаком, крикнул инспектор.
«Вот чего ему от меня надо, — сохраняя спокойствие, думал Батбаяр. — Попробуй признайся, сразу пристрелит».
— Я раб ваш, мой господин, и говорю только чистую правду, — с поклоном произнес Батбаяр.
Во дворе зацокали копыта, инспектор перевел взгляд с Батбаяра на окно, что-то сказал переводчику, и тот вышел.
На лице инспектора появилась улыбка.
— Я… ты… Петербург, — прошептал он, складывая ладони в рукопожатие. «Узнал», — обрадовался Батбаяр и закивал головой.
— Я Батбаяр. Ты — Железнов? — спросил он, но Тумуржав поднес палец к губам, прислушался, кивнул головой.
— Да-да, — и, показав на шрамы на лице Батбаяра, что-то сказал.
«Наверное, спрашивает, откуда они у меня», — сообразил Батбаяр.
— Зайсан из Управления делами шанзотбы…
— Шанзотба?
— Да.
— Для чего здесь атаман, знаешь?
Батбаяр не понял вопроса, но улыбнулся, закивал головой.
— Сухэ-Батора знаешь? — понизив голос, спросил Тумуржав.
«Почему он назвал имя Сухэ-Батора? Хочет знать, пойду ли я к нему?» — и Батбаяр снова кивнул. Тумуржав сжал его руку, сказал:
— Поедем вместе, — и ткнул сначала себя пальцем в грудь, а потом Батбаяра.
Батбаяр не понял. В это время в комнату вместе с переводчиком вошел какой-то бородатый унтер-офицер. Тумуржав похлопал Батбаяра по груди, бокам и голенищам гутулов, делая вид, что обыскивает, затем оттолкнул его и что-то крикнул. «Так он, значит, не тот, за кого себя выдает». Батбаяр поднял руки, дав себя обыскать. Затем мельком взглянул на некрасивое, надменное лицо бородатого офицера. О полновластном хозяине этих мест — атамане Сухареве — ему приходилось слышать, но он ни разу его не видел и подумал: «Может, это и есть атаман Сухарев? Надо бы хорошенько его запомнить».
Инспектор с легкой усмешкой, без особого почтения спросил о чем-то бородача, значит, это не был атаман. Бородач начал что-то объяснять, указывая на монгольскую сумку из белого стеганого войлока. На Батбаяра, молча стоявшего в углу, офицер не обращал никакого внимания и, подбоченясь, с самодовольной ухмылкой высыпал на стол содержимое сумки: серебряные наголовные обручи, коралловые и жемчужные подвески, кольца, браслеты, серьги со следами крови, косы с вплетенными в них жемчужными нитями.
«Скольких же он людей убил? Или у живых вырывал?» — подумал Батбаяр, и ему стало не по себе.
Тумуржав, поглядев на драгоценности, изменился в лице и, чтобы скрыть волнение, торопливо закурил. Бородач взял один из обручей и, показывая на орнамент, стал что-то восхищенно объяснять. Уловив слова «Номон-хан лама», Батбаяр понял, что ограблены богомольцы в монастыре Номон-хан ламы. «Вот гад, — подумал он. — Скольких женщин изуродовал».
Когда же бородач, хохоча, взял жемчужное украшение, точь-в-точь такое, как было когда-то у Дуламхорло, Батбаяр едва сдержал готовый вырваться крик. Он глаз не мог отвести от украшения. «Вот и крупные кораллы посередине».
Инспектор бросил взгляд на пленника и что-то сказал офицеру. Бородач в упор посмотрел на Батбаяра.
— Ты бывал в России?
Стоявший за спиной переводчика Тумуржав покачал головой.
— Нет, не приходилось, мой господин, — с поклоном отвечал Батбаяр.
Его еще долго допрашивали. Прежде чем ответить на вопрос, Батбаяр, притворившись, что думает, смотрел на Тумуржава и лишь после его знака неторопливо отвечал. Позже он узнал, что бородач — помощник Тумуржава.
— А ты не врешь? Смотри, начнем греть тебе плечи раскаленным железом, выложишь все, — вторил Тумуржав офицеру. — Чего тебе больше всего хотелось бы сейчас?
— Все свои силы отдать за нашего богдыхана. Жду вашего милостивого решения. — И Батбаяр опять поклонился.
Пришло лето, оделись зеленью леса. На Селенгу со всех концов Монголии собирались белые отряды, готовясь к походу на Советскую Россию. К лагерю тянулись колонны всадников, обозы.
Наш друг полководец барон, Вся Монголия будет в наших руках, Мы раздавим большевиков, Станем нойонами, будем всеми управлять. Полководец атаман — наш друг, Внешняя Монголия — в наших руках, Народную власть мы раздавим, Станем нойонами, будем всем заправлять, —пели солдаты в строю. Инспектор в сопровождении троих белых и монгола объезжал колонны, вскинув руку к козырьку. «Мы получили задание проверить резервы», — говорил он. Инспектор ездил по войсковым соединениям, расположившимся в долине Селенги. Проверки проводил строго, но расторопно, и Батбаяр даже завидовал его наблюдательности и находчивости. После первой встречи, когда они успели обменяться несколькими словами, прошел месяц, но поговорить спокойно им так и не удалось. Батбаяр входил в число четырех солдат, постоянно сопровождавших инспектора; в каком качестве: коновода, телохранителя или проводника, он и сам не знал, но везде разъезжал на откормленном жеребце, заседланном русским кавалерийским седлом, с притороченными к нему переметными сумами и винтовкой за спиной. Приезжая в воинскую часть, Тумуржав представлялся инспектором, на которого возложены обязанности по проверке солдат, мобилизованных в конные дивизии на территории Монголии, Маньчжурии и Агинского округа, приказывал ставить палатку, и там вел допросы. Сопровождавшие его солдаты ничего не делали, но, благодаря заботам инспектора, всегда были сыты.
Тумуржав на допросах свирепствовал. Чуть что, хватался за кобуру.
— Согласно приказу начальника «Особой комиссии по борьбе с коммунистами» полковника Сипайло тебя следовало бы повесить, и тем самым совершить угодное богу дело, — кричал он.
Батбаяр скакал за инспектором, пригибаясь к гриве коня, с таким чувством, будто у него выросли крылья, и все же ему не давала покоя мысль: «Зачем мы ездим по воинским лагерям, что высматриваем? Кто такой Тумуржав на самом деле, и что замышляет? Но пока мне надо за него держаться. Недаром говорят: «Кто сомневается, тот ошибается».
В Дух нарс инспектор возвращался после проливных дождей, когда долина запестрела цветами. Мост, разнесенный в щепы, пустые дома, сожженные бараки, опаленные ветви деревьев, трупы коней, над которыми кружились мухи, — все говорило о том, что здесь шел смертельный бой. Что произошло в «столице» атамана Сухарева? Куда девался он сам и Мэнгэ залан? Инспектор долго осматривал лагерь и вдруг огрел лошадь нагайкой. Они поскакали на северо-запад, переправились через реку Ац, подъехали к монастырю Ахай гуна и остановились в зарослях ивняка. Инспектор подозвал Батбаяра.
— Поедешь по аилам на берегу Селенги, узнаешь, что произошло в Дух нарсе. Будь осторожен, не нарвись на засаду красных. Это будет проверка, насколько ты предан богдыхану. Батбаяр оставил винтовку, натянул дэл из овечьей шкуры с облезшей шерстью и стал похож на обычного арата. Целый день он бродил от аила к аилу, рассказывал, что пас табун Амар баясгаланского монастыря, потерял несколько яловых кобылиц и теперь ищет их. Было приятно посидеть в аиле, выпить густого чая с молоком, поесть простокваши, но Батбаяр был по-прежнему мрачен. «Что я делаю? Для чего езжу за этим русским? Может, взять да и махнуть домой? Кто мне помешает? Только что толку возвращаться сейчас домой? Белые повсюду. А может быть, Тумуржав сочувствует Народной партии и когда-нибудь мы вместе перейдем на ее сторону?» Эта надежда привязывала его к долине Селенги, и он продолжал ездить от аила к аилу, расспрашивая о пропавших лошадях.
— Теперь ты их не найдешь, — говорили одни. — На них уже солдаты барона, наверное, ездят. Барон хотел подавить «мятеж красных», напал на Кяхту, да там ему бедро прострелили, едва ноги унес.
— Цирики Народной партии изгнали из Кяхты гаминов, — рассказывали другие, — напавшего на них барона разгромили, захватили Дар эх ламу из монастыря Хараа, который сопровождал в боях Унгерна. Скоро красный командующий Сухэ-Батор на Хурээ пойдет. Недавно из Кяхты нагрянул полководец Народной партии — бэйсэ Сумья Ялгун-батор с полком, окружил Дух нарс и за одну только ночь перебил всех солдат атамана Сухарева и Мэнгэ залана, а имущество их захватил…
«Эх, не повезло, — подумал Батбаяр. — Будь я в Дух нарсе, встретился бы с рябым Чулудаем и ушел вместе с ним. Охотник наверняка был здесь… Хотя я мог и погибнуть».
— Мэнгэ залан, говорят, снова собрал множество солдат, погнался за полком цириков Народной партии и настиг их в долине Зунбурэн. Но там его снова побили, прострелили шапку с коралловым жинсом, так он до того испугался, что жену в степи бросил, уходя от погони. Кяхтинские солдаты ужас как сильны. У них и пулеметы, и пушки, и стреляют они метко.
Батбаяр не мог без волнения слушать рассказы аратов, грудь огнем жгло.
Почти двое суток ездил он по аилам, выполняя задание Тумуржава, заводил разговоры с аратами, но, несмотря на смутное время, подозрений не вызывал. «Таких людей, как у нас — простодушных, доверчивых — редко встретишь, — думал Батбаяр. — Считают, что черное осталось черным, а белое — белым. Простодушием часто пользуются люди лихие. И все же это прекрасное качество».
Батбаяр приехал в монастырь Ахай гуна, помолился в храме и зашел в один из аилов. В юрте молился какой-то лысый лама. Батбаяр попросил ламу бросить кости, погадать — найдет ли он своих лошадей.
— Гадай не гадай — все одно, лошадей не найти. Кто же упустит бесхозных коней, когда вокруг война? Видно, началась «война Шамбхалы», грянет конец света, скоро все погибнет. Во время «войны Шамбхалы» даже козы, которые пасутся на берегу реки, бодают друг друга, пока не убьют, телеги, запряженные волами, бьются друг о друга, пока не разлетятся в щепы. Тут не спасут ни белые, ни красные. Одна надежда — на будущее перерождение, — бормотал лама.
«Мне еще пожить хочется, а этот лама предсказывает близкую гибель», — подумал Батбаяр, но расспрашивать ламу не стал, надо было быстрее возвращаться на Селенгу, где на мысе Эргэл в доме русского лодочника его дожидался Тумуржав. Инспектор, видно, решил надолго обосноваться в избе, стоявшей на берегу реки, чтобы, как он говорил, «привести в порядок сведения, собранные во время инспекционной поездки».
По ночам инспектор выезжал в лодке на реку, и вскоре на той стороне начинал мигать фонарь. «Если он передает какие-то сведения белым, то зачем столько предосторожностей? Мог бы послать кого-нибудь из нас с пакетом… Неужели он на стороне красных?»
В последние дни дождей не было, и над горизонтом повисло марево. Араты ходили испуганные, мрачные. Говорили, что на севере около Гусиного Озера, на Селенге и Зэлтэрском карауле идут кровопролитные бои. «Что же это творится? — думал Батбаяр. — Даже птицы как будто перестали летать». Переводчик иногда передавал разговоры русских, но и так было ясно, что они волнуются все больше и больше. Инспектора сопровождали четверо, все совершенно разные люди. Помощник, унтер-офицер с красным лицом, заросший чуть ли не до бровей бородой, сын помещика с Дона, злой и вздорный. Он вечно вздыхал и потягивался, а то брал винтовку или наган и уходил упражняться в стрельбе.
— Эх, сейчас бы жаркого из телятинки, — бормотал он и все чаще сыпал ругательствами.
«Страшный человек», — думал Батбаяр, вспоминая, как помощник инспектора высыпал на стол груду украшений. Один вид его вызывал у парня гнев, но он старался быть с бородачом как можно почтительнее. Второй — молодой лопоухий паренек, услужливый и расторопный, очень тосковал по своей невесте и, как только выдавалась свободная минута, вынимал из кармана фотографию девушки с тонким продолговатым лицом и острым носиком, прижимал к щеке и шептал:
— Машенька! Где ты сейчас?
Совсем недавно, возвращаясь из очередной инспекционной поездки, инспектор привез из полка переводчика — пожилого бурята с плоским лицом и рыжей бородой. Бурят почти все время лежал на траве, подложив под голову руки, и избегал всяких разговоров. Четвертым был Батбаяр. Вместе с инспектором они почти месяц прожили на заимке русских торговцев скотом, неподалеку от мыса Эргэн. С уходом белых на север стало спокойнее. Монголы еще побаивались, а русские семьи зажили, как прежде. Ловили рыбу, стреляли уток. Почти каждый вечер на столе появлялась одна-две бутылки горькой, и начинались разговоры. В последнее время инспектор все чаще уезжал ночью на реку и возвращался встревоженный, видно, его беспокоили события на севере. Батбаяр, в надежде, что придет время и Тумуржав сам все объяснит, набрался терпения и ждал. Смущало его лишь то обстоятельство, что тот окружил себя людьми, совершенно не подходящими, по мнению Батбаяра, для выполнения его «задания».
Моросили дожди, приносили прохладу. Как-то ранним утром, когда вершины гор еще были в тумане, инспектор созвал своих сопровождающих.
— Мне сообщили, что в местечке Ар найман горо готовится мятеж. Седлайте коней, надо немедленно ехать, — приказал он и развернул карту.
Они переправились через Селенгу и поскакали на северо-запад. Когда пересекли широкую, пеструю от цветов долину и стали подниматься на гору Цонхлон, туман рассеялся, и залитая солнцем долина видна была со склона, как на ладони. Инспектор поднялся на вершину, поросшую молодым подлеском, спешился на площадке, с которой открывался хороший обзор, и в бинокль осмотрел окрестности.
— Ладно, передохнем немного, — сказал он и обратился к своему помощнику: — Разведай обстановку на перевале Моност, в долине реки Эгэ и возвращайся. Время трудное, так что сам понимаешь…
Когда бородач уехал, инспектор задумчиво посмотрел ему вслед и прошелся по площадке.
— Что это за сопка с поляной на вершине? Это ее называют Цонхлон хайрхан? — спросил он у Батбаяра, закуривая. — На заимке мне рассказали, что это очень интересное, можно сказать, историческое место. Девять лет назад здесь, в горах, скрывался известный деятель монгольского государства цинь-ван Ханддорж, собирал охотников и метких стрелков, чтобы дать отпор маньчжуро-китайским воинам, если они попробуют сунуться. Ты знаешь об этом?
— Слышал, — отвечал Батбаяр. — Про это место вообще разные легенды рассказывают. Хотите послушать? — Они вели разговор с помощью бородатого переводчика.
— Расскажи. Легенды о героях всегда интересно послушать.
— Давным-давно жил в этих горах сайнэр по имени Дуйлан. Он был очень сильным, а его жена очень умной. Дуйлан часто угонял у китайских нойонов скот, разорял их хозяйство, и они решили его схватить. Как-то вечером, когда Дуйлана не было дома, прискакали к его юрте стражники. Жена Дуйлана собрала на стол, стала угощать стражников, потом запела:
Сидите вы перед очагом, Но ничего не знаете. Если приедет Дуйлан, Снимет с вас шкуры.Дуйлан услышал, как она поет, смекнул, что в юрте его дожидаются стражники, отвязал их коней и угнал.
— Славные традиции в этих местах, — сказал инспектор. — Вот и мы, приехав сюда, раз и навсегда должны отмежеваться от вражеских элементов. Так ведь? — Голос инспектора звучал решительно. Паренек, переводчик и Батбаяр во все глаза уставились на него.
— Ну-ка, садитесь поближе! Я кое-что скажу вам, и на этом поставим точку. Согласны вы с тем, что барон Унгерн для нас самый опасный враг?
— Я согласен, — первым ответил Батбаяр. Паренек испуганно, словно не веря своим ушам, уставился на него.
— Барон Унгерн — убийца и грабитель. Он взбудоражил и сбил с толку некоторых монгольских нойонов и лам, заручился их поддержкой и двинулся на север, но был наголову разбит в сражениях при Бурэгтэй, на Селенге и Зэлтэре, и теперь через северные хребты бежит сюда. Пришло время преградить путь бандиту, обагрившему свои руки кровью русского и монгольского народов. И это должны сделать мы, — решительно сказал Тумуржав.
— Приказывайте — сделаю все, что нужно, — с готовностью произнес паренек.
— Правильно, парень. Чем быстрее ты уйдешь от белых, тем скорее увидишь свою Машу, — улыбнулся Тумуржав. — Остальных мне убеждать не надо. Все на моей стороне.
— А ваш помощник? — спросил рыжебородый бурят. — Ведь он чуть что, хватается за винтовку: «Я, говорит, свою жизнь меньше, чем за две большевистские не отдам!»
— Вот я и отослал его в разведку, чтобы поговорить с вами, — ответил инспектор и, показывая на Батбаяра, добавил: — Этого парня я искал с первого дня, как перешли границу Монголии. А когда неожиданно столкнулся с ним, то будто родного брата встретил.
— Не ждал — не гадал, и вдруг повстречал! — воскликнул Батбаяр и вскочил, не в силах сдержать радости.
На склоне соседней горы показался унтер-офицер. Инспектор посмотрел на него, нахмурился и приказал пареньку:
— По врагу трудового народа, грабителю и убийце… Огонь!
Паренек схватил винтовку, лег на живот и нажал спусковой крючок — выстрел эхом отозвался в горах. Унтер-офицер рухнул на землю.
— А теперь поехали, — приказал Тумуржав, вскакивая в седло. — Вперед! — И поскакал в направлении долины.
Батбаяру стало не по себе, но стоило ему подумать о том, как унтер срывал украшения с женщин, угрожая оружием, и его волной захлестнула ненависть.
Лошадь бородача скакала следом за ними, и в переметной суме, притороченной к седлу, что-то позвякивало — видимо, украшения.
Они поднялись на перевал Моност, а к вечеру подъехали к реке Эгин-гол и спешились. Тумуржав достал из переметных сум консервные банки, раздал всем и развернул карту.
— Я получил точные сведения: послезавтра барон Унгерн и генерал Резухин встретятся здесь для обсуждения дальнейших действий.
— Мы должны во что бы то ни стало помешать этой встрече. Вы двое дождитесь ночью Резухина и вручите ему вот это письмо, — сказал Тумуржав, доставая конверт. — А мы с Батбаяром направимся к барону. Он сейчас едет вместе с Бишрэлт гуном, так что ты мне поможешь. Я объясню тебе как надо себя вести, пока переводчик с нами… Ты сумеешь вкусно приготовить какое-нибудь монгольское кушанье? — вдруг спросил он.
— Когда я был у господина телохранителем, готовил козлиный бодог, — ответил удивленный Батбаяр. — Очень вкусно получалось. Для этого нужна неразделанная туша козла, лук, чеснок, пряности…
Они постояли на берегу Эгин-гол, обнялись на прощанье и Тумуржав с Батбаяром тронулись в путь. Поднялись вверх по долине реки Цэнхэр, обогнули гольцы, покрытые вечными снегами, и выехали к местечку Ар найман горо. По дороге попадались редкие аилы, стада коров, табуны лошадей, но люди при появлении всадников испуганно прятались.
Великолепные места в Ар найман горо! Высокая, по самое стремя, трава, яркие цветы. Горы сплошь покрыты лесами. Извивающаяся лента реки, пенье птиц напомнили Батбаяру Хоргой хурэмт, верховья Орхона и его любимую Лхаму. Поднявшись на гребень хребта, они по очереди осмотрели в бинокль окрестности. На северо-востоке с гор спустились колонны всадников, которые, спешившись на лугах Эгин-гола, расставляли палатки. Среди них стояли рядом два синих майхана, и Тумуржав показал на них Батбаяру.
Тот сразу догадался, что это палатки барона и Бишрэлт гуна.
Вскоре на дороге, по которой только что прошла конница, показались две группы всадников, по восемь человек в каждой.
— Вот и барон фон Штернберг с Бишрэлт гуном пожаловали, — сказал Тумуржав и принялся что-то объяснять Батбаяру. По жестам и отдельным словам Батбаяр догадался, что примерно хочет сказать Тумуржав. «Ты не бойся. От меня не отходи ни на шаг. Мы барона возьмем за горло. Ты приготовишь ему еду. А я его свяжу». «Но почему он так уверен в себе? — недоумевал Батбаяр. — Может быть, в отряде барона тоже есть наши?»
— Ладно, — закивал он головой, будто все понимая. «Будет нынче дело. Убить, наверное, надо барона. Иначе, как помешаешь его встрече с Резухиным. И стрелять должен я». — Батбаяр ткнул себя пальцем в грудь.
— Я… стреляю в барона, — сказал он, прищурил левый глаз и сделал такое движение, словно нажимает на спусковой крючок.
— Нет, нет, — замахал руками Тумуржав. Он решил, что Батбаяр собирается стрелять в барона прямо сейчас.
— Завтра, ночью. Понял? Ночью, — сказал он, склонив голову и подкладывая под щеку ладонь. — Я скажу тебе, когда и что нужно делать.
«Ага, ночью», — сообразил Батбаяр.
Тумуржав снова поднес к глазам бинокль. Барон, видимо, приказал переставить палатки подальше от лагеря, на склоне горы, поближе к опушке леса.
— Ну и осторожен, даже собственных солдат остерегается. Ты посмотри, как приказал палатки поставить, — сказал он Батбаяру, но тот ничего не понял, лишь улыбнулся.
Тумуржав побрился, надел новую гимнастерку, почистил сапоги и сразу приобрел щегольской вид, словно собрался на праздник.
— Ладно, поехали, — сказал он, садясь в седло, и поскакал галопом к воинскому лагерю. Батбаяр во весь опор мчался за ним, полы дэла развевались на ветру.
«Отчаянный храбрец. С бароном, наверное, лично знаком», — думал Батбаяр. Не зная русского языка, он не мог спросить Тумуржава, как тот вошел к барону в доверие. А случилось это так.
В боях против молодой Советской Республики был убит генерал К. — советник генерального штаба царской армии. Его письмо, адресованное Унгерну, вручил барону капитан Волков, приехавший в Ургу, когда тот собирался идти походом на Советскую Россию. В письме говорилось: «На нас возложена великая миссия — спасти цивилизацию от большевистской опасности. В борьбе с врагом мы должны быть свирепыми, как тигры, зоркими, как орлы, быстрыми, как гончие, цепкими, как волки. Не пощадим ничего, дабы с честью выполнить нашу миссию…» Барон фон Штернберг узнал почерк генерала К., но капитану Волкову не поверил, подозревая, что по дороге письмо могло попасть в руки красных, и теперь они используют его для прикрытия своего разведчика. Однако офицер предъявил серебряный портсигар генерала, где на обороте крышки была фотография Волкова с надписью, сделанной по-немецки рукой генерала: «Мой адъютант — капитан Волков проявил незаурядные способности в следственной работе и, вероятно, сможет оказать Вам посильную помощь в Вашей службе на благо Отечества. Однако прошу не задерживать его у себя долго…»
Унгерну пришлось поверить — война и сборы в поход не оставляли времени на более тщательную проверку. Унгерн назначил Волкова заместителем начальника политической следственной комиссии, но на центральный фронт не послал, оставил в тылу — инспектировать отряды, расположенные в районах Орхона и Селенги.
Подскакав к синим майханам, Тумуржав спрыгнул с седла, бросил поводья Батбаяру и, подбежав к высокому худощавому офицеру, который стоял, сунув руку за борт кителя, козырнул и звонким голосом произнес несколько слов, всем своим видом выказывая почтение. Батбаяр подумал, что этот нойон с глубоко посаженными зелеными глазами и черной лохматой бородой очень походит на козла, брошенного хозяевами на стоянке. В его облике не было ничего примечательного, разве что погоны да сверкавшие на груди кресты. Офицер холодно смотрел поверх головы Тумуржава. «Какой у него злой взгляд, — подумал Батбаяр. — И чем только он завоевал доверие нашего богдо-гэгэна?» Унгерн в это время оценивающе, в упор посмотрел на Батбаяра, спрашивая взглядом: «Это еще кто такой?» И Батбаяр не выдержал, отвел глаза, подумав при этом: «Много человеческих жизней на твоей совести». Тумуржав тотчас же обернулся к Батбаяру и жестом приказал отъехать подальше, на опушку, и отвести коней.
За Тумуржавом и бароном, когда они отошли от палатки, последовала стоявшая возле майхана сивая кобыла под русским кавалерийским седлом с коротко обрезанным хвостом и бельмом на глазу. Пока барон стоял на месте, она тоже не двигалась, лишь подрагивала мышцами и рыла копытом землю, словно перед скачками. «Вот так лошадь, — удивился Батбаяр, — прямо как человек, ни на шаг не отходит от хозяина. Может, она и говорить умеет?» Барон фон Штернберг и Тумуржав сели у подножия огромного кедра, остановилась и кобыла, словно прислушиваясь к их разговору. Тумуржав вынул из планшета документы.
— Недавно, согласно вашему приказу, я отправил атаману Семенову телеграмму следующего содержания: «Господин атаман, настало время оказать обещанную Вами помощь в моей борьбе с большевиками. Срочно пришлите две дивизии и сто орудий, тогда я разгромлю оборону красных в Иркутске, перережу железную дорогу и смогу соединиться с Вами. И если Вы, атаман, вскоре пожалуете в Ургу, то монгольский богдыхан, знающий Вас как преданного борца за святое дело, встретит Вас шелковым хадаком и вручит алмазную звезду ордена Эрдэнэ-очира. Опасность красной заразы в Монголии чрезвычайно велика, а потому мы, соединив наши силы, должны надежно охранять этот плацдарм!» Ответа до сих пор нет, и я приехал получить у вас дальнейшие указания, — доложил Тумуржав.
На барона, уже потерявшего всякую надежду на помощь Семенова, бродившего где-то по Маньчжурии, слова инспектора не произвели никакого впечатления.
Батбаяр разглядел охрану, стоявшую на некотором расстоянии от дерева, в тени которого сидел Унгерн, и подумал: «До чего подозрителен, охрану ни на шаг не отпускает. Как же его уничтожить?»
— Это мне не интересно, капитан. Вы послали телеграмму генералу Чжан Цзолиню?[77]
— Да, господин командующий. Согласно вашей телефонограмме, я телеграфировал: «Я, барон Унгерн, не жалея жизни, сражаюсь за то, чтобы Маньчжурия и Внешняя и Внутренняя Монголия навечно перешли в Ваше полное владение и стали надежным плацдармом в борьбе с большевистской опасностью. В этом я всегда буду верен нашим договоренностям. Во имя нашей будущей победы соблаговолите перевести в Ургу десять тысяч китайских долларов. Остаюсь всегда верный Вам Унгерн».
— Тебе не пришло в голову спросить в этой же связи, поддержат ли нас в Китае?
— Я думал об этом, мой генерал, и полностью разделяю ваши взгляды. Но генерал Чжан Цзолинь — человек чужой, иностранец, кто знает, что у него на уме, и я на всякий случай связался с Синьцзяном.
— И что же?
— С большим удовольствием могу доложить вам, что корпус генерала Бакича уже в Синьцзяне и скоро прибудет сюда.
— Капитан! А почему ты не веришь Чжан Цзолиню?
— Это сложный вопрос. Правительство Китая стремится овладеть Внешней Монголией и делиться ни с кем не станет. Вам и самому хорошо известно, что генерал Чжан Цзолинь имеет тайные намерения завладеть Монголией и подчинить ее Японии. А ваша победа, считают эти господа, наверняка может привязать Монголию к России, и потому вряд ли будут вам помогать.
— Что же нам следует делать?
— Монголия велика. Мы можем двигать фигуры по этой огромной шахматной доске, как нам заблагорассудится.
— Пока я не нахожу ничего умного в твоих словах. Ну ладно, послушаем дальше.
Унгерн снял папаху, закурил.
— Монгольские ламы и нойоны — ненадежны, у них нет определенной цели, они не видят дальше собственного носа, и этим наверняка воспользуются красные смутьяны…
Барон понимал, что поражение закрыло ему путь в Ургу, и это его бесило, он нервно вырвал пучок травы, скрутил его и отшвырнул в сторону.
— Это я и без тебя знаю.
— Господин генерал! Перед нами по-прежнему открыта дорога к восстановлению святого правопорядка. Красные выдохлись. Вам следует вести войска на запад, через монастырь Нар ванчин, по дороге пополнить конский состав за счет реквизированного у монголов скота, передохнуть некоторое время в Кобдо и соединиться с генералом Бакичем. Народ Алтая встретит нас с распростертыми объятиями.
Барон тяжело вздохнул.
— Значит, ты советуешь выступить в поход?
— Я думаю, надо дать лошадям сутки отдохнуть, а послезавтра рано утром соединиться с генералом Резухиным и вместе двинуться на запад.
— А если нас настигнут красные?
— Господин командующий! Разведка донесла, что красные задержались на Селенге и Зэлтэре, опасаясь засад в лесах, и отстали на три дня пути. Нам важно не рассеивать своих сил на случай тревоги. Выставить усиленные караулы, заслоны и быть готовыми к выступлению.
Барон задумался.
— Иди в штабную палатку, капитан, отдохни. Я подумаю над твоим предложением.
Унгерн проводил капитана взглядом, достал из кармана круто посоленную горбушку хлеба и дал стоявшей рядом кобыле, ласково погладив ее по шее.
Вечером Батбаяр готовил на ужин господам офицерам козлиный бодог. Он зарезал козу, которую солдаты притащили из какого-то аила, снял шкуру и теперь ждал, когда накалятся камни, брошенные в костер.
За два дня Батбаяр понял, что монголы и русские, которые служат у барона Унгерна, не очень-то ладят между собой. Рваные майханы монгольских цириков стояли в стороне, в лагере унгерновцев цирики почти не появлялись, в том числе и подручный барона — гун Бишрэлт. Зато господин инспектор ходил из лагеря в лагерь, беседовал и с монгольскими цириками, и с русскими солдатами, минуты не имел свободной.
— Смотри, чтобы бодог поспел к ужину, — велел он Батбаяру.
Когда на небе высыпали звезды и бодог был готов, Тумуржав опять прибежал к Батбаяру.
— Пора, — сказал он. — Внесешь бодог в палатку и поставишь перед Унгерном. Потом приготовишь двух лошадей, оружие и будешь ждать меня возле того толстого кедра. — Все это Тумуржав объяснял знаками, но Батбаяр понял. Он не сомневался, что у Тумуржава среди русских солдат немало сторонников, но он даже представить себе не мог, что произойдет на этот раз, и чем все закончится.
По указанию Тумуржава он дочиста выскреб шкуру козы снаружи, вдвоем с русским телохранителем они подхватили бодог на палки и внесли в палатку Унгерна. Барон сидел, как обычно держа руку за пазухой, где у него лежал пистолет. Увидев бодог, барон вздрогнул, вскочил.
Капитан ему что-то сказал, видимо, объясняя в чем дело.
«Не бойся козы жареной, бойся живой!» — хотелось сказать Батбаяру. Съежившийся Унгерн в полумраке палатки напоминал нахохлившегося ворона, у которого совы повыщипали перья[78]. Этот храбрый вояка, прошедший с огнем и мечом Урал, Сибирь, Онон, Керулен, Орхон и Селенгу, сейчас пугался собственной тени.
— Я достал у русского лодочника, к ужину… Чтобы снять напряжение, — сказал капитан Волков, вынимая две бутылки и ставя их на маленький столик, накрытый в центре палатки.
— Это ты неплохо придумал. А почему не пригласил монгольского командующего? — спросил барон, и в его взгляде мелькнуло беспокойство.
— Я не знал, как вы на это посмотрите…
— Пригласи! Пригласи! Пошли солдата, пусть передаст, что я его прошу прийти. — Унгерн с любопытством посмотрел на румяный бодог, от которого шел ароматный пар, пригладил усы. — Как это готовят? Что делают с внутренностями? Шкуру с живой сняли, что ли? А где взяли такой большой котел, чтобы сварить целиком? Жарят изнутри? Я что-то не понимаю. Погоди-ка. Объясни еще раз! Так, постой-ка! Традиция есть традиция. А что, если мне к приходу монгольского командующего надеть национальную одежду? Ему это, должно быть, приятно, — сказал Унгерн, надел шелковый дэл с генеральскими погонами и снова сунул руку за пазуху.
В палатку, гремя висевшим на поясе оружием, вошел крепкий, широколицый Бишрэлт гун, за ним переводчик. Батбаяр поклонился.
— А-а, к нам пожаловал монгольский командующий? Капитан Волков собирается нас угостить ужином. Вот я и пригласил вас. Присаживайтесь, — сказал барон командующему.
— О-о, да это козлиный бодог! Кто ж его приготовил? — улыбнулся Бишрэлт гун.
— Ваш раб, — поклонился Батбаяр. По знаку Тумуржава он поставил перед командующими бодог, полоснул по шкуре острым как бритва ножом, и палатка наполнилась острым ароматом тушеного мяса, приправленного горным луком. Инспектор наполнил рюмки, Батбаяр разлил по пиалам суп, разложил по тарелкам мясо. Фон Штернберг подождал, пока Бишрэлт гун съест мясо, и лишь тогда сам принялся есть.
— Я знал, что монголы гостеприимны. Но полагал, что в этой отсталой стране нет никакой культуры. Теперь я вижу, что заблуждался. Пожалуй, ни при одном из королевских дворов Европы не подают такого оригинального, вкусного блюда, приготовленного из целой туши. И, что самое интересное, приготовил его простой монгольский солдат. Да, у монголов очень своеобразная, удивительная культура. — Все это толмач перевел Бишрэлт гуну.
Батбаяр подумал, что уже пора готовить лошадей, пожелал всем спокойной ночи и, пятясь, вышел.
Батбаяр подтянул подпруги, взнуздал лошадей и стал ждать Тумуржава. В лагере белогвардейцев горели костры, оттуда доносились голоса, звон уздечек и стремян, как будто солдаты готовились выступать. В палатке свет становился то ярче, то слабее. Близилась полночь, но пока ничего не произошло. «Видно, приход Бишрэлт гуна нарушил планы Тумуржава убрать барона», — думал Батбаяр. Так и не поняв до конца, что задумал Тумуржав, Батбаяр полагал, что тот хочет убить Унгерна и бежать. «Как бы самого Тумуржава не убили», — тревожился Батбаяр, отбиваясь от комаров. Вдруг с опушки леса донесся душераздирающий крик, от которого, казалось, задрожали даже мирно спавшие горы и огромные деревья. И тотчас же загремели выстрелы, заржали кони. По лагерю метались всадники, что-то кричали до хрипоты. Свет в палатке барона погас. «Что там случилось? Жив ли Тумуржав?» Батбаяр вскочил в седло. «Надо ждать. Если попробуют захватить, буду драться», — подумал он, одной рукой сжимая наган, другой — повод лошади Тумуржава. Сердце бешено колотилось. Стрельба удалялась, становилась все тише. Вдруг послышались шаги.
— Батбаяр, — тихо позвал Тумуржав и, вылетев вихрем из темноты, вскочил на лошадь.
— Плохи дела! Барон исчез! Поехали! — И Тумуржав направил коня вверх по склону.
Всю ночь они метались по лесу, искали, и Батбаяр понял, что Унгерна Тумуржав упустил. Когда взошло солнце, они поднялись на гребень хребта, замаскировались.
— Ты — сайн, я — муу[79]. Унгерна упустил, — проговорил Тумуржав. Он не отнимал бинокля от глаз и все время курил. Гимнастерка на нем была разорвана, лицо в ссадинах. Батбаяр не догадывался, что ночью солдаты, среди которых Тумуржав давно вел агитацию, подняли восстание. Охранники должны были схватить барона, как только тот выскочит из палатки. Однако услышав стрельбу, Унгерн, видимо, что-то заподозрил, выполз из палатки под задней стенкой и скрылся. Не знал Батбаяр и того, что этой же ночью во время восстания, в котором участвовали и двое солдат, посланных Железновым к генералу Резухину, генерал был убит.
Батбаяр взял у Тумуржава бинокль и посмотрел на склон горы, где еще вчера располагался белогвардейский лагерь: поваленные палатки, сломанные тачанки, дым от пожарищ, над телами убитых — стервятники.
Казалось, все успокоилось после вчерашнего боя: тишину нарушало лишь пенье птиц да стук дятла. К малому полудню Батбаяр заметил, что на поляну, позади бывшего лагеря, выехал всадник и тотчас же скрылся в зарослях.
— Посмотрите, — подтолкнул он Тумуржава.
— Да-да, вижу, — радостно ответил Тумуржав, глядя в бинокль.
Вскочив на коней, они скрытно, оврагом подъехали к поляне, где заметили всадника. Отыскав расщелину, заросшую молодым подлеском, завели туда коней, завязали им морды, чтобы не слышно было фырканья, поднялись на скалу и стали осматривать лес.
— А может, барон ушел вместе с солдатами, только другой дорогой? — спросил Батбаяр, но Тумуржав показал, что Унгерн должен быть где-то здесь.
Через несколько часов они обнаружили, что неподалеку в перелеске прячется монгольская конница.
— Хорошо, — спокойно сказал Тумуржав. Наконец из чащи, где скрылся всадник, выехали двое на конях и, остановившись под большим густым кедром, стали осматривать падь, по которой протекала река.
В бинокль хорошо были видны серебряные узорчатые погоны Унгерна и развевающиеся полы его голубого шелкового дэла. Второй всадник, видимо, телохранитель, держал наготове винтовку.
— Я могу незаметно подобраться и застрелить обоих, — сказал Батбаяр, вытаскивая наган. Тумуржав перехватил его руку и пояснил, что стрелять нельзя, надо брать Унгерна живым.
— А-а, вот оно что. А я-то думаю: почему ты его ночью не застрелил? Значит, хочешь живьем взять? — прошептал Батбаяр и стал объяснять, что сможет захватить одного, если второго застрелить. Разговаривали они как всегда знаками, и, пока объяснялись, барон с охранником скрылись в лесу. Но вскоре снова выехали на опушку и, прячась за деревьями, стали спускаться вниз.
«Опять упустили», — заволновался Батбаяр и кинулся к лошади.
— Мне ехать нельзя, — сказал Тумуржав. — Сразу убьют. А ты монгол. Это совсем другое дело. Ты схватишь Унгерна. Если не сможешь, я буду стрелять.
Времени на разговоры не было. Батбаяр вскочил на коня, выехал на опушку, махнул рукой и поскакал прямо к барону, ехавшему на расстоянии сахалта. Унгерн и его телохранитель укрылись за деревьями и приготовились стрелять. Батбаяр подъехал ближе, вынул наган, отбросил в сторону, а сам подумал: «Ничего, у меня кнут есть».
Унгерн опустил пистолет и что-то сказал.
— Господин! Там русские, — Батбаяр указал вперед. — Туда ехать нельзя. Русские — муу! Русские и меня, и вас убьют, — и он сделал такое движение, словно нажал на спусковой крючок.
Барон понял и заколебался.
— Туда нельзя. И туда тоже. Русские цирики. Русские, русские! — твердил Батбаяр. Унгерн что-то сказал телохранителю. «Если одним ударом свалить телохранителя, то с генералом я, пожалуй, справлюсь», — прикинул Батбаяр, не спуская с них глаз.
Барон что-то сказал, похоже, выругался, и поехал в том же направлении. Батбаяр прижал ладонь к груди, поклонился.
— Вам нельзя туда ехать, русские застрелят. «Надо отвлечь их внимание, тогда Тумуржав сможет незаметно подобраться и застрелить телохранителя». — Надо переправиться через реку и подняться на перевал, — Батбаяр указал на северо-запад и поскакал первым.
Унгерн поскакал следом.
— Господин! В горах вас ждет Бишрэлт гун, — с почтением склонив голову, сказал Батбаяр.
— Бишрэлт гун! Он там? Да? — барон как-будто успокоился, но руки из-за пазухи не вынул.
«От реки до леса — рукой подать. Тумуржав уже должен быть там». — Батбаяр скакал, не разбирая дороги от радости. Речушка была узкой и неглубокой — лошадям по колено, однако Унгерн жестом приказал Батбаяру ехать вперед. Батбаяр хлестнул коня и, переправившись через речку, остановился. Лошадь барона выпрыгнула на берег с легкостью косули. Когда проехали еще немного, барон догнал Батбаяра и поехал стремя в стремя с левой стороны. Справа, слегка отстав, ехал телохранитель. Батбаяр придержал коня. «Теперь достану. Надо бить насмерть или хотя бы оглушить». И он что было силы хлестнул телохранителя кнутом по лбу. Унгерн обернулся. Тогда Батбаяр бросился на него и обхватил, не давая высвободить из-за пазухи руку с пистолетом. Кони рванулись в разные стороны, Унгерн и Батбаяр покатились по земле. Чуть в стороне затрещали выстрелы, но кто в кого стрелял было не разобрать. Батбаяр увидел, что барон злорадно оскалился, и тут же обожгло плечо. Собрав последние силы, Батбаяр перехватил руку барона, сжимавшую пистолет, и стал бить ею о камень. Послышался стук копыт: подскакали два монгольских цирика.
— Держи барона, — крикнул один, отрывая Батбаяра от Унгерна. Батбаяр огляделся. Тумуржава не было. А монгольские цирики вязали руки барону.
— Вот он, новый хозяин Азиатского континента. Вспомнишь теперь, сколько ты бед нам принес.
— Великий полководец! Может, теперь вы соизволите объяснить, зачем пулеметами гнали нас в Россию?
Из леса вышел, зажимая рану на руке, весь в поту Тумуржав.
— Вот и хорошо, — сказал он, обнимая Батбаяра.
В пылу схватки Батбаяр не видел, что телохранитель Унгерна пришел в себя и поднял винтовку. Выстрелить ему помешал подоспевший Тумуржав. Телохранитель, отстреливаясь, бросился к лесу, и Тумуржав гнался за ним, пока не застрелил.
— Этот русский нойон помог нам вырваться от белых, — сказал Батбаяру один из монгольских цириков, кивая на Тумуржава. — Как только он прискакал к ним в лагерь, там начались взрывы. Похоже, он на стороне красных.
— А ты-то кто будешь? — спросил другой у Батбаяра.
— Я с ним, мое имя Батбаяр, — впервые за долгое время он назвал свое настоящее имя. Вдруг он почувствовал, как по животу течет что-то горячее, мокрое, сунул руку за пазуху и понял, что это кровь. Сознание помутилось, и Батбаяр стал медленно опускаться на землю. Тумуржав вскрикнул, бросился к нему, обнял. В это время к ним подскакали остальные монгольские цирики. Подняв восстание, они ушли от белых и, устроив засады в лесах, подстерегали Унгерна.
Лицо Батбаяра стало мертвенно-бледным, и он потерял сознание. Тумуржав скинул гимнастерку, снял нижнюю рубашку и стал рвать ее, чтобы забинтовать ему грудь…
Эти события произошли шестнадцатого числа последнего месяца лета года беловатой курицы[80]. В густой траве лежал связанный барон фон Штернберг, прятал глаза и даже не подозревал, что он похож сейчас на ту самую ободранную шкуру, в которой ему накануне подавали бодог.
«Мне сразу не понравилась эта показная щеголеватость капитана. Хотел на месте пристрелить скотину, оплошал, поверил ему. А теперь уже поздно».
Да, барон и в самом деле оплошал.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ ЦВЕТОК ВАНСЭМБЭРУ
Горы и хребты вокруг долины Хоргой хурэмт оделись в плотный снежный наряд. Мирно спали под толстым снежным покровом хребет Ширэта и река Шивэрт, горы Хан Баян, Хайрхан суварган, озеро Бугат, мыс Бодой.
Лхама выскочила во двор и стала откапывать из-под снега аргал. Выглянул из своей юрты Донров, приехавший прошлой ночью из Онгинского монастыря, постоял немного и махнул Лхаме рукой, чтобы подошла. Лхама с ужасом вспомнила, как два с половиной года назад он вот так же ее позвал, а Донров, у которого зажглись злые огоньки в глазах, сообщил:
— Твой муж обворовал покойного господина. То ли тебя хотел драгоценностями увешать, то ли для любовницы старался… Поймали его на базаре, когда торговал ворованным. Вот так-то, милая моя! Слава богу, этот ядовитый тарантул сюда доползти не успел, а то бы нам всем не поздоровилось.
Лхама даже глаз не подняла и продолжала заниматься своим делом. Тогда Донров сам подошел и, ухмыляясь, спросил:
— Ахайтан моя! Что ты такая кислая? Какой-нибудь парень надул, не пришел к тебе ночью?
Лхама отпрянула, подхватила грабельками кусок овечьего помета и швырнула ему в лицо. Донров как ни в чем не бывало вытер лицо рукавом и тем же тоном продолжал:
— О, богиня! Ты по-прежнему строптива. Впрочем, не удивительно. Такой красавице на роду написано быть строптивой. Сам черт струсил бы, увидев тебя в гневе.
Тут Лхама не выдержала и крикнула:
— Отвяжись от меня, негодяй!
— Ладно, отвяжусь, раз ты так хочешь, — примирительно произнес Донров. — Только есть у меня к тебе одна просьба, выслушай спокойно. Прошел слух, будто войска Народной партии изгнали из Кяхты китайцев, то есть гаминов, как их называют в народе, и китайцы, пока отступали в Барун хурээ, на всем пути грабили и убивали людей. Хочется мне туда съездить, посмотреть, что за гамины такие. Да как на зло мать заболела. А отец, ты же знаешь, давно не встает с постели. Вот и хотел тебя попросить, пока буду в отлучке, переселиться к нам, присмотреть за матерью.
«Мало ему, что я с утра до вечера пасу их скот, так теперь он хочет, чтобы я по ночам не спала, чтобы готовила похлебку для его матери».
— Ну, уж нет! — отрезала Лхама и, резко повернувшись, зашагала к своей юрте.
Дело в том, что еще несколько дней назад Донров собирался уехать в надежде что-нибудь купить или обменять у китайцев, но заболела мать, маялась поясницей.
Возвращаясь со двора в юрту, Дуламхорло заметила, что сын разговаривает с Лхамой.
— И на черта сдалась ему эта девка? — проговорила она, ложась на кровать, — что хорошего он в ней нашел?
Аюур, который сидел в хойморе, пропустил слова жены мимо ушей. Он нарезал в серебряную пиалу ломтики вареного мяса и, дав ему хорошенько пропитаться крепким горячим чаем, палочками отправлял в рот.
Некогда всесильный казначей сайн-нойон-хана сильно сдал за последнее время, поседел, еще больше набрякли веки, голова тряслась. Старик теперь часто вспоминал бога. Он даже достал небольшой молитвенный барабан и то и дело вращал его, замаливая известные лишь ему одному грехи.
Когда Донров вошел в юрту, Аюур пробормотал:
— Что за напасть! Старуха Гэрэл еле ноги таскает, того и гляди богу душу отдаст. Теперь твоя мать расхворалась.
— Ох, спина! — вскрикнула в это время Дуламхорло. Но Донрова все это мало трогало. Он сел к очагу, налил себе чаю и стал пить.
— Ой-ой-ой, — стонала Дуламхорло. — Видно, смерть моя пришла. Некому обо мне позаботиться, раздобыть цветок вансэмбэру.
— Мать, а что это за цветок, о котором ты все время твердишь? — заинтересовался Донров. — Где он растет? Я и от других о нем слышал, но ни разу не видел.
— Опять она за свое, — проворчал Аюур. — Покоя нет от этой бабы.
— Вот, вот. Вам бы скорее меня в могилу свести. — Дуламхорло заплакала.
— Да заткнешься ты наконец? — обозлился Аюур и потянулся за трубкой.
— Ты, мать, не дело говоришь, — начал оправдываться Донров. — С чего бы это нам с отцом желать твоей смерти? А за цветком я хоть сейчас готов пойти, только скажи, где его искать.
— Это ты хорошо придумал, сынок, — немного успокоившись, сказала Дуламхорло. — Растет он, говорят, на горе Хан Баян, только отыскать его непросто. Слышала я, что тот, кто найдет цветок вансэмбэру в середине июля и выпьет приготовленный из него отвар, тут же избавится от всех болезней. Но дается в руки цветок лишь добродетельным людям.
— Ты, видно, думаешь, что мы в этой жизни много добра людям сделали? — язвительно спросил Аюур.
— Разве нет? — удивилась Дуламхорло. — Сколько лет ты верой и правдой хану служил! А я каждые три года молиться ездила в монастырь Эрдэнэ зуу, сколько денег туда пожертвовала, и не припомню.
— Молиться ты молилась, — ответил Аюур, — да только не забывала развлекать тамошних святых отцов. Бог и это не забыл…
— О, боже мой! Что за человек! И когда только ты перестанешь измываться надо мной?
— Да разве я измываюсь, — спокойно проговорил Аюур. — Я просто говорю правду. Вспомни, какая ты возвращалась после этих «божественных праздников». Вот я и говорю: разрушивший храм достоин большего уважения, чем не видевший его вовсе. — Сынок! — обратился Аюур к Донрову. — Налей-ка матери чая.
— А зимой этот цветок можно найти? — спросил Донров, чтобы немного успокоить мать. — Как он выглядит?
— Я и сама толком не знаю, сынок. Слышала только, что возле него никогда не бывает снега. Он, словно лампада, его растапливает. И еще слышала, что семена у него крупные.
— Отец! Я сегодня же отправлюсь на поиски этого цветка, — решительно заявил Донров.
— В такую пургу? Сиди лучше дома, не то превратишься в сосульку, — буркнул Аюур.
— Был человек, который отыскал бы этот цветок для меня, но нет его, к несчастью, в живых… — вздохнула Дуламхорло.
— Кто он? — спросил сын.
— Кто как не Жаворонок, — ничуть не смущаясь, ответила Дуламхорло. — Вот это был настоящий мужчина — сильный, удачливый.
— Отец! А что, ничего не слышно о Жаворонке? — спросил Донров. — Значит, и вправду его нет в живых?
— Сколько раз надо тебе повторять, — закричал Аюур вне себя от ярости, — что даже наша земля, как ни тверда она, не может носить такого преступника. Мало того что он свою грязную руку в господскую казну запустил, так еще и оклеветал самого святейшего богдо-гэгэна! Вот какого негодяя выбрала твоя мать себе в спасители!
В этот холодный весенний день Дашдамба с женой сидели у очага и тоже вели разговор. Вдруг до них донеслись голоса Лхамы и Донрова. Тогда старуха Ханда сказала:
— Вот что, отец, пора нашей бедной дочери вернуться в родительский дом.
— Да ты что говоришь, мать? — возмутился Дашдамба.
— Знаю, что говорю, — стояла на своем жена. — Неужели Лхама должна ухаживать за свекровью до смерти? Надо же ей и о себе подумать. Как посмотрю на нее, сердце кровью обливается.
— Бросить старуху на произвол судьбы? — Дашдамба от волнения стал теребить усы. — Да как после этого людям в глаза глядеть?
— Значит, так она и должна всю свою молодость провести с этой старухой в убогой хибаре?
— Уймись, Ханда, — пытался урезонить жену Дашдамба. — Ведь нет у нас с тобой права возвращать дочку домой.
— Как это нет! — возмутилась старуха. — Дочь она нам или собака безродная?!
— Прошу тебя, Ханда, не кричи так громко, — взмолился Дашдамба. — Не дай бог, услышит дочь. Говоря по правде, не верю я, что наш зять вор. Да и мало кто верит. Не такой Батбаяр человек, чтобы обокрасть своего господина.
— А если он жив, его не казнили и не сожрали собаки, тогда он, как Гэсэр, начисто забыл, что у него есть мать, жена, дом, — не унималась старуха.
— Так-то оно так, — произнес Дашдамба. — Но если даже Батбаяра и казнили, это дело рук Аюура. Наверняка этот тыквоголовый сам обокрал хана, а вину свалил на беднягу Батбаяра. И с легкой руки все того же Аюура этот богдо-могдо головой нашего Батбаяра откупился от злых духов[81]. А может, Аюур просто нанял убийцу да и отправил на тот свет ни в чем не повинного человека. Ведь Батбаяр знал про делишки Аюура, про то, как он таскал господское добро, вот и мешал казначею. Содном говорил, что наш зять ни за что не пошел бы на воровство.
— Ничего путного от тебя не услышишь, — наседала на мужа Ханда. — Да ты посмотри: Донров сызмальства бегает за Лхамой. Вот и сегодня предлагал ей жить с ним. Чем они не пара? Разве дочь виновата, что у тебя все не как у людей. Почтенную семью зовешь не иначе как волчьим логовом. А за что?
— Ханда! — строго произнес Дашдамба. — Дети выросли, теперь мы им не указ, пусть поступают, как знают. Об одном я мечтаю: отделиться от наших ненасытных хозяев. Десять лет ты пристаешь ко мне с этим Донровом. Забыла, как этот недоносок поступил со своей первой женой? Опозорил девушку, а через три месяца после свадьбы выгнал из дому. И такого человека ты прочишь в мужья дочери?! Помяни мое слово, добро, добытое нечестным путем, не идет на пользу. Когда-нибудь оно станет им поперек горла. Я не желаю им зла, но они за свое поплатятся, их настигнет суровая кара.
— Любит Донров нашу девочку, вот и не смог ужиться с другой, — пробормотала Ханда.
Братья и сестры Лхамы подросли и теперь уже могли пасти хозяйское стадо. Поэтому Лхама иногда оставалась дома передохнуть. И однажды, когда они со свекровью сидели у очага, Лхама, подбрасывая хворост в огонь, сказала.
— Мама, еще одна перекочевка, и нам нечем будет покрыть остов юрты — войлок совсем изорвался.
— Что же делать, дитя мое, — ответила старуха. — Вот дождемся весенних песчаных бурь, и если начнется падеж скота, сдерем шкуры с павших животных и подлатаем как-нибудь нашу юрту.
— Вам это не под силу, — возразила невестка. — Продадим лучше Дуламхорло мое жемчужное украшение. Она давно хочет его заполучить, и даст нам пять кусков войлока.
— А что скажет Батбаяр, когда узнает, что ты продала его подарок? — спросила Гэрэл и ласково добавила: Ничего, как-нибудь выкрутимся, дочка.
Слова старухи болью отозвались в сердце Лхамы; вмиг затуманились ее живые глаза, по щекам побежали слезы.
— Вы все еще надеетесь, что он вернется, наш Жаворонок? — всхлипывая, спросила Лхама.
Как ни старалась Гэрэл успокоить невестку, та была безутешна. В юрте воцарилась тишина, нарушаемая лишь треском сухого хвороста в очаге.
«Если на что и менять украшение, так это на лошадь, — глядя на Лхаму, думала Гэрэл. — Ведь зимой издохла последняя кобыла…» Но старуха ничего не сказала об этом Лхаме, не хотела причинять ей боль.
Шло время, сменяя друг друга, бежали дни, месяцы, и в жизни Лхамы по-прежнему не было никаких перемен: изо дня в день пасла она скот и все думала, думала об одном, глядя то на Хятрунский перевал, то на хребет Увтийн — в ту сторону, откуда мог прийти ее любимый. И так в любую пору года, в любую погоду: в пургу, когда выл ледяной ветер, в зной, когда все вокруг заволакивал дым степных пожаров, в проливной дождь, когда сверкала молния и неслись, заливая долину, бурные потоки воды.
Однажды, собирая хворост теплым осенним днем, Лхама увидела пышную свадебную процессию, приближавшуюся к их стойбищу. Донров брал в жены дочь богатого старика Гэлэгравдана. Когда нарядно одетые жених и невеста, важно восседая на добрых жеребцах, проехали мимо Лхамы, та, стесняясь своего старенького дэла и рваных гутулов, отвела глаза, подумала: «Ведь когда-то и я вот так же ехала рядом с Батбаяром…»
Прошло несколько месяцев после свадьбы Донрова. Однажды весной Лхама вместе с женой Донрова пошла за хворостом. Лхама часто вела откровенные разговоры с этой смуглолицей, с толстыми губами и глазами навыкате молодой женщиной. Вот и в тот день, когда они отошли на порядочное расстояние от стойбища, жена Донрова пожаловалась Лхаме:
— Делаю все, что скажут, тружусь не покладая рук с утра до вечера. А все никак не угожу свекрови. То чай ей некрепкий, то водка как вода, то пенки не так приготовила. Не пойму — что за люди. Все от меня прячут, на замке держат. Свекор вечно косится на меня, доброго слова не скажет. И сын недалеко от отца ушел. — Женщина грустно вздохнула, и на глаза ее навернулись слезы. — Говорят, твой покойный муж был хорошим работником. А к тебе он как относился? Как эти? — она кивнула в сторону стойбища.
Лхама вздохнула и, глядя на убегающую вдаль дорогу, ответила:
— Нет, мой муж не был таким. Он уважал моих отца с матерью, любил младших моих братьев и сестер. Замерзнут у меня руки, он дышит на них, чтобы согреть. А если устану, ободрит меня ласковым словом. Но как говорится: не все лошади иноходцы, не все люди добрые.
Еще несколько месяцев промаялась, проплакала тайком от всех жена Донрова, а летом он сложил ее нехитрые пожитки на телегу, чтобы отвезти к родителям. Лхама окропила землю молоком вслед удаляющейся телеге, а про себя подумала: «Тяжело, конечно, когда тебя выбрасывают из юрты, как ненужную вещь, но ее горе не сравнить с моим…»
Год прошел с того дня, а Лхама помнила все так живо, будто это было вчера. Она еще больше возненавидела Донрова, он был для нее хуже гадюки. Многие парни набивались ей в женихи, но Лхама всем отказывала.
Однажды в жаркий день Лхама пригнала стадо к реке на водопой, села на валун, где они сидели вдвоем с Батбаяром в тот далекий памятный день. Ничто не изменилось вокруг. Все так же величественно возвышался над водой гранитный утес, а на той стороне реки шумели деревья. Лхаме даже почудилось, будто Батбаяр стоит рядом и на зеркальной речной глади она видит его отражение, которое по воле волн то исчезает, то появляется вновь. Ей почудился знакомый с детства голос мужа: «Если вы перекочуете, то мы двинемся за вами», «Будь вечно со мной, любимая…»
«Да, здесь, на этом самом месте, он открыл мне душу, — глядя на свое отражение в воде, думала Лхама. — Где же ты теперь, любимый? Может быть, лежишь где-то на чужбине в холодной земле? А может, живешь в далеких краях и вспоминаешь сейчас обо мне? Если ты жив, непременно вернешься!» — Лхама закрыла лицо руками, заплакала.
Вдруг позади она услышала стук копыт и оглянулась. Донров, разодетый, слегка подвыпивший, спрыгнул с коня, подошел к Лхаме, сел рядом.
— Как здесь красиво! — сказал он, доставая трубку, — И никого нет, мы вдвоем. Теперь я снова свободен и только о тебе и думаю.
Донров попытался обнять Лхаму, но та резким движением оттолкнула его и в сердцах сказала:
— Когда вы наконец остепенитесь, Донров? Пора уже.
— Что это ты со мной на «вы» перешла? — пододвигаясь к Лхаме, спросил Донров. — Мы ведь с тобой одногодки, кажется, да к тому же холостые. Чем не пара, а?
— У меня есть муж, и не чета вам.
— У тебя? Муж? — удивился Донров. — Интересно, это кому же из наших голодранцев ты приглянулась?
— Не суди обо всех по себе. А теперь уходи! Что пристал как чесотка?
— Какая ты сегодня сердитая, — продолжал балагурить Донров.
— Уходи, Донров. Увидят люди, что скажут.
Лхама поднялась и хотела уйти, но Донров схватил ее за руку.
— Постой! Так просто тебе от меня не уйти! — Он попытался привлечь Лхаму к себе. — Или ты все еще ждешь своего казнокрада? Не жди, не мучай себя, с того света не возвращаются.
— Если мой муж погиб, это дело ваших поганых рук! — гневно воскликнула Лхама и так толкнула Донрова, что тот полетел в воду.
Видя, как он барахтается, чуть живой от страха, и старается выбраться на берег, Лхама не удержалась от смеха. Затем вскочила на его лошадь и помчалась к стойбищу.
Лошадь была в мыле, когда она подъехала к юрте Аюура. Вошла и прямо с порога сказала:
— Вот что, хозяева. Хватит! Ваш сынок проходу мне не дает. Меня и мужа моего поносит. Я скоро носа из юрты не смогу высунуть. Пасите теперь свой скот сами, а с меня довольно. — Лхама выскочила из юрты и хлопнула дверью.
Наступило шестнадцатое число последнего летнего месяца года беловатой курицы. Старая Гэрэл обычно сидела возле юрты, грелась на солнышке, но сейчас ее почему-то не было. Лхама вбежала в дом и увидела, что свекровь сидит на постели и плачет.
— Мама, что с вами? Вы нездоровы?
— Бедные мы с тобой, несчастные, — теребя редкую седую косу, сказала свекровь. — Я-то ладно, мне скоро в могилу. А вот ты, молодая… — она ласково провела своей худой, шершавой ладонью по щеке Лхамы, обняла ее.
— Да что это вы, мама? Расстроились из-за того, что я отказалась пасти хозяйский скот?
— Да я об этом и не знаю, — ответила Гэрэл. — Значит, ты совсем с ними разругалась?
— Как же не разругаться, если сынок ихний мне проходу не дает? Что еще мне оставалось делать? — Лхама расплакалась и прильнула к свекрови.
— Мало нам горя, так еще этот непутевый навязался, — гладя Лхаму по голове, проговорила свекровь. — Был бы жив мой Жаворонок… Мне все кажется, что он жив, что скачет к нам из далеких краев. А сегодня, сердцем чую, что-то случилось с ним…
Под вечер Лхама пошла к родителям. Поговорили о том о сем, и вдруг Лхама сказала:
— Отец, давайте нашими двумя юртами откочуем от семьи Аюура.
— Еще что придумаешь? — хмыкнула мать. — Нечего нам указывать. Свое счастье упустила, так теперь хочешь и братьев с сестрами без куска хлеба оставить?
— Откочевать-то мы откочуем. Я об этом давно думаю, — сказал Дашдамба. — Только повременить надо, время сейчас неспокойное.
На том разговор и окончился. Когда Лхама рассказала об этом свекрови, та стала уговаривать невестку.
— Зря ты на них взъелась, дочка. Аил у них добродетельный. Да и не прожить нам без них. Пусть все остается, как было: ты паси скот, а я буду за их домом присматривать. Как-нибудь проживем.
Донров вернулся домой весь мокрый, он так замерз, что зуб на зуб не попадал.
— Ну, я им покажу, — сказал он, немного согревшись и придя в себя. — Завтра же отберу у старухи Гэрэл корову, а Лхама к нашему стаду пусть теперь не подходит. Посмотрим, что они запоют, когда им от голода подведет животы.
— Сам, что ли, будешь стадо пасти? — зло спросила Дуламхорло.
— И старика Дашдамбу с его старухой и их выродками хватит кормить, — не унимался Донров.
— Когда ты наконец человеком станешь? — обозлился Аюур. — Ты что, не слышал, что эти голодранцы с их Народной партией захватили Ургу? А от них чего хочешь ждать можно. Так что пока, сынок, попридержи язык. От этого всем нам только польза будет.
— Ну и что особенного, отец? По-твоему, перед этой чернью теперь пресмыкаться надо, раз какая-то Народная партия власть в Урге захватила?
— Да выслушай ты наконец отца, — пытаясь урезонить сына, вмешалась в разговор Дуламхорло.
— Уймись, Донров. Послушай старика, — сказал Аюур. — В такое время надо обдумывать каждое слово, каждый шаг. А то недолго и головы лишиться.
— Отец, а ты не боишься, что вместе с Народной партией вдруг объявится Жаворонок?
— Не объявится, — ухмыльнулся Аюур. — В свое время я кому надо вдвойне заплатил, чтоб его убрали с моего пути навсегда… — Аюур повернул молитвенный барабан.
Орхон по-прежнему нес свои воды. Почти каждый вечер из голубых распадков в верховьях реки доносился высокий женский голос, такой жалобный и печальный, что у аратов сердце щемило.
— Это невестка старой Гэрэл поет. Наверное, умом тронулась, бедняжка.
— Ведь росли вместе, любили друг друга.
— Говорят, Содном рассказывал, что Аюур бойда обобрал господина, а вину на Жаворонка свалил, потому что тот знал про его делишки. Многих Аюур подкупил, даже богдо, чтобы избавиться от Жаворонка. Вот какой негодяй, на все способен. Бывшие придворные Розового нойона говорят, что Батбаяр никогда не позарился бы на чужое добро.
— Видели, с каким ножом ходит Донров? С серебряным. А на ножнах выбиты знаки двенадцатилетнего круга; араты говорят, что Розовому нойону его подарил какой-то нойон из западных аймаков.
— Юрта у Аюура вдвое больше прежней, скот ухожен. Теперь только лежи да брюхо поглаживай. Где же справедливость?
— Где справедливость — неизвестно. А что бойда подлец — это точно, — говорили араты, прислушиваясь к песне.
— Бедняжка! Что же это она так тоскует?
Когда со мной был Торой-банди[82], Я шелк носила пестротканый. Но вот ушел мой Торой-банди, И не найти мне тряпки рваной. Нет, не замерз мой Торой-банди В горах холодных, в высях снежных, Нет, он не схвачен, Торой-банди, В краях далеких и безбрежных.Лхама пела и все смотрела на Хангайский перевал, мечтала, как ее Жаворонок взмоет над облаками и прилетит к ней.
Шли дни… Зима сменялась весной, лето — осенью. Далеко от дороги стоит Хоргой хурэмт, вокруг тайга, людей мало — глушь, но и сюда долетела, как эхо, прокатившееся меж скал, молва о событиях, которые произошли в стране.
Услышала о них и измученная одиночеством, тоскующая Лхама.
— Говорят, власть сменилась, — передавали один другому араты. — Появились люди, которых называют «бескосые из Народной партии». Они ратуют за свободу, культуру и науку. Забрали у богдо-гэгэна государственные печати пяти министерств, разогнали его правительство и установили свою власть. Возглавляет этих людей Сухэ-Батор, смелый, умный. Он хорошо разбирается и в законах, и в политике. Говорят, что надо собрать все силы воедино и вывести страну на уровень развитых государств. Он водит дружбу с красными из России, и они прислали большое войско. У Сухэ-Батора тоже большое войско, из бедняков.
«Может, и мой Жаворонок там, с ними?» — думала Лхама.
— Нойонов и лам свергли. Теперь у власти будут стоять люди ученые, знающие толк в политике. Так и должно быть.
— Говорят, у нойонов и тайджи отобрали все привилегии. Уравняли их с крепостными и податными аратами.
А вскоре прошел слух, что в хошунную канцелярию прислали из столицы соответствующую бумагу.
Одни араты радовались новым порядкам и охотно их обсуждали. Другие слышать о них не хотели. Третьи слушали, но помалкивали.
— Почему сменилась власть? Что происходит? — спрашивали друг друга люди.
— Эта Народная партия связалась с теми, кто в России скинул царя, и теперь у нас баламутит народ.
Ламы пустили слух, будто хамба-лама из Онгинского монастыря сказал своим хувракам, что дела, которые творит народная власть, самый что ни на есть тяжкий грех и что из-за бескосых будут гореть в огне не только те, что живут сейчас, но и их потомки. Бескосые посягают на бога и веру. Кто окажет им помощь, тот и в седьмом перерождении будет гореть на самом дне ада.
— Недавно ширэт лама, — шепотом передавали друг другу, — настоятель монастыря Эрдэнэ зуу ездил поклониться и преподнести богдо священное блюдо-даншик, а вернувшись, сказал: «Народная власть в Монголии — есть власть безродной черни так же, как народная власть в России есть власть безбожников и голодранцев. Она оскверняет закон божий, по которому должно жить людям на всей земле. Вступившего в Народную партию заставляют дать клятву, что он, если надо будет, убьет отца с матерью, жену и детей».
Лхама, услышав такое, принялась в страхе шептать молитву, а свекрови решила ничего не говорить, Гэрэл и без того не давали покоя мрачные мысли.
Дашдамба сказал со вздохом:
— Если на свете и есть что-то прочное, так это красный утес на Орхоне. А старую нашу власть давно пора было сменить. И маньчжуры, и наши нойоны осуждали невинных, дочиста разоряли людей…
Аюур молчал, только тихонько крутил хурд и прислушивался к его скрипу. Он уже мог ходить и как-то летним утром, встретив на окраине аила Дашдамбу, сказал:
— Давай побродим сегодня по каменным осыпям хребта Найман, Большого и Малого Баяна, а то жена моя уже несколько лет твердит: найди да найди ей вансэмбэру.
Дашдамба согласился. Они захватили бурдюк с кумысом и двинулись в путь. День выдался тихий, солнечный, в лесу пели птицы, куковала кукушка. Мелодично журчали ручейки под осыпями. Аюур и Дашдамба перешли гору Хоргой хурэмт, мыс Бодон, прошли узкую долину Баян, взобрались на осыпи Шара-булуна. Но цветка не нашли.
— Поскользнешься — шею свернешь, — проворчал бойда, улегся в тени скалы и стал потягивать из бурдюка кумыс, видно, пропала охота искать вансэмбэру. Зато Дашдамба карабкался на скалы, спускался с круч, пробирался сквозь заросли багульника и нашел-таки заветный цветок. Он вырос в густой траве и стоял нарядный, с раскидистыми листьями. Дашдамба позвал бойду.
— Не срывай! — закричал Аюур и, запыхавшись, подбежал к Дашдамбе. — Какая красотища, а? Как ты его нашел? Их должно быть два — он и она. — Аюур наклонился, чтобы погладить цветок, и спросил: — А много их здесь?
— Есть, наверное, только поискать придется. Сколько вам надо?
— Дашдамба, дорогой! Не срывай! Я просто хочу им полюбоваться. Говорят, надо поставить над ним шатер, чтобы небо не видело, совершить жертвоприношение. И лишь после этого сорвать. Иначе духи этих мест разгневаются, зальют землю дождем, засыплют градом, начнется наводнение, ударит гром, молнии засверкают. Недаром этот цветок называют цветком несчастья. Нельзя его срывать, — перейдя на шепот, проговорил Аюур. Лицо его потемнело, он прикрыл глаза, словно страшился каких-то тайных сил.
— Бойда! А как быть с Дуламхорло! Она ведь несколько лет просит этот цветок. Зачем же мы себя и лошадей мучили, если вернемся с пустыми руками?
— Не надо, Дашдамба! А то нас убьет громом. Да и вряд ли этот цветок поможет Дуламхорло. Она ведь заболела из-за лам Эрдэнэ зуу. Осенью напою ее травами, и выздоровеет. Только не проговорись, что мы его нашли! — Аюур сложил ладони, повернулся лицом к Суварган-хайрхану, видневшемуся вдали, и зашептал молитву. «Говорят, ради выгоды бойда пойдет на все. А тут почему-то сробел, цветок боится сорвать. Труслив стал, что ли? И почему он так боится грома? Даже трясется весь». Дашдамба решил подшутить над бойдой.
— Давайте сделаем так: я накрою цветок тэрликом, чтобы не видело небо, сорву его и поедем. Тогда гром наверняка убьет меня. — Сказав это, Дашдамба потянулся к цветку, но Аюур схватил его за руку.
— Дашдамба, дорогой! Не надо! Прошу тебя! — Лицо Аюура страдальчески сморщилось, он дрожал.
— Ну, тогда не будем своими руками срывать, а привяжем стебель к ноге собаки и дернем, говорят, так тоже можно. Правда, собаки у нас нет, но это не беда, привяжем к лошади.
— Не надо, Дашдамба! Как ты не поймешь?
Поспорив еще немного, старики сели в тени дерева и, потягивая из бурдюка кумыс, завели разговор. Аюур стал жаловаться на трудности жизни.
— Что же дальше-то будет? Не поймешь, что с властью творится. Недавно слышал в монастыре, что из столицы без конца идут указы в канцелярию джасы — развернуть работу в защиту классовых интересов народа, никаких привилегий нойонам и богачам. Как это понимать? Великие ламы предсказывали, что наша страна будет кормить всех нищих и голодранцев, так называемых пролетариев красной России. Неужели их предсказания сбудутся? — бойда с озабоченным видом посмотрел на Дашдамбу. — Не знаешь, кому верить. Пришла бумага, в ней сказано, что все: и нойоны, и чиновники, и крепостные должны нести воинскую повинность. Моего Донрова, конечно, сразу заберут в красные цирики. Пропадет он. Мало того, поговаривают, что начнется учет скота у лам и нойонов.
— Кто и когда собирается все это делать? — спросил Дашдамба.
— Скоро из столицы пришлют уполномоченных — чиновников. Пришла бумага, мол, готовьтесь принять. Из главной джасы велели выделить юрты. Во дворе поставили большую белую юрту с хольтроком. Видимо, вот-вот понаедут, напустят тумана, начнут все к рукам прибирать. — Аюур опасливо огляделся, прислушался.
Пролетели гуси, высидевшие птенцов в горах. Все так же заливисто пели птицы. Дашдамба понял, что Аюур хочет сказать ему что-то важное, но никак не решится. Бойда то и дело подливал батраку кумыса и наконец сказал дрогнувшим голосом:
— Время смутное, надо позаботиться о себе… Мы еще в прошлом году это надумали, да только не было случая поговорить с тобой. Ты послушай! — он ткнул Дашдамбу в бок. — Твоя дочь одна и мой сын тоже. Верно?
— Да, пожалуй, что так.
— А ведь между ними, кажется, что-то было.
— Нет, наша Лхама себе ничего не позволит.
— О чем ты толкуешь? Не первый год мой Донров за ней бегает. Она одна ему по душе. А мы по соседним аилам пустили бы слух, что они поженились. Тогда все наше добро можно будет записать на три дома. И чиновникам из Урги не к чему будет придраться. Что скажешь, Дашдамба? Ведь и тебе, и мне жить хочется.
— Что это значит — на три дома?
— Ну как же? Твой, мой. А остальное скажем, не наше, соседское.
— Не знаю, как и быть. Лхама невестка в другой семье, и свекровь не бросит. Они живут душа в душу.
— Пускай себе живут. Я тебе о другом толкую. Пустим только слух — «поженились», и все. А дальше пусть сами думают. — Аюур закашлялся, брызгая слюной.
— Я за Лхаму решать не могу, — ответил Дашдамба, а сам подумал: «Мало того что батрачкой сделали дочь, так теперь опозорить хотят на всю округу».
— Дашдамба, дорогой! Ты человек умный, с понятием. Зять твой и в самом деле совершил подлое дело. Подумать только! Господин ему так доверял, а он обобрал его, как только тот умер, все сундуки перерыл, деньги взял, ценности. Конечно, по молодости и оступиться можно. Из жалости к его матери я все сделал, чтобы его спасти и вымолить высочайшее помилование. Сколько денег на это потратил — не помогло. Чему быть, того не миновать. Такая, видно, судьба, — и Аюур зашептал молитву. Он хотел внушить Дашдамбе, что напрасно ждет Лхама возвращения мужа.
«Правда ли, что Батбаяр совершил преступление? Ведь он никогда не был жадным. Но власть давно сменилась, а он все не возвращается. Может, и в самом деле нет его в живых? Как измучились Лхама и его мать!»
— Уж очень вы торопитесь делить добро. Может, повременить, посмотреть, что будет? А, Аюур-гуай?
— Я давно интересуюсь этой новой народной властью. Слушаю, что о ней говорят люди. Ничего хорошего… Покойный господин приблизил меня к себе, ключи от казны доверил. Мне до сих пор завидуют, очернить хотят. Сплетников ведь много. Вот о чем я думаю, — тихо произнес Аюур, и на лице его отразилось страдание, смешанное со злобой. «Нажился за счет господского добра, набил полные погреба, а теперь боится, что новая власть его трясти начнет. Не спит, не ест — совсем отощал. Если взять на себя часть его имущества, неизвестно, чем это потом кончится».
— Долгие годы мы пользовались вашими милостями, и больше нам ничего не нужно. А взять на себя часть вашего имущества и скота мы не сможем, такая ноша для нас, неблагодарных, окажется непосильной, — помолчав, сказал Дашдамба и направился к дереву, где были привязаны лошади. За ним последовал Аюур. А в густой траве среди лесных соплеменников по-прежнему выделялся своим ярким нарядом прекрасный, величавый цветок вансэмбэру.
ЭПИЛОГ ГРОМ
Небо было обложено тучами, вот уже несколько дней не переставая лил дождь.
— Днем поутихнет, а к утренней и к вечерней дойке опять льет как из ведра. Что за погода? — говорили люди.
— Ламы предсказывают, что он будет лить шестьдесят дней. Все это кара, посланная небом за грехи Народной партии, так сказал хамба-лама, бедствий и напастей теперь не избежать.
Лхама и Гэрэл надели вывернутые мехом наружу дэлы, подоили коров и вернулись в свою плохонькую юрту. Под бросили хвороста в очаг, погрелись у огня, выпили простокваши и легли спать.
— В такой дождь у коров меньше молока. Как бы Дуламхорло не подумала, что мы его домой таскаем, сказала Гэрэл, набросив на ноги невестке еще волглый дэл.
— Им сейчас не до нас, мама. Аюур-гуай ходит мрачный, никого не замечает. Не знаю, что с ним случилось.
— Это верно, дочка, — сказала Гэрэл. — Вчера, когда ставили студить кипяченое молоко, Дуламхорло мне сказала, что из столицы понаедут какие-то лютые чиновники. Чего от них ждать — никто не знает. Велела, если начнут нас расспрашивать, отвечать, что мы ничего не знаем. Обещала к осени подарить теплый дэл. Неспроста это все. Сто лет ей жизни!
— Уж очень страшна эта народная власть. Аюур-гуай, как подвыпьет, как начнет ругать жену с сыном, так говорит: «Вот придут «бескосые» из красной партии, разграбят все наше добро, тогда, может, вы наконец угомонитесь».
— Наш бойда — человек добродетельный, — сказала Гэрэл. — Он во всех тонкостях разбирается. Не знаю, что там за партия, красная или еще какая-нибудь, но все говорят, что новая власть не признает бога и погубит и нас, и детей наших. Боюсь я этих безбожников. — Гэрэл зашептала молитву.
— Отец говорит: «Пусть приезжают. Нам они ничего плохого не сделают».
— Э-э, дочка, кто их знает. Вчера вот пришли из соседнего аила два старика, кумыса попить, так Аюур-гуай рассказал им, что краснопартийцы каждому встречному говорят «таван-орос»[83], хватают за руку и трясут что есть силы. После этого человека навсегда покидают счастье и достаток. Не знаю, что и делать. — Гэрэл снова зашептала молитву.
Дождь лил все сильнее. Залаяла собака, зачавкала грязь под копытами — кто-то подъехал к юрте бойды.
«И охота им под проливным дождем таскаться по чужим аилам», — подумала Лхама.
Через некоторое время в юрте Аюура заголосили, раздался грохот. «Что это? — удивилась Лхама. — У отца как будто бы все тихо, видно, спят».
Из юрты бойды кто-то выскочил, побежал к гостевой юрте. Донесся голос Аюура, приглушенный, встревоженный.
Лхаму разобрало любопытство. Она вскочила и начала одеваться.
— Что там случилось, мама?
— Не знаю. Я через дырку в кошме посмотрела: суетятся, лампу зажгли. Аюур говорит: «Не шумите, соседей разбудите». Видно, хотят что-то скрыть от нас, — прошептала свекровь. — Спи, дочка, спи. Незачем выходить под такой ливень, когда никто не зовет. — В голосе Гэрэл прозвучали необычные для нее решительные нотки.
В юрте Аюура шумели всю ночь. Взад и вперед носились какие-то всадники. Лхама ворочалась с боку на бок, в голову лезли всякие мысли. Задремала она лишь под утро, а как только забрезжил рассвет, встала и принялась толочь в ступе плитку чая.
— Лхама! Ты что так рано? — спросил незаметно вошедший в юрту Дашдамба.
— Папа! Не знаешь, что ночью случилось?
— Бог его знает. Вечером к бойде приехал лама, который сторожил его дом в монастыре, вот они и бегали всю ночь. Я встал, подошел тихонько к их юрте и услышал, как лама сказал: «Тише! Как бы соседи чего не заподозрили». Я и пошел обратно…
Дашдамба набил трубку, сел к очагу, задумался. Лхама видела, что отец о чем-то догадывается, но молчит, и ей стало досадно.
Когда совсем рассвело и солнце разогнало стелившийся по земле туман, у коновязи звякнула уздечка. Дашдамба и Лхама выглянули во двор через щель над притолокой. Донров торопливо седлал коня. Его дэл был подпоясан так, что верхняя часть свисала мешком, а полы задрались и плотно облегали бедра, — чтобы было удобнее сидеть в седле. На поясе висел серебряный нож с огнивом, которым Донров так любил щеголять.
Дуламхорло вцепилась в узду, не хотела отпускать сына.
— Ну куда ты поедешь? — причитала она, вытирая рукавом слезы. Но Донров вскочил в седло и рванул с места, едва не сбив мать с ног. Отъехав немного, вдруг повернул коня.
— Ну-ка, подай. Живо! — нетерпеливо крикнул он, указывая на кнут с толстым, длиною в полсажени кнутовищем из черного дерева.
— Ты что же и эту дубину с собой потащишь? — спросила Дуламхорло, но перечить сыну не решилась и подала кнут.
— Он мне пригодится больше, чем твои причитания, — ответил Донров, покачиваясь в седле, — видно, успел изрядно выпить для храбрости и, повесив на руку тяжелый кнут, поскакал в сторону Хангайского перевала.
«Что случилось с Донровом? Куда он помчался с самого утра, да еще пьяный? Нож нацепил, кнут свой взял — будто на войну собрался», — удивилась Лхама. Хотела выйти посмотреть, в какую сторону он направился, но отец ее удержал:
— Не ходи. — И задумался, попыхивая трубкой. Потом пробормотал: — Конь у меня старый, вряд ли догоню… — сорвал уздечку со стены и вышел.
Лхама недоумевала: Донров уехал, куда-то собрался отец. В юрте у бойды пусто. Ни самого хозяина, ни ламы, что приезжал ночью.
— Мама! Что же это творится? Выходит, этой ночью никто глаз не сомкнул, все прислушивались, друг за другом следили. Донров куда-то поскакал. Отец за ним.
— Не знаю! Может, едет к нам уполномоченный от этой ужасной Народной партии, или как там ее называют… Э-э, бедные, сто лет им жизни, — откликнулась Гэрэл и пошла споласкивать ведро из-под молока.
Вернулся из ночного брат Лхамы. Спрыгнул с коня, подбежал к сестре:
— Знаешь, что я видел?
— Что… где? — испуганно спросила Лхама.
— Собираю я под утро на опушке лошадей, вдруг вижу: по гребню Тахил-обо идут двое и ведут груженого быка. Может, думаю, это вы с отцом хворост везете? Но зачем тогда так далеко забрались? Подъехал ближе, смотрю, а это Аюур-гуай и еще какой-то человек — оба в суконных плащах. Навьючили на пегого хайнака два огромных желтых сундука и гонят в горы. Бойда-гуай как заметил меня, стал ругаться: «Ты что здесь делаешь, дьявольское отродье? Пошел прочь». Камнями стал кидать в меня. Пришлось удирать. Что это с ним? — спросил брат, тараща глаза.
— О боже! Что же это делается? Ты только молчи, мой мальчик. Никому не говори, что видел! — вздохнула Гэрэл.
Им и в голову не пришло, что Аюур вместе с ламой-сторожем, который привез «несчастливые вести», еще ночью выехали из аила и поднимаются на Хангайский хребет, чтобы спрятать там под скалой золото, серебро и другие ценности.
Прояснилось, дождь перестал, только северо-восточный край неба еще закрывали тучи. В тот день все в аиле ходили мрачные, испуганные.
После дождя воздух был напоен ароматом. Араты толпились у юрты, поставленной для уполномоченных народного правительства; судили да рядили.
— Одного из них я, кажется, видел где-то.
— Что это они без оружия?
— Да оно у них наверняка за пазухой спрятано.
— Посмотришь на них — простые веселые парни, и поговорить любят.
— Вот здорово, если они и в самом деле будут защищать интересы простого народа, как это у них в бумаге написано.
Среди аратов расхаживал лама из Онгинского монастыря, прислушивался к разговорам. К малому полудню уполномоченные пришли в юрту джасы, чтобы встретиться с чиновниками, которые пока представляли власть в хошуне. Были они одеты в дэлы с короткими рукавами и одинаковые защитного цвета фуражки; на пороге их встретил поклоном бэйсэ Дагвадоной в длинном черном хурэмте и шапке с жинсом. На правой половине юрты для уполномоченных расстелили мягкие голубые тюфяки, на столе расставили блюда с печеньем, политым желтым сахаром, сыр, чимар — шарики из ржаной муки, перемешанной с топленым маслом, в медном домбо — чай с молоком и маслом. По всему было видно, что к встрече готовились основательно. Бэйсэ подождал, пока уполномоченные усядутся, и заговорил:
— С большим нетерпением ожидали мы приезда в нашу хошунную канцелярию уполномоченных народного правительства, водворившего мир и покой на нашей многострадальной земле. Мы рады, что вы не утомились в дороге, видим в этом доброе предзнаменование и склоняемся перед вашими пожеланиями улучшить работу канцелярии хошуна. Соизвольте принять этот хадак. — Дагвадоной развернул хадак и поклонился. Чиновники всячески старались задобрить уполномоченных новой власти, словно просили у них снисхождения. Они дрожали от страха и никак не могли примириться с мыслью, что придется расставаться с насиженным теплым местечком, лишиться чинов и титулов. С каким удовольствием они расправились бы с этими выскочками. Даже бэйсэ Дагвадоной, сам выходец из простолюдинов, был полон горестных дум.
— Полученные из столицы указы мы старались по мере сил своих выполнять. Не соизволите ли вы разъяснить нам, какие еще обязанности будут на нас возложены? — спросил бэйсэ.
— Мы направлены сюда правительством, чтобы собрать лучших людей, готовых вести борьбу за народное дело, и организуем из них партийную ячейку вашего хошуна. Затем соберем аратов и проведем выборы в местные органы народной власти, которые и будут проводить в жизнь политику народного правительства. Думаем, вы окажете нам в этом деле помощь, — сказал один из уполномоченных. Лица у чиновников вытянулись, в юрте воцарилась мертвая тишина, но делать было нечего, и чиновники закивали головами.
С одного из уполномоченных Дагвадоной не сводил глаз, лицо его показалось бэйсэ очень знакомым, и он спросил:
— Извините, если я ошибся по глупости, но вы, случайно, не тот самый Батбаяр, который жил раньше в верховьях Орхона?
— Да, это я, сын Гэрэл.
Лица у всех вытянулись еще больше. «И в самом деле, Батбаяр, — думали одни. — Может, оно и к лучшему, по крайней мере, свой человек, земляк. Помилостливее будет». «Неужели это тот самый голодранец, батрак Аюура, который стал телохранителем хана? Разве его не казнили за кражу господского добра?» — думали другие.
— А я думаю, что-то уж очень знакомое лицо! Без косы вас не узнать.
— А я вас еще вчера узнал.
— С малых лет вы были везучим. Все такой же степенный, молодец. С детства умом отличались, — льстили чиновники.
Смурый задумчиво попыхивал трубкой.
— Слышал, что ваши живут в аиле Аюура бойды, в верховьях Орхона. Мать жива-здорова. Бойда больше не служит. Вы, наверное, домой собираетесь?
— Непременно поеду. По правде говоря, не дождусь этого дня.
— Конечно, конечно! Чему суждено сбыться, обязательно сбудется, — сказал бэйсэ. — А сопровождающих с собой возьмете?
«Намекает, что Аюур может встретить по-всякому», — подумал Батбаяр.
— Скажите, а долго продержится ваша народная власть, как вы думаете? — спросил один из чиновников.
— Сколько вам лет? — улыбнулся Батбаяр.
— Пятьдесят два.
— На ваш век, я уверен, ее хватит.
Все рассмеялись. Дагвадоной спросил второго уполномоченного, как его имя и откуда он родом.
— Мое имя Гэндэншарав. Родом я из Зун-Богдо, — ответил парень. — Был батраком у бэйсэ Цэмбэлшадава, потом боролся за установление народной власти… Сейчас назначен помощником уполномоченного народного правительства.
Закончив обсуждение дел, уполномоченные вышли из орго хошунной канцелярии. Никто не заметил, что лама, вертевшийся возле юрты, увидев Батбаяра, отпрянул и торопливо засеменил прочь.
— Да, это Жаворонок, бывший батрак бойды. Подумать только, уполномоченным правительства стал! Значит, это вранье, что он обворовал своего господина, когда тот умер, и за это его убило молнией! Кто пустил такой слух? — загалдели араты.
В горах Хангая и верховьях Орхона дожди не прекращались, но в долине Онги, на расстоянии чуть больше двух уртонов, было солнечно, жарко. Поблескивали золочеными навершиями храмы монастыря, доносились звуки дудок и труб, шумела на перекатах река Онги. Свежий ветер приятно холодил разгоряченное лицо Батбаяра.
Вечером, когда солнце стало клониться к горизонту, по долине проскакал какой-то человек с заводным конем и, подъехав к юрте уполномоченных, стоявшей чуть в стороне от хошунной канцелярии, спешился. Батбаяр сразу узнал его, бросился навстречу.
— Содном-гуай! — Они обнялись. Гэндэншарав удивленно смотрел на них.
— Таким ты и должен был вернуться. Я как только услышал, что ты приехал, сразу на коня и сюда… — Содном не мог сдержать слез. — Как-никак, десять лет вместе служили… Значит, прав я был, когда не верил слухам. Знал, что ты ни за что не позаришься на чужое добро, не то что этот большеголовый Аюур, мешок, набитый алчностью и корыстью. Ты уж прости меня за то, что до сих пор не съездил навестить твою семью… Войдя в юрту, Содном достал из-за пазухи бутылку молочной водки, разлил по пиалам. — Я не знаю чиновника, приехавшего вместе с тобой, но не сомневаюсь, что он — настоящий мужчина. Пейте! Сейчас поедем к нам. Собирайтесь! Моя юрта вверх по реке в пади Шурангат. Летом мы всегда там живем. Отсюда и пол-уртона не будет. И не заметите, как доедем. — Поговорив, решили, что Гэндэншарав останется в канцелярии, чтобы сразу же приступить к работе, а Батбаяр съездит к Содному, переночует у него, утром навестит родных и сразу же вернется.
— Неловко сейчас отлучаться надолго, — сказал Гэндэншарав. — Что подумают люди? Не успели представители народной власти появиться, как уже по гостям разъезжают.
— За дело основательно беретесь, молодцы! Только нелегко вам придется. Нойоны и тайджи просто так не расстанутся со своими крепостными, титулами и жинсами, — сказал Содном.
— Как здесь народ живет, что думает? — спросил Гэндэншарав.
— Простой люд, — крепостные и податные радуются, говорят: «Наконец освободились от шейной колодки», — ответил Содном. — Но обстановка сложная. Ходят слухи, что бэйсэ Цэмбэлшадав недавно нагрузил добром целый караван верблюдов и ушел за границу вместе с родными и писарями. Еще говорят, Гомбо бэйсэ беспробудно пьет. А как напьется — кричит: «Никто не имеет права лишать меня титула, пожалованного самим богдо…» Только закон, установленный по справедливости, никому не сломать. Народ вам поможет, не сомневайтесь. Ну, высокочтимый чиновник, пожалуйте на коня, — улыбаясь, сказал Содном Батбаяру и вскочил в седло.
После обильных дождей земля, напоенная влагой, покрылась зеленым шелковистым ковром. В один из ясных, солнечных дней на Хангайский перевал поднимались два всадника. Они все говорили, говорили и никак не могли наговориться.
— …До чего странно, может, оттого, что я Унгерна ненавидел, но когда я его схватил и он вывернулся у меня из рук, словно змея, оскалив зубы, мне показалось, что передо мной огромный затравленный волк… Что было дальше — не помню, — сказал Батбаяр, закуривая. — Когда очнулся — рядом стояли двое в белых халатах, щупали пульс и громко разговаривали. А может, мне только показалось, что громко. Дали выпить чего-то холодного, внутри хорошо-хорошо стало. Несколько суток провалялся в беспамятстве. Только потом узнал, что меня доставили в госпиталь Красной Армии в Модон холе. Барон стрелял в упор. Пуля застряла в груди. Русский врач сделал операцию, извлек пулю, и я стал быстро поправляться. Тумуржав каждый день меня навещал. Человек он — что надо — смелый, находчивый, умный… Настоящий мужчина. Когда я мог уже немного ходить, он пришел с переводчиком, и мы встретились во дворе. Поговорили, обнялись на прощание. У него в глазах стояли слезы. Да и у меня тоже. Тумуржав мне сказал:
— Намерения барона Унгерна были известны. Передо мной стояла задача — взять его живым, потому я и оказался в Монголии. Ты помог мне выполнить задание партии. Что тебе, подарить на память? Коня? Или еще что-нибудь? Говори, не стесняйся!
Я ответил, что мне ничего не нужно. Тогда Тумуржав попросил меня передать лично главкому Сухэ-Батору письмо. А подарил он мне вот что… — Батбаяр вынул из-за пазухи маленький браунинг. — Видишь, здесь мое имя выгравировано, — и он показал на русские буквы. — После отъезда Тумуржава я как будто осиротел. Полгода меня лечили. Когда выздоровел, отправили в Ургу…
— А со стариком и тем рябым охотником так больше и не встречался? — спросил Содном, подстегивая коня.
— Когда возвращался с севера, заезжал к Нэрэн-гуаю. Он как раз вернулся домой. После того как красные цирики погнали атамана Сухарева, Нэрэн-гуай у беляков целое стадо угнал, сдал в воинскую часть Красной Армии и приехал домой. Они со старухой думали, что меня убили во время строительства моста. А как обрадовались мне! Даже барана забили, угощенье устроили. Надо как-нибудь их навестить. А бедняга Чулудай… Он вез донесение, нарвался на белобандитов. Стал отстреливаться. Многих уложил, и сам погиб. Настоящий был герой! Никогда его не забуду!
Пестрели вокруг цветы, благоухал багульник, изредка на опушку выскакивали косули, и вспугнутые лошади прижимали уши.
— А встретился ты в Урге со служанкой цэцэн-хана? — смеясь, спросил Содном.
— Нет, не удалось. Я побежал к ее брату, но соседи сказали, что они уехали в худон. Везло мне в жизни на хороших людей. И среди них красавица Даваху. Интересно, какому счастливцу она достанется в жены? — Батбаяр весело рассмеялся.
— Хотелось бы знать, чем теперь занимается шанзотба да-лама, — сказал Содном, поудобнее усаживаясь в седле.
— Время все поставило на свои места, — ответил Батбаяр. — Когда войска Сухэ-Батора вступили в Ургу, да-лама шанзотба заперся у себя в доме, надеясь при первой же возможности выбраться из города, но все тело у него покрылось шишками. Люди говорят: в наказание за грехи.
«Совсем недавно власть богдыхана казалась вечной и неизменной. Тех, кто против нее выступает, ждала суровая кара. И вдруг она исчезла с лица земли, будто пораженная громом…» — подумав об этом, Содном улыбнулся.
— Слушай, Батбаяр, что за человек главком Сухэ-Батор?
— Я видел его всего раз, когда передавал письмо Тумуржава. Дел у него невпроворот. Оно и понятно, ведь только-только установили народную власть. И все же он нашел время поговорить со мной. Пригласил меня в кабинет, усадил, выслушал. Светлая у него голова, большой жизненный опыт. Любит его народ, уважает.
— О чем же вы с ним говорили?
— Я сказал, что хочу побыстрее вернуться домой. Он прочел письмо, помолчал и говорит:
— Вы боролись за установление народной власти, имеете заслуги. Но если послать вас на родину прямо сейчас, вряд ли ваш бойда испугается и кинется топиться в Орхон. Давайте сделаем так — послужите в армии, потом мы направим вас на краткосрочные политкурсы. А после этого поедете домой. Вам необходимо вступить в партию, и чем скорее, тем лучше. Ведь это партия направляет нас по верному пути.
— Я сделал все, как он сказал… Он прямой, справедливый, поэтому ему верят, идут за ним. А как он уважает, как любит людей!
— Больше, чем покойный господин?
— Господин, хоть и боролся за независимость, но прежде всего защищал интересы имущего класса. А наш Сухэ-Батор горой стоит за простой народ, за нас с вами, — с гордостью сказал Батбаяр.
За разговором не заметили, как поднялись на Хангайский перевал. Легкий ветер дул им в лицо, внизу в голубой дымке расстилалась Орхонская долина. Казалось, родная земля раскрыла объятья своему сыну. Батбаяр невольно вздохнул. Он спрыгнул с коня, положил еще один камень в обон. С высоты Орхон казался неширокой голубой лентой, которая, извиваясь, тянется через всю долину, за Орхоном вздымался в небо Суварган-хайрхан. Он словно встречал Батбаяра, держа на ладонях голубой хадак. При виде родных мест защемило сердце.
— Отсюда до твоего дома рукой подать. Ну что, поехали? — спросил Содном, видя волнение Батбаяра.
Днем в верховьях Орхона полил дождь, выпал град. Но вскоре отгремел гром, и небо прояснилось. Прискакал вороной Донрова, один, без хозяина. Он подошел к коновязи, где были привязаны кобылицы, и встал, пугливо подрагивая. Аюур, как только увидел лошадь со сбитым набок седлом, сразу все понял.
— Ой, беда! — вскрикнул бойда. «Значит, не одолел он того, кого подстерегал на Хангайском перевале», — мелькнула мысль. Батраки растерянно смотрели на хозяина, не понимая, о какой беде он говорит.
Лама, который вместе с Аюуром только что возвратился с гор, оседлал коня и поскакал в сторону перевала. Дашдамбы все не было, и Лхама, Гэрэл и Ханда стали расспрашивать Аюура и Дуламхорло, куда он мог деться, но те молчали.
Вернулся Дашдамба лишь к вечеру. Он ехал с ургой на плече, будто с пастбища, где присматривал за яловым скотом.
— Я поскакал за Донровом, стараясь не упустить его из виду, — рассказывал старик. — За Хангайским перевалом попал под проливной дождь с градом. Пришлось укрыться под скалой. Тут-то я его и потерял. Видно, этот вислоносый лама и в самом деле привез из монастыря плохие вести, раз они так забегали.
Дашдамба догадался, что произошло, но по опыту знал, что не стоит лишний раз тревожить дочь и ее свекровь. У каждого в тот вечер в голове роились тысячи мыслей, догадок, предположений, печаль сменяла радость, надежда — отчаянье. Весь вечер и ночь в аиле стояла тишина, батраки молча делали свое дело.
Но в юрте Аюура все было по-другому.
— Может, он укрылся от дождя под деревом и упустил коня? — пробормотал старик и стал вытаскивать из сундука вещи, которые намеревался спрятать в горах.
— Ох, не знаю, что и думать, — ответила Дуламхорло. — Донров у нас неповоротливый. Пока он развернулся со своим кнутом, Батбаяр мог его пристрелить, он наверняка с оружием.
— Тогда этот голодранец был бы уже здесь.
— Ты же говорил, что его казнили. Как же он вдруг живым оказался?
— Я дал вдвое-втрое больше того, что обычно дают этим законникам. Рябой коротышка из Управления делами шанзотбы, мастер отправлять на тот свет, сказал мне: «Не знаю, как вы встретитесь после следующего перерождения. Но в этой жизни ты его никогда не увидишь, поверь мне, клянусь перед бурханом». Он вынул из-за пазухи амулет — фигурку Манжушри, показал мне и взял за клятву еще рулон чесучи. Не может быть, чтобы Жаворонок вернулся. Наш гэцул, видно, обознался, — пробормотал Аюур, поворачивая молитвенный барабан.
На следующее утро Лхама выгнала овец на пастбище. День выдался ясный, припекало солнце. Женщина по привычке гнала отару к огромному утесу Байц-хада, хотя он был далеко от аила. Как только закончилась утренняя дойка, к хашану бойды примчался на взмыленном коне лама-сторож. В руках он держал какой-то бесформенный комок, похожий на кусок базальта.
— О, боже. Впервые я собственными глазами видел, как небо карает человека, — закричал лама, соскочив с коня.
— Что случилось? Да говори же ты, — в один голос закричали Аюур и Дуламхорло, выбежав из юрты.
— Донрова громом поразило на южном склоне перевала Хамран-даваа. О, небо! — запричитал лама и сделал несколько шагов им навстречу. — Только это и осталось… Посмотрите! Нож свернуло в кольцо. Пуговицы от дэла, подвеска для огнива, чашечка трубки, шпилька для ее чистки — все сплавилось в один кусок, — и он протянул бойде кусок металла. Аюур отпрянул, закричал.
— Не может быть, — и застыл на месте, не в силах шевельнуться.
— Эх!.. Я как предчувствовала, что добром это не кончится, — заголосила Дуламхорло и, чтобы не упасть, ухватилась за буслюр. «Осиротели, бедняжки! Как же мне их утешить, чем помочь горю?» — сокрушалась старая Гэрэл и кинулась к хозяйке.
— Вчера над Хангаем прошла сильная гроза, — рассказывал лама. — Молнии то и дело сверкали. Какой-то арат пас там скот и видел, как по склону во весь опор скачет всадник, и вдруг возле него вспыхнуло синее пламя… И сразу же грянул гром, задрожала земля, всадник исчез, а от того места, где он был, вверх поднялся черный дым. Лошадь уцелела, вскочила и галопом помчалась в сторону перевала…
Лхама не знала, что случилось в доме Аюура, но на душе у нее было тревожно. Она не заметила, как подъехала к утесу. Пустила коня пастись, а сама села в тени скалы.
— Почему я пригоняю отару именно сюда? — Лхама посмотрела на вершину утеса, над которой порхали синицы. — А куда же мне ее пригонять? Здесь Жаворонок впервые обнял меня. Кажется, будто это было вчера, — прошептала Лхама и тяжело вздохнула. — Скажи, утес. Неужели Батбаяр больше никогда не обнимет, не приласкает меня? Это правда, скажи?
Но утес молчал. Вокруг было тихо, лишь щебетали синицы. Лхама снова вздохнула и с тоской в глазах запела любимую песню своих земляков:
Нет, не замерз мой Торой-банди В горах холодных, в высях снежных…Батбаяр, скакавший в это время по живописной зеленой долине, прислушался.
— Содном-гуай! Да это же Лхама поет! — крикнул он и галопом помчался в ту сторону, откуда доносилась песня.
Лхама, заметив Батбаяра, вскрикнула и побежала ему навстречу.
— Недаром говорят, что любовь сильнее всех испытаний, — прошептал Содном, и на глаза навернулись слезы радости и умиления.
Батбаяр повернулся к нему.
— Ох! Как же это прекрасно… Содном-гуай! Мы с Лхамой всегда пригоняли скот к этому утесу. И сейчас встретились здесь. Здорово, да? — не веря своему счастью, Батбаяр крепко сжимал руки Лхамы.
— Ну что, Лхама? Успокоилось наконец твое сердечко? А здесь и в самом деле очень красиво! Так это и есть та самая священная скала, которая покровительствует вам? — Содном засмеялся. Лхаму душили слезы, она не могла вымолвить ни слова, лишь судорожно обнимала Батбаяра, словно боялась снова его потерять.
Старая Гэрэл наломала хвороста, чтобы сварить чай для Аюура и Дуламхорло, и, набрав охапку сучьев, уже собралась идти в юрту, когда вдруг заметила троих всадников, которые гнали к аилу отару овец.
— Мама! Батбаяр вернулся! — крикнула Лхама, подъезжая к хотону. Гэрэл выронила хворост из рук и бросилась к сыну. Батбаяр соскочил с седла, опустился на колени и обнял ноги матери. В это мгновение, казалось, весь мир для них исчез.
— Сыночек! Значит, не зря я верила, что ты вернешься, — приговаривала Гэрэл, обнимая и целуя сына.
Вокруг них собрались все жители аила.
— Смилуйся над нами, у нас и так большое горе, — всхлипнула Дуламхорло, упав в ноги Батбаяру.
«Ничто нам не поможет — ни мольбы, ни поклоны», — думал Аюур бойда. Его била дрожь, от страха и отчаяния он ничего не видел.
Батбаяр поднял Дуламхорло.
— Успокойтесь. В том, что с нами случилось, виноваты не вы одни…
— А по чьей же вине ты живой испытал муки ада? — гневно спросил Содном, пылая ненавистью к бойде.
— Содном-аха! Главным источником зла была старая власть. Но мы свергли ее и установили нашу, подлинно народную, — спокойно ответил Батбаяр и пошел к юрте.
Ханда, утирая рукавом рот, сказала:
— Счастье-то какое! Сынок наш приехал. Сейчас сварим в большом котле чай!
Все собрались в маленькой юрте. Старая Гэрэл ласково смотрела на сына и улыбалась.
— Косу остриг, совсем другой стал, — сказала она Лхаме и обратилась к Батбаяру: — Кто же тебя спас?
— Наверняка та самая революция, которой нас вечно пугал Аюур бойда, — ответил Дашдамба.
— Верно, отец, — подтвердил Батбаяр.
— Как думаешь рассчитаться с Аюуром за свои страдания? — спросил Содном.
Жаворонок задумался.
— Не стану я ему мстить. Его сама природа уже покарала.
— Верно, сынок. Ничего нет для мужчины позорнее, чем толкнуть ближнего, когда он на краю пропасти, — сказал Дашдамба.
Ханда авгай разлила по пиалам чай, поставила тарелку с пенками.
— А верно говорят, будто вы хватаете каждого встречного за руку, говорите «таван-орос», и после этого судьба от него отворачивается?
Все дружно рассмеялись.
— Нет, мама! Мы не вредим людям. Да и красные из России тоже. Наоборот, они всегда готовы защитить слабого, помочь ему. Они единственные наши друзья, — ответил Батбаяр.
— Это ты от чистого сердца говоришь? Или по долгу службы? — спросил Содном.
— От чистого сердца. Я сам убедился в этом.
Раскрасневшаяся от смущения и радости Лхама готовила чай, еду, рассеянно прислушиваясь к разговору. Наконец она не утерпела:
— Батбаяр! Ты не уедешь сегодня?
«Милая моя, сколько пришлось тебе пережить, как долго страдала ты в одиночестве».
— Мне нужно вернуться на службу. Но я возьму вас с собой.
В маленькой юрте Батбаяра было многолюдно, шумно и весело, а большая белоснежная восьмистенка бойды всего в нескольких шагах от нее казалась заброшенной, нежилой, будто ее выставили на продажу. «Вот она расплата за содеянные грехи, за то, что хотел невинного загубить», — дрожа от страха, думал Аюур, прислушиваясь, не идут ли за ним. Он сидел, не двигаясь, мертвенно-бледный, будто и его поразило громом.
ОБЪЯСНЕНИЕ МОНГОЛЬСКИХ СЛОВ И НАЗВАНИЙ
Авхай — обращение к женщине, старшей по возрасту.
Аил — двор, хозяйство; кочевой поселок из нескольких юрт.
Аймак — крупная административно-хозяйственная единица (область) как в старой, так и в современной Монголии.
Айрак — хмельной напиток из перебродившего молока.
Амбань — маньчжурский наместник в дореволюционной Монголии. В начале XX века такие наместники были в Да хурээ, Кобдо и Улясутае.
Арат — скотовод, трудящийся.
Аргал — высушенный солнцем навоз, собирается и используется как топливо.
«Арслан» («Лев») — спортивный титул в монгольской национальной борьбе.
Арул — сушеный творог.
Архи — водка, молочная водка.
Асарт — просторный шатер, вмещающий сто и более человек.
Аха — старший брат; вежливое обращение к старшему.
Ахайтан — обращение к знатной женщине.
Баган — опорный столб юрты.
Багш (багша) — учитель, наставник.
Бандза — орудие пытки.
Банди — монастырский послушник; низшее дамское звание.
Бантан — болтушка из муки. Средство от похмелья.
Бодисатва (буддийск.) — существо, достигшее высшего нравственного совершенства.
Бодог — национальное монгольское блюдо, неразделенная туша козла (или тарбагана), которую зажаривают снаружи на костре, а изнутри запекают с помощью раскаленных камней.
Бозы (бууз) — крупные пельмени, приготовленные на пару.
Бойда — казначей; управляющий монастырским хозяйством (джасой).
Борцок — печенье, приготовленное в кипящем бараньем жире.
Бурхан — бог, Будда; отлитая из меди, фарфора или глины статуэтка, изображающая Будду.
Буслюр — нижний веревочный пояс вокруг юрты.
Бэйлэ — одна из низших степеней княжеского достоинства.
Бэйсэ — феодальный титул в старой Монголии.
Вансэмбэру — редкий цветок, растущий в горах, преимущественно попарно. Использовался тибетской медициной. Среди алтайского населения бытовала легенда о целительных свойствах цветка при болезни легких, костей, желез. Стремясь предотвратить массовый сбор растения, ламы-лекари распространяли слух, что всякого, кто сорвет вансэмбэру, поразит гром.
Гавжи — ученое звание ламаистского богослова.
Гамины — китайские милитаристы, солдаты маньчжурской армии, оккупировавшей Монголию в 1919 году.
Ганжир — дословно: полный сокровищ, наполненный молитвами. Навершие, башенка на крыше буддийского храма. Деталь национальной культовой архитектуры.
«Ганжуур» — огромная буддийская энциклопедия канонического характера (110 томов); переведена на монгольский язык в XVII веке.
Гэцул — звание ламаистского богослова.
Гоби (от монг. говь — безводное место) — название пустынных и полупустынных территорий на юге и юго-востоке Монголии и прилегающих к ней районов Китая. Преимущественно равнины с отдельными всхолмлениями на высоте 900—1200 м над уровнем моря с резко континентальным климатом, малым количеством осадков и редкой растительностью. В оазисах — скотоводство.
Гуай — почтенный, уважаемый. Вежливое обращение к старшему по возрасту или по положению.
Гун — феодальный титул в старой Монголии, третья ступень княжеского достоинства.
Гутулы — высокие сапоги на войлочной подошве (часто с загнутыми вверх мысами).
Гэлэн — принявший обет молодой монах.
Да-лама (великий лама) — одно из высших званий в ламаистской иерархии.
Джаса — монастырское хозяйство.
Джигнур — посуда для приготовления бозов (см.); кастрюля.
Дзасак — вассальный князь; управитель хошуна (см.), находившийся в подчинении у аймачного хана.
Дзолик — черт.
Дзуд — бескормица вследствие обледенения (после оттепели) почвы с подножным кормом для скота; массовый падеж скота по этой причине.
Домбо — высокий конусообразный сосуд; кувшин, чайник.
Дунгане — наиболее многочисленная группа китайской народности хуэй. Говорят на северном диалекте китайского языка, исповедуют ислам. Часть дунган после поражения Дунганского восстания 1862—1877 гг. поселилась в России, на территориях нынешней Киргизии и Казахстана.
Дэл — халат на теплой подкладке, национальная одежда монголов.
Ерол — благопожелание, одна из древних форм устного поэтического творчества монголов.
Жинс — шарик из стекла или драгоценного камня на головном уборе. Цвет шарика указывал на ранг чиновника или степень княжеского достоинства.
Зайсан — должностное лицо, низшее чиновничье звание.
Залан — должностное звание чиновника в старой Монголии.
«Зан» («Слон») — спортивный титул в монгольской национальной борьбе.
Занги — воинское должностное звание.
Зэл — веревочная привязь для жеребят.
Лан — китайская денежная единица. В старой Монголии лан был равен 37,5 г серебра.
Ловон — звание ламаистского богослова.
Лусы — злые духи, драконы, водяные, лешие.
Магтаал — ода, восхваление, древняя форма устного поэтического творчества монголов.
Майдар (санскритск. майтрея) — согласно буддийским верованиям, будда грядущего мирового порядка.
Майхан — шатер.
Мангас — многоголовое кровожадное чудовище, древнейший персонаж монгольского фольклора.
Марамба — лекарь в ламаистском монастыре.
Мэйрэн — должностное лицо.
Надом — традиционный летний праздник у монголов, включающий национальные виды спортивных состязаний — борьбу, скачки, стрельбу из лука.
Найманы — название одного из монгольских племен.
Нойон — феодал, господин; представитель сословной знати в дореволюционной Монголии.
Обон (обо) — насыпь из камней, земли, веток на перекрестке дорог или на перевале; сооружалась в старину в честь духа гор или дороги. Путники, чтобы задобрить духа, бросали в обон камень, монетку, цветную ленточку и проч.
Ойраты — западные монголы, объединившиеся в середине XVII века в Джунгарское ханство.
Орго — юрта высокопоставленного лица, ставка, управление.
Орхимжи — широкая полоса красной или желтой материи, принадлежность одеяния ламы. Красный и желтый — священные цвета у ламаистов.
Отго — султан из павлиньих перьев.
Очир — перун, символ могущества; культовый предмет ламаистского религиозного ритуала.
Пайтан — начальник охраны, воинская должность.
Рашан (аршан) — чистый источник, священная вода.
Сайд — министр.
Сахалт — мера длины. Расстояние между двумя соседними хотонами.
Сойвон — прислужник высокопоставленного духовного лица.
Сомон — административно-территориальная единица (район) в старой и новой Монголии.
Субурган — надгробная пирамида.
Сутры — беседы Будды с учениками о нравственности и философии. Книга наставлений. Издание в виде отдельных, несброшюрованных листов.
Тайджи — феодально-сословный титул в дореволюционной Монголии.
Тойн лама — лама знатного происхождения.
Тоно — верхний круг в каркасе юрты, дымовое отверстие.
Торгуты — монгольская народность, проживающая в среднем и нижнем течении реки Булган, а также во Внутренней Монголии (на территории Китая).
Торцок — монгольская шапка с низкой тульей.
Тэрлик — легкий летний халат без подкладки.
Унзад — уставщик, канонарх; звание регента в ламаистском богослужении.
Урга, укрюк — длинный шест с ременной петлей-арканом для ловли лошадей.
Ургачин — объездчик лошадей.
Ургон — перегонная почтовая станция; расстояние между двумя станциями (30—40 км).
Хадак — узкая полоска ткани — голубой, белой, красной; подносится в развернутом виде в знак уважения, дружбы.
Хайлан — религиозное собрание.
Хайнак — помесь коровы и яка.
Хамба — высокопоставленный монастырский иерарх.
Хамбарам — ругательство, проклятие.
Хангай — горный массив в северной части Монголии; нарицательное название гористой, поросшей лесом местности с прохладным влажным климатом.
Хантаз — длиннополая безрукавка.
Хатан — госпожа, княгиня, ханша.
Хоймор — почетное место в северной части юрты, у стены, расположенной напротив двери.
Хольтрок — накладное украшение богатой юрты в виде креста, обычно красного цвета.
Хормог — продукт из овечьего молока, напоминающий кефир.
Хотон — стойбище; группа юрт, поставленных в круг.
Хошун — княжеский удел; военно-административная и территориальная единица в старой Монголии.
Хубилган — «живой бог», воплощение божества; звание ламаистского иерарха.
Хуврак — ученик ламы, послушник буддийской школы (дацана).
Худон — степной район, провинция, захолустье.
Хур — струнный смычковый инструмент.
Хурал — собрание, совет, съезд.
Хурд — ритуальный молитвенный барабан.
Хурут — отжатый, спрессованный творог.
Хуурч (хурчи) — сказитель, исполнитель народных песен.
Хурэмт — куртка, которую носят поверх дэла.
Хурээ — монастырь.
Хутгуши — шарики, скатанные из муки и масла.
Хутухта — высшее духовное звание в ламаистской иерархии.
Хучир — четырехструнный смычковый инструмент, распространен в Монголии и Бурятии.
Хушууры — пирожки с мясом, жаренные в кипящем масле.
Цаган-сар (белый месяц) — первый весенний месяц, с которого начинается лунный год по старому монгольскому календарю.
Цам — головной убор высокопоставленного ламы.
Цам — праздник в монастыре. Религиозная мистерия, участники которой в массивных масках, изображающих божества, духов, различных животных, мифических чудовищ, исполняют ритуальные танцы.
Цирики — воины, вооруженные всадники. Бойцы монгольской Народно-революционной армии, изгнавшие в 1921 году с территории Монголии китайских милитаристов и белогвардейские банды.
Цэн — серебряная монета.
Шабинары — крепостные араты, закрепленные за ламаистским монастырем. Освобождались от уплаты податей хошунным властям, но должны были содержать хутухту и его монастырь.
Шагай — сустав бараньей ноги; национальная игра, напоминающая русские бабки.
Шанз — струнный музыкальный инструмент.
Шанзотба — одно из высших званий в ламаистской иерархии.
Шахай — орудие пытки.
Шушма — простак, профан.
Эгчэ — старшая сестра; вежливое обращение к женщине, старшей по возрасту или по положению.
Янчан — монета, в начале XX века имевшая хождение в ряде стран Дальнего Востока, в том числе и в Монголии.
Примечания
1
Ом мани падме хум — дословно: жемчужина в цветке лотоса, то есть Будда. Начало буддийской молитвы.
(обратно)2
Хан-тенгри, свирепый сахиус — в монгольских шаманских текстах упоминается как верховное небесное божество.
(обратно)3
Хан Хурмаста (Хормусто) — в ламаистской космологии — главный среди тридцати трех тенгри, небесных богов, пребывающих на вершине мифической горы Сумеру. В сказочно-эпической мифологии — владыка верхнего мира.
(обратно)4
Майдар (санскритск. майтрея) — в буддийской мифологии будда грядущего мирового порядка.
(обратно)5
В отличие от бритоголовых лам светские феодалы носили косу — знак лояльности по отношению к завоевателям-маньчжурам.
(обратно)6
В дореволюционной Монголии среди простых аратов насаждалось и поддерживалось убеждение, что молитвы князей непременно доходят до богов и способны защитить весь народ от несчастий.
(обратно)7
Тавнан — зять князя; в данном случае фаворит, официально делящий ложе с его вдовой, но не имеющий наследственных прав.
(обратно)8
Присвоил жинс и хурэмт. — Имеются в виду титул и должность.
(обратно)9
В начале XX в. территория Внешней Монголии была разделена на 4 аймака: Цэцэнханский, Тушетуханский, Дзасактуханский, Сайннойонханский и ряд более мелких удельных владений.
(обратно)10
Да хурээ (дословно: Великий монастырь) — старое название Улан-Батора.
(обратно)11
Богдо-гэгэн — глава ламаистской церкви в дореволюционной Монголии.
(обратно)12
Угедей — один из сыновей Чингисхана. Рассказывают, что старший его брат, застав однажды Угедея пьяным, приказал «не пить более трех чарок в день». Однако застав его пьяным и в следующий раз, старший брат в гневе воскликнул: «Где же ваше обещание не пить более трех чарок?» В ответ Угедей показал чашу размером с котел и сказал: «Пока даже трех осилить не могу».
(обратно)13
Да Шэнху — одна из самых крупных в Монголии китайских торговых и банкирских фирм. Почти все монгольские хошуны были ее должниками.
(обратно)14
Монгольский локоть равен 32 см.
(обратно)15
В монгольских четках через каждые двадцать семь бусин вставлена одна большая, в данном случае коралловая.
(обратно)16
Серое орго — служебная юрта, присутственное место, правление.
(обратно)17
Отправить в Шамбхалу — то есть отправить в мифическую страну, на тот свет.
(обратно)18
«Море притч» («Улгэрийн далай») — один из разделов энциклопедии «Ганжуур», сборник сутр, бесед Будды с учениками о нравственности и философии.
(обратно)19
Эрдэнэ зуу — первый ламаистский монастырь в Халхе, построен в 1586 г. на реке Орхон крупным феодалом Абатай-ханом (1534—1586).
(обратно)20
Брызнуть вслед отъезжающему молоком (часто при помощи ритуальной ложки с девятью отверстиями) — старинный монгольский обычай, исполнение которого означало пожелание доброго пути и счастливого возвращения.
(обратно)21
Ритуальные раковины — большие «певучие» раковины, служили в монастырях своеобразным колоколом, сзывающим лам на молитву.
(обратно)22
Хуа — китайская игра, в которой участвуют пальцы рук двоих играющих.
(обратно)23
«Золотой блеск» («Алтан гэрэл») — известная сутра, переведенная на монгольский язык в конце XVI в.
(обратно)24
Бантан — мучной суп-болтушка, в Монголии часто употребляется как средство от похмелья.
(обратно)25
Галдан-бошокту-хан («Благословенный правитель») — правитель Джунгарского ханства (1671—1697), политическая и военная деятельность которого имела целью образование объединенного независимого монгольского феодально-теократического государства. Выиграв войну 1688 г. с халхаскими князьями, Галдан стал опасным противником Цинской империи, с которой вел многолетнюю борьбу, добиваясь нормальных торговых и дипломатических отношений В 1696 г. предводительствуемые им ойраты потерпели крупное поражение от численно превосходившей и хорошо вооруженной маньчжурской армии.
(обратно)26
Вход в монгольской юрте обращен к югу, расставленные в противоположной от входа северной части юрты изображения богов (бурханы) также должны смотреть на юг.
(обратно)27
Намсрай — бог богатства и благополучия.
(обратно)28
«Синяя книга» («Хох судар») — знаменитое историческое повествование выдающегося монгольского романиста, поэта и историка В. Инжанаша (1837—1892).
(обратно)29
Сайн-нойон-хану принадлежали крепостные и податные араты, кочевавшие в пределах территории четырех сомонов.
(обратно)30
Пить чью-то простоквашу — состоять на службе, в работниках.
(обратно)31
Голбилэг (начало XIX в.) — известный художник и резчик по дереву.
(обратно)32
Дуйдултын Равджа (1803—1856) — выдающийся монгольский поэт. Писал на монгольском и тибетском языках. Ребенком был возведен в высший буддийский духовный сан хутухты.
(обратно)33
Ван Ринчиндорж был казнен маньчжурами в 1754 г. по обвинению в измене.
(обратно)34
Ландарамы — ругательство.
(обратно)35
В год синего дракона — то есть в 1904 г.
(обратно)36
Нанхиад — дословно: страна на юге.
(обратно)37
Джи Бин — Япония.
(обратно)38
Гуйлан — Корея.
(обратно)39
Управление делами Внешней Монголии, находившееся в Да хурээ.
(обратно)40
Ханддорж цинь-ван — до установления автономии в Халхе — командующий войсками Тушэтуханского аймака. Министр иностранных дел в правительстве Джебзундамбы-хутухты. Возглавлял правительственные делегации в Петербург в августе — октябре 1911 г и январе — марте 1913 г.
(обратно)41
Максаржав Сандагдоржийн — видный политический и военный деятель дореволюционной Монголии, получил почетный титул хатан-батор за взятие крепости Кобдо (1912). Замечательный полководец и соратник Сухэ-Батора во время Народной революции, один из организаторов монгольской Народной армии. Военный министр в правительстве МНР (1924).
(обратно)42
Хайсан (Хайсан гун) — один из редакторов газеты «Монголын сонин бичик» («Монгольские новости»), выходившей в Харбине с 1909 г., активный сторонник независимости Монголии. Был участником монгольской правительственной делегации в Петербург в 1911 г. В автономной Монголии занимал пост товарища министра внутренних дел.
(обратно)43
Имеются в виду тушэту-хан Дашням, цэцэн-хан Наваннэрэн, дзасакту-хан Содномрабдан и сайн-нойон-хан Намнансурэн, стоявшие в 1911 г. во главе четырех аймаков, на которые была поделена Внешняя Монголия.
(обратно)44
Маймачэн (ныне Алтан-Булак) — монгольский город на торговом тракте из России в Халху. Расположен напротив русского города Кяхты.
(обратно)45
Здесь имеется в виду глава духовного ведомства при богдо-гэгэне.
(обратно)46
Новый курс политики цинских правителей в Монголии ставил целью «колонизацию монгольских земель, увеличение в Монголии численности маньчжурских войск, отстранение монгольских феодалов от управления страной и усиление маньчжурской администрации и экономического господства китайского торгово-ростовщического капитала». См.: «История Монгольской Народной Республики». М., Наука, 1983, с. 259.
(обратно)47
Ван Чингунжав (Цэнгунжав) — командующий отрядом халхаских войск в составе цинской армии, поднял восстание против цинских властей, ушел в Халху, вступил в контакт с антиманьчжурскими силами. Восстание получило широкий отклик во всей Монголии. В 1757 г. Чингунжав был схвачен и казнен в Пекине вместе с сыновьями.
(обратно)48
Ханддорж пересек северную границу — то есть во главе делегации с полномочиями от богдо-гэгэна и четырех аймачных ханов отправился из Да хурээ в Россию для переговоров о предоставлении Монголии финансовой и военной помощи. Делегация прибыла в Петербург 2 (15) августа 1911 г.
(обратно)49
До революции и свержения династии Цин в Китае оставались считанные дни.
(обратно)50
Имеется в виду факт присылки в Ургу осенью 1911 г. правительством царской России батальона пехоты и нескольких сотен казаков для охраны русского консульства.
(обратно)51
Против беженцев с юга — то есть против Токтохо тайджи, выходца из Внутренней Монголии, создавшего повстанческий отряд и вступившего в борьбу с маньчжурскими властями. С 1900 по 1910 год повстанцы провели десятки сражений против регулярных китайских войск.
(обратно)52
Имеется в виду антиманьчжурское восстание аратов под руководством Токтохо тайджи.
(обратно)53
Церемония восшествия на ханский престол главы ламаистской церкви богдо-гэгэна, получившего титул «многими возведенного», состоялась в Урге, в монастыре Дзун хурээ 16 декабря 1911 г.
(обратно)54
Из южных хошунов прибудут нойоны и чиновники. — Автор имеет в виду развитие национально-освободительного движения во Внутренней Монголии. О своем желании добровольно присоединиться к вновь созданному монгольскому государству заявили 35 из 49 хошунов Внутренней Монголии. В начале 1912 г. в Ургу (Да хурээ) поступили многочисленные петиции о присоединении. Антиманьчжурское движение активно поддерживалось правительством богдо-гэгэна.
(обратно)55
К юрте уважаемого лица полагалось подъезжать тихо.
(обратно)56
Маньчжурский амбань в Кобдо, имевший в своем распоряжении многочисленный гарнизон, большие запасы продовольствия и боеприпасов, отказался признать новую власть в Халхе и занял оборонительные позиции, которые удерживал до 6 августа 1912 г.
(обратно)57
Дамдинсурэн — видный монгольский военачальник, сподвижник Максаржава по осаде и взятию крепости Кобдо. Получил почетный титул манлай-батор. Умер в 1920 г. в оккупированной китайскими милитаристами Урге.
(обратно)58
Барга — область на территории Северо-Восточного Китая, в которой проживало монгольское племя баргутов.
(обратно)59
Джалханза-хутухта — один из самых влиятельных ламаистских иерархов в предреволюционной Монголии.
(обратно)60
Заяын-гэгэн — ламаистский иерарх, хубилган.
(обратно)61
Указом правительства богдо-гэгэна почетные звания хатан-батор и манлай-батор были соответственно присвоены полководцам Максаржаву и Дамдинсурэну за взятие крепости Кобдо в 1912 г.
(обратно)62
Имеется в виду Кяхтинская тройственная конференция (осень 1914 — май 1915), в которой приняли участие Россия, Китай и Монголия.
(обратно)63
Бавгай — медведь.
(обратно)64
Тумур — в переводе на монгольский язык означает «железо»
(обратно)65
Орос-хятад — русско-китайский.
(обратно)66
Лан — денежная единица в старой Монголии.
(обратно)67
Здесь имеется в виду участие России в первой мировой войне.
(обратно)68
Подписано 25 мая 1915 г.
(обратно)69
Цаган сар — белый месяц, праздник Нового года по буддийскому календарю.
(обратно)70
Имеется в виду нефть.
(обратно)71
Малый полдень — 10 часов утра.
(обратно)72
«В феврале 1918 года советское правительство сообщило правительству богдо-гэгэна о том, что советская Россия навсегда порвала с политикой, проводившейся русскими капиталистами в Монголии. Советское правительство отказалось от всех старых кабальных договоров, навязанных царизмом Монголии, аннулировало долги Монголии по займам царской России, признало неотъемлемое право монгольского народа на независимость и объявило о своей готовности установить равноправные отношения». См.: Советско-монгольские отношения (1921—1974 гг.). Документы и материалы, т. I. М., Изд-во Международные отношения, 1975.
(обратно)73
Шахай — орудие пытки.
(обратно)74
Желтая скала — место казней.
(обратно)75
Гандан — монастырь в Урге.
(обратно)76
Белый месяц — название монгольского Нового года.
(обратно)77
Чжан Цзолинь — китайский милитарист, глава прояпонской мукденской клики.
(обратно)78
Имеется в виду древнеиндийская легенда о войне воронов и сов.
(обратно)79
Сайн — хорошо, муу — плохо.
(обратно)80
1921 год.
(обратно)81
Имеется в виду ламаистский обычай, по которому знатный больной откупался от злых духов жизнью другого человека.
(обратно)82
Торой-банди — отважный народный заступник, дерзкий бунтарь, о котором в начале XX в. было сложено много песен. Перевод В. Лунина.
(обратно)83
Таван-орос (дословно: пять русских) — искаженное слово товарищ.
(обратно)



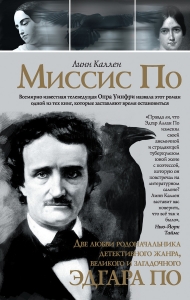
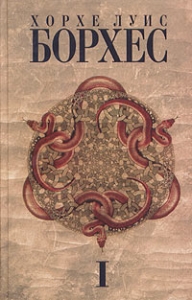



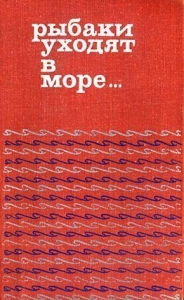
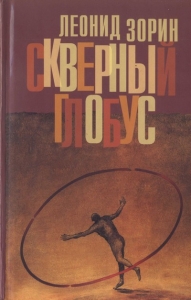

Комментарии к книге «Гром», Жамбын Пурэв
Всего 0 комментариев