Пер Лагерквист Избранное
В. Неустроев Художник-Мыслитель
Я хотел света,
но горел один в темноте.
П. Лагерквист
Пер Лагерквист–широко пригнанный классик шведской литературы XX века. Творчество этого выдающегося художника сопоставимо с искусством таких всемирно известных его соотечественников, как Август Стриндберг, Сельма Лагерлёф, Ингмар Бергман. Наследие Лагерквиста разносторонне: лирика, «малая проза», драматургия и даже публицистика писателя давно уже стали хрестоматийными у него на родине. Переведенные более чем на тридцать языков произведения писателя завоевали мировую славу. В нашей стране его отдельные повести, новеллы и стихи издавались на русском, эстонском, литовском и латышском языках. Однако, учитывая значение Лагерквиста в развитии скандинавских литератур, весомость его вклада в мировую культуру, этого, конечно, недостаточно. И вот – новая встреча с Лагерквистом: в настоящем томе, помимо произведений, уже издававшихся у нас, публикуются впервые наиболее значительные повести на легендарно-исторические сюжеты – «Варавва» и «Сивилла», а также ряд рассказов.
Проза Лагерквиста насыщена глубоким жизненным содержанием. Воспроизводя нередко сюжеты из давних эпох, она постоянно обращена к современности.
Интерес к «вечным» проблемам бытия – добру и злу, жизни и смерти – сочетается у Лагерквиста со стремлением осмыслить события и характеры исторически. Цементирующим началом служит творческое «я» писателя, умеющего в универсальном мировом процессе найти нечто особое, «свое», присущее каждой данной эпохе, обладающего безошибочным чувством истории. Лагерквист – художник-реалист. Под его пером в нерасторжимом единстве предстают и грандиозные картины мира, и пронизанные теплым чувством или негодованием «жизнеописания» обычных людей. При всем своеобразии его таланта Лагерквист выступил и развивался как писатель, характерный для своей эпохи, – это проявилось в формах повествования, в характере философских обобщений и, наконец, в стилистике с ее потоком сознания. Роднит Лагерквиста с его современниками – западными писателями – и трагическое ощущение одиночества личности, явившееся результатом кризиса буржуазного сознания.
Философские мотивы у Лагерквиста–не выражение какой-либо системы или доктрины. Они порождены желанием писателя проникнуть в «тайны» жизни, постигнуть ее закономерности, исторические и психологические. Здесь он сродни Достоевскому, которого высоко ценил и считал непревзойденным художником-психологом. Сближает их и резкое неприятие собственнической среды, бунт против нее и напряженный интерес к личности, к человеческим страданиям. В мифологических эпопеях Лагерквист близок Томасу Манну. Шведский писатель, как и автор «Иосифа и его братьев», широко использует предание и миф для решения волнующих этических проблем, вопроса о назначении человека, для истолкования определенных исторических ситуаций современности. Однако в отличие от Т. Манна, подчеркивавшего в своем герое деятельное, «прометеевское» начало, Лагерквист останавливается на рассмотрении проблемы веры и безверия, отношения человека к понятию бога (постановка этой проблемы сближает его произведения с фильмами И. Бергмана). В мифологической прозе Лагерквиста подобная коллизия часто становится центральной. Здесь писатель как бы «проигрывает» различные варианты возможных решений. Но при этом шведская критика ( в частности, К. Хенмарк) отмечала, что в центре внимания Лагерквиста всегда находится человек, что бог у Лагерквиста, по сути, также «воплощает возможности, скрытые в человеке».
Феномен мастерства и самой личности Пера Лагерквиста часто оказывался нелегким для его исследователей и биографов. Как и Стриндберг, писатель поражал, казалось бы, взаимоисключающими тенденциями, проявляющимися в его мировоззрении и творчестве. Острый в своей резкой, «экспрессионистской» критике разгула реакции, империалистической войны, расизма, он подчас предстает «незащищенным», пессимистически оценивает ближайшие перспективы общественного развития, борьбы против окружающего «хаоса», мещанского равнодушия; объективный и правдивый в художественной картине мира и трагедии личности, глубоко верящий в человека, в конечную победу добра над злом, он нередко продолжает сохранять скептицизм в отношении любых политических теорий, возможностей социальных преобразований. В эпиграф нами вынесены слова из стихотворения Лагерквиста, и это не только метафора. Писатель и в самом деле часто не видел вокруг те реальные силы, которые вели активную борьбу за прогресс, строили новый мир. Одиночество порождало отчаяние, страх, приближало к несколько отвлеченному восприятию окружающего. Но нередко писатель, как и его лирический герой, бывал также и солдатом, «бодрствующим на передней линии окопов» или, говоря словами Ибсена, на «аванпостах человечества».
Пер Фабиан Лагерквист (1891 –1974) прошел долгий и сложный жизненный и творческий путь. Родился он в Векшё, в семье железнодорожного служащего. Среда, окружавшая его, была набожной, мещански ограниченной. Уже с детских лет проявилось в нем горячее желание вырваться в другой мир. В юношеские годы Лагерквист, студент-искусствовед Упсальского университета, а затем начинающий поэт и публицист, сотрудник радикальной прессы, смело порывает с мещанским окружением и религией. Пребывание за границей – в Дании, Италии и особенно во Франции – позволило молодому литератору непосредственно познакомиться с современным европейским искусством. Правда, с модными течениями в литературе он встречался еще на родине, и они его не удовлетворяли. Гораздо более плодотворными ему представлялись традиционные формы, хотя и тогда он свободно отходил от них, если этого требовал его художественный замысел.
Уже на раннем этапе своего творческого пути, в 10-е и 20-е годы, Лагерквист, пожалуй, наиболее остро по сравнению с другими шведскими писателями выразил антимилитаристские настроения, связанные с первой мировой войной. В лирике, «стихотворениях в прозе» (сборники «Страх», «Хаос»), в новеллистических циклах («Железо и люди» и «Злые сказки») и драмах («Тайна неба», «Невидимый» и др.) писатель представляет своего героя в резком конфликте со средой, которую называет «инертной» и «рыхлой». Стилевое разнообразие предстает здесь в широком диапазоне – от вдохновенных лирических картин и мотивов (часто связанных с пантеистическим восприятием природы), тонких психологических сцен до кричащего гротеска и сатиры.
В эту пору наиболее близок Лагерквисту был экспрессионизм, остро выразивший ощущение кризиса буржуазной системы, вызванного первой мировой войной. В Скандинавии эстетика экспрессионизма была предвосхищена А. Стриндбергом, шведским поэтом В. Шёбергом, норвежским художником Э. Мунком. В их духе и Лагерквист «изображение» заменяет «выражением», «криком души», преувеличенно резким «плакатным» рисунком. В гиперболе и гротеске Лагерквисту казалось возможным наиболее доходчиво показать хаос жизни, нервную напряженность ее ритма, высказать стихийный протест против войны.
Философская повесть «Вечная улыбка» (1920) как бы открывала собою типичную для Лагерквиста проблематику и форму выражения: поиски смысла бытия, богоборческая настроенность, уверенность в победе добрых начал над злыми. В цикле «Злые сказки» (1924), сложном в жанровом отношении, Лагерквист рисует картинки из жизни, передает впечатления, настроения, размышления. Одна из главных для этих новелл тема страха призвана выразить абсурдность бытия, мир предстает своего рода «царством мертвых». Жизненно-бытовая и мифологически-сказочная основы как бы наслаиваются друг на друга. Действительность, ситуации и герои изображаются то реально, то фантастически в форме сказки, причем в том и другом случае иногда присутствуют элементы сатиры. Общий настрой «Злых сказок» порожден романтической тоской по утраченным иллюзиям, по надежде и уверенности, каковые, по мнению писателя, были присущи идеализируемому им прошлому. Здесь Лагерквист–продолжатель традиции С. Лагерлёф. В зарисовке «Отец и я», а затем в новеллах и миниатюрах «Приключение», «В подвале», «Юхан Спаситель», «Любовь и смерть», «Злой ангел» и др. автор варьирует обстоятельства и характеры, высказывает теплое чувство благодарности животворящей природе, земле, к которой можно припасть щекой и заплакать от радости. Решительно осуждает он всяческое проявление зла, жестокости, ненависти. Сказка «Священные кости» продолжает антимилитаристские мотивы новеллистического сборника «Железо и люди», повествовавшего в основном о событиях первой мировой войны, и намечает переход к более поздним произведениям, которые будут носить характер предупреждения,– к философским повестям, пьесам и стихам.
Автобиографическая повесть «В мире гость» (1925) считается произведением ключевым для понимания творчества Лагерквиста. В ней в зародыше содержатся многие из тем, которые впоследствии будут разработаны писателем на более высоком уровне. К «вечным» основам бытия Лагерквист подходит здесь достаточно исторически – конкретным содержанием наполняются проблемы отцов и детей, жизни и смерти, веры в бога и отрицания церковной догматики. Но «В мире гость» – это и «роман воспитания». История юного Андерса, его жизнь в условиях смоландской провинции – на железнодорожной станции и на хуторе, где было «все всегда неизменно» (за исключением разве смены времен года да смерти кого-либо из стариков),– строится как история воспитания воли и характера, мужающего в духовных исканиях и назревающем конфликте со средой. В «родовую» основу бытия вторгается ощущение нового, необходимости перемен. Юноша наконец «понял, как бессвязна, как беспорядочна жизнь», «как неполно и неподлинно живут люди». Вырваться на волю для него означает не просто освободиться от пут религии, но и научиться «смотреть правде в глаза», обрести чувство ответственности. Конечно, протест, зреющий в сознании юноши,– это еще инстинктивный протест. Недаром автор сравнивает его с «неразгоревшимся костром». Поняв, что «небеса пусты», Андерс, отринувший веру в бога в разных формах (и официально-церковной, и сектантской), признает пока один принцип – «брать жизнь, как она есть». Что это значит, должна была, видимо, показать вторая часть повести (остающаяся пока до сих пор в рукописи). Но по существу ответы на поставленные здесь вопросы Лагерквист даст на новых этапах своего творческого пути и в других произведениях.
Общественная обстановка на родине писателя и в мире в 30–40-е гг.– приход к власти фашизма в Германии, вторая мировая война, тот факт, что многие важнейшие проблемы остались неразрешенными в западном мире и в послевоенное время, угроза атомной катастрофы – все это, естественно, не могло не волновать честного художника-гуманиста. Лагерквист. подобно таким писателям, своим соотечественникам, как Карин Бойе и Стиг Дагерман, остро ощущает реальную опасность фашизма, угрожавшего всей цивилизации, человечеству. Проза, драматургия и лирика Лагерквиста этих лет носят подчеркнуто антифашистский характер. И выразить свой протест против тоталитарной власти, против жестокостей войны писатель пытается в формах политического памфлета и фарсовых картин, напоминающих экспрессионистские «маски», страстно и обнаженно, «криком души» выражающие свою боль – и одновременно пародийные, грубо натуралистические. Писатель ищет здесь новые средства художественной выразительности, которые соответствовали бы новым задачам.
Наиболее показательны в этом отношении повести, разрабатывающие условно-исторические сюжеты, но не утрачивающие в аллегорическом повествовании социальной определенности. Исторические картины здесь пластичны, история реально ощутима. Подобно своим соотечественникам и современникам, таким мастерам в жанре исторического романа, как Артур Лундквист, Вильхельм Муберг, Эйвин Юнсон, Лагерквист показывает себя превосходным знатоком исторических фактов и научных источников. И все же писателя, естественно, интересовали не столько факты прошлого сами по себе, сколько проявление в них определенных закономерностей или нравственных понятий, которые играют роль и в нашей современности. Изображаемым событиям придается условный характер, и потому их можно спроецировать в другую эпоху. Так в повествовании Лагерквиста раздвигаются рамки времени и пространства. Впоследствии подобного рода художественный прием будет использован Лагерквистом и в мифологической прозе.
Действие повести-дилогии «Палач» (1933), написанной под впечатлением фашистского переворота в Германии, развертывается в двух временных пластах – в глубоком средневековье и в современности. Страшное ремесло палача выступает олицетворением деспотизма. Но оказывается, даже самые мрачные страницы далекого прошлого бледнеют перед тем злом, каким предстает рожденный двадцатым веком фашизм. Зловещий образ Палача приобретает в связи с этим остро злободневный, обобщающий характер. В первой части события происходят в маленьком кабачке, посетители которого с омерзением и страхом взирают на Палача, сидящего поодаль в своем кроваво-пурпурном одеянии. И хотя маска таинственности, которой прикрывается зло, вызывает у людей своеобразный интерес, оно не перестает восприниматься ими как источник несчастий и страданий. Злу противостоит великая и чудодейственная сила любви и красоты, вселяющая надежду. Сам же Палач вызывает не только омерзение, но и жалость.
Во второй части повести действие переносится в современный ресторан – с дикими джазовыми ритмами, с широко распространившимся дурманом нацистской пропаганды. А для завсегдатаев ресторана – уже «большая честь» видеть в своей среде Палача, теперь он покоряет их не ореолом таинственности, не «вневременным взглядом», а тем, что он – «шикарен», олицетворяет «новый порядок», смысл которого укладывается в короткой, но выразительной формуле необходимости войны. Угар шовинизма и расизма выражается через известные клише нацистской демагогии, прославляющей убийства и враждебной всякому созиданию, ополчающейся на духовные ценности. Сам Палач, называющий себя «осужденным» служить низменным инстинктам, сеять смерть, признает, что именно теперь настал «его час».
Своеобразной интродукцией к поздним, «библейским» повестям Лагерквиста звучит в «Палаче» мотив поисков и отрицания бога. Кажется, что притязания Палача, этого демона зла, на роль «спасителя» рода человеческого немыслимы и смехотворны. И все же трагизм положения состоит в том, что мессия «с палаческим клеймом на челе» становится не только мрачным символом, но и реальной угрозой всему человечеству. Однако неистребим гуманизм писателя, верящего в животворную силу разума, в победу добра. В финале повести снова возникает тема чудодейственной силы любви, осмысляемая как тема надежды на будущее, тема очищения от скверны.
Картины в повести чрезвычайно выпуклы, кинематографичны. Пьеса, написанная впоследствии писателем на тот же сюжет, с успехом шла на сцене европейских театров.
Роман «Карлик» (1944) Лагерквист строит в несколько ином ключе. В событиях, происходящих в Италии в эпоху Возрождения, очевиден намек на современность. Носителями зла являются жестокие правители. Под стать своенравному герцогу и Карлик, придворный шут. Повествование в романе ведется от его лица. И это, видимо, не случайно: не старый годами, но умудренный «опытом тысячелетий» своей «древней расы», Карлик уверен, что ему принадлежит «право первородства», и претендует на незыблемость изрекаемых им плоских истин и поучений. Открыто и шаржированно копируя поступки и мнения господ, скрывающих свое истинное «я», фигляр демонстрирует двойственность их характера.
Внешне похожий на ребенка, он, по существу, полная ему противоположность – ведь Карлик с глубокими морщинами на лице не может быть непосредственным, наивным, не способен играть. Слово «игра» Карлик распространяет на многие виды человеческой деятельности: астрологи играют в свои звезды, герцог – в свои дела и войну, подобно тому как дети играют в свои куклы. Карлик Пикколино полагает, что только он один живет «всерьез». Но способный к философскому размышлению и довольно острой критике придворной жизни, он не в состоянии «затронуть нечто сокровенное», ему не дано, как, например, выдающемуся художнику Бернардо, охватить «единое великое целое». Он льстит себя надеждой, что внушает другим страх, хотя люди, в сущности, пугаются самих себя – ведь в каждом из них сидит «свой карлик», олицетворяющий их уродство, пусть по ним этого и не видно.
В романе, как это вообще свойственно Лагерквисту, светит луч надежды. Носителем мотива оптимистической веры, созидания является Бернардо, в образе которого угадываются черты великого художника эпохи – Леонардо да Винчи. Человек действия, маэстро – живописец, скульптор, естествоиспытатель, медик, инженер – никогда не довольствуется достигнутым, считает свои произведения незаконченными, ибо велика в нем тяга к совершенству. Творения его гениальны, и то, что он считает их незавершенными, как бы указывает на беспредельность возможностей человека. Символом стремления к «недостижимому» стало и его грандиозное полотно «Тайная вечеря». Создатель новой по тем временам военной техники, Бернардо, противник войны, не хочет иметь ничего общего с ее применением.
Олицетворением войны, бессмысленной и кровопролитной, предстают герцог, военные, придворные, видящие в ней практическое воплощение своих коварных замыслов. Ярым сторонником войны является и Карлик. Убийства и разрушения он воспринимает как восторженный зритель, для которого происходящее – увлекательный спектакль, противостоящий будничной жизни, «тоскливому времени». Более того, он сам рвется в бой, он жаждет убивать. Но в устах Карлика прославление войны объективно приобретает характер гротеска, иронии. И именно извращенный – глазами Карлика – взгляд на ужасы войны позволяет оттенить весь их трагизм. Трагизм мира, подчиненного стихии войны, подчеркивается тем, что в этом хаосе не оказывается места для искренней юной любви – самоотверженной, идущей на гибель, но не сдающейся. Воплощением такого самозабвенного чувства явилась любовь Джованни и Анджелики – Лагерквистовых Ромео и Джульетты, любовь, загубленная в самом зародыше при активном участии Карлика.
Широко распространенному в кругах буржуазной интеллигенции пессимистическому, экзистенциалистскому взгляду на жизнь как на бесконечную цепь страданий, заканчивающихся смертью, писатель противопоставляет идею «требовательного» отношения к жизни, идею величия любви, которая, по мысли автора, делает человека свободным. Гуманизм Лагерквиста носит воинствующий характер. Мало показать зло, считает писатель, его нужно покарать. Ведь Карлик-убийца, заключенный в темницу, уверен в скором освобождении, поскольку без его услуг не сможет обойтись власть, основанная на насилии. «Карлик» – своего рода роман-предупреждение, призыв к бдительности.
Свой символ веры Лагерквист настойчиво повторяет и в публицистике 30–40-х гг., и в «сокровенных» дневниковых записях. Один из примеров этого – новелла-эссе «Освобожденный человек» (1939), выражающая веру писателя в свободную мысль человечества. Решительно отвергая христианскую идею страдания, которое, по Лагерквисту, «ничего не создает и не одерживает никаких побед», писатель решительно устремляется в своих размышлениях к идее борьбы. Показательны его изречения: «Разбивайся насмерть, но не умирай... страдай, но побеждай страдание... снова и снова поднимай свою ношу и неси дальше, во все времена». Вера в безграничные возможности человека порождает у Лагерквиста надежду на осуществление высоких идеалов. Подобного рода идеи найдут воплощение и в поздней художественной прозе писателя.
В послевоенном творчестве Лагерквиста форма легендарно-исторического иносказания существенно изменяется. Мифологический роман во многом отвечал новым задачам современности. Как и Т. Манн, Лагерквист гуманизирует миф, делает его орудием борьбы за духовные ценности. Углубление философских основ романа этого типа резче оттеняло и особенности, присущие искусству повествования в XX веке,– планетарность масштабов не мешает глубокому анализу психологии героев, как бы подчеркивая, что судьбы эпох и континентов пересекаются в сердце и разуме каждого человека. Жизненную достоверность прозе Лагерквиста придает прекрасное знание писателем быта и нравов народов Ближнего Востока, топографии местности, почерпнутое им во время путешествия в Палестину.
Лагерквиста и теперь продолжают волновать «извечные» темы борьбы добра и зла, бога и безверия. Как и в фильмах Ингмара Бергмана (например, «Причастие»), бог для него перестал быть олицетворением любви, сострадания, добра. «Молчание» бога–свидетельство не только «иеговистской» суровости, жестокосердия. Он мертв, не существует. Подобного рода суждение распространяется им и на Христа, который оказывается примером отчужденности и некоммуникабельности.
На первый взгляд может показаться, что концепцию одинокого и неприкаянного «вечного скитальца» Лагерквист разрабатывает в духе учения С. Киркегора. Однако по существу здесь обнаруживается полемика с ним и с современным экзистенциализмом. Констатируя, что трагические условия существования в буржуазном обществе приводят к страху и отчуждению, шведский писатель решительно отказывается принять пессимистические теории безысходности и смирения. Его герои – натуры активные, мыслящие, ищущие свое место в жизни.
Обращаясь к легендам поздней античности и раннего христианства, Лагерквист, конечно, переосмысливает их. Показательно и понимание писателем актуальности философско-исторического повествования: чем глубже уходил он в прошлое, детальнее изучал материалы хроник, легенд, тем шире оказывались возможности постановки проблем общечеловеческих, проблем настоящего и будущего.
И прежде, начиная с периода становления его как поэта, отмеченного печатью «стриндберговского» экспрессионизма, до политических повестей, стиль писателя характеризовался стремлением к аллегории. Теперь символ как бы конденсирует определенное мифологическое мышление. Любимым жанром становится повесть-миф, притча, развернутая метафора. «Способ художественной символизации» у Лагерквиста шведская критика называет «символическим реализмом». Отметим, кстати, что обращение к евангельским мифам отнюдь не следует считать свидетельством религиозности. Скорее, наоборот. Обращение к мифу в поисках определенных параллелей, уподоблений используется современными западными писателями, философами, социологами с самыми разными целями: например, показать, что история человечества, изображенная в библейской или греческой мифологии, обычно начинается с «актов неповиновения».
Проблемы богоборчества и тираноборчества поставлены в повести «Варавва» (1950) в широком диапазоне: они связаны с судьбами почти всех основных персонажей, и мотивы «неповиновения» раскрыты далеко не однозначно. Антитеза «Варавва – Иисус» использовалась многими скандинавскими художниками и мыслителями, начиная от морально-философского эссе Г. Брандеса «Сказание об Иисусе» и кончая антифашистской драматургией Н. Грига («Варавва»), К. Мунка («Идеалист»), романом писателя-коммуниста X. Кирка «Сын гнева». Расходясь в трактовке отдельных сторон в характере персонажей, они в принципе были едины в несогласии с идеей покорности, утверждали – каждый по-своему – необходимость активной борьбы за истину. Лагерквист полноправно входит в эту традицию. Принципиально отрицая зло, он ищет пути обретения добра, контактов между людьми.
В центре внимания писателя – внутренний мир Вараввы, ступени формирования его сознания, поиски истины, причины решительного отказа принять на веру догматы христианства. Образ Вараввы пластичен, нарисован ярко, убедительно. Человек, привыкший к жизни трудной и опасной, он привлекает своей непосредственностью и искренностью. Он, порою сам того не желая, всегда оказывается в гуще событий, в силу чего становится преступником поневоле.
Во время дискуссии, развернувшейся в 1951 году по поводу концепции повести, многие шведские критики справедливо усматривали в ней проекцию в современность, но расходились в оценке Вараввы: одни считали его человеком несчастным, разуверившимся во всем, другие видели в нем духовно богатую личность. Показательно высказывание поэта Эрика Линдегрена: его заинтересовала в повести не проблема веры и безверия, он увидел ее актуальность в первом эпизоде, когда «Варавва спокойно стоит и смотрит, как распинают вместо него Христа»; для Линдегрена этот эпизод ассоциируется с шведским нейтралитетом в мировой войне.
Действие повести развертывается на двух уровнях: бытовом, реальном, лишенном мистического ореола, и символическом, представляющем события частью мирового, вечного конфликта. Особенно выразительны персонажи социального «дна» – сам Варавва и близкие ему люди: раб Саак, женщина по прозвищу Заячья Губа, каторжники. Нарисованы они то драматично, то с мрачным юмором.
Однако Лагерквисту не свойственны упрощенные решения. Сложно и неоднозначно ставятся проблемы зла, бессердечия или милосердия, абстрактной любви к ближнему, проповедуемой «сыном человеческим», характеры героев раскрываются нередко в сложнейшей гамме чувств и поступков. Искренняя, хотя и слепая вера Саака и Заячьей Губы, этой несчастной «падшей» женщины, в светлое царство добра и любви не является только чем-то отвлеченным. Велико их желание «накормить голодных», «найти справедливость». Несколько наивные мечты подобного рода были основанием самоотверженности, позволявшей безоглядно идти на гибель.
Сложнее и колоритнее по сравнению с ними дан в повести образ рыжебородого Вараввы, видящего в Иисусе «простого смертного». Он не верит не только в идею искупления страданием и смертью, но и в христианскую утопию. Его отчужденность порождает одиночество, замкнутость в самом себе. Это «замкнутое» состояние автор передает особым лаконизмом стиля.
Путь развития, возмужания Вараввы был нелегким. Суровые обстоятельства жизни закаляют его. На каторге он встречается с Сааком, спорит с ним, вступает на путь поисков новой веры – «веры через отрицание...» Лагерквист отдает предпочтение не Сааку, с его бездумной и исступленной (свойственной ранним христианам) верой, которая способна оказаться по ту сторону добра и зла, а именно Варавве – человеку скептического, ищущего ума. В связи с этим понятно замечание известного шведского писателя Ларса Юлленстена, одного из участников упоминавшейся выше дискуссии, о том, что «миллион Сааков – это опасность» и потому необходимо было «отпустить Варавву».
Варавва по-своему реагирует на поступки людей разных сословий и убеждений. Его встречи с Христом и Сааком, разбойниками, горожанами, с Лазарем, воскресшим из мертвых, выявляют грани его сознания и поведения, позволяют многое в нем увидеть. Варавва постоянно оказывается перед выбором – выбором путей, решений, в которых раскрываются особенности его недюжинной натуры, проявляется сила духа. Страстно желавший прозреть, наполнить свою жизнь новым содержанием, он все же решительно отказывается от идеи смирения и страдания, покорности. В нем, бывшем разбойнике, оказывается больше человечности, чем во многих «правоверных» христианах, способных твердить о любви к ближнему, но беззастенчиво творящих преступления или хладнокровно взирающих на них. Выразительно показан в повести финал трагической судьбы Вараввы, начинающего осознавать свое родство с людьми, к которым прежде он относился с неприязнью. Схваченный во время пожара в Риме и обвиненный в поджоге, не сломленный, идет он на казнь. И с надеждой вглядывается он во тьму, пытаясь разглядеть в ней еще не обретенную истину.
«Варавва» Лагерквиста был переведен на многие языки мира и имел огромный успех. Через год, в 1951 году, писатель был награжден Нобелевской премией.
Повесть «Сивилла» тесно связана с «Вараввой» идейно и отчасти сюжетно, хотя форма их существенно различна. Они как бы дополняют друг друга, подобно таким произведениям, как «Палач» и «Карлик». Сивилла, жрица храма Аполлона в Дельфах, и Агасфер – центральные персонажи повести – предстают как носители разных мировоззрений и этических норм поведения. Объединяет их лишь то, что их суждения о боге резко отрицательны, причем для автора здесь важна идея бога как таковая, независимо от того, выступает ли она в христианском или языческом варианте. Воспоминания Сивиллы и Агасфера о прожитой жизни, развернутые в «монологи», составляют сюжетную канву повествования. История Агасфера чем-то напоминает историю Вараввы: оба они «отвернулись от Иисуса в наиболее трудные для него минуты» – Варавва во время распятия, Агасфер на пути его с крестом на Голгофу. Проклятый богом, потерявший семью, Агасфер становится вечным странником.
Образ Сивиллы глубоко символичен и в то же время жизненно реален, чуть ли не «автобиографичен». Слишком много «своего» Лагерквист вложил в него. Ее беззаветное служение оракулу писатель, по его собственному признанию, уподобляет своему служению литературе, ее сомнения в своем призвании – это его сомнения. Если в Агасфере олицетворяется эгоистическое начало (хотя вложенная в его уста критика христианства вполне справедлива), то Сивилла становится воплощением самой жизни с ее страданиями и надеждами. Избранница храма «бога света», Сивилла познала грязную изнанку его деятельности, увидела мошенничества жрецов, для которых храм был источником наживы. Как ей кажется, от «божества», явившегося ей в образе козла, она рождает слабоумного сына. Она утрачивает веру в божественный промысел и находит наконец покой в общении с природой.
Однако главное в повести – не столько внешние события, сколько глубинное содержание: размышления о смысле жизни, о том, что готовит грядущее. Рассказ пифии о своей жизни – это «крик души». Автор с сочувствием показывает ее неисчислимые страдания после того, как она, оставив патриархальный дом родителей – простых, бедных крестьян,– стала жрицей. В храме она убедилась, что жрецы не верят в верховное божество, они лишь «служат» ему. Утрата веры – один из важнейших лейтмотивов в творчестве Лагерквиста – по-своему проявляется и здесь. Оставшись в одиночестве, Сивилла с теплым чувством вспоминает о мирной трудовой жизни среди простых людей, с надеждой помышляет о радости слияния с природой. Поэтому финальный монолог Сивиллы оказывается поучительным и для Агасфера, еще раз воочию убедившегося в жестокости бога и обретшего надежду на возможность нравственного очищения, искупления вины, освобождения от проклятия.
В трилогии о пилигримах («Смерть Агасфера», 1960; «Пилигрим в море», 1962; «Святая земля», 1964) Лагерквист пытается дать ответы на те же вопросы. В каждом из героев намечена определенная концепция личности и ее взаимоотношений с миром. Встреча Агасфера с Тобиасом, направляющимся в Святую землю, и особенно с Дианой, причисленной к сонму богов, но мечтающей о земной любви, заставляет и его, вечного странника, искать нечто «сокровенное, забытое и утраченное». Таким идеалом для него выступает детство, не затронутое лицемерием и злом. Бунт Агасфера против «божественного предначертания» помогает ему преодолеть страх смерти. Поэтому могут окончиться и скитания, превратившиеся для него в цепь невыносимых страданий. Тобиас ищет в паломничестве освобождение от прошлого – беспутной жизни вора и разбойника. В истории Джованни, еще одного паломника, Лагерквист продолжает тему величия земной любви. Отданный фанатичной матерью в монастырь, юноша Джованни видел свою судьбу в покорном служении богу. Но любовь к женщине преображает его. Из исповеди Джованни мы узнаем, что он, священник, был лишен сана и отлучен от церкви за тяжкий проступок: он полюбил женщину больше, чем самого бога.
Герои трилогии о пилигримах, чужаки (понятие «främlingen» шведская критика прилагала и к самому автору), не принимают жестокой реальности собственнического общества, но разочаровываются они и в своих иллюзиях. По мысли писателя, каждый, говоря фигурально, должен нести свой крест и подняться на Голгофу, пройти испытание верой и безверием, «выбрать правду без иллюзий», рассчитывать лишь на себя и в себе самом обрести покой и гармонию, любовь и надежду... Но, как оказалось, ставить на этом точку было рано.
Повесть «Мариамна» (1967) – лебединая песнь Лагерквиста, в своем реализме несколько неожиданная после трилогии о пилигримах. Казалось, что писатель уже решил поставленные им перед собой задачи. И критика пыталась искать в новой повести лишь сходство с предыдущими произведениями автора, поскольку здесь показана та же древняя Иудея поры царствования Ирода, который, как с сарказмом отмечает автор, думал о себе, что «равного ему могуществом не было в целом свете», хотя «был он всего-навсего человек».
Действительно, Ирод был близок персонажам-чудовищам из прежнего «сказочного мира» Лагерквиста. Порою он даже превосходит их гипертрофированностью чувств и поступков, человеконенавистничеством, олицетворяющим тиранию и деспотизм. И потому царя иудейского «считали богопротивнейшим и страшнейшим из людей, врагом рода человеческого». Таково было общее мнение о нем, и писатель подтверждает: «приговор справедливый и истинный».
Народ не любил Ирода и не мог понять его брака с Мариамной, девушкой из рода Маккавеев, во всем противоположной ему. Гуманизм Мариамны, черпающей силы в народе, делает ее бесстрашной защитницей угнетенных и безвинно осужденных. И сама она гибнет от руки убийцы, подосланного Иродом. Исследователи называли «Мариамну» повестью мрачной, исходя, видимо, из ее финала и характера Ирода. Но глубинные ее основы были гораздо более сложными.
У Ирода немало общего со многими более ранними персонажами Лагерквиста – не только с такими, как Палач или Карлик, но и с Агасфером, Вараввой. Но Ирода Лагерквист подвергает испытанию не верой, а любовью. Чудовище в образе человека, Ирод был поражен красотой и внутренним благородством Мариамны, выказывал к ней почтительность. Ей же хотелось, «чтобы он был добр ко всем», а это уже было требованием чрезмерным. Чувство его было крайне противоречивым –своего рода «любовью-ненавистью». «Сын пустыни», он и духовно был опустошен. Мучимый манией преследования, страхом перед своим народом, ужасом перед смертью, Ирод переживает жестокую внутреннюю борьбу, в которой эгоизм и злоба оказываются все же сильнее любви.
Финал повести, однако же, оптимистичен. Неистребимо стремление Мариамны к добру и справедливости, и жертва ее не напрасна. Она была лучом света в «черное время» единодержавного правления. Особую теплоту облику Мариамны придает, видимо, и то, что повесть о чистой и благородной женщине создавалась Лагерквистом под влиянием постигшей его утраты – смерти любимой жены. Но, конечно, обобщающий смысл образа Мариамны гораздо шире: почитаемая народом и жившая его интересами, она всей своей жизнью показала пример активного действия. Что же касается Ирода, то он, хотя и прожил «отпущенный ему срок», был обречен не оставить по себе следа.
В «Мариамне» Лагерквист снова показал себя мастером композиции, сложной системы лейтмотивов, часто неожиданных и многозначных (темы мертвого царства, пустыни, тьмы и др.), подтверждающих принцип повторяемости, развития по спирали. Последняя повесть достойно венчает творческий путь писателя-реалиста.
Проза Пера Лагерквиста – выдающееся явление не только скандинавской, но и мировой литературы XX века. Созданная большим художником-гуманистом, шедшим своим путем, она являет собой высочайший пример дерзновенных творческих исканий, ощущения ответственности за судьбу мира.
Карлик
DVÄRGEN
Перевод В. Мамоновой
Редактор С. Белокриницкая
Рост у меня хороший, 26 дюймов, сложен я пропорционально, разве что голова великовата. Волосы не черные, как у других, а рыжеватые, очень жесткие и очень густые, зачесанные назад и открывающие широкий, хотя и не слишком высокий лоб. Лицо у меня безбородое, но в остальном точно такое же, как у других мужчин. Брови сросшиеся. Я очень силен, особенно если разозлюсь. Когда устроили состязание по борьбе между мной и Иосафатом, я через двадцать минут положил его на обе лопатки и задушил. С тех пор я единственный карлик при здешнем дворе.
Большинство карликов – шуты. Их дело молоть чепуху и фиглярничать, чтоб посмешить господ и гостей. Я никогда до такого не унижался. Да никто и не обращался ко мне с подобными предложениями. Уже сама моя внешность не позволяет использовать меня на такой роли. Наружность у меня неподходящая для уморительных кривляний. И я никогда не смеюсь.
Я не шут. Я карлик, и только карлик.
Зато у меня острый язык, что, возможно, и забавляет кое-кого из окружающих. Но это совсем не то, что быть их шутом.
Я упомянул, что лицо у меня в точности как у всех остальных мужчин. Это не вполне верно, поскольку оно очень морщинистое, все сплошь в морщинах. Я не считаю это недостатком. Так я создан, и мне нет дела, если другие созданы иначе. Мое лицо показывает, какой я есть, не приукрашивая и не искажая. Возможно, лицо должно быть всего лишь личиной, но мне нравится, что мое не таково.
Из-за морщин я кажусь очень старым. Я не стар. Но, как я слышал, мы, карлики, принадлежим к более древней расе, нежели те, что населяют ныне землю, и потому уже рождаемся стариками. Не знаю, так ли это, но если так, то, выходит, нам принадлежит право первородства. Я рад, что я совсем иной породы и что по мне это видно.
Лица всех других людей кажутся мне совершенно невыразительными.
Мои господа очень благоволят ко мне, особенно герцог, человек незаурядный и могущественный. Человек далеко идущих замыслов и способный к тому же претворять их в жизнь. Человек действия, и вместе с тем просвещенный правитель, который на все находит время и любит потолковать о самых различных материях. За этими разговорами он ловко скрывает свои истинные намерения.
Казалось бы, что проку интересоваться всем сразу – если только он действительно интересуется, – но, возможно, так уж ему положено, возможно, его интересы и должны быть всеобъемлющи, на то он и герцог. Такое впечатление, будто он все на свете постиг и всем овладел или, во всяком случае, к тому стремится. Никто не станет отрицать, что его личность внушает уважение. Он единственный, кого я не презираю.
Он очень фальшив.
Я знаю своего господина достаточно хорошо. Но я бы не сказал, что знаю его досконально. Это сложная натура, в которой нелегко разобраться. Было бы ошибкой утверждать, что он таит в себе какие-то особые загадки, вовсе нет, но подобрать к нему ключ совсем не просто. Признаться, я его толком не понимаю и сам удивляюсь, отчего с такой собачьей преданностью хожу за ним по пятам. Но ведь и он меня тоже не может понять.
Он не внушает мне того благоговения, какое внушает всем прочим. Но мне нравится служить господину, который внушает благоговение. Он великий правитель, я этого не отрицаю. Но никто не может быть велик в глазах своего карлика.
Я следую за ним неотступно, как тень.
Герцогиня Теодора в большой от меня зависимости. Я храню в своем сердце ее тайну. Никогда, ни разу не обмолвился я ни единым словом. И пусть бы меня истязали на дыбе, пытали самыми страшными пытками – я все равно ничего бы не выдал. Почему? Сам не знаю. Я ее ненавижу, я хочу ее смерти, я хотел бы видеть, как она горит в адском пламени и как огонь лижет ее гнусное лоно. Я ненавижу ее распутную жизнь, ее бесстыдные письма, которые она пересылает через меня своим любовникам, ее интимные словечки, что раскаленными угольями жгут мне под камзолом грудь. Но я ее не выдам. Я постоянно рискую ради нее жизнью.
Когда она зовет меня к себе, в свои покои, и шепчет доверительно свои наказы, пряча мне под камзол любовные письма, я дрожу всем телом и кровь кидается мне в голову. Но она ничего не замечает, она даже не задумывается над тем, что ее поручения могут стоить мне жизни. Не ей, а мне! Она лишь улыбается своей неуловимой улыбкой и отсылает меня, куда ей надо, навстречу риску и смертельной опасности. Мое участие в ее тайной жизни она ни во что не ставит. Но она мне доверяет.
Я всегда ненавидел всех ее любовников. На каждого из них мне хотелось наброситься и проткнуть кинжалом, чтоб полюбоваться на его кровь. Особенно я ненавижу дона Риккардо, с которым она в связи уже не один год и, похоже, не думает расставаться. Он мне омерзителен.
Иногда она зовет меня к себе, еще не вставши с постели, нисколько меня не стесняясь. Она уже не молода, и видно, какие у нее обвислые груди, когда, лежа вот так в постели, она забавляется со своими драгоценностями, выуживая их из ларца, который держит перед ней камеристка. Не понимаю, как ее можно любить. В ней нет ничего, что будило бы мужское желание. Заметно лишь, что когда-то она была красива.
Она спрашивает, какие, по-моему, украшения ей сегодня надеть. Она вечно меня про это спрашивает. Она пропускает их между своими тонкими пальцами и лениво потягивается под плотным шелковым покрывалом. Она шлюха. Шлюха в большой и роскошной герцогской постели. Вся ее жизнь – в любви. Она пропускает любовь между пальцами, глядя с неуловимой своей улыбкой, как та утекает.
В такие минуты она легко впадает в меланхолию, а может, просто притворяется. Томным жестом она прикладывает к шее золотую цепочку, крупный рубин пылает между ее все еще очень красивыми грудями, и она спрашивает, как я считаю, надеть ли ей эту цепочку. Постель пропитана ее запахом, от которого меня тошнит. Я ее ненавижу, я хотел бы видеть, как она горит в адском пламени. Однако я отвечаю, что, по-моему, лучше не подберешь, и она посылает мне благодарный взгляд, словно я разделил ее скорбь и подарил грустное утешение.
Иногда она называет меня своим злым другом. Однажды она спросила, люблю ли я ее.
Что знает герцог? Ничего? Или, может, все?
Такое впечатление, словно он и не задумывался никогда насчет ее второй, тайной жизни. Впрочем, кто его знает, про него никогда ничего нельзя сказать с уверенностью. Для него она существует лишь в дневном своем воплощении, поскольку сам-то он существо дневное, все в нем как бы освещено ярким дневным светом. Просто удивительно, что такой человек, как он, может быть мне непонятен – именно он. Возможно, это потому, что я его карлик. И повторяю: я-то ведь ему тоже непонятен! Герцогиня мне понятнее, чем он. Я ее понимаю, потому что ненавижу. Кого не ненавидишь, того трудно понять, тут ты безоружен, тебе нечем вскрыть человека.
В каких он отношениях с герцогиней? Тоже ее любовник? Быть может, единственный ее подлинный любовник? Не потому ли его словно бы и не трогает, что она там втихомолку вытворяет? Я, например, возмущаюсь – а ему все равно!
Я не в силах постичь этого невозмутимого человека. Его снисходительность меня бесит, постоянно выводит из себя. Если бы он был такой, как я!
При дворе у нас толчется множество самой странной и бесполезной публики. Мудрецы, часами просиживающие, обхватив голову руками, в надежде отыскать смысл жизни. Ученые, воображающие, будто способны своими старческими, мутными глазами проследить пути небесных светил, якобы определяющие человеческие судьбы. Бездельники и пройдохи, ночи напролет декламирующие придворным дамам свои томные стишки, а на рассвете блюющие по канавам, – одного такого проткнули однажды насмерть прямо в канаве, а другой, помнится, отведал розог за то, что написал бранные стишки про кавалера Морошелли. Живописцы, ведущие распутную жизнь и наводняющие церкви благолепными изображениями святых. Зодчие и рисовальщики, которым поручили сейчас возвести новую кампанилу [1] при соборе. Ясновидцы и шарлатаны всех мастей. Весь этот праздношатающийся люд появляется и исчезает, когда ему вздумается, а некоторые живут здесь подолгу, как свои, – и все они без исключения пользуются гостеприимством герцога.
Непонятно, зачем ему весь этот сброд. И совсем уж непостижимо, как он может часами слушать их дурацкую болтовню. Ну, можно еще послушать часок-другой поэтов, они ведь все равно что шуты – таких всегда при дворах держат. Они воспевают чистоту и возвышенность человеческой души, великие события и героические подвиги. И тут уж ничего не скажешь, особенно если они в своих виршах льстят хозяину. Лесть человеку необходима, иначе он не сможет стать тем, чем ему предназначено быть, даже в своих собственных глазах. И в настоящем, и в прошлом немало найдется прекрасного и возвышенного, которое потому лишь и стало прекрасным и возвышенным, что было воспето поэтами. Они воспевают прежде всего любовь, и это тоже правильно, поскольку любовь-то как раз больше всего и нуждается, чтобы ее представляли не такой, какая она есть на самом деле. Дамы сразу становятся печальны, и грудь их колышется от вздохов, мужчины начинают глядеть отрешенным, мечтательным взором, ибо всем им отлично известно, как оно обстоит в действительности, а значит, рассуждают они, стихотворение получилось и в самом деле прекрасное. Мне понятно также, что должны существовать живописцы, которые малевали бы для простого народа изображения святых, чтобы людям было кого боготворить, кого-нибудь не такого нищего и грязного, как они сами; красивые изображения мучеников, получивших вознаграждение на том свете, заимевших драгоценные одежды и золотой обруч вокруг головы, чтобы люди верили, что и они получат награду, когда вытерпят положенный им срок. И изображения, наглядно показывающие черни, что их бог распят, что его распяли, когда он пытался совершить что-то в этой жизни, и что, выходит, надеяться им здесь, на земле, не на что. Такого сорта примитивные ремесленники нужны, я понимаю, всякому правителю, не понимаю только, что им в замке-то делать. Они строят для людей некое прибежище, храм, красиво разукрашенный застенок, куда в любой момент можно зайти, чтобы обрести душевный покой. И где извечно и терпеливо висит на своем кресте их бог. Все это мне понятно, потому что я и сам христианин, крещен в ту же веру, что и они. И крещение это имеет законную силу, хотя крестили меня только шутки ради: при бракосочетании герцога Гонзаго с донной Еленой меня понесли крестить в дворцовой купели вроде бы как их первенца – будто бы невеста, всем на удивление, разрешилась от бремени как раз ко дню свадьбы. Я много раз слышал, как об этом рассказывали, словно о чем-то ужасно забавном, да так оно и было, я и сам могу подтвердить, потому что мне уже исполнилось восемнадцать, когда это произошло, то есть когда наш герцог одолжил меня им для этой церемонии.
Но совершенно уж непонятно, как можно часами сидеть и слушать тех, кто толкует о смысле жизни. Философов с их глубокомысленными рассуждениями о жизни и смерти и разных там вечных вопросах, всякие лукавые измышления о добродетели, о чести, о рыцарстве. И тех, кто воображает, будто им ведомо что-то о звездах, кто думает, будто существует определенная связь между ними и человеческими судьбами. Они богохульники, хотя, в чем именно их богохульство, я не знаю, да и знать не хочу. Они шуты, хотя сами и не подозревают о том, да и никто не подозревает, никто над ними не смеется, их выдумки никого не забавляют. Зачем их держат при дворе – никому не известно. Но герцог слушает их так, будто в их словах скрыт невесть какой смысл, сидит и с задумчивым видом поглаживает бороду и велит мне подливать им в серебряные кубки, такие же, как у него самого. Только, бывает, и посмеются, если кто посадит меня к себе на колени, чтобы мне удобнее было наливать им вино.
Кто может знать что-нибудь про звезды? Кто способен истолковать их тайнопись? Уж не эти ли бездельники? Они воображают, будто могут беседовать со Вселенной, и радуются, получая мудреные ответы. Разворачивают свои карты звездного неба и читают в небесах, как по книге. Только книга-то эта ими же самими и написана, а звезды движутся своими собственными неведомыми путями, даже и не подозревая, что там в ней сказано.
Я тоже читаю в Книге Ночи. Но я не берусь толковать смысл. Я различаю письмена, но я понимаю, что они не могут быть истолкованы, – и в том моя мудрость.
Они ночи напролет просиживают в своей башне, в западной башне замка, со всякими там подзорными трубами и квадрантами и воображают, будто общаются со Вселенной. А я сижу в противоположной башне, где находятся старинные покои для карликов и где я живу один с тех пор, как задушил Иосафата, – потолки здесь низкие, в самый раз для представителей нашего рода, а окна маленькие, как бойницы. Прежде здесь жило много карликов, собранных отовсюду, из самых дальних стран, вплоть до государства мавров: дары герцогов, пап и кардиналов либо живой товар – и такое ведь не редкость. У нас, карликов, нет ни родного дома, ни отца с матерью, мы приходим в этот мир тайно, рождаясь от чужих, все равно где, все равно от кого, хоть от самых жалких бедняков, лишь бы род наш не вымер. И когда эти случайные наши родители обнаруживают, что произвели на свет существо из рода карликов, они продают нас владетельным государям, чтобы мы тешили их своим уродством и служили им шутами. Так было и со мной, я был продан моей родительницей, которая отвернулась от меня с брезгливостью, увидавши, кого она произвела на свет: ей и невдомек было, что я потомок древнейшего рода. Она получила за меня двадцать эскудо и купила на них три локтя материи себе на платье и сторожевого пса для своих овец.
Я сижу возле карликового окошка и гляжу в ночь, испытующе, как и те звездочеты. Мне не требуется подзорных труб, я и без того достаточно проницателен. Я тоже читаю в Книге Ночи.
Существует очень простое объяснение, почему герцог так интересуется всеми этими учеными, живописцами, философами и звездочетами. Ему хочется, чтобы его двор прославился на весь мир, а сам он заслужил бы почет и всеобщее признание. Вполне объяснимое желание: насколько мне известно, все люди по возможности стремятся к тому же.
Я прекрасно его понимаю и вполне с ним согласен.
Кондотьер Боккаросса прибыл в город и разместился со своей многочисленной свитой в палаццо Джеральди, которое пустует со времени изгнания этой семьи. Он нанес герцогу визит, который длился несколько часов. Никому не дозволено было присутствовать.
Это великий и прославленный кондотьер.
Работы на строительстве кампанилы начались, и мы были там и смотрели, как продвинулось у них дело. Кампанила будет намного возвышаться над соборным куполом, и, когда ударят в колокола, звон раздастся словно из поднебесья. Прекрасная идея, поистине достойная называться идеей. Эти колокола будут выше всех других колоколов Италии.
Герцог очень увлечен новым сооружением, и его можно понять. Он еще раз просмотрел на месте эскизы и пришел в восторг от барельефов, изображающих сцены из жизни Распятого, которыми украшают сейчас основание его кампанилы. Дальше этого дело пока не продвинулось.
Быть может, ее так никогда и не закончат. Многие из задуманных моим герцогом построек остаются незаконченными. Красивые руины великих замыслов. Но в конце концов, и руины – памятник творцу замысла, и я никогда не отрицал, что он великий правитель. Когда он идет по улицам, я с удовольствием иду рядом. Все смотрят выше, на него, никто не замечает меня. Но это ничего не значит. Они приветствуют его почтительно, словно некое высшее существо, но только потому, что все они – трусливая, раболепная чернь, а вовсе не потому, что действительно его любят или почитают, как он думает. Стоит мне появиться в городе одному, они небось тотчас меня замечают и орут мне вслед всякие гадости: «Это герцогский карлик! Дашь пинка ему – дашь пинка его господину!» Сделать это они не осмеливаются, зато швыряют мне вслед дохлых крыс и всякую другую мерзость из мусорных куч. Когда же я, разозлившись, выхватываю шпагу, они хохочут надо мной. «Ох, и могучий же у нас повелитель!» – орут они. Я не могу защищаться, поскольку сражаемся мы разным оружием. Я вынужден спасаться бегством, с ног до головы облепленный всякими отбросами.
Карлику обо всем всегда известно больше, чем его господину.
Признаться, я вовсе не против потерпеть за моего герцога. Лишнее, в конце концов, доказательство, что я часть его самого и в известных случаях представляю его собственную высокую персону. Невежественная чернь и та понимает, что карлик господина – это, в сущности, он сам, так же как замок с его башнями и шпилями – он сам, и двор с его роскошью и великолепием – он сам, и палач, отрубающий головы на площади, и казна с ее несчетными сокровищами, и главный дворецкий, оделяющий в голодное время хлебом бедняков, – все это ОН САМ. Они чувствуют, какую власть я, в сущности, представляю. И я всегда испытываю удовлетворение, подмечая, что меня ненавидят.
Одеваться я стараюсь по возможности так же, как герцог: те же ткани и тот же покрой. Те обрезки, что остаются, когда ему шьется платье, используются потом для меня. У бедра я всегда ношу шпагу, как и он, только покороче. И осанка у меня, если присмотреться, такая же гордая, как у него.
В общем, я получаюсь очень похожим на герцога, только что ростом гораздо меньше. Если посмотреть на меня через стекло, какое те шуты в западной башне наводят на звезды, можно, наверное, подумать, что я – это он.
Между карликами и детьми большая разница. Поскольку они ростом одинаковы, то люди думают, что они друг другу подходят, а они вовсе не подходят. Карликов часто заставляют играть с детьми, не соображая, что карлик – противоположность ребенку, что он уже рождается старым. В детстве карлики никогда, насколько мне известно, не играют, для чего им играть, да оно и выглядело бы странно при их морщинистых стариковских лицах. Настоящее издевательство – принуждать нас к этому. Но люди ведь ничего про нас не знают.
Мои господа никогда не заставляли меня играть с Анджеликой. Зато сама она заставляла. Я не хочу сказать, что она делала это по злому умыслу, но, когда я вспоминаю то время, особенно первые годы ее детства, мне начинает казаться, что мучили меня нарочно, с изощренной злобой. Этот ребенок с круглыми голубыми глазами и капризным ротиком, которым иные так восхищались, мучил меня, как никто из дворцовой челяди. Дня не проходило, чтоб она с утра пораньше не притащилась ко мне наверх (в то время она едва умела ходить!), и непременно с котенком под мышкой. «Пикколино, хочешь с нами поиграть?» Я отвечаю: «Я никак не могу, у меня есть дела поважнее, мне сегодня не до игр». – «А что ты будешь делать?» – спрашивает она бесцеремонно. «Маленьким этого не понять», – отвечаю я. «Но ты же все равно пойдешь на улицу, нельзя же спать целый день! Я встала уже давно-предавно». И мне приходится идти с ней, не осмеливаюсь отказаться из-за господ, хотя внутри у меня все кипит от ярости. Она берет меня за руку, будто я ей приятель, – что за дурацкая привычка, терпеть не могу липких детских рук! Я в ярости сжимаю пальцы в кулак, но она все равно цепляется, и таскает меня повсюду за собой, и болтает без умолку. К своим куклам, которых надо кормить и наряжать, к слепым щенкам, которые копошатся в корзинке у собачьей будки, в розарий, где нам, видите ли, обязательно надо поиграть с котенком. У нее была докучливая страсть ко всяким животным, и не к взрослым животным, а к их детенышам, ко всему маленькому. И она способна была бесконечно играть со своим котенком и считала, что я тоже должен. Она думала, что я тоже ребенок и, как ребенок, всему радуюсь. Это я-то! Я ничему не радуюсь.
Случалось, правда, что в ее голове и пробудится разумная мысль, когда она вдруг заметит, как я измучен и озлоблен, – она вдруг удивленно взглянет на меня, на мое морщинистое древнее лицо: «Почему тебе не нравится играть?»
И, не получивши никакого ответа ни от моих стиснутых губ, ни от моих холодных глаз, умудренных опытом тысячелетий, она посмотрит на меня с каким-то новым, пугливым выражением в наивном младенческом взгляде и на некоторое время замолкнет.
Что такое игра? Бессмысленная возня... ни с чем. Странное притворство в обращении с вещами и явлениями. Их принимают не за то, что они суть на самом деле, не всерьез. Астрологи играют в свои звезды, герцог играет в свои постройки, в свои соборы, барельефы и кампанилы, Анджелика играет в свои куклы – все играют, все притворяются. Один я презираю притворство. Один я живу всерьез.
Однажды я тихонько прокрался к ней, покуда она спала, положив котенка рядом с собой, и отсек ему кинжалом голову. И швырнул его через окно в кучу мусора. Я был в такой ярости, что едва ли сознавал, что делаю. То есть сознавать-то я прекрасно сознавал, я приводил в исполнение план, который давно уже созрел у меня в часы наших тошнотворных игр в розарии. Она была безутешна, обнаружив, что котенок исчез, а когда все стали говорить, что его наверняка уже нет в живых, она слегла в какой-то странной горячке и долго болела, так что я избавлен был от необходимости ее видеть. Когда же она в конце концов поправилась, мне пришлось, разумеется, без конца выслушивать скорбный рассказ о судьбе ее любимца, о непонятном его исчезновении. Никто, конечно, не стал ломать себе голову, куда девалась кошка, зато весь двор был до смерти напуган неизвестно откуда взявшимися на шее девочки пятнышками крови, которые, по общему мнению, могли быть дурным предзнаменованием. Люди просто обожают отыскивать всякие предзнаменования.
Мне не было от нее никакого покоя все годы ее детства, разве что игры со временем менялись. Вечно она мне надоедала и приставала со своими секретами и своей дружбой, хотя мне ее дружба была совершенно ни к чему. Иногда я думаю, не объяснялась ли ее назойливая привязанность ко мне тем же самым, чем объяснялась ее страсть к котятам, щенятам, утятам и всему вообще маленькому. Возможно, она не ладила с миром взрослых, возможно, боялась его, была чем-то напугана. Но я-то тут при чем! Если она и чувствовала себя одинокой, я-то что мог поделать! Но она как прилипла ко мне, так и не отлипала. Даже потом, когда вышла из детского возраста. Мать тогда перестала ею интересоваться, поскольку дочь перестала заменять ей куклу – она тоже вечно играет, все люди играют, – у отца же, разумеется, хватало других забот. А возможно, он и по иной причине не слишком ею интересовался. Но тут я умолкаю.
Только лет с десяти-двенадцати она сделалась молчаливой, стала замыкаться в себе, и я наконец избавился от нее. С тех пор она, слава богу, оставила меня в покое и живет сама по себе. Но случается, меня еще и теперь душит злость, как подумаю, сколько я из-за нее вытерпел.
Теперь она совсем уже взрослая девица, ей исполнилось пятнадцать, и скоро, пожалуй, на нее будут смотреть как на даму. Но она до сих пор очень ребячлива и держит себя вовсе не как знатная дама. Кто ее отец, кстати, неизвестно, возможно, конечно, что и герцог, но не исключено, что она просто ублюдок, и тогда с ней совершенно напрасно обращаются как с герцогской дочерью. Некоторые говорят, что она красива. Я не могу отыскать ничего красивого в этом ребячьем лице с полуоткрытым ртом и большими круглыми глазами, в которых нет ни проблеска мысли.
Любовь смертна. И когда она умрет, то начинает разлагаться и гнить и может образовать почву для новой любви. Мертвая любовь живет тогда своей невидимой жизнью в живой, и, в сущности, у любви нет смерти.
К такому именно убеждению пришла, насколько я понимаю, на основании собственного опыта герцогиня, на этом она и строит свое счастье. Ведь нет сомнения, что она счастлива. Она и других делает счастливыми, на свой манер. В настоящее время такой вот счастливец дон Риккардо.
Герцог, возможно, тоже счастлив. Счастлив тем, что чувство, которое он пробудил в ней когда-то, еще живо – в его воображении. Он притворяется, будто ее любовь жива. Оба они притворяются, будто их любовь жива. Оба играют.
Когда-то у герцогини был любовник, которого она обрекла на пытки за то, что он ей изменил. Она устроила так, что герцог, ничего не подозревавший, осудил его за преступление, которого тот и не думал совершать. Я тогда единственный знал всю правду. И я присутствовал при пытках, чтобы рассказать ей потом, как он себя вел. Он вел себя вовсе не по-геройски, а примерно так же, как и все они.
Быть может, он и есть отец девчонки. Кто знает!
Не исключено, однако, что и герцог. Ведь герцогиня тогда всячески старалась его улестить, и любовь их переживала в ту пору новую весну. Она обнимала его каждую ночь и предлагала ему свое обманутое лоно, изголодавшееся по потерянному любовнику. Она ласкала своего супруга, словно обреченного на пытки возлюбленного. И герцог ласкал ее в ответ, как в их первые жаркие любовные ночи. Мертвая любовь жила своей таинственной жизнью в живой.
Духовник герцогини является каждую субботу утром в отведенное ему время. К его приходу она давно уже на ногах, одета и причесана и часа два уже отстояла на коленях перед распятием. Она готова к исповеди.
Ей не в чем исповедоваться. И она не обманывает и не кривит душой. Напротив, она говорит со всей искренностью, от всего сердца. Она не ведает греха. Она не знает за собой никаких дурных поступков. Вот разве что рассердилась на свою камеристку, когда та неловко укладывала ей волосы. Она – чистая, неисписанная страница, и духовник с улыбкой склоняется над ней, словно над нетронутой девственницей.
После молитвы, после общения с Распятым, взгляд у нее ясный и проникновенный. Замученный человечек, висящий на своем игрушечном кресте, пострадал за нее, и душа ее очищена от всего греховного, стерта даже самая память о грехе. Она чувствует себя подкрепленной и словно помолодевшей, но в то же время настроена благоговейно и сосредоточенно, что очень идет ей при этом скромном черном туалете и ненарумяненном лице. Она садится и пишет любовнику про свое нынешнее душевное самочувствие, пишет спокойное сестринское письмо, в котором нет ни слова про любовь и свидания. Будучи в таком настроении, она не терпит ни малейшего намека на легкомыслие. Я отношу письмо любовнику.
Не приходится сомневаться, что она истинно верующая. Вера для нее – нечто существенное, нечто жизненно необходимое. Она в ней нуждается, и она ею пользуется. Вера – часть ее сердца, ее души.
Верующий ли человек сам герцог? Трудно сказать. В каком-то смысле, конечно, да, поскольку он соединяет в себе все и вся, объемлет все, – но можно ли назвать это верой? Ему нравится, что на свете существует такая вещь, как вера, ему нравится послушать про нее, послушать занимательные теологические споры – разве может что-нибудь человеческое быть ему чуждо? Ему нравятся запрестольные образы, и мадонны знаменитых мастеров, и красивые, величественные храмы, в особенности те, которые он сам построил. Не знаю, можно ли назвать это верой. Очень может быть. Если говорить о нем как о правителе, то он, бесспорно, привержен религии. Не менее искренне, чем она. Ему понятна потребность народа в вере, понятно, что ее следует удовлетворять, и его двери всегда открыты для тех, кто занимается удовлетворением этой потребности. Прелаты и разные другие духовные лица так и шмыгают в эти двери взад-вперед. Но верующий ли он человек, лично он? Это совсем другое дело – тут я умолкаю.
Зато насчет нее сомневаться, повторяю, не приходится, она, бесспорно, истинно верующая.
Возможно, они оба верующие, каждый по-своему?
Что такое вера вообще? Я много над этим размышлял, но все тщетно.
Особенно много размышлял я над этим в тот раз, когда на карнавальном празднике, тому уж несколько лет, меня заставили служить за епископа, в полном облачении, и причащать святых тайн карликов Мантуанского двора, которых их герцог взял с собой на карнавал. Мы собрались у маленького алтаря, сооруженного в одной из зал замка, а вокруг нас расселись ухмыляющиеся гости, все эти рыцари, и сеньоры, и молодые щеголи в своих шутовских нарядах. Я поднял повыше распятие, а все карлики попадали на колени. «Это ваш Искупитель! – провозгласил я громовым голосом, глядя на них пылающим взором. – Это Искупитель всех карликов и сам карлик, замученный при великом герцоге Понтии Пилате и прибитый гвоздями к своему игрушечному крестику на радость и облегчение всем людям на земле». Я взял чашу и подержал ее у них перед глазами: «Это его, карликова, кровь, в которой отмоются все великие грехи и все черные души станут белыми как снег». И я взял просфору, и тоже показал им, и откусил у них на глазах кусочек, и отпил глоток, как положено по обычаю, разъясняя им одновременно смысл святого таинства: «Я ем его тело, которое было уродливым, как ваше. На вкус оно горше желчи, ибо пропитано ненавистью. Примите же и ешьте! Я пью его кровь, и она жжет огнем, которого никому не загасить. Словно я отведал своей собственной крови.
Искупитель всех карликов, да пожрет твой огонь весь мир!»
И я выплеснул вино на тех, что сидели вокруг и глазели на нас во все глаза, потрясенные и бледные как полотно.
Я не богохульник. Это они богохульствовали, не я. Тем не менее герцог велел заковать меня на несколько дней в кандалы: они, мол, хотели невинно позабавиться, а я им все испортил и только расстроил и напугал гостей. Кандалов по моему размеру не было, и пришлось их специально выковывать, кузнец ворчал, мол, слишком много возни для такого ничтожного срока наказания, но герцог сказал, что, может, они еще когда-нибудь пригодятся. Выпустил он меня очень быстро, раньше назначенного срока, и мне кажется, он подверг меня наказанию главным образом ради гостей: как только они уехали, меня выпустили. Но первое время он поглядывал на меня с какой-то даже робостью и избегал оставаться со мной наедине, мне казалось, он меня немножко побаивается.
Карлики, разумеется, ничего не поняли. Они суетились, точно перепуганные куры, попискивая своими противными кастратскими голосами. Не знаю, откуда у них эти уморительные голосишки. У меня голос низкий и сильный. Но они ведь рабы и кастраты не только телом, но и душой, и большинство из них шуты, позорящие свой род дурацкими издевками над собственным телом.
Презренное племя! Чтобы только не видеть их перед глазами, я так подстроил, что герцог одного за другим всех их продал, пока я не остался наконец один. Я рад, что их нет и что в покоях карликов теперь голо и пусто и я могу по ночам спокойно предаваться размышлениям. Я рад, что Иосафата тоже нет и что я избавлен от необходимости видеть его жалкое старушечье личико и слышать его писклявый голосишко. Я рад, что я остался один.
Так уж случилось, что приходится ненавидеть даже свой собственный народ. Мои сородичи мне ненавистны.
Но я и себя ненавижу. Я ем свое собственное, приправленное желчью тело. Я пью собственную отравленную кровь. Ежедневно совершаю я – зловещий верховный священнослужитель моего народа – свой одинокий обряд причащения святых тайн.
После этого «скандального случая» герцогиня повела себя довольно странно. В то же утро, как меня выпустили, она позвала меня к себе и, когда я вошел в ее спальню, молча посмотрела на меня задумчивым, изучающим взглядом. Я ожидал упреков и, возможно, нового наказания, но когда она наконец заговорила, то призналась, что моя литургия произвела на нее глубокое впечатление: в ней было нечто зловещее и ужасное, затронувшее что-то в ее собственной душе. Как мне удалось проникнуть ей в душу и затронуть нечто сокровенное?
Я ничего не понимал. Я не преминул ухмыльнуться, воспользовавшись минутой, когда она, лежа молча в постели, смотрела мимо меня отсутствующим взглядом.
Она спросила, каково это, по-моему, – висеть распятым на кресте? Чтобы тебя били плетьми, мучили и замучили до смерти? И она сказала, ей вполне понятно, что Христос должен ее ненавидеть. Люто должен ненавидеть, претерпев ради нее такие муки.
Я не намерен был отвечать, а она тоже не стала продолжать разговор и долго еще лежала молча, глядя в пространство отсутствующим взглядом.
Потом она сделала легкое движение своей красивой рукой, означавшее, что, дескать, на сегодня все, и крикнула камеристке, чтобы принесла темно-красное платье: ей пора вставать.
Я и по сей день не понимаю, что вдруг на нее нашло.
Я заметил, что порой я внушаю страх. Но пугаются-то люди, в сущности, самих же себя. Они думают, это я навожу на них страх, а на самом деле – тот карлик, что сидит в них же самих, уродливое человекообразное существо с обезьяньей мордой, это он высовывает свою голову из глубин их души. Они пугаются, потому что сами не знают, что в них сидит другое существо. Они всегда вообще пугаются, если вдруг что-то выныривает на поверхность из них же самих, из какой-нибудь грязной ямы их души, что-нибудь такое, о чем они даже и не подозревают и что не имеет никакого отношения к жизни, которой они живут. Когда на поверхности ничего не видать, им все нипочем, никакая опасность их не страшит. Они расхаживают себе, рослые и невозмутимые, и их гладкие лица ровно ничего не выражают. Но внутри них всегда существует и нечто другое, чего они сами не замечают, они живут, сами того не подозревая, несколькими жизнями одновременно. Они удивительно замаскированы, необъяснимы и многолики.
И они уродливы, хотя по ним этого не видно.
Я всегда живу только своей жизнью, жизнью карлика. Я никогда не бываю рослым и гладколицым. Я всегда только я сам, всегда один и тот же, я живу только одной жизнью. Во мне нет никакого другого существа. И мне известно все, что у меня внутри, ничто никогда не выныривает внезапно из глубин моей души, ничто не скрывается там в потемках. Поэтому я не знаю страха перед чем-то неведомым, что пугает их, перед чем-то необъяснимым и таинственным. Для меня ничего такого просто не существует. Во мне нет ничего «другого».
Страх? Что это такое? Вероятно, я должен бы испытывать страх, лежа один во мраке ночи и видя, как ко мне приближается призрак Иосафата, как он подходит все ближе, бледный как смерть, с синяками на шее и разинутым ртом.
Но я не чувствую испуга или раскаяния, не испытываю никаких сильных ощущений. При виде его я думаю лишь о том, что он умер и что с тех пор я совершенно один.
Я хочу быть один, я не хочу, чтобы существовало что-то, кроме меня. И я ясно вижу, что он мертв. Это всего лишь его призрак, и я совершенно один во мраке, как и каждую ночь с тех самых пор, как удушил его.
Страшного ничего в этом нет.
При дворе появился очень рослый мужчина, с которым герцог обходится на удивление почтительно, можно даже сказать, благоговейно. Он званый гость, и герцог говорит, что давно его поджидал и очень счастлив, что его удостоили наконец визитом.
Он обходится с ним прямо как с равным.
Не все у нас при дворе находят это смешным, кое-кто говорит, что он действительно выдающийся человек и ровня герцогам. Однако одевается он не по-герцогски, а довольно просто. Кто он, в сущности, такой и чем так примечателен, я пока не разузнал. Со временем это, видимо, выяснится. Говорят, он к нам надолго.
Не стану отрицать, что в нем есть нечто внушающее почтение: держит он себя непринужденнее и достойнее, чем другие, лоб у него высокий и, как любят выражаться люди, с печатью думы, а лицо, обрамленное седой бородой, благородно и по-настоящему красиво. В нем есть что-то изысканное и гармоничное, и манеры у него спокойные и сдержанные.
Интересно бы знать, в чем его уродство.
Примечательный гость обедает за одним столом с герцогом. Они все время беседуют на самые разные темы, и я, прислуживая своему господину – он всегда требует, чтобы именно я это делал, – не могу не заметить, что наш гость человек просвещенный. Его мысль объемлет, кажется, все и вся, и он интересуется всем на свете. Он берется объяснять что угодно, но, в отличие от других, не всегда уверен в том, что его объяснения правильны. Обстоятельно и подробно растолковав, как, по его мнению, надо понимать то-то или то-то, он, случается, замолчит и задумается, а потом скажет в сомнении: но возможно, оно и не так. Я не знаю, как это расценить. Можно считать это своего рода мудростью, но ведь не исключено, что говорит он так просто потому, что ему действительно ничего в точности не известно, и тогда выходит, что все его старательно возводимые мысленные построения мало чего стоят. Последнее наиболее вероятно, если я правильно оцениваю возможности человеческого разума. Многие, однако, не понимают, что несовершенство человеческого разума обязывает к известной скромности. Возможно, он понимает.
Но герцог ничего такого не замечает, он слушает его с жадностью, словно пьет из прозрачного источника, откуда ключом бьют знание и мудрость. Он смотрит ему в рот, будто смиренный ученик учителю, хотя, разумеется, и не роняя своего герцогского достоинства. Иногда он величает его «маэстро». Интересно, в чем кроется причина столь льстивого смирения. Насколько я знаю моего господина, какая-нибудь причина да имеется. Ученый муж чаще всего делает вид, будто и не слышал этого лестного обращения. Возможно, он и в самом деле скромен. Но с другой стороны, он иногда высказывается с очень большой определенностью, очень убежденно отстаивает свое мнение и приводит такие доказательства, которые свидетельствуют об остром и проницательном уме.
Он, выходит, не всегда сомневается.
Говорит он неизменно спокойным, красивым и необыкновенно звучным голосом. Ко мне он приветлив и проявляет, кажется, некоторый интерес. Отчего, я не знаю. Чем-то он, пожалуй, напоминает герцога, так мне иногда кажется, хотя я и не могу толком объяснить, чем именно.
Он не фальшив.
Примечательный чужеземец готовится приступить к работе в монастыре францисканцев Санта-Кроче, будет писать какую-то картину на стене тамошней трапезной. Значит, он всего-навсего малюет изображения святых и всякое такое прочее, как и многие при здешнем дворе. Вот в чем, значит, его «примечательность».
Я не хочу, конечно, сказать, что он не может быть одновременно и чем-то иным, чем-то большим, и что его непременно надо приравнивать к примитивным его собратьям по ремеслу. Он, надо признать, производит гораздо более внушительное впечатление, и понятно, почему герцог слушает его гораздо внимательней, чем всех других. Но не оракул же он в самом деле, чтобы слушать его открыв рот, и не такая уж важная птица, чтоб сажать его каждый день за один стол с собой. Нет, это необъяснимо. Ведь, что там ни говори, он всего лишь ремесленник, и все, что он делает, он делает собственными руками, пусть даже, при своей просвещенности и своем уме, он и объемлет многое – до того уж многое, что сам не может уразуметь! Какие у него руки, я не знаю, надеюсь, умелые, раз герцог его нанял, а что мысль его берется решать задачи, до которых она не доросла, так ведь в этом он и сам признается. Он, должно быть, фантазер. При всей ясности ума и обилии идей он, должно быть, строит на песке, и тот мир, который он якобы творит, в сущности, должно быть, совершенно нереален.
Впрочем, как ни странно, никакого определенного мнения у меня о нем еще нет. Отчего бы это? Обычно у меня сразу же складывается определенное представление о любом, с кем бы я ни столкнулся. Вероятно, он настолько же выше других как личность, насколько он выше их ростом. Он как бы во всех отношениях возвышается над средним уровнем. Но я не знаю, отчего я так думаю, почему мне так кажется. Я не знаю, в чем, собственно, заключается его превосходство и действительно ли он настолько всех превосходит. И почему, спрашивается, он должен отличаться от всех остальных встречавшихся мне людей?
Как бы то ни было, я убежден, что герцог переоценивает его достоинства.
Зовут его Бернардо, самое обычное имя.
Герцогиню он не интересует. Ведь он старик. А мужские разговоры ее, как видно, совершенно не занимают. Присутствуя, при их пространных беседах, она молчит и думает о своем. Мне кажется, она даже и не слышит, что говорит этот примечательный муж.
Зато она-то его, кажется, весьма интересует. Он, я заметил, разглядывает ее украдкой, когда никто не видит. Изучает ее лицо, словно что-то в нем отыскивая, взглядом пытливым и все более и более задумчивым. Что в ней может привлекать его?
Ведь лицо ее вовсе неинтересно. Сразу видно, что она шлюха, хоть она и пытается это скрыть за обманчиво невинной внешностью. Не надо долго разглядывать, чтобы понять ее сущность. И что тогда остается разглядывать, чего доискиваться в ее порочном лице? Что в нем привлекательного?
Но его привлекает, очевидно, все на свете. Он может, например, поднять с земли камень – я сам видел – и разглядывать его с чрезвычайным интересом, вертеть так и сяк, чтобы в конце концов положить себе в карман, словно драгоценность. Нет, кажется, на свете вещи, которая не способна была бы его увлечь. Блаженный он, что ли?
Достойный зависти блаженненький! Тот, для кого и камень драгоценность, на каждом шагу натыкается на сокровища.
Он невероятно любопытен. Он сует свой нос повсюду, все ему надо знать, обо всем выспросить. Он выспрашивает рабочих насчет их инструментов и приемов работы, делает свои замечания, дает советы. Он является со своих загородных прогулок с охапками цветов, усаживается и начинает обрывать лепестки, чтобы посмотреть, как устроен цветок внутри. Он способен часами простаивать, следя за полетом птиц, будто и в этом есть что-то удивительное. Даже головы убийц и воров на кольях перед замковыми воротами, всем уже осточертевшие, – даже их он способен разглядывать чуть не часами, размышлять над ними, словно над какими-то удивительными загадками, и срисовывать себе в записную книжку серебряным карандашиком. А когда несколько дней назад на площади повесили Франческо, он стоял впереди всех, вместе с мальчишками, чтобы лучше видеть. По ночам он разглядывает звезды. Его любопытство простирается решительно на все.
Действительно ли во всем есть свой интерес?
Мне наплевать, куда он там сует свой нос. Но если он еще раз до меня дотронется, я проткну его кинжалом. Я твердо решил, что так и сделаю, чем бы мне это ни грозило.
Сегодня вечером, когда я наливал ему вино, он взял мою руку, собираясь ее рассмотреть, – я со злостью отдернул. Но герцог, улыбнувшись, велел мне показать руку. Он подробно ее разглядывал, изучал с нахальным бесстыдством каждый сустав, каждую морщинку у запястья и попытался даже отвернуть рукав, чтобы поглядеть выше. Я снова отдернул руку, окончательно взбешенный, ярость клокотала, во мне. Оба они улыбались, а я готов был испепелить их взглядом.
Если он еще раз до меня дотронется, я полюбуюсь на его кровь! Я не выношу человеческого прикосновения, не терплю ни малейшего посягательства на мое тело.
Ходят странные слухи, будто он уговорил герцога выдать ему труп Франческо, чтобы вспороть его и поглядеть, как устроен человек изнутри. Не может того быть. Это слишком невероятно. И не может быть, чтобы они взяли да и сняли труп, ему ведь назначено болтаться на веревке – на страх народу и злодею на посрамление, таков приговор, и отчего бы воронью не исклевать негодяя наравне с другими! Я был с ним, к сожалению, знаком и слишком хорошо знаю, что он заслуживает величайшего на свете наказания, он не раз орал мне вслед на улице всякие гадости. Если его снимут, наказание получится уже не то, что для других повешенных.
Я услышал об этом только сегодня вечером. Сейчас ночь, и мне не видно, болтается ли там эта падаль.
Я не могу поверить, чтобы герцог мог пойти на такое. Это неправда!
Это правда! Негодяй уже не болтается на виселице! И мне даже известно, куда он девался. Я накрыл ученого старца за его постыдным занятием!
Я обратил внимание, что в подземелье не все как обычно. Дверь, которая всегда заперта, стояла открытой. Я заметил это еще вчера, но не придал особого значения. Сегодня я пошел все же проверить, в чем дело, и увидел, что дверь по-прежнему приоткрыта. Я прошел узким темным коридором до следующей двери, которая тоже была не заперта, я вошел, стараясь не производить шума, и оказался в просторном помещении – в свете, падавшем из узкого окошечка в южной стене, я увидел старика, склонившегося над распростертым трупом Франческо. В первый момент я не поверил своим глазам, но это был Франческо, причем вскрытый, видны были внутренности, сердце и легкие, совершенно как у животного. Я в жизни не видел ничего более отвратительного, не мог даже представить себе такой мерзости, как эти человеческие потроха. А старик склонился над ними и рассматривал с напряженным интересом, осторожно подрезая что-то ножичком около сердца. Он был так увлечен своим занятием, что даже не заметил, как я вошел. Ничего, казалось, не существовало для него, кроме той гнусности, с которой он возился. Но наконец он поднял голову, и я увидел его блестевшие от счастья глаза. Лицо у него было совершенно восторженное. Я мог разглядывать его сколько вздумается, потому что он был на свету, а я стоял в глубокой тени. Да он и не замечал ничего, вдохновенный, словно пророк, беседующий с богом. Мне стало невыразимо противно.
Ровня герцогам! Благородный господин, разглядывающий внутренности преступника! Копающийся в падали!
В эту ночь они засиделись чуть не до рассвета и все говорили и говорили, как ни разу прежде. Они разожгли себя до самого настоящего экстаза. Они говорили о природе и сколько, мол, в ней величия и щедрости. Единое великое целое, единое чудо! Артерии, которые проводят по телу кровь подобно тому, как реки проводят по земле воду, легкие, которые дышат, как дышит океан со своими приливами и отливами, скелет, который служит опорой для тела, как каменные пласты служат опорой для земли, а тело – как сама земля. Огонь в сердцевине земли, подобный жару души и заимствованный, подобно ему, у солнца, священного, обожествлявшегося еще древними солнца, родоначальника всех живых душ, первоисточника и первопричины всяческой жизни, дарующего свой свет всем небесным телам во вселенной. Ибо наш мир – лишь одна из тысяч звезд во вселенной.
Они были как одержимые. И я должен был все это выслушивать, не имея даже возможности возразить. Я все больше убеждаюсь, что он действительно блаженный, чего доброго, он и герцога в такого же превратит. Удивительно, до чего мягок и податлив в его руках герцог.
Как можно всерьез верить в подобные фантазии?! Как можно верить в это единство, эту божественную, как он еще выразился, гармонию?! Как не стыдно употреблять такие высокопарные, громкие, бессмысленные слова?! Чудо природы! Я вспомнил про внутренности Франческо, и меня чуть не вырвало.
Какое счастье, восклицали они в восторге, заглянуть в таинственное чрево природы! Сколь бесконечно много предлагает она пытливому оку исследователя! И сколь возвысится человек в могуществе своем и богатстве, постигнув все это, все эти тайные силы и заставив их служить себе! Стихии с покорностью склонятся пред его волей, огонь будет смиренно служить ему, обузданный в своей ярости, земля будет родить ему плодов стократно, ибо он откроет законы роста, реки станут ему послушными, закованными рабами, а океаны понесут на себе его корабли вокруг всей нашей необъятной планеты, парящей чудесной звездой в мировом пространстве. И даже воздух покорит он себе, ибо научится однажды подражать полету птиц и, освобожденный от тяжести, сам воспарит, подобно им и подобно парящим в пространстве звездам, к цели, которую человеческая мысль не в состоянии покуда ни постичь, ни предугадать.
Ах! Как великолепно и прекрасно жить на земле! Сколько непостижимого величия в человеческой жизни!
Их ликованию не было конца. Они походили на детей, которые размечтались об игрушках, о целой горе игрушек, с которой и сами не знают, что стали бы делать. Я смотрел на них своим мудрым взглядом карлика, и ни один мускул не дрогнул на моем древнем, изборожденном морщинами лице. Карлики не походят на детей. И они никогда не играют. Я то и дело поднимался на цыпочки, наполняя их бокалы, которые они выпивали за разглагольствованиями.
Что знают они о величии жизни? Откуда им знать, есть ли в ней величие? Это всего лишь фраза, которую люди любят повторять. С тем же успехом можно утверждать, что жизнь ничтожна. Что она никчемна, мизерна – козявка, которую можно раздавить ногтем. А она и тут не воспротивится. Собственная гибель волнует ее не больше, чем все остальное. Она ко всему равнодушна. А почему бы и нет? Почему, спрашивается, она должна оберегать себя, стремиться к самосохранению? Да и вообще к чему бы то ни было? Почему, в самом деле, ее должно что-то волновать?
Заглянуть в чрево природы! Что в этом хорошего? Да сумей они это сделать, они сами бы испугались, пришли бы в ужас. Они воображают, что оно специально для них существует, они ведь воображают, что все существует специально для них, им на благо и на радость, чтобы сделать их лично жизнь поистине прекрасной и величественной. Что знают они о нем? Откуда они взяли, что оно замыслено единственно для них, для исполнения их нелепых ребяческих желаний?
Они воображают, будто умеют читать в Книге Природы, воображают, будто она открыта им. Они воображают даже, будто могут заглянуть вперед, могут прочитать там, где ничего еще не написано, где страницы белы и чисты. Безрассудные, самонадеянные глупцы! Нет предела их наглой самоуверенности!
Кто может знать, чем беременна природа, какой плод вынашивает она в своем чреве?! Кто может что-нибудь предвидеть?! Разве знает мать, что носит она у себя под сердцем? Откуда ей про это знать! Она ждет положенного срока, и только тогда все увидят, чем она разродилась. Спросили бы карлика, он бы им объяснил.
Это он-то скромен! Как я ошибся! Он, наоборот, высокомернейший из всех, кого я знаю. Самая его сущность, его дух – высокомерие. И его мысль настолько самонадеянна, что стремится по-королевски повелевать миром, который ей вовсе неподвластен.
Он может показаться скромным, ибо вечно обо всем выспрашивает и до всего допытывается, ибо говорит, что, дескать, не знает того-то или того-то, а лишь старается узнать по мере своих сил. Однако целое, как он полагает, ему известно. Он воображает, что постиг смысл бытия. Он смиренен в малом, но не в большом. Странная скромность.
Все на свете имеет свой смысл, все, что происходит, и все, чем заняты люди. Но сама жизнь не имеет никакого смысла, да и не может иметь. Иначе она не могла бы существовать.
Такова моя вера.
Какой позор! Какое бесчестье! Ни разу в жизни я не подвергался такому оскорблению, какое мне было нанесено в тот ужасный день. Я попытаюсь описать, что со мной произошло, хотя лучше бы об этом и не вспоминать.
Герцог велел мне пойти к маэстро Бернардо, работающему в трапезной Санта-Кроче, так как я ему зачем-то понадобился. Я пошел, хотя и зол был, что меня делают слугой этого постороннего мне высокомерного человека. Он принял меня с величайшей предупредительностью и сообщил, что карлики его всегда очень интересовали. Я подумал: «А что тебя, спрашивается, не интересовало, если ты даже насчет кишок Франческо и насчет звезд любопытствуешь. Но обо мне-то, карлике, ты и понятия не имеешь». Сказав еще несколько любезных и ничего не значащих фраз, он заявил, что хотел бы сделать мое изображение. Я решил было, что речь идет о моем портрете, который, наверно, заказал ему герцог, и не мог не почувствовать себя польщенным, однако ответил, что не хочу быть изображенным на портрете. «Отчего же?» – спросил он. Я ответил так, как естественно было ответить: «Я хочу, чтобы мое лицо принадлежало мне одному». Он сказал, мол, это оригинальная мысль, усмехнулся, но потом согласился, что в этом, бесспорно, что-то есть. Хотя вообще-то, мол, любое лицо, а не только изображенное на портрете – собственность многих, принадлежит, в сущности, каждому, кто на него смотрит. Впрочем, он-то имел в виду просто срисовать меня, чтобы изучить, как я устроен, и пусть я поэтому разденусь, чтобы он мог сделать карандашный набросок моей фигуры. Я почувствовал, что бледнею. И от бешенства, и от страха, не знаю, от чего больше: и то и другое захлестнуло меня, и я весь затрясся.
Он заметил, как возмутило меня его бесстыдство. И стал говорить, что ничего нет стыдного в том, что ты карлик и покажешь себя другому таким, каков ты есть. Перед природой он, мол, всегда одинаково благоговеет, равно и в тех случаях, когда она создает что-нибудь по странной прихоти, что-нибудь вне рамок обычного. Нет, мол, ничего зазорного в том, чтобы показать себя другому человеку таким, каков ты есть, и никто, мол, в сущности, себе не принадлежит. «А я принадлежу! – крикнул я в бешенстве. – Это вы все себе не принадлежите! А я принадлежу!»
Он принял мою вспышку совершенно спокойно, мало того, он наблюдал за мной с любопытством и интересом, что еще больше меня возмутило. Потом он сказал, что пора начинать, и шагнул ко мне. «Я не потерплю, чтоб посягали на мое тело!» – крикнул я, совершенно вне себя. Он не обратил на это ни малейшего внимания, но, когда понял, что добровольно я ни за что не разденусь, приготовился раздеть меня сам. Мне удалось выхватить из ножен кинжал, и он, по-моему, очень удивился, увидев, как блеснула сталь. Но он спокойно отобрал его у меня и положил осторожно поодаль. «А ты, видимо, опасная личность», – сказал он, удивленно глядя на меня. Я язвительно усмехнулся его словам. Потом он совершенно невозмутимо начал снимать с меня одежду, бесстыдно обнажая мое тело. Я отчаянно сопротивлялся и боролся с ним, как боролся бы за свою жизнь, но все напрасно, ведь он сильнее меня. Совершив свое постыдное дело, он поднял меня и поставил на помост, сооруженный посреди трапезной.
Я стоял там, беззащитный, обнаженный, бессильный что-нибудь предпринять, хотя ярость так и клокотала во мне. А в нескольких шагах от помоста стоял он и хладнокровно меня разглядывал, хладнокровно и безжалостно созерцал мой позор. Я был целиком отдан во власть его взгляда, распоряжавшегося мной, точно своей собственностью. Быть таким образом выставленным на обозрение другому человеку – унижение столь глубокое, что мне до сих пор непонятно, как я вообще его вытерпел. Я до сих пор помню, с каким звуком чертил по бумаге его серебряный карандаш – возможно, тот же самый, которым он срисовывал высохшие головы у замковых ворот и всякую другую мерзость. Взгляд у него изменился, стал острым, как кончик ножа, мне казалось, будто он просверливает меня насквозь.
Никогда еще не испытывал я такой ненависти к людскому роду, как в те страшные минуты. Чувство ненависти было физически ощутимым, и я чуть было не потерял сознание, в глазах у меня то и дело темнело. Существуют ли на земле твари более гнусные, более достойные ненависти?!
Прямо напротив на стене я видел его огромную картину, ту самую, из которой должен, как говорят, получиться настоящий шедевр. Она еще только начата и должна, видимо, изображать Тайную вечерю, Христа с учениками за их братской трапезой. Я в бешенстве смотрел на непорочные, торжественные лица этих учеников, воображающих, будто они превыше всех и вся с этим своим небесным повелителем, у которого такое неземное сияние над головой. Я злорадно подумал, что скоро его схватят, что Иуда, съежившийся в дальнем углу, скоро его предаст. Покуда он еще обожаем и почитаем, думал я, еще восседает за братской трапезой – в то время как я тут выставлен на позор! Но придет час и его позора! Скоро он уже не будет восседать в кругу своих, а один будет висеть распятым на кресте, преданный ими же. Такой же голый будет висеть, как я тут теперь стою, так же постыдно униженный. Выставленный на всеобщее обозрение, на хулу и поругание. А отчего бы и нет! Отчего бы ему не помучиться, как я теперь мучаюсь! Он постоянно был окружен любовью, вскормлен любовью – меж тем как я вскормлен ненавистью. Я всосал ненависть с молоком матери, отведав ее горького сока. Я лежал у материнской груди, набухшей желчью, он же сосал добрую и ласковую Мадонну, нежнейшую и прелестнейшую из женщин, и пил сладчайшее на свете материнское молоко, какое не доводилось пить ни одному смертному. Сидит себе там благодушествует в кругу своих, наивный добряк, не подозревая, что способен вызвать чью-то ненависть, что кто-нибудь может причинить ему зло. Отчего бы и нет! Что он за исключение! Он воображает, что, конечно же, должен быть любимцем всех простых смертных, раз зачат от самого Бога-Отца. Какая наивность! Какое ребяческое незнание людей! Ведь именно поэтому они и затаили на него в сердце злобу, из-за этого самого чуда. Дети человеческие не любят, чтобы их насиловал Бог.
Я все еще смотрел на него, когда, избавленный наконец от ужасного надругательства, стоял в дверях этой проклятой трапезной, где пережил величайшее в своей жизни унижение. Но ничего, подумал я, скоро ты будешь продан за несколько эскудо благородным, высокопоставленным людям, – ты, как и я!
И я в бешенстве захлопнул за собой дверь, отделившую меня от него и от его создателя, маэстро Бернардо, который погрузился в созерцание своего высокого творения и, казалось, успел уже забыть про меня, принявшего по его милости такие муки.
Самое бы лучшее – не вспоминать про Санта-Кроче, самое лучшее – постараться забыть. Но одно не идет у меня из ума. Покуда я одевался, мне то и дело попадались на глаза разбросанные кругом рисунки, изображавшие разных диковинных тварей, каких никто никогда не видывал и каких вообще не существует в природе. Нечто среднее между людьми и животными: женщины с перепончатыми крыльями летучих мышей, мужчины с мордами ящериц и лягушачьими лапами, и мужчины с хищными головами грифов и когтистыми лапами вместо рук, парящие в воздухе, подобно злым демонам, и еще какие-то твари, не мужчины и не женщины, что-то вроде морских чудищ с извивающимися щупальцами и глазами холодными и злыми, совсем как человечьи. Меня поразили эти жуткие уроды, и я до сих пор не могу оправиться от потрясения, они до сих пор стоят у меня перед глазами. Почему именно это занимает его фантазию? Почему он вызывает из небытия эти отвратительные, призрачные образы? Почему они ему мерещатся? Зачем он возится с чем-то, чего и в природе не существует? Должна же быть какая-то причина! Видимо, тут некая внутренняя потребность. А может, это занимает его как раз потому, что не существует в природе? Я не могу понять.
Что же должен представлять собой тот, кто производит подобное на свет? Кто упивается всеми этими ужасами, кого так тянет к ним?
Когда смотришь на его надменное лицо, в котором, надо признать, есть и благородство и утонченность, то просто не верится, что эти гнусные картинки – его детища. И однако, это так. Тут есть над чем задуматься. Должно быть, все эти безобразные твари обитают в нем самом, как и все прочее, что он производит на свет.
Нельзя не задуматься и над тем, какой у него был вид, когда он меня рисовал, как он вдруг переменился и стал словно другим человеком: этот неприятный, острый взгляд, холодный и странный, и новое выражение лица, страшно жестокое, – сущий дьявол.
Он, выходит, вовсе не то, за что себя выдает. Как и прочие люди.
Просто непостижимо, что этот же самый человек создал такого непорочного, просветленного Христа за братской трапезой.
Анджелика зашла сегодня вечером в залу. И когда она проходила мимо герцога, тот сказал, не присядет ли она на минуточку со своим рукоделием, за которым она как раз и приходила. Она повиновалась без охоты, хотя и не посмела возразить, она вообще не любит общества, да и не годится вовсе для придворной жизни, для роли герцогской дочери. Неизвестно, кстати, герцогская ли она дочь. Очень возможно, что она просто ублюдок. Но ведь мессир Бернардо ничего про это не знает. Он смотрел, как она сидит, опустив глаза и приоткрыв, как дурочка, рот, смотрел не отрываясь, будто она невесть какая удивительная – ему ведь все кажется удивительным. Еще, что ли, одно чудо природы, вроде меня или его необыкновенных камней, столь драгоценных, что он подбирает их с земли и не может наглядеться? Он молчал и казался искренне растроганным, хотя она сидела истукан истуканом и не произнесла за все время ни звука. Молчание становилось мучительным.
Не знаю, что уж его так растрогало. Возможно, он жалел ее за то, что она некрасива, он ведь знает толк в красоте и понимает, как много она значит. Возможно, потому-то он и глядел на нее с таким грустным и жалостливым выражением. Не знаю, да и знать не хочу.
Ей не терпелось, конечно, поскорее убежать. Она посидела ровно столько, сколько требовали приличия, ни минутой дольше, и попросила у герцога позволения уйти. Поднялась поспешно и робко, с обычной своей неловкостью и неуклюжестью – она до сих пор похожа на угловатого подростка. Удивительно, до чего она все же лишена всякой грации.
Одета она была, разумеется, так же просто, как всегда, чуть ли не бедно. Ей все равно, как она одета, да и другим тоже.
Маэстро Бернардо не находит, должно быть, настоящего удовлетворения в своей работе. Он хватается то за одно, то за другое, начинает и не доводит до конца. Чем это объяснить? Казалось бы, ему надо сейчас заниматься исключительно этой своей «Тайной вечерей», чтобы завершить ее наконец. А он ее совсем забросил. Надоело, должно быть. Вместо этого начал вдруг портрет герцогини.
Говорят, ей самой вовсе не хочется, чтоб с нее писали портрет. Это желание герцога. Я ее понимаю, ее нетрудно понять. Можно разглядывать самого себя в зеркало, но, отойдя, вы не захотите, чтобы ваше отражение так там и осталось, чтобы любой мог им завладеть. Я вполне понимаю, почему ей, так же как и мне, не хочется, чтоб где-то осталось ее изображение.
Никто себе не принадлежит? Какая гнусная мысль! Никто себе, видите ли, не принадлежит. Все собственность всех. Твое собственное лицо, выходит, тебе не принадлежит! Принадлежит любому, кто на него смотрит! И твое тело! Другие могут, выходит, владеть твоим телом! Мне отвратительно даже подумать об этом.
Я хочу сам быть единственным владельцем всего, что мое. Никто не смеет присваивать себе мое, посягать на мое. Мое принадлежит мне, и никому другому. Я хочу принадлежать себе и после смерти. Никто не смеет копаться в моих внутренностях. Я не желаю, чтобы их рассматривал кто-то посторонний, хотя вряд ли они могут быть столь мерзостными, как у негодяя Франческо.
Это вечное копание мессира Бернардо во всякой всячине, это его вечное любопытство мне просто ненавистно. Чему оно может послужить? Какой разумной цели? И мне противно даже подумать, что у него осталось мое изображение, что он как бы владеет мной. Что я уже не вполне сам себе хозяин, но как бы обитаю одновременно и у него в Санта-Кроче, в компании его гнусных уродов.
Ну и прекрасно – пусть ее тоже изобразят! Отчего бы ей не потерпеть с мое! Я очень даже рад, что теперь и она будет бесцеремонно выставлена на обозрение этому бесстыжему человеку, что он и на нее посягнул.
Вот только чем она может быть интересна, эта шлюха? Я, например, никогда не считал, что она может представлять хоть какой-то интерес, а я-то знаю ее лучше других.
Впрочем, там видно будет, что выйдет из этой затеи с портретом. Меня это не касается.
Не думаю, чтоб он особенно разбирался в людях.
Маэстро Бернардо, признаться, удивил меня. Он меня настолько удивил, что я всю ночь не мог заснуть и все думал про это.
Вчера вечером они сидели, как обычно, разговаривали – на излюбленные свои возвышенные темы. Но он был в заметно подавленном настроении. Он сидел в раздумье, захватив в кулак окладистую бороду, занятый мыслями отнюдь, должно быть, не радостного свойства. Но, принимаясь вдруг говорить, говорил страстно, с жаром, хотя жар этот был как бы по дернут пеплом. Я его не узнавал: казалось, я слушаю совсем другого человека.
Человеческая мысль, говорил он, в конечном счете бессильна. Крылья ее сильны, но судьба, оделившая нас ими, сильнее нас. Она не дает нам вырваться, не пускает нас дальше, чем сама того захочет. Нам поставлен предел: после краткого бега по кругу, вселяющего в нас надежду и радость, нас загоняют обратно, как сокольничий подтягивает на шнурке сокола. Когда обретем мы свободу? Когда перережут наконец шнурок и сокол воспарит в открытое небо?
Когда? Да сбудется ли это вообще когда-нибудь? Не в том ли, наоборот, и тайна нашего бытия, что мы привязаны к руке сокольничего, и вечно будем привязаны? В противном случае мы были бы уже не те, кто мы есть, и наша судьба не была бы уже человеческой судьбой.
И все же мы созданы вечно стремиться в небо, ощущать себя причастными к нему. И все же оно существует, оно открывается нашему взору, как некая абсолютная реальность. Оно такая же реальность, как наша неволя.
Зачем существует это бесконечное пространство, все равно для нас недоступное? – рассуждал он. Что за смысл в этой безграничности вокруг нас, вокруг жизни, если мы все равно те же беспомощные невольники и жизнь остается все той же, столь же замкнутой в самой себе? К чему тогда, собственно, эта неизмеримость? Зачем нашей мизерной судьбишке, нашей тесной долине столь величественное окружение? Разве мы счастливее от того? Непохоже. Скорее, только еще несчастнее.
Я внимательно изучал его – что за мрачное выражение лица, какая вдруг глубокая усталость в старческом взгляде!
Делаемся ли мы счастливее, стремясь отыскать истину? – продолжал он. Я не знаю. Я лишь стремлюсь отыскать ее. Вся моя жизнь была неустанными поисками истины, и мне казалось порой, будто я ее прозреваю, мне будто приоткрывался кусочек ее чистого неба. Но ни разу небеса не отверзлись мне, и взгляд мой ни разу не упился видом бесконечности, без которой ничего не постичь на земле. Сие нам не дозволено. Оттого все мои усилия были, по сути, тщетны. Оттого все, к чему бы я ни прикасался, оставалось полу истиной, оставалось недоноском. С болью думаю я о своих творениях, и с болью и грустью смотрят на них, должно быть, другие – так смотрим мы на античную статую без головы и конечностей. Уродливым, незавершенным было все, что я создал. И незавершенным оставляю я все после себя людям.
Да и что в том удивительного?
Такова уж человеческая судьба. Неизбежная судьба всех человеческих усилий, всех человеческих творений. Все созданное нами – лишь первый шаг на пути к тому, чего никогда не достигнуть, что не должно и не может быть нами достигнуто. Вся человеческая культура, в сущности, лишь первый шаг на пути к чему-то недостижимому, совершенно для нас непосильному. Она высится уродливым, трагически жалким обрубком античной статуи. А сам человеческий дух разве не тот же жалкий обрубок?
Что пользы в крыльях, если они все равно никогда не смогут вознести нас к небу? Они лишь тяготят вместо того, чтобы освобождать от бремени. Мы тяготимся ими. Мы волочим их за собой по земле. В конце концов они делаются нам ненавистны.
И мы чувствуем облегчение, когда сокольничий, утомившись своей жестокой забавой, надевает нам на голову колпачок и мы погружаемся во тьму.
Он сидел не двигаясь, подавленный и хмурый, горько сжав рот, и глаза у него горели мрачным огнем. Я был, признаться, страшно изумлен. Неужели это он, тот самый, кто совсем еще недавно восторгался беспредельным величием человека, кто предрекал ему всемогущество, предрекал, что человек, подобно всесильному монарху, будет царить в своих великолепных владениях? Кто изображал человека чуть ли не божеством?
Нет, я не могу его постичь. Я ничего не понимаю.
А герцог слушал его открыв рот, плененный умными речами маэстро, хотя они полностью противоречили всему тому, что он до сих пор слышал из его уст. Он был совершенно с ним согласен. Ничего не скажешь, способный ученик.
Как связать одно с другим? Каким образом они умудряются совмещать в себе такие противоречия, как могут с одинаковой убежденностью говорить о чем угодно? Сам я всегда неизменен, и мне это непонятно.
Я долго не мог заснуть и все пытался уразуметь, что же они собой представляют, но мне это никак не удается. Я не могу прийти ни к какой ясности.
То вдруг сплошное ликование – мол, ах, как прекрасно, как великолепно быть человеком. То вдруг сплошная безнадежность, отрицание всякого смысла, отчаяние.
Что же всерьез?
Он бросил писать портрет герцогини. Говорит, что не может его закончить, не получается: мол, есть в ней нечто неуловимое, чего он никак не может ухватить, уяснить себе. Итак, и эта его работа останется незавершенной, как «Тайная вечеря», как все, за что он берется.
Мне довелось увидеть в покоях герцога этот портрет – не понимаю, чем он плох. По-моему, портрет очень хорош. Он изобразил ее такой, какова она есть: стареющей шлюхой. Сходство поразительное, просто дьявольское. Чувственное лицо с тяжелыми веками и этой неуловимой порочной улыбкой, все в точности. Он самое ее душу вытащил и изобразил, разоблачение просто ужасающее.
Нет, что ни говори, а в людях он разбирается.
Чего же не хватает? Он ведь считает, что чего-то не хватает. Чего же? И ведь он считает, что не хватает чего-то существенного, такого, без чего она не она. Но чего именно? Мне это совершенно непонятно.
Однако, раз он говорит, что портрет не закончен, значит, так оно и есть. «Незавершенным оставлю я все после себя» – его же собственные слова. Да и все, мол, что ни возьми – только первый шаг на пути к неосуществимому. Вся человеческая культура – только первый шаг, только начало, а завершение, мол, абсолютно невозможно. И потому все в целом, по сути, бессмысленно.
Разумеется, бессмысленно. А как иначе можно представить себе жизнь?! Ведь бессмысленность – основа ее основ. На какой иной основе, достаточно прочной и неколебимой, могла бы она зиждиться? Ведь любая, даже самая великая, идея всегда может быть подорвана другой великой идеей и со временем окончательно ею взорвана, уничтожена. Бессмысленность же неуязвима, несокрушима, неколебима. Она – единственно основательная основа, и потому выбор пал на нее. Неужели надо столько ломать себе голову, чтобы понять это?
Мне это и так ясно.
В воздухе носится что-то тревожное. В чем дело? Мне ничего не известно, но чутье мне подсказывает: что-то готовится.
С виду все как будто спокойно, жизнь в замке идет своим чередом. Даже спокойнее, чем обычно, поскольку гостей совсем мало и никаких приемов, никаких затей, как обычно в эту пору года. Но как бы объяснить... от этого только еще острее чувствуешь, что надвигаются важные события.
Я все время настороже, все подмечаю – но подмечать вроде бы нечего. В городе тоже не заметно ничего особенного. Все в точности как всегда. Но что-то неладно. И дело серьезное. Я уверен.
Надо набраться терпения и ждать, чем это разрешится.
Кондотьер Боккаросса уехал, и палаццо Джеральда снова опустело. Никто не знает, куда он уехал, исчез, будто сквозь землю провалился. Могут, конечно, подумать, что они с герцогом порвали. Многим казалось странным, как это герцог, человек высоко просвещенный, может находить удовольствие в обществе этого неотесанного грубияна. А вот я другого мнения. Не стану, конечно, отрицать, что Боккаросса – изрядный дикарь, а герцог, напротив, человек на редкость утонченный и воспитанный. Но ведь он и сам из рода кондотьеров, о чем большинство, кажется, совсем забыло. И давно ли его предки были кондотьерами – всего несколько поколений назад! А что такое несколько поколений!
Мне думается, эти двое понимали друг друга без особого труда.
Перемен пока никаких, но в воздухе по-прежнему тревожно. В таких вещах мое чутье меня не подводит. Готовится что-то серьезное.
Герцог в лихорадочной, можно сказать, деятельности. Но чем он занят? Принимает каких-то посетителей, запирается с ними для тайных переговоров. Все держится в секрете. О чем может идти речь?
Появляются какие-то гонцы, окруженные великой таинственностью, в замок их впускают только ночью. И теперь у нас вечно толчется народ, все по каким-то делам: наместники, советники, военачальники, главы старинных родов – старинных воинственных родов, покоренных когда-то предками герцога. Теперь уж никак не скажешь, что в замке спокойно.
Маэстро Бернардо не играет, видимо, во всем происходящем никакой роли. Герцог окружает себя сейчас людьми совсем иного сорта. Ученый старец вообще уже, видно, сошел со сцены, во всяком случае, не сравнить с прежним.
Я могу это только одобрить. Слишком уж много внимания ему уделяли при дворе.
Мое предчувствие, что готовится нечто серьезное, оправдалось. Сомнений больше нет.
Я сужу по целому ряду признаков. Во-первых, были призваны астрологи и очень долго сидели у герцога: и придворный астролог Никодемус, и прочие длиннобородые, проживающие тут паразитами. Признак безошибочный. Кроме того, герцог имел продолжительные беседы с послом Медичи и с представителем Венецианской торгашьей республики, а главное, с архиепископом, представляющим Святейший престол. И это, и кое-что другое из событий последних дней – все достаточно недвусмысленно, и все указывает в одном направлении.
Должно быть, готовится военный поход. Астрологов призвали, должно быть, для того, чтобы посоветоваться и узнать, как относятся к задуманному предприятию звезды – всякий благоразумный правитель не преминет это выяснить в первую очередь. Бедняги пребывали на задворках, покуда герцог водил компанию с мессиром Бернардо, который, правда, тоже верит в могущество звезд, но имеет на сей счет совсем другие понятия, полагаемые нашими звездочетами за ересь и дьявольское наваждение. Теперь же герцог счел, как видно, за лучшее приблизить к себе правоверных. И те снова чуть не лопаются от сознания собственной значительности. Переговоры же с послами устроены были, конечно, для того, чтобы их государства поддержали или, во всяком случае, не помешали задуманному.
Но важнее всего, думается мне, отношение к этим планам Его святейшества. Без божьего благословения не будет удачи ни в одном земном предприятии.
Я надеюсь, он его дал, так как жду не дождусь, когда наконец снова будет война.
Война будет! Мое чутье еще никогда меня не подводило, я чую войну во всем: эта тревога, эта таинственность, знакомое выражение человеческих лиц... Сам воздух пахнет войной. В нем есть что-то бодрящее, хорошо мне знакомое. Прямо-таки оживаешь после этой удушливой праздности, заполненной одной лишь бесконечной болтовней. Слава богу, что людям наконец нашлось дело, помимо болтовни.
Все люди, в сущности, хотят войны. Во время войны все проще, поэтому она приносит облегчение. Все люди считают, что жизнь слишком сложна. Так оно и есть, потому что они сами ее усложняют. Сама же по себе жизнь вовсе не сложна, наоборот, она отличается удивительной простотой. Но им, видимо, никогда этого не понять. Они не понимают, что лучше всего оставить все как есть. Они никак не могут оставить жизнь в покое, перестать использовать ее для множества самых странных целей. И вместе с тем они же считают, что просто жить и дышать – уже прекрасно!
Герцог сразу воспрянул и подтянулся. Лицо энергично и решительно: короткая квадратная бородка, впалые бледные щеки, быстрый взгляд, затаенно-зоркий, как у хищной птицы, парящей над своими охотничьими владениями. Он, должно быть, нацелился на свою излюбленную дичь – заклятого врага его рода.
Я видел, как он взбежал сегодня по парадной лестнице, сопровождаемый по пятам начальником гвардии (я думаю, они ездили проверить подготовку войск), – войдя в залу, он скинул плащ на руки подоспевшему слуге и остался стоять в своем красном камзоле, упругий и гибкий, как клинок, с надменной улыбкой на тонких губах. Он был похож на человека, сбросившего наконец маскарадный костюм. Все его существо дышало энергией. Все обличало в нем человека действия.
Да я и всегда знал, что он именно таков.
Астрологи объявили, что момент для войны на редкость удачный, удачнее выбрать невозможно. Они составили гороскоп герцога и нашли, что он родился под знаком Льва. (Невелика новость, это было известно еще при его рождении и очень, говорят, вдохновляло тогда фантазию его приближенных как доброе, многообещающее предзнаменование для будущего правителя, а в народе вызвало немало раздумий, да и страхов тоже. Потому он и имя носит такое – Лев.) А как раз поблизости от этого знака зодиака находится сейчас Марс, и скоро эта кровавая звезда бога войны совместится с могущественным созвездием герцога. Также и другие небесные феномены, имеющие влияние на судьбу герцога, исключительно благоприятны. Поэтому они, мол, могут твердо обещать счастливый исход кампании. Мало того, было бы прямо-таки непростительно не воспользоваться столь редкостным случаем.
Я нисколько не удивлен их предсказаниями, они ведь всегда предсказывают так, как желательно властителям, особенно после того случая, когда отец герцога велел наказать плетьми звездочета, утверждавшего, будто их роду грозит гибель, поскольку он высчитал, что кровавое восшествие на престол основателя династии по времени точно совпало с появлением на небе злой звезды, волочившей за собой огненный хвост, – предсказание, справедливое чуть не для каждого царствующего рода.
Ничего, повторяю, удивительного, что они так предсказали, и на сей раз я вполне ими доволен. Свое дело они знают, и наконец-то от них есть толк – ведь чрезвычайно важно, чтобы герцог, солдаты и весь народ верили, что звезды благожелательно относятся к их предприятию, что они в нем заинтересованы. Теперь звезды сказали свое слово, и все остались очень довольны сказанным.
Я-то никогда не беседую со звездами, а вот люди обожают это занятие.
Маэстро Бернардо снова меня удивил. Вчера вечером они с герцогом опять имели доверительную беседу и, как бывало много раз прежде, засиделись со своими разговорами далеко за полночь. Мне стало ясно, что ученый старец вовсе не утерял, как я думал, своего значения при дворе и его хитроумные изыскания вовсе не так чужды нашему беспокойному миру. Вовсе нет. Я очень ошибся.
Меня раздражает, что я так ошибаюсь, хотя и вижу людей насквозь.
Когда меня позвали прислуживать им и подавать по обыкновению кубки с вином, я застал их обоих склонившимися над какими-то диковинными рисунками и не мог сначала понять, что это такое. Потом мне удалось разглядеть их поближе, а из разговора все стало ясно. Там были нарисованы невиданные доселе военные машины, призванные сеять смерть и ужас в рядах врага, – боевые колесницы, которые косят людей длинными косами и оставляют на своем пути одни человеческие обрубки, и еще какие-то дьявольские штуковины, тоже на колесах, которые несутся, подталкиваемые скачущими галопом лошадьми, и врезаются в ряды врага и против которых бессильна любая храбрость, и крытые колесницы с упрятанными внутри неуязвимыми стрелками, способные, как он сказал, сокрушить любой боевой порядок и прикрывающие собой пехоту, которая врывается потом в открывшуюся брешь и довершает начатое. Здесь были орудия убийства столь ужасные, что просто непонятно, как можно было до такого додуматься, – я, к сожалению, не имел возможности посвятить свою жизнь военному искусству и не мог даже толком разобраться, что к чему. Еще там были всякие мортиры, бомбарды и фальконеты, изрыгающие огонь, камни и железные ядра, отрывающие солдатам головы и руки, и все это изображено было так правдоподобно и отчетливо, словно исполнение рисунка занимало маэстро не меньше его содержания. И он подробно объяснял, как действуют те или иные орудия уничтожения и какое чудовищное опустошение они способны произвести, и говорил об этом так же спокойно и деловито, как и обо всем прочем, что занимает его ум и фантазию. И по нему видно было, что он бы с удовольствием посмотрел, как сработают его машины на деле, что, впрочем, вполне понятно, ведь это его детища, и кому не хочется полюбоваться на дело своих рук.
Маэстро Бернардо успевал, выходит, и этим заниматься, будучи одновременно поглощен тысячью других дел – исследуя природу, всяческие ее тайны, изучая свои цветы и камни, и копаясь в теле Франческо, о котором, помню, он рассказывал герцогу как о великом, непостижимом произведении природы, и рисуя в Санта-Кроче «Тайную вечерю» с таким неземным, вознесенным на невидимый пьедестал Христом, окруженным любящими учениками – и съежившимся в своем уголке Иудой, будущим предателем.
И тем и другим он занимался, я уверен, с совершенно одинаковым увлечением. А почему бы ему и не увлекаться своими удивительными машинами так же горячо, как всем прочим! Допустим, человеческое тело и в самом деле очень сложное устройство, хотя лично я этого не нахожу, но ведь и машина не проще, да к тому же, повторяю, он сам ее творец.
Герцога, как ни странно, заинтересовали не столько самые диковинные и страшные на вид машины, хотя они-то, по-моему, как раз наиболее действенные, один их вид мог бы обратить в бегство целое войско, сколько, наоборот, внешне довольно немудреные и не такие уж страшные – он сказал, что они ему кажутся более надежными. Первые, по его мнению, – скорее, дело будущего. А сейчас надо использовать то, что осуществимо практически. Осадные приспособления, любопытный способ минного подкопа под крепостные башни, остроумные усовершенствования в устройстве метательных машин, составляющие пока секрет для неприятеля, – в общем, все то, что они, очевидно, и раньше не раз обсуждали, а частью уже пустили в дело.
В общем же герцог был в восторге. Поразительное богатство идей, богатство находок, буйный полет фантазии, поистине безграничной, – все это привело его в восхищение, и он в самых лестных выражениях прославлял гений ученого старца. Никогда, мол, еще не доказывал маэстро с такой очевидностью силу своей мысли и своего воображения! Оба они с головой погрузились в этот захватывающий мир фантазии и с жаром обменивались мыслями – совершенно так же, как в тот недавний, самый плодотворный из проведенных ими вместе вечеров. И я слушал их с радостью, потому что на сей раз и моя душа переполнена была восторгом и благоговением.
Теперь мне совершенно ясно, почему герцог пригласил ко двору мессира Бернардо и почему так держал себя с ним, обращался как с равным, всячески выказывал свое почтение, окружал самым лестным вниманием. Теперь мне понятен и его горячий интерес к ученым трудам Бернардо, к его исследованиям природы, его необъятным познаниям, как полезным, так и бесполезным, понятны его проницательные и восторженные суждения о живописи маэстро, о его «Тайной вечере» в Санта-Кроче и обо всем остальном, что делал этот разносторонне одаренный человек. Мне все теперь понятно!
Он поистине великий правитель!
Сегодня мне приснился страшный сон. Мне приснилось, будто маэстро Бернардо стоит высоко-высоко на горе, рослый и величественный, в ореоле седых волос над благородным лбом мыслителя, а вокруг носятся стремглав чудища, те самые жуткие уроды, которых я видел на его рисунках в Санта-Кроче. Они носились вокруг него подобно злым демонам, а он как бы царил над ними. Лица у этих кошмарных созданий походили на морды ящериц и лягушек, меж тем как его лицо было по обыкновению серьезно, строго и благородно. Но постепенно он уменьшился в росте, тело его съежилось, стало жалким и уродливым, и на нем выросли два крыла, составляющие одно целое с волосатыми ногами, совсем как у летучей мыши. Сохраняя на лице прежнее торжественное выражение, он начал махать ими и вдруг отделился от земли и, окруженный кошмарными созданиями, унесся в ночную тьму.
Я не придаю значения снам. Они ничего не означают и ни с чем не связаны. Действительность – единственное, что имеет какое-то значение.
Что он урод – я давно уразумел.
Кондотьер Боккаросса с четырьмя тысячами солдат перешел границу! Он проник уже на две мили в глубь страны, застигнув врасплох Лодовико Монтанцу по прозвищу Бык, который не ожидал нападения и не успел ничего предпринять.
Невероятная новость, поразившая весь город, как удар грома! Невероятное событие, взволновавшее все умы!
В полнейшей тайне собрал кондотьер в недоступных горах на юго-востоке своих наемников и дьявольски хитро подготовил нападение, завершившееся теперь таким успехом.
Никто ничего не знал – даже мы сами. Никто, кроме герцога – подлинного инициатора и вдохновителя гениального плана нападения. Просто непостижимо! Даже не верится!
Теперь дни дома Монтанца сочтены, и ненавистному Лодовико – столь же, говорят, ненавидимому соотечественниками, сколь и нами, – свернут наконец его бычью шею, на чем и кончится власть его гнусного рода.
Его обвели вокруг пальца – это его-то, при всей его хитрости! Без сомнения, он подозревал, что герцог вынашивает планы нападения на него, но ему было известно, что никаких войск тут в городе нет, и он особо не беспокоился. И менее всего он ожидал нападения именно с той стороны, где местность столь труднопроходима и где у него нет даже никаких пограничных крепостей. С Быком покончено! Настал час расплаты!
Трудно описать настроение, которое царит сейчас в городе. Люди толпятся на улицах, жестикулируют, громко говорят, взбудораженные, разгоряченные, или же стоят и молча смотрят на марширующие мимо отряды воинов – войско самого герцога. Неизвестно, откуда оно здесь взялось, словно из-под земли выросло. По всему видно, что нападение было очень тщательно подготовлено. Звонят во все колокола, и церкви полны народу, у входов давка. Святые отцы воссылают горячие молитвы за успех войны, нет сомнения, что все это делается с полнейшего благословения церкви. А как же иначе? Война всех нас увенчает славой!
Весь народ ликует. При дворе особенное ликование – воодушевление небывалое, и герцогом восхищаются безмерно.
Наши войска будут введены в дело в другом месте: они перейдут границу на востоке, по широкой речной долине – древний, классический путь наступления. Один дневной переход – и на равнине у подножия гор, где местность удобна для сражения и где земля пропитана кровью героев, они соединятся с отрядами кондотьера. Таков план кампании! Я его выведал!
Не в том смысле, что мне удалось что-то точно узнать, но я и без того все разнюхал, схватывая на лету по крупицам, словечко тут, словечко там, и пришел к вполне определенному выводу. Я только тем и занят, как бы все разведать, ничего не упустить: подслушиваю у дверей, прячусь за шкафами и драпировками, стараясь как можно больше выведать о тех грандиозных событиях, которые сейчас происходят.
Каков план! И он наверняка удастся. На этом участке границы имеются, правда, пограничные крепости. Но они падут. Не исключено, что и сами сдадутся, так как всякое сопротивление бесполезно. А возможно, их возьмут штурмом. Во всяком случае, помешать они нам не смогут. Ничто не сможет нам помешать, поскольку нападение было таким неожиданным, таким невероятно ошеломляющим.
Какой же он гениальный полководец, наш герцог! Какая многоопытная лиса! Какая хитрость, какой расчет! И сколько величия в самом замысле кампании!
Я горжусь, что я карлик такого герцога.
Все мои помыслы сосредоточены на одном: как бы мне попасть на войну? Я должен попасть. Во что бы то ни стало. Но как, каким путем осуществить мою мечту? У меня нет никаких военных познаний в обычном смысле слова. Тех, что требуются от военачальника или хотя бы от солдата. Но я владею оружием! И фехтовать могу, как подобает мужчине! Моя шпага не хуже любой другой! Разве что короче. Но короткие клинки иногда опаснее длинных! Враг на собственной шкуре почувствует!
Я заболеваю от этих навязчивых мыслей, от страха, что останусь, чего доброго, дома, с женщинами и детьми, останусь в стороне в тот самый момент, когда наконец что-то происходит. И ведь самая кровавая резня будет, наверное, именно сейчас, в самом начале.
Я жажду крови!
Меня берут! Берут!
Сегодня утром я наконец открылся во всем герцогу, высказал ему свое горячее желание участвовать в походе. Я изложил свою просьбу с таким жаром, что он, я заметил, не остался равнодушным. Мне к тому же повезло: я попал, как говорится, в добрую минуту. Он пригладил свои короткие, зачесанные на лоб волосы – верный знак, что он в хорошем настроении, – и черные глаза его блеснули, когда он взглянул на меня.
«Разумеется, ты попадешь на войну», – сказал он мне. Сам-то он идет, и меня, естественно, захватит. Может ли герцог обойтись без своего карлика? Кому же тогда потчевать его вином? И он весело подмигнул мне.
Меня берут! Берут!
Я сижу сейчас в походном шатре, который разбит на холме, поросшем пиниями, враг у подножия гор виден отсюда как на ладони. Полотнище шатра в широкую желтую и красную полосу – это цвета герцога – хлопает на ветру, возбуждая и подстегивая, как звуки фанфар. Я в полном боевом облачении, все в точности как у герцога: и латы, и шлем, и шпага на серебряной перевязи у бедра. Время предвечернее, и сейчас тут, кроме меня, ни души. Наружный полог откинут, и до меня доносятся голоса военачальников, обсуждающих план завтрашнего сражения, а издалека – мужественное, звучное пение солдат. Внизу на равнине я различаю черно-белый шатер Быка и суетящиеся вокруг фигурки людей, такие крохотные, что отсюда они кажутся совсем безобидными, а вдалеке слева – всадников без доспехов, голых по пояс, которые купают в реке коней.
В походе мы больше недели – время, насыщенное великими событиями. Наступление развивалось точно так, как я и предсказывал, Мы взяли пограничные крепости врага, обстреляв их предварительно из непревзойденных бомбард мессира Бернардо, впервые показавших, на что они способны, – гарнизон тут же сдался, устрашенный их жуткой канонадой. Бык в спешке бросил против нас не слишком многочисленные отряды из того войска, при помощи которого он пытался остановить продвижение Боккароссы, но из всех жарких схваток с ними мы вышли победителями, поскольку неприятель значительно уступал нам в силе. Между тем наемники Боккароссы, встречая все меньше сопротивления, огнем и мечом проложили себе путь на равнину и, не щадя ничего живого, продвигались все дальше на север, чтобы соединиться с нами. И вот вчера пополудни эта столь долгожданная, столь важная для дальнейшего хода кампании встреча состоялась. Итак, в настоящее время наши объединенные отряды стоят в предгорьях, между равниной и горами, составляя войско более чем в пятнадцать тысяч человек, из них две тысячи конницы.
Я присутствовал при встрече герцога с кондотьером. То была историческая минута, поистине незабываемая. Герцог, всем на удивление помолодевший за это время, был в роскошных доспехах: кольчуга и налокотники из позолоченного серебра, а на шлеме два пера, желтое и красное, – они красиво заколыхались, когда он, окруженный пышной свитой, изысканно приветствовал; своего пользующегося мрачной известностью союзника. Его всегда бледное, породистое лицо чуть порозовело, а на тонких губах появилась улыбка, искренняя и сердечная, но вместе с тем, как обычно, несколько сдержанная и как бы настороженная. Напротив него стоял Боккаросса, могучий и широченный – настоящий великан. У меня было странное чувство, будто я вижу его впервые. Но таким я и правда видел его впервые – ведь он явился прямо с поля боя. На нем были стальные доспехи, казавшиеся совсем простыми в сравнении с герцогскими, единственным их украшением была сделанная из бронзы звериная морда на груди – оскаленная в ярости львиная пасть. На шлеме никаких перьев, никаких украшений – просто гладкий шлем. Лицо его показалось мне самым ужасным из всех человеческих лиц. Жирное, рябое, с такой челюстью, что при виде ее невольно содрогнешься, с плотоядным, кроваво-красным ртом. Толстые губы были плотно сжаты, а притаившийся где-то в самой глубине, подобно хищнику в засаде, взгляд обратил бы, я думаю, в бегство любого врага, лишь показавшись на миг из своего укрытия. На него было страшно смотреть. Но я никогда еще не встречал человека, который выглядел бы настолько мужчиной. Для меня он олицетворял собой понятие власти. Как зачарованный смотрел я на него своим древним взглядом, все уже на свете повидавшим, глазами карлика, вобравшими в себя опыт тысячелетий.
Он был немногословен, почти все время молчал. Говорили другие. Один раз на какие-то слова герцога он улыбнулся. Не знаю, почему я сказал, что он улыбнулся, но у других людей это называется улыбкой.
Интересно, может, он, как и я, не умеет улыбаться?
Он не гладколицый, как другие. И не вчера родился, а происхождения древнего, хоть и не такого древнего, как я.
Герцог показался мне рядом с ним каким-то даже незначительным. И это при всем моем преклонении перед моим повелителем, особенно возросшем, как я не однажды упоминал, в последнее время!
Надеюсь, мне удастся повидать кондотьера в бою.
Итак, завтра на рассвете состоится решающая битва. Казалось бы, атаковать следовало немедля, как только наши два войска соединились и покуда Лодовико не успел еще перевести дух и собраться с силами – что он теперь, кстати, и поспешил сделать. Я высказал свои соображения герцогу, но он сказал, что надо дать людям передышку. К тому же надо, мол, быть рыцарем по отношению к противнику и дать ему возможность привести себя в боевую готовность перед столь ответственным сражением. Я выразил свои сомнения насчет благоразумности и целесообразности такого способа ведения войны. «Благоразумие благоразумием, – ответил он, – но я прежде всего рыцарь. И должен вести себя как рыцарь. Для тебя наши законы не писаны». Я покачал головой. Попробуй пойми этого странного человека. Хотелось бы знать, какого мнения Боккаросса.
А Бык, понятно, даром времени не терял. Ведь нам отсюда все видно. Он успел даже за этот день подтянуть подкрепления.
Но мы, разумеется, в любом случае победим, это предрешено. И возможно, оно и к лучшему, что он приумножил свое войско: будет кому рубить головы. Чем больше врагов, тем убедительней победа. Он мог бы, кажется, сообразить, что все равно будет разбит, и чем меньше у него солдат, тем для него же лучше. Но он гордец и действительно упрям как бык.
Было бы, однако, большой ошибкой полагать, что он вовсе не опасен. Он хитер, дерзок, изворотлив и поистине незаурядный военачальник. Он был бы грозным противником, если б эта война не обрушилась на него столь неожиданно. С каждым днем все яснее понимаешь, насколько важно было напасть так вот неожиданно; мы, наверно, не раз еще об этом вспомним за время похода.
Мне во всех подробностях известен план завтрашнего сражения. Наше, то есть герцогское, войско ударит в центр, войско Боккароссы – по левому флангу. Мы пойдем, таким образом, в наступление не по одному, а сразу по двум направлениям. Это вполне естественно, поскольку в нашем распоряжении два войска. Неприятель же, у которого только одно, вынужден будет драться тоже сразу на двух направлениях. Ясно, что это создаст для него очень большие трудности, а нам обеспечит большие преимущества. В исходе сомневаться не приходится. Хотя и мы, конечно, должны быть готовы к известным потерям. И вообще сражение, мне думается, будет кровавым. Без жертв, однако, ничего не достигнешь. Да и сражение это чрезвычайно важное, от его исхода зависит, надо полагать, исход всей войны. Дело стоит того, чтобы принести какие-то жертвы.
Меня все больше начинают занимать секреты военного искусства, до сих пор от меня сокрытые. А разнообразие и напряженность походной жизни мне очень даже по вкусу. Чудесная жизнь! Какое же это освобождение для тела и для души – участвовать в войне! Становишься как бы другим человеком. Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо. Мне так легко дышится. И так легко стало двигаться. Тело словно невесомое.
Никогда в жизни я не был так счастлив. Да что там говорить! Разве я знал прежде, что такое счастье!
Итак, завтра! Завтра!
Я, как ребенок, радуюсь этой битве.
Я страшно тороплюсь. Буду краток.
Победа завоевана, и победа блистательная! Враг отступает в полнейшем беспорядке, тщетно пытаясь собрать расстроенные части. Мы преследуем их по пятам! Путь к доселе неприступному городу Монтанца открыт!
Как только будет время, я подробно опишу эту замечательную битву.
События говорят сами за себя – слова лишились всякого смысла. Я сменил перо на меч.
Наконец у меня появилось немножко досуга, чтобы кое-что записать. Все эти последние дни мы с боями упорно продвигались вперед и нам буквально некогда было вздохнуть. Случалось, некогда было даже поставить на ночь палатки, и мы располагались лагерем прямо в открытом поле, среди пиний и олив, и спали, завернувшись в плащ и подложив под голову камень. Чудесная жизнь! Теперь, как я уже сказал, досуга стало побольше. Герцог говорит, что нам не мешает передохнуть, – возможно, он и прав. Беспрестанные победы тоже ведь в конце концов утомляют.
Мы стоим сейчас всего-навсего в полумиле от города, он весь перед нами как на ладони: посредине на холме древний замок Монтанца в окружении шпилей, башен, церквей и колоколен, дальше другие дома, попроще, и все это обнесено высоченной крепостной стеной – настоящее разбойничье гнездо. До нас доносится перезвон колоколов – не иначе они молят бога о спасении. Уж мы постараемся, чтобы их молитвы не были услышаны. Бык стянул сюда все остатки своего войска – на равнину между нами и городом. Он собрал всех, кого только мог. Все равно ему не хватит, принимая во внимание, как мы его отделали. Такой незаурядный военачальник, а не понимает, как видно, всей безнадежности своего положения. Судя по всему, он намерен драться до последнего, бросить в бой все, что у него осталось, лишь бы избежать уготованной ему судьбы. Это его последняя попытка спасти свой город.
Совершенно бессмысленная попытка. Судьба дома Монтанца была предрешена тем историческим утром, почти неделю назад, и вот теперь настал их последний час.
Ниже я попытаюсь дать подробное и достоверное описание великой, не знающей себе равных битвы.
Началось с того, что оба наши войска одновременно пошли в наступление, в точности как я и предсказывал. С вершины холма это представляло величественное зрелище – отрада для глаз и для души. Грянула боевая музыка, развернулся герцогский штандарт, над красочными, стройными рядами заколыхались знамена. Под звуки серебряных фанфар, огласивших озаренные восходящим солнцем окрестности, ринулась вниз со склонов лавина пехоты. Неприятель поджидал ее, сомкнувшись в тесные, грозные колонны, и, как только вооруженные до зубов противники столкнулись, закипела рукопашная. Кровь там, наверное, лилась рекой. Люди падали как подкошенные, раненые пытались отползти, но их тут же добивали или просто затаптывали, слышались жалобные вопли, обычные в каждой битве. Сражение колыхалось подобно разволновавшемуся морю, местами перевес был, казалось, на нашей стороне, местами – на стороне неприятеля. Боккаросса делал сначала вид, будто наступает на одном с нами направлении, но его отряды постепенно отклонялись в сторону, описывая широкую дугу, и набросились на неприятеля с фланга. Тот был захвачен врасплох хитрым маневром и не мог оказать серьезного сопротивления. Победа была не за горами, по крайней мере на мой взгляд. Прошел уже не один час, и солнце стояло высоко в небе.
И вдруг случилось нечто ужасное. Те наши отряды, что находились у реки, дрогнули. Они начали отступать под натиском правого фланга войска Лодовико, их теснили все дальше и дальше, а они только и делали, что беспомощно и неуклюже отбивались. Казалось, они вовсе утратили боевой дух. Они все отходили и отходили, до того, как видно, устрашившись смерти, что готовы были купить себе жизнь любой ценой. Я не верил своим глазам. Я не мог понять, что там такое творится, притом что мы ведь намного превосходили их численностью: нас было чуть не вдвое больше. Вся кровь кинулась мне в лицо: мне стыдно было за этих презренных трусов! Я неистовствовал, я кричал, я топал ногами, я в бешенстве грозил им кулаками, осыпал их проклятиями – изливал свой гнев и свое презрение. Что проку! Они меня, разумеется, не слышали – они все отступали и отступали. Мне казалось, я сойду с ума. И никто не шел к ним на выручку! Никто и внимания не обращал на затруднительность их положения. Да они того и не заслуживали!
Вдруг я увидел, как герцог, который командовал центром, сделал знак нескольким отрядам, стоявшим позади. Те двинулись вперед, по направлению к реке, и стали рьяно пробиваться сквозь ряды неприятеля. Неодолимые, отвоевывали они пядь за пядью на пути к реке, пока наконец не вырвались с ликующим воплем на берег. Отступление врагу было отрезано! Человек пятьсот – семьсот, не меньше, оказалось в окружении. Они как бы попали в мешок, и им ничего не оставалось, как ждать, пока их уничтожат.
Я остолбенел от изумления. Я и понятия не имел о подобного рода военной хитрости. Я принял это за малодушие. Сердце у меня колотилось, я задыхался от радости. У меня будто гора с плеч свалилась.
Дальше последовало захватывающее зрелище. Наши отряды начали со всех сторон теснить окруженного неприятеля, оттесняя его к узкой полоске земли между полем боя и рекой. В конце концов враг оказался зажатым так, что не мог шевельнуться, и тут мы стали беспощадно их изничтожать. Я в жизни не видел такой «кровавой бани». Баня-то получилась еще и настоящая, водяная: мы стали теснить их уже прямо в реку, сбрасывать туда целыми кучами, топить как котят. Они отчаянно боролись с течением, барахтались в водоворотах, вопили, звали на помощь и вообще вели себя вовсе не по-солдатски. Почти никто из них не умел плавать, они будто впервые очутились в воде. Тех, кому удавалось все же вынырнуть, тотчас закалывали, тех же, кто пытался переправиться на другой берег, уносило бурным течением. Почти никому не удалось спастись.
Бесчестье обернулось блистательной победой!
С этой минуты события развивались с невероятной стремительностью. Центр обрушился на неприятеля, левый фланг тоже, на правом фланге отряды Боккароссы рубили врага с удвоенной яростью. А вниз со склонов ринулась с пиками наперевес свежая, отдохнувшая конница и врезалась в самую гущу схватки, произведя полнейшую панику в измотанных, теснимых рядах войска Лодовико. Не выдержав, они очень скоро показали нам спину. И с конницей во главе мы бросились вдогонку, чтобы уж до конца пожать плоды нашей замечательной победы. Герцог, естественно, не намерен был упускать открывавшихся перед ним возможностей. Несколько отрядов, и пехота, и конница, отделились вдруг от остального войска и двинулись по направлению к боковому ущелью – очевидно, с целью отрезать путь противнику. Как дальше развивались события, нам уже не было видно, так как горы скрыли от нас действия обоих войск. Все разом исчезло из глаз, скрывшись меж покрытыми виноградниками холмами по другую сторону равнины, которая только что была театром военных действий.
В нашем лагере на холме началась суматоха, все пришло в движение. Запрягали в повозки лошадей, лихорадочно грузили всякое оружие и снаряжение, все бегали, все суетились, обоз готовился в путь. Я должен был ехать с повозкой, на которую сложили шатер герцога. Прозвучал сигнал к выступлению, и мы спустились со склона и выехали на поле брани, которое являло собой теперь унылую пустыню, усеянную телами убитых и раненых. Их было так много, что нам то и дело приходилось ехать прямо по телам. В большинстве случаев это были уже мертвецы, но некоторые начинали вопить как резаные. Наши раненые кричали нам вслед, умоляя подобрать их, но у нас не было такой возможности, нам нужно было торопиться, чтобы догнать войско. Войны закаляют, привыкаешь, казалось бы, ко всему. Но ничего подобного мне не доводилось еще видеть. Вперемешку с людьми лежали лошади. Мы переехали лошадь, у которой все брюхо было разворочено и внутренности вывалились наружу. Я не мог на это смотреть, меня чуть не вырвало. Сам не знаю, почему это на меня так подействовало. Я крикнул вознице, чтобы погонял, он щелкнул кнутом, и мы рванулись вперед.
Странное дело. Я не раз замечал, что в иных отношениях я очень чувствителен. Есть вещи, вида которых я совершенно не выношу. Меня так же вот начинает тошнить, стоит мне только вспомнить про кишки Франческо. Самые естественные, казалось бы, вещи всегда почему-то особенно тошнотворны.
День шел к концу. Все на свете имеет, увы, свой конец. Солнце, которое еще выглядывало из-за гор, освещало прощальными лучами поле брани, ставшее свидетелем небывалой доблести, небывалой славы и небывалого поражения. Сидя в тряской повозке, спиной к лошади, я смотрел, как сгущаются над равниной сумерки.
И вот сцена погрузилась во мрак, и разыгравшаяся здесь кровавая драма стала уже достоянием истории.
Теперь я могу сколько угодно заниматься своими записями. Дело в том, что зарядил дождь. Небо будто разверзлось и низвергает потоки воды. И днем и ночью все льет и льет.
Противно, разумеется. В лагере слякоть и грязь. Проходы между палатками превратились в сплошное жидкое глинистое месиво, в котором увязаешь чуть не по колено и где плавают вперемешку человечьи и лошадиные испражнения. Что ни тронь, все липкое и грязное, противно прикоснуться. Сквозь холст палатки тоже капает, и внутри все мокрое. Приятного, разумеется, мало, многим это действует на нервы. С вечера каждый раз надеешься, что завтра установится хорошая погода, но, проснувшись, слышишь все ту же барабанную дробь дождя по полотнищу палатки.
И что в нем пользы, в этом бесконечном дожде! Он только мешает военным действиям, приостановил всю войну. И как раз тогда, когда мы могли бы пожинать плоды наших замечательных побед. Чего ради он льет!
Солдаты приуныли. Только и делают, что спят да играют в кости. И никакого, естественно, боевого духа. А Бык тем временем собирается с силами, уж в этом-то можно не сомневаться. Мы же, понятно, не становимся сильнее. Беспокоиться, конечно, нечего, но просто зло берет, как подумаешь.
Нет ничего более губительного для боевого духа войска, нежели дождь. Зрелище перестает захватывать, возбуждать, все как бы тускнеет, теряет свой глянец, – все то яркое и праздничное, что связано с войной. Вся красота меркнет. Не следует, однако, представлять себе войну как вечный праздник. Война не игрушки, это дело серьезное. Это смерть, гибель и истребление. Это не просто приятное времяпрепровождение в увлекательных схватках с уступающим по силе противником. Тут нужно учиться выдержке, терпению, умению выносить любые лишения, тяготы, страдания. Это совершенно необходимо.
Если уныние охватит все войско, дело может принять угрожающий оборот. Нам еще немало предстоит свершить, прежде чем мы вернемся домой с победой. Враг еще не добит, хотя ждать, конечно, осталось недолго. И нельзя не признать, что он довольно ловко сумел отступить после того страшного разгрома у реки – частично ему все же удалось вырваться из окружения. А сейчас он, повторяю, наверняка снова собирается с силами. Нам потребуется весь наш прежний боевой дух, чтобы разгромить его окончательно.
В герцоге, однако, уныния не заметно ни малейшего. Он из тех, кто по-настоящему любит войну – во всех ее проявлениях. Он спокоен, уверен и энергичен, постоянно в ровном, отличном расположении духа. Ни на минуту не теряет мужества и уверенности в победе. Превосходный воин! В условиях походной жизни мы с ним удивительно схожи.
Единственное, что я против него имею и чего не могу ему простить, единственное, что служит поводом для горчайших с моей стороны упреков, – его упорное нежелание отпускать меня на поле боя. Не понимаю – отчего он мне отказывает? Отчего препятствует? Я умоляю его перед каждым сражением, один раз буквально на коленях умолял, обхватив его ноги и горько рыдая! Но он либо делает вид, будто не слышит, либо же отвечает с улыбкой, что я, мол, слишком ему дорог, не дай бог, что-нибудь со мной случится. Случится! Да я о том только и мечтаю! Он никак не хочет понять, что для меня это жизненно важно. Не понимает, что я всей душой рвусь в бой – как ни один из его солдат, более горячо, более искренне и страстно, чем другие. Для меня война не игрушки, для меня это сама жизнь. Я жажду сражаться, жажду убивать! Не ради того, чтобы отличиться, а ради самого сражения. Я хочу видеть, как вокруг меня падают убитые, хочу видеть смерть и гибель. Он и не подозревает, что я собой представляю. И я должен подавать ему вино, прислуживать ему и ни на шаг не отходить от палатки, в то время как душа моя рвется в гущу битвы. Я всегда только зритель, я вынужден смотреть, как другие делают то дело, на котором сосредоточены все мои помыслы, – самому же мне не дозволено принять участие в схватке. Невыносимое унижение. Я до сих пор не убил ни одного человека! Знал бы он, сколько страданий он мне причиняет, лишая меня такой возможности.
Я поэтому не вполне искренен, утверждая, что по-настоящему счастлив.
Другие, конечно, тоже замечают мое боевое рвение. Но им, в отличие от герцога, не известно, насколько это для меня серьезно. Они просто видят, что я всегда хожу в доспехах и при шпаге, и удивляются. Их мнение насчет меня и моей роли в этом походе мне совершенно безразлично.
Многих из нынешнего окружения герцога я, разумеется, прекрасно знаю. Это его придворные и постоянные гости в его замке, прославленные воины из древних, знаменитых родов, веками отличавшихся на войне, и разные там высокопоставленные особы, которые благодаря уже одному своему высокому положению оказались и во главе войска. Все нынешние военачальники давно и прекрасно известны мне, так же как и я им. Они-то наряду с герцогом и управляют ходом кампании. Его окружает, надо сказать, поистине избранное общество – самые блестящие представители военной аристократии страны.
Меня раздражает, что дон Риккардо тоже участвует в походе. Этот хвастун и выскочка вечно тут как тут (предпочтительно под боком у герцога) со своими дурацкими шуточками другим на потеху. Этот его плебейский румянец во всю щеку, эти его крупные белые зубы, которые он без конца скалит, потому что все ему кажется смешным, – удивительно все же примитивная личность! Чего стоит одна его манера встряхивать шевелюрой и с самодовольным видом крутить все время между пальцами кучерявую черную бородку. Не понимаю – как только герцог терпит его присутствие!
И уж совсем непонятно, что привлекательного находит в этом родовитом плебее герцогиня. Впрочем, меня это не касается, да и к делу не относится. Меня это просто не интересует.
Когда слышишь разговоры о том, что он якобы храбр, то просто-напросто не ясно, что при этом имеется в виду. Мне, во всяком случае, не ясно. Он наряду с прочими участвовал в битве у реки, но мне что-то не верится, чтоб он мог там хоть чем-нибудь отличиться. Я, например, вообще его там не заметил. Вероятно, это он сам так говорит. А поскольку все смотрят ему в рот и ловят каждое его слово, то ему ничего не стоит всех убедить. Лично я совершенно не верю, что он проявил там храбрость. Несносный хвастун – вот что он такое.
Храбрец! Смешно даже подумать!
Вот герцог, тот действительно храбр. Он всегда там, где жарче всего, его белоснежного скакуна и яркий плюмаж всегда различишь в самой гуще схватки, враг, если пожелает, может в любую минуту сойтись с ним лицом к лицу, он постоянно подвергает свою жизнь опасности. Он любит рукопашную ради рукопашной, это сразу видно, она его опьяняет. И Боккаросса, разумеется, храбр. Впрочем, по отношению к нему это, пожалуй, не то слово. Оно слишком мизерно и не дает полного представления о том, каков он в бою. Мне рассказывали: когда он идет на врага, то наводит ужас даже на самых закаленных воинов. И самое страшное, говорят, что он как бы вовсе даже не разъярен, не опьянен битвой, а просто сосредоточенно делает свое дело, убивает методически и хладнокровно. Он, говорят, часто сражается спешившись – наверное, чтобы быть поближе к своей жертве. Похоже, ему просто нравится пускать людям кровь, протыкать их насквозь. Как сражаются герцог и прочие, выглядит, говорят, по сравнению с этим детской забавой. Сам-то я не видел, поскольку издалека мне не разглядеть всех подробностей, знаю только с чужих слов. Не могу выразить, до чего мне досадно, что нельзя посмотреть на него вблизи.
Вот такие люди, как герцог и он, действительно храбры, каждый по-своему. Но уж дон Риккардо! Просто смешно упоминать его рядом с ними.
Боккаросса – как, впрочем, и его наемники – любит, говорят, к тому же сжигать все дотла на своем пути, грабить, разорять и опустошать все дочиста. А это уже слишком, по мнению герцога, военная необходимость такого не требует. Хотя вообще-то он и сам не против опустошений. Но там, где прошел Боккаросса, не остается, говорят, ничего живого. В общем, – конечно, если верить разговорам, – герцог и его кондотьер расходятся тут во мнениях. Лично я склоняюсь больше к точке зрения Боккароссы. Вражеская земля есть вражеская земля, и обращаться с ней надо соответственно. Таков закон войны. Пусть это называют жестокостью, но ведь война и жестокость нераздельны, тут уж ничего не поделаешь. Хочешь не хочешь, а надо истреблять тех, с кем воюешь, а страну разорять дотла, чтобы она уже не могла оправиться. Опасно оставлять у себя за спиной очаги сопротивления, надо быть уверенным, что тыл безопасен. Нет, Боккаросса, бесспорно, прав.
Герцог иной раз как бы вовсе забывает, что он среди врагов. С населением он обращается совершенно, на мой взгляд, непозволительно. Взять хотя бы такой случай. Мы проходили через одно паршивенькое горное селеньице, и он задержался поглядеть на какой-то там ихний праздник. Стоял и внимательно слушал, как они дудят в свои дудки, будто это и вправду музыка и стоило ради нее задерживаться. Не понимаю, какое он мог находить в ней удовольствие. И что ему была за охота вступать в разговор с этими полудикарями. Лично мне это совершенно непонятно. Да и сама эта их затея была совершенно нелепая – называлось это, кажется, праздник урожая или что-то в этом роде. Одна беременная женщина выплеснула на землю немного вина и оливкового масла, и все уселись вокруг этого места и стали передавать по кругу хлеб, вино и самодельный сыр из козьего молока, и все ели и пили. И герцог тоже уселся и стал есть вместе с ними и хвалить их оливки и этот их ужасный с виду, плоский сыр, а когда подошла его очередь, поднес ко рту старый, грязный кувшин с вином и пил из него, как все. Смотреть тошно. Я его просто не узнавал. Никогда бы не подумал, что он способен так себя вести. Он постоянно меня удивляет, не тем, так другим.
Когда он спросил, зачем женщина вылила на землю вино и масло, какой в этом смысл, они смутились и замолчали, будто это невесть какой секрет, и на их тупых деревенских физиономиях появилась хитроватая ухмылка. Наконец удалось выяснить, что это для того, чтобы земля понесла и разродилась на будущий год виноградом и оливками. Совсем уж смешно. Будто земля могла знать, что они вылили на нее вино и масло и чего они от нее при этом хотели. «Так у нас всегда делалось об эту пору», – сказали они. А один старик с длинной всклокоченной бородой, изрядно, видно, хлебнувший вина, подошел к герцогу и, наклонившись, сказал доверительно, глядя ему в глаза: «Так отцы наши делали, и не след нам отступать от обычая отцов».
Потом все они принялись танцевать свои неуклюжие деревенские танцы – и молодые, и старики, даже тот самый старикан, который стоял уже одной ногой в могиле. А музыканты играли на своих самодельных пастушьих дудках, из которых и всего-то можно было извлечь два-три звука, так что получалось все одно и то же, одно и то же. Не понимаю, что за охота была герцогу слушать эту примитивнейшую на свете музыку. Однако что он, что дон Риккардо – этот тоже был с нами, вечно он тут как тут – так и застыли на месте, вовсе позабыв, что идет война и кругом враги. А когда эти полудикари стали петь свои тягучие, заунывные песни, они уж и вовсе не могли оторваться. Так и просидели до самых сумерек. Пока наконец не сообразили, что оставаться к ночи в горах все же небезопасно.
«Какой чудесный вечер», – без конца твердили они друг другу на обратном пути к лагерю. А дон Риккардо, которому ничего не стоит разохаться и расчувствоваться, стал в самых высокопарных выражениях распространяться насчет красот ландшафта, хотя ничего особенно красивого в нем не было, и то и дело останавливался и прислушивался к дудкам и к песням, которые долго еще доносились до нас из этого затерянного высоко в горах, грязного, паршивого селеньица.
И в тот же вечер он явился в шатер к герцогу, прихватив в лагере двух продажных женщин, которые неизвестно как умудрились пробраться к нам из города через самое пекло – вероятно, в надежде поживиться, поскольку у нас с этим товаром дело обстоит неважно. И кроме того, женщине всегда интересней переспать с врагом, как они сами сказали. В первый момент герцог, судя по его виду, был неприятно поражен, и я не сомневался, что он сейчас разгневается и выгонит вон этих шлюх, а дона Риккардо примерно накажет за неслыханную дерзость, но, к моему неописуемому удивлению, он вдруг расхохотался, посадил одну из них к себе на колени и велел мне подать самого нашего благородного вина. Я такого в ту ночь насмотрелся, что до сих пор не могу опомниться. Я дорого бы дал, чтоб не присутствовать при их ночной оргии: теперь вот никак не отделаюсь от тошнотворных воспоминаний.
И как они только умудрились пробраться! Просто непонятно. Впрочем, женщины, в особенности женщины такого сорта, все равно что крысы, для них не существует препятствий, они где угодно ход прогрызут. Я собирался как раз пойти спать в свою палатку, но пришлось остаться прислуживать им – и не только моему господину и дону Риккардо, но и этим размалеванным шлюхам, от которых за сто шагов разило венецианскими притираниями и разгоряченной, потной женской плотью. Нет слов, чтобы выразить охватившее меня отвращение.
Дон Риккардо без конца расхваливал их красоту, особенно одной из них, он восторгался ее глазами, ее волосами, ее ногами, на которые по очереди указывал герцогу (хоть бы остановила этого бесстыдника!), а потом повернулся к другой и стал восхвалять ее в столь же льстивых выражениях, чтобы она не почувствовала себя обиженной. Все женщины прекрасны! – восклицал он. В них – вся восхитительная сладость жизни! Но восхитительней всех куртизанка, всю жизнь свою посвящающая любви, ни на миг ей не изменяющая! Он вел себя ужасно глупо и пошло, и хоть я и всегда считал его за пошлейшего и глупейшего из мужчин, но все же не думал, что он может быть столь поразительно смехотворен и туп.
Они много пили, и постепенно вино оказывало на них свое действие, и дон Риккардо, разумеется, вконец расчувствовался, стал разглагольствовать про любовь и кончил тем, что заговорил стихами, и стихи-то были скучнейшие, все больше любовные сонеты про какую-то Лауру, – эти дурочки даже прослезились. Он положил голову на колени к одной, герцог – к другой, и шлюхи нежно гладили их по волосам и блаженно вздыхали, слушая эту дурацкую болтовню. У дона Риккардо была та, что покрасивей, и я не мог не заметить, каким странным, пристальным взглядом смотрел на него герцог, когда глупые женщины начинали охать и ахать, восхищаясь тем, что он сказал или что сделал. Женщины всегда ведь предпочитают мужчин примитивных и незначительных, потому что у них с ними больше общего.
Но вдруг дон Риккардо вскочил и заявил, что хватит – довольно слезливых любовных восторгов, будем пить и веселиться! И тут началась самая настоящая оргия: пьянство, шуточки, хохот, анекдоты, до того скабрезные, что я даже пересказать их не могу. В самый разгар попойки герцог вдруг воскликнул, подняв свой бокал и выпив за здоровье дона Риккардо: «Завтра ты будешь моим знаменосцем в бою!» Дон Риккардо пришел в восторг от столь неожиданной милости, глаза его засверкали. «Надеюсь, драка будет жаркая!» – крикнул он, выхваляясь перед женщинами, чтобы они по достоинству оценили его храбрость. «Заранее знать нельзя, но возможно, что и так», – сказал герцог. И тут дон Риккардо схватил его руку и поцеловал ее почтительно и благодарно, словно рыцарь своему сюзерену. «Любезный мой герцог, запомни, что ты обещал в сей час пьяного веселья!» – «Будь спокоен. Я не забуду».
Шлюхи, как видно, находили сцену великолепной и пожирали их обоих глазами. Особенно, разумеется, того, кому предстояло нести в бою знамя.
По окончании этой интермедии разнузданная оргия продолжалась, они вели себя все непристойнее и бесстыднее, и мне, невольному свидетелю, неловко и противно было на них глядеть. Они обнимались и целовались, раскрасневшиеся, гнусно разгоряченные своей похотью, откровенной и необузданной. Гадость неописуемая! Хотя женщины для виду и сопротивлялись, мужчины стащили с них до пояса платья, обнажив груди, и у той, что покрасивей, соски оказались розовые, и возле одного была родинка, не слишком большая, но все же очень заметная. Когда я наливал ей вино, меня замутило от запаха ее тела. От нее пахло так же, как пахнет по утрам от герцогини, когда она еще в постели, но только к той я никогда не подходил так близко. Когда дон Риккардо взял ее за грудь, во мне поднялось такое отвращение и такая ненависть к этому распутнику, что я готов был удушить его собственными руками или проткнуть тут же на месте кинжалом, чтоб из него вытекла вся его похотливая кровь, чтоб он никогда больше не смог прикоснуться к женщине. Содрогаясь от переполнявшей меня брезгливости, я стоял в сторонке и думал: что за гнусные все же твари эти люди. Чтоб им всем сгореть в адском пламени!
Дону Риккардо, который волей-неволей занимался той, что покрасивее, потому что она сама к нему липла, пришла под конец в голову очередная дурацкая идея, а именно разыграть красотку в кости: кто, мол, выиграет, тому она и достанется. Мысль очень всем понравилась, и самому герцогу, и обеим женщинам, а та, о которой шла речь, откинувшись, полуголая, назад, пронзительно захохотала, в восторге от предстоящего поединка. Мне тошно было на нее глядеть, я не мог понять, что они находят в ней красивого и соблазнительного, как можно добиваться такого отвратительного приза. Она была светловолосая и белокожая, с большими голубыми глазами и ужасно волосатыми подмышками – по-моему, просто омерзительная. Я никогда не мог понять, к чему у людей волосы под мышками, всякий раз, как я это вижу, мне делается ужасно противно, особенно если подмышки потные. У нас, у карликов, все иначе, и это вызывает у нас брезгливость. Будь у меня где-нибудь волосы, кроме как на голове, где они человеку действительно нужны, я просто не знал бы, куда деваться от стыда.
Мне велели принести кости, герцог кинул первым, выпали шестерка и единица. По уговору красотка должна была достаться тому, кто первый наберет пятьдесят. Они продолжали по очереди кидать, а обе женщины следили не отрываясь, страшно заинтересованные, отпускали непристойные замечания, взвизгивали и хохотали. Выиграл герцог, и все повскакали со своих мест, хохотали и кричали, перебивая друг друга.
И тут оба они набросились на женщин, каждый на свою, сорвали с них платья и начали вытворять с ними до того уж невообразимые гнусности, что я, не помня себя, выскочил из шатра, и меня тут же начало рвать. Я весь покрылся холодным потом, а кожа сделалась как у ощипанного гуся. Дрожа от озноба, я заполз в палатку для прислуги и улегся на свою солому между поваром и несносным грубияном конюхом, от которого вечно пахнет лошадьми и который всякий раз, поднимаясь утром их чистить, пинает меня ногой, уж не знаю почему. Ему, он говорит, просто нравится меня пинать.
Любовь между людьми – нечто для меня непостижимое. Мне она внушает одно лишь отвращение. Все, чему я был свидетелем в ту ночь, вызывало во мне одно лишь отвращение.
Возможно, дело в том, что я существо иной породы, тоньше, чувствительнее, деликатнее, и поэтому остро реагирую на многое из того, что их вовсе не трогает. Не знаю. Я ни разу не испробовал того, что они зовут любовью, да и желания не имею. Ни малейшего. Однажды мне предложили карлицу, красивую женщину с маленькими проницательными, как у меня, глазками на морщинистом лице и пергаментной кожей – обличье, поистине достойное человека. Но она не возбудила во мне никаких чувств, хотя я и видел, что в красоте ее нет ничего отталкивающего, как это бывает у людей, ее красота была совсем иного свойства. Возможно, причина в том, что предложила мне ее герцогиня, задумавшая свести нас, так как надеялась, что мы родим ей маленького карлика, которого ей тогда очень хотелось. Это было еще до того, как у нее родилась Анджелика, и она мечтала завести себе игрушку. Забавно было бы иметь ребеночка-карлика, говорила она. Однако я вовсе не собирался оказывать ей подобную услугу и унижать свой род, соглашаясь на непристойное предложение.
Кстати, она ошибалась, полагая, что мы сможем подарить ей ребенка. Мы, карлики, детей не рожаем, мы бесплодны по самой своей природе. Мы не способствуем продолжению жизни, да и не желаем того. И нам ни к чему производить на свет потомство, ведь род человеческий сам производит на свет карликов. Нам можно не беспокоиться. Пусть эти высокомерные существа сами нас рожают, в тех же муках, что и человеческих детей. Наш древний род продолжается их же собственными усилиями – так, и только так, должны мы появляться на свет. В нашем бесплодии заключен глубокий смысл. Мы – того же происхождения, но вместе с тем совсем иного. Мы гости в этом мире. Древние, морщинистые гости, гости на тысячелетия, гости навечно.
Однако я слишком отклонился в сторону от своего повествования. Итак, продолжаю.
Наутро дон Риккардо действительно нес герцогское знамя. Чего я только не наслушался про то, как и почему все это произошло! У меня, однако, имеется на этот счет свое мнение, я подозреваю истинную подоплеку дела. Рассказывали, будто герцог, отдав весьма странный приказ, подверг жизнь дона Риккардо ненужной опасности, тот якобы только чудом не погиб, потому что оказался в очень опасном положении, будучи вынужденным со своим маленьким отрядом конницы первым атаковать неприятеля. Утверждали к тому же, что сражался он с неслыханной храбростью, – вот уж чему ни за что не поверю. Когда у него осталась лишь жалкая горстка всадников, они якобы все как один сплотились вокруг знамени и отбивались совершенно отчаянно, хотя по сравнению с неприятелем их было капля в море. И когда, казалось, все уже было потеряно, в гущу схватки ворвался якобы герцог – то ли он просто не мог удержаться, чтобы не принять участия в столь рискованной игре, то ли по какой другой причине, бог его знает. В сопровождении небольшой кучки всадников он врезался в ряды неприятеля и стал рубить направо и налево, явно прорываясь к дону Риккардо на помощь. Но тут его лошадь, получившая удар копьем в грудь, рухнула наземь. Герцог вылетел из седла и очутился на земле в окружении врагов. Это якобы переполнило дона Риккардо такой яростью и такой отвагой, что он со своими людьми пробился сквозь окружавшее их вражеское кольцо и при поддержке уцелевшей горстки герцогских всадников сумел каким-то чудом не подпустить к нему врага, покуда не подоспела выручка. Дон Риккардо будто бы истекал кровью от множества ран. Намекали, что он, должно быть, понял, что герцог желал ему смерти, и все же совершил такой поступок и спас жизнь своему господину.
Я в эту версию не верю. Она кажется мне слишком неправдоподобной. И передаю я ее лишь потому, что именно так, я слышал, рассказывали о драматических событиях того утра. Если сам я смотрю на дело по-другому, то объясняется это прежде всего тем, что мне слишком хорошо известен характер дона Риккардо. Я знаю его, как никто. Не такой он человек.
Версия эта, как мне кажется, слишком явно окрашена сложившимся у всех представлением о доне Риккардо, да и его собственным о себе представлением. Создалась красивая легенда, и никто уже не думает о том, соответствует ли она истине. Считается, что он – сама храбрость и все, что бы он ни делал, благородно, прекрасно и великолепно. А причиной тому лишь его удивительная способность лезть всем в глаза, всячески привлекать к себе внимание. Его поведение на войне отличается тем же смехотворным тщеславием, что и все его поведение вообще, всякий его поступок. А это его безрассудство, которое всех так умиляет, объясняется просто-напросто его глупостью. Глупое безрассудство принимают за мужество.
Если он и в самом деле так безумно храбр, если он постоянно, как он говорит, подвергает свою жизнь опасности – отчего, спрашивается, он никак не погибнет? Вопрос напрашивается сам собой. Жалеть о нем никто бы не стал, уж я-то во всяком случае.
На этот раз он был якобы весь изранен. Правда это или нет, мне неизвестно, но я позволю себе усомниться. Не так уж, наверно, все страшно. Раны, наверно, пустяковые. Во всяком случае, с тех пор я избавлен от необходимости его видеть.
Зато я охотно верю, что он имел наглость сражаться в плюмаже цветов герцогини, который она, как говорят, ему подарила перед тем, как мы выступили в поход, и, значит, тем утром эти перья развевались у него на шлеме, и он, выходит, открыто, пред всем светом, сражался в честь своей дамы сердца. Отстаивая столь мужественно герцогское знамя, он сражался, стало быть, в честь своей возлюбленной. И, спасая герцогу жизнь, он тоже, стало быть, сражался в ее честь. А ведь только что обнимал другую женщину. Возможно, и в бой пошел прямо из ее постели, украсив себя плюмажем, подаренным дамой сердца, – предметом великой и пламенной любви. Истинная его любовь распустилась пышным цветком над открытым рыцарским забралом, меж тем как вероломная плоть еще хранила жар преступной страсти. Поистине любовь между людьми – загадка. Неудивительно, что для меня она непостижима.
Загадочны и отношения этих двух мужчин, связанных с одной и той же женщиной. Не создает ли это своего рода тайных уз между ними? Иногда начинает казаться, что так оно и есть. Действительно ли, как утверждают, дон Риккардо спас герцогу жизнь? Не думаю. А впрочем, возможно – но в таком случае из одного лишь тщеславия, чтобы на свой, на рыцарский манер отплатить герцогу за то, что тот желал ему смерти, показать всем, какой он исключительно благородный. Это вполне в его духе. И действительно ли, как хотят уверить, герцог кинулся тогда спасать дону Риккардо жизнь, выручая его из смертельной опасности – хотя только что желал ему смерти? Не знаю. Мне это все же непонятно. Не может ведь человек одновременно и любить, и ненавидеть?
Я вспоминаю его странный, пристальный взгляд той ночью – он сулил смерть. Но я помню также, какие мечтательные, влажные были у него глаза, когда он слушал, как дон Риккардо читал стихи про любовь, великую, необъятную любовь, охватывающую нас своим пламенем и пожирающую, испепеляющую все наше существо. Быть может, любовь – это просто красивые стихи, без всякого определенного содержания, а просто приятные на слух, если читать звучно и проникновенно? Не знаю. Не исключено, однако, что и так. Люди – своего рода фальшивомонетчики.
Удивляет меня и та ночная сцена со шлюхой. Я всегда думал, что уж герцог-то до такого опуститься не может. Впрочем, какое мне дело. К тому же я привык, что он постоянно оказывается совсем иным, чем я себе представлял. На следующий день я рассказал про это в осторожных выражениях одному из слуг и выразил свое изумление. Он вовсе не был удивлен. У герцога, сказал он мне, всегда были любовницы из придворных дам или из горожанок, а иногда и знаменитые куртизанки, сейчас у него в любовницах дамиджелла [2] герцогини Фьяметта. Он меняет их как перчатки, сказал он со смехом, удивляясь моей неосведомленности.
Странно, что такое могло ускользнуть от моего на редкость, в общем-то, проницательного взгляда. Вот до чего ослепило меня безоговорочное преклонение перед моим господином.
Меня не волнует, что он изменяет герцогине. Я ее ненавижу и очень даже рад, что ее обманывают. К тому же она-то ведь любит дона Риккардо. Не герцогу, а ему пишет она те жаркие любовные слова, которые я вынужден прятать у себя на груди. Я от души надеюсь, что его в конце концов убьют.
Дождь, слава богу, перестал. Когда мы вышли сегодня из палаток, солнце жарко сияло, линии гор были ясны и отчетливы, хотя все кругом было, разумеется, пропитано влагой, повсюду стояли лужи, журчали ручьи. Утро было необыкновенно бодрящее. Небо очистилось, взгляду открывался возвышавшийся на своем холме разбойничий город Монтанца; мы успели уже забыть, как он выглядит, а теперь отчетливо был виден каждый дом за крепостной стеной, каждая бойница древних крепостных башен – все, вплоть до позолоченных крестов на церквах и колокольнях, после дождя виделось как бы особенно отчетливо. Недалек день, когда проклятый город будет взят и исчезнет наконец с лица земли.
Все рады выйти и поразмяться на свежем воздухе, хорошая погода бодрит и поднимает боевой дух. Уныние, равнодушие словно ветром сдуло. Все так и рвутся в бой. Я очень ошибался, полагая, что дождь действует губительно на боевой дух армии. Он, видимо, лишь притупляет его до поры до времени.
У нас в лагере жизнь кипит ключом. Солдаты, болтая и перешучиваясь, чистят оружие, слуги начищают до блеска рыцарские доспехи, коней гонят купать к быстрым потокам, которые во множестве журчат сейчас по склонам между оливками, все и вся готовится к предстоящему сражению. Лагерь обрел свой прежний вид, а война – свою прежнюю красочность и праздничность, что, бесспорно, ей больше к лицу. Яркие солдатские мундиры, рыцарские доспехи, роскошная серебряная конская сбруя – все блестит и сияет на солнце.
Я долго стоял, разглядывая город – конечную цель нашего похода. С виду он хорошо укреплен, его стены и крепостные сооружения могут показаться прямо-таки неприступными. Но мы его возьмем, и нам немало в том поможет мессир Бернардо. Я видел его новые тараны и метательные машины, хитроумные осадные приспособления и страшные, огромные бомбарды. Никакая в мире крепость не способна им противостоять. Мы пробьемся через любые преграды, будем крушить и ломать, а то и просто взорвем кусок стены, сделав хитрый минный подкоп, о котором он говорил в тот вечер, будем сражаться всеми мыслимыми средствами, пустим в дело все, что изобрел для нас его гений, и ворвемся в город, ворвемся на его улицы, сея вокруг смерть и опустошение. Город будет сожжен, разорен, стерт с лица земли. От него не останется камня на камне. И его жители, эти разбойники и бандиты, получат наконец по заслугам, будут истреблены или угнаны в плен, и лишь дымящиеся руины будут напоминать о былом могуществе дома Монтанца. Я убежден, что герцог твердой рукой расправится со своим кровным врагом. А уж что касается наемников Боккароссы – страшно даже представить, как они будут свирепствовать. То будет наша последняя и окончательная победа.
Но сперва нам предстоит смести с дороги войско, которое встало между нами и городом. Нетрудно заметить, что численность его значительно возросла – как я и предсказывал. Кое-кто утверждает, что это могучее войско, почти такое же огромное, как наше, включая и отряды Боккароссы. Это преувеличение. Оно действительно занимает теперь гораздо большую территорию, чем прежде, но называть его могучим – значит, по-моему, переоценивать силы неприятеля. Когда герцог увидел его в первый раз, он сначала вроде бы нахмурился, но тут же снова повеселел, воодушевившись, как видно, лицезрением вражеских сил, радуясь мысли о предстоящем сражении, возможности вступить наконец-то в захватывающую битву. Вот что значит истинный воин! Он ни минуты не сомневается в нашей победе, да и никто из наших военачальников не сомневается, насколько мне известно.
Весело, должно быть, участвовать в штурме города. До сих пор мне ни разу не доводилось.
Я сижу в своих покоях, в восточной башне нашего замка, на обычном для моих письменных занятий месте. За этой низенькой, очень удобной для меня конторкой я и продолжаю описание тех знаменательных и роковых событий, участником которых являюсь. Каким образом я снова оказался у себя дома? Все объясняется очень просто.
Мы выиграли сражение. Да мы и не сомневались, что выиграем, пусть даже ценой чувствительных потерь. И с той и с другой стороны убитых было достаточно, но с их стороны гораздо больше. Теперь им уже, конечно, трудно будет оказать нам сколько-нибудь серьезное сопротивление. Однако и для нас эта битва оказалась, повторяю, кровавой. Особенно на второй день. Но для того ведь и солдаты, чтобы употреблять их в дело. И ничего уж такого ужасного не произошло – зря только люди болтают.
А дома мы сейчас по той простой причине, что герцог вынужден был вернуться, чтобы собраться с силами для победоносного завершения войны. И кроме того, как я слышал, надо запастись необходимыми для этой цели денежными средствами. Подобное предприятие поглощает, само собой, значительные суммы. Герцог, говорят, ведет сейчас переговоры с венецианской синьорией. У этих торгашей нужного нам товара хоть отбавляй, и дело, говорят, должно скоро уладиться. После чего мы немедля снова выступим в поход.
Утверждают, что Боккаросса и его наемники запросили повышения платы и, кроме того, считают, что не все еще получили из того, что им причиталось по первоначальному уговору. Из-за этого они, как говорят, доставляют нам сейчас массу хлопот. Я, признаться, не ожидал, что они могут придавать такое значение этой стороне войны, ведь никто не сражается так отважно и бесстрашно, как они. Я думал, они любят войну ради войны, как я, например. Впрочем, нельзя, может, и требовать такого бескорыстия. Вполне, наверное, естественно, что они хотят, чтобы им заплатили. Ну что ж, они свое получат.
Говорят о каких-то там еще разногласиях между кондотьером и герцогом – да мало ли что болтают. Когда войско несет потери и не все идет гладко, люди обычно быстро впадают в уныние. Все недовольны исходом дела, все друг друга обвиняют, жалуются на усталость, подсчитывают потери у себя и у противника – в общем, одно к одному. А наемники Боккароссы хоть и отлично дерутся, прямо как бешеные, но очень возможно, что вовсе не ради осуществления далеко идущих замыслов герцога, очень может быть, что у них совсем другое на уме. Но все это мелочи. Абсолютно несущественно и преходяще.
Впрочем, мне это все достаточно неинтересно, и уж меньше всего вульгарные денежные счеты в таком деле, как война, и потому я не намерен распространяться дальше на эту тему.
Что за тоска сидеть дома! Человеку, явившемуся прямо с поля боя, здешнее существование представляется до ужаса пустым и монотонным. Время тянется бесконечно, и не знаешь, чем себя занять, всякая жизнедеятельность точно парализована. Впрочем, на днях все должно решиться. Скоро снова в поход.
На здешних обитателей смешно смотреть, я имею в виду слуг и всех прочих, кто не участвовал в войне. Они живут словно в другом мире, словно и не подозревают, что страна находится в состоянии войны. Глядя на мои доспехи, они разевают рты от удивления, будто не знают, что так всегда одеваются на поле боя – а иначе не успеешь оглянуться, как станешь добычей врага, обречешь себя на верную гибель. Они говорят, что здесь-то, мол, опасность не грозит. Но война-то ведь идет. И я скоро снова отправлюсь в поход. Всякую минуту можно ожидать приказа герцога о выступлении, и нужно быть в полной боевой готовности. Вот почему я и хожу в доспехах. Да разве им объяснишь.
Не побывав сами на войне, они, естественно, совершенно не способны вообразить, что это такое. А когда пытаешься нарисовать им хотя бы приблизительную картину походной жизни со всеми ее опасностями, они глядят на тебя с идиотским недоверием, не в силах вместе с тем скрыть тайную зависть. Всем своим видом они как бы хотят сказать, что я-то тут ни при чем, что сам я ничего такого не испытал и не принимал сколько-нибудь деятельного участия в тех битвах, о которых рассказываю. Нетрудно понять, что в них говорит самая обыкновенная зависть. Не испытал! Они не знают, что клинок моей шпаги еще хранит кровавый след последней жестокой битвы. Я его не показываю, так как не выношу солдатского бахвальства, которое процветает обычно на войне и столь свойственно, например, дону Риккардо. Я лишь крепче сжимаю эфес и поворачиваюсь к ним спиной.
А дело было так. В ходе нашей последней двухдневной битвы перед нами возникла задача овладеть высотой, расположенной между нашим правым флангом и городом, что мы и сделали. Стоило нам это недешево. Зато сразу же значительно улучшило наше положение. Герцог тотчас отправился поглядеть, какие именно преимущества дает нам овладение этой высотой. И я, естественно, вместе с ним. На самой вершине стоял загородный замок Лодовико. Место, надо сказать, было выбрано удачно, и замок, окруженный кипарисами и персиковыми деревьями, выглядел довольно эффектно. Несколько солдат и я вместе с ними пошли проверить, не укрылся ли там враг, способный преподнести нам неприятный сюрприз и покуситься на жизнь герцога. Замок был пуст, если не считать кучки дряхлых слуг, настолько беспомощных, что их, видимо, просто бросили при отступлении, – герцог отказался чинить над ними расправу. А я, пока суд да дело, спустился в подземелье, которое никто не удосужился осмотреть, хотя оно могло послужить прекрасным укрытием. Там я неожиданно наткнулся на карлика – Лодовико держит при дворе много карликов, – которого, очевидно, тоже бросили, не знаю уж почему. Он страшно перепугался и кинулся в полутемный боковой ход. Я крикнул: «Стой!» Но он не остановился на мой окрик, из чего я заключил, что совесть у него нечиста. Вооружен он или нет, я не знал, и потому погоня за ним по узким, запутанным подземным переходам была захватывающе рискованной. Наконец он шмыгнул в помещение, имевшее выход наружу, через который он, конечно, и задумал удрать, но не успел он открыть дверь, как я его настиг. Он жалобно пискнул, поняв, что попался. Я погнал его, как крысу, вдоль стен, зная, что теперь уж ему не уйти. В конце концов я загнал его в угол – теперь он был мой! Я насадил его на шпагу, легко прошедшую насквозь. На нем не было лат и ничего, что положено воину, одет он был в смехотворный голубой бархатный камзольчик с кружевами и всякой мишурой у ворота, словно маленький ребенок. Я оставил его лежать там, где он упал, и вернулся к дневному свету и к битве.
Я рассказал об этом вовсе не потому, что считаю свой поступок каким-то подвигом. Пустяковый эпизод, обычный на войне. Я вовсе не собираюсь этим похваляться. Я исполнил свой солдатский долг – только и всего. Никто об этом даже не знает, ни герцог и ни одна живая душа. Никто и не подозревает, что моя шпага обагрена вражеской кровью, и я не стираю кровавый след – в память о моем участии в походе.
Я немножко жалею, что сразил именно карлика, лучше бы я сошелся лицом к лицу с кем-нибудь из людей, столь мне ненавистных. К тому же и сама по себе борьба была бы более интересной. Но я и собственный народ ненавижу, мои сородичи мне тоже ненавистны. И в этом поединке, особенно в момент, когда я нанес смертельный удар, меня охватил экстаз, будто я исполнял некий религиозный обряд. Похожее чувство я испытал, когда душил Иосафата, – неистовую жажду истребления себе подобных. Отчего, зачем? Не знаю. Я сам себя не могу понять. Неужели я осужден жаждать истребления и себе подобных?
У него был писклявый, как у всех карликов, голосок кастрата, и он меня страшно разозлил. У меня-то у самого голос низкий и сильный.
Презренный, жалкий народец.
Отчего они не такие, как я!
Сегодня утром герцогиня пыталась завести со мной разговор про любовь. Она была в каком-то слезливом настроении, не знаю уж почему – вообще-то причина поплакать у нее, бесспорно, имеется, знала бы она, сколько у нее для этого поводов! Потом она вдруг разом переменила тон – настроения у нее меняются мгновенно – и заговорила уже шутливо. Сидя перед зеркалом, покуда камеристка укладывала ей волосы, она, мешая шутку с серьезным, упорно старалась втянуть меня в разговор, который я находил и неприятным, и неуместным. Ей, видите ли, не терпелось, чтобы я высказался на эту тему. Я всячески уклонялся. Но она не отставала. Неужели у меня никогда не было никаких амуров? «Нет, не было», – хмуро отрезал я. Она удивилась, никак не хотела поверить. И снова принялась меня донимать. Наконец, чтобы прекратить этот разговор, я сказал, что если бы когда и полюбил, так только мужчину.
Она обернулась, взглянула на меня и беззастенчиво расхохоталась, а вслед за ней и камеристка. «Мужчину! – воскликнула она насмешливо, будто в этом было что-то забавное. – Мужчину? Кого же именно? Уж не Боккароссу ли?» И обе они снова принялись хохотать. Я покраснел, потому что имел в виду как раз его. И когда они заметили, что я покраснел, они окончательно развеселились.
Я не понимал, что здесь смешного. Я смотрел на них ледяным, презрительным взглядом. Смеяться, по-моему, уродство и безобразие. Мне невыразимо противно видеть, как рот у человека вдруг разевается, обнажая красные десны. И что я могу поделать, если Боккаросса вызывает во мне самое искреннее восхищение, чувство, не лишенное, возможно, и пылкости. В моих глазах он настоящий мужчина.
Особенно же меня взбесил хохот этой грязной служанки, к тому же гораздо более вульгарный, чем смех ее госпожи. Я могу еще примириться, если герцогиня со мной пошутит, хотя мне ничего не стоило бы отбить у нее охоту шутить со мной на эту тему, я мог бы так ответить на ее вопрос о любви, что она бы ужаснулась, мог бы открыть ей глаза на эту их «любовь». Но я могу еще, повторяю, с этим примириться – она как-никак моя госпожа и герцогского рода. Но чтобы всякая жалкая тварь вроде этой девки осмеливалась надо мной смеяться! Нет уж, увольте! Она всегда вела себя со мной совершенно недопустимо, пыталась важничать и острить и дразнила меня тем, что я не могу открыть некоторые двери в замке. Ее-то какое дело! Наглая, неотесанная деревенщина, которую следовало бы просто-напросто высечь.
А Боккаросса... Что ж тут удивительного, если я им восхищаюсь. Я и сам воинственная натура.
Дни проходят в томительном ожидании, и не знаешь, чем себя занять.
Вчера меня послали в Санта-Кроче с поручением к маэстро Бернардо. Он по обыкновению пропадает там, продолжая работать над своей «Тайной вечерей». Я не раз задавал себе вопрос, отчего он не побывал на войне и не поглядел на свои машины в действии – на собственные свои детища? Неужели ему довольно того, что он произвел их на свет. Я думал, ему захочется поглядеть на них в действии. И уж там-то он мог бы сколько угодно изучать трупы, мог бы добиться больших успехов в своей науке.
Я застал его всецело погруженным в созерцание его возвышенного творения – он даже не заметил, как я вошел. Когда же он наконец поднял на меня глаза, то взгляд у него был совершенно невидящий – где он витал? На мои доспехи он и внимания не обратил, хотя никогда прежде не видел меня в них. Наверное, он их все же заметил, однако не выказал ни удивления, ни особого интереса. «Что тебе от меня надо, малыш?» – сказал он, глядя на меня вполне дружелюбно. Я изложил свое поручение, хотя и разозлился, что он меня так назвал. И тут же повернулся и ушел, задерживаться мне было ни к чему. Я только взглянул мельком на этот его шедевр, и мне показалось, что до конца так же далеко, как и в прошлый раз. Он никогда ничего не доводит до конца. Над чем он, собственно, так невероятно долго раздумывает?
Он ничего не спросил про войну, хотя и мог бы догадаться, что я прямо оттуда. У меня сложилось впечатление, что война его нисколько не интересует.
Синьория отказалась ссудить нас деньгами! Посланный от них заявил, чтобы никакого займа больше не ждали. Непостижимо! Совершенно непонятно. Они считают, что война велась плохо. Плохо! Какая наглость! Плохо! Когда мы только и делали, что побеждали! Мы проникли в самую глубь вражеской страны, дошли до самого их разбойничьего гнезда и стоим теперь у его стен с твердым намерением взять его, пожать плоды наших замечательных побед. И чтобы в такую минуту ставить нам палки в колеса! Когда город уже обречен и будет захвачен, разорен, сожжен, стерт с лица земли. Это возмутительно! Просто не верится, чтоб какие-то грязные торгаши помешали нам одержать окончательную победу! И только потому, что никак не могут расстаться со своим презренным металлом! Нет! Не может того быть! Это было бы верхом бесстыдства!
Герцог просто обязан найти выход. И найдет, разумеется. Разве могут какие-то пошлые деньги помешать победоносному завершению столь великой и славной войны? Это исключено.
В замке проходу нет от гонцов, чужеземных послов, советников и военачальников. Гонцы так и снуют туда-обратно.
Я просто с ума схожу от волнения.
Наемники Боккароссы отказываются дальше воевать! Они требуют, чтобы им немедленно заплатили все целиком, сколько было условлено, а впредь чтоб платили вдвое больше. Покуда, мол, свое не получат, они и пальцем не шевельнут. Герцог денег достать не может и пытается соблазнить их обещанием, что, когда город будет взят, он отдаст им его на полное разграбление, а добыча, мол, там ждет неслыханно богатая. Они отвечают, что еще неизвестно, будет ли город взят, до сих пор с ним такого не случалось. И прежде надо еще разгромить войско Быка и вести длительную осаду, а они не любят осад, им это скучно. Покуда торчишь в осаде, нет никакой возможности пограбить. У них и без того немалые потери, они потеряли людей больше, чем могли предположить. Им это вовсе не нравится. Им нравится убивать, но вовсе не нравится подыхать самим, так, мол, и передайте, и, уж во всяком случае, не за такую жалкую плату. Их манера выражаться отнюдь не отличается дипломатической изысканностью.
Что теперь будет? К чему все это приведет?
Впрочем, герцог наверняка отыщет какое-нибудь решение. Он дьявольски изобретателен. Он любит препятствия, тут-то и проявляется в полную силу его гений. И ведь наше непобедимое доселе войско как стояло, так и стоит у самых стен города Монтанца. Не будем про это забывать!
Война окончена! Войска отведут назад, через границу, и всему конец. Конец!
Уж не сплю ли я! Не во сне ли все это происходит! Сейчас, должно быть, проснусь и пойму, что это был всего лишь сон, страшный, кошмарный сон.
Но нет, это не сон! Все это происходит наяву. Кошмарная явь! В отчаянии хватаешься за голову, отказываясь что-либо понимать.
Алчность, бесчестность, предательство – все людские пороки, вместе взятые, одолели наше героическое войско, вырвав у него из рук оружие. Наши увенчанные славой, не знавшие ни единого поражения воины, грозной силой стоящие сейчас у врат неприятеля, должны покорно отступить, обманутые, преданные, всеми покинутые, должны вернуться домой. Домой! Когда они жаждут победить или умереть! Какое преступление, какая трагедия!
Наша великая война, славнейшая в истории страны, – и такой конец!
Я словно парализован. Никогда в жизни не был я так возмущен, не испытывал такого стыда. Все существо мое протестует ожесточенно и яростно. И в то же время я словно парализован, я чувствую свое полнейшее бессилие. Каким образом мог бы я вмешаться в ход событий и изменить его? Приостановить этот, мрачный спектакль? Я ничего не могу поделать. Ничего.
Это конец. Все кончено. Конец.
Когда я об этом услышал и когда до меня дошел смысл услышанного, я сбежал незаметно от них ото всех, убежал к себе наверх, чтобы остаться одному. Я боялся, что мои чувства окажутся сильнее меня, боялся, что не сумею с ними совладать, как подобает мужчине. И, едва войдя в свою каморку, я безудержно разрыдался. Я этого не скрываю. Я не в силах был дольше сдерживаться. В безумной ярости я прижимал кулаки к глазам и рыдал. Рыдал.
Герцог не покидает своих покоев и никого у себя не принимает. И обедает он там же, в полном одиночестве. Я прислуживаю ему за столом, и, кроме меня да еще слуги, приносящего кушанья, никто его не видит. Наружно он совершенно спокоен. Но что скрывается за этой бледной маской – трудно сказать. Лицо его, в обрамлении черной бороды, бело как мел, а глаза смотрят неподвижным, невидящим взглядом. Едва ли он замечает мое присутствие, и ни единого слова не сорвется никогда с этих тонких, бескровных губ. Бедняга слуга страшно его боится. Но он просто трус.
Когда пришло известие об отказе Венеции, о том, что эта проклятая торгашья республика вздумала помешать ему воевать, с ним случился приступ ярости. Я никогда его таким не видел. Он весь клокотал яростью, на него страшно было смотреть. Не помня себя, он выхватил из ножен кинжал и вонзил его в стол чуть не по самую рукоятку. Если бы жалкие торгаши видели его в ту минуту, они, я уверен, мигом выложили бы деньги на стол.
Говорят, он больше всего досадует, что так и не пришлось по-настоящему использовать гениальные изобретения мессира Бернардо. Как раз сейчас они бы очень ему пригодились. Он уверен, что с их помощью мы непременно взяли бы город и что победа, можно считать, была у нас в руках. Так за чем же тогда дело стало?
Я с удовольствием наблюдал, как он беснуется. Ярость его была прекрасна. Но потом я подумал, что, возможно, не такой уж он сильный человек. Почему он так зависим от других? И даже от каких-то пошлых денег? Отчего он не бросил против города наше собственное непобедимое войско и не стер его в порошок? Для чего тогда и войско?
Я просто спрашиваю. Я не военачальник и, возможно, вовсе не разбираюсь в военном искусстве. Но и моя душа болит и мучается, силясь понять постигшую нас судьбу.
Я снял с себя доспехи. С горьким чувством повесил я их на стенке в покоях для карликов. Так они там и висят, жалкие и бессильные, как тряпичная кукла на веревочке. Опозоренные. Обесчещенные.
Скоро уж месяц, как у нас мир. Настроение мрачное – в замке, в городе, по всей стране. Удивительно, как распространяется во время более или менее длительного мира всеобщее недовольство и уныние, вот и сейчас начинается то же самое, атмосфера становится все более удушающей, приобретает ту затхлую пресность, которая нагоняет на человека тоску. Возвратившиеся домой солдаты ходят недовольные, все не по ним, а те, кто отсиживался дома, язвят и подтрунивают над ними, из-за того, очевидно, что война не принесла желанных результатов. Будничная жизнь вяло и скучно течет по давно проложенному руслу, без радостей и без целей впереди. Все воодушевление, вся бодрость, что принесла с собой война, исчезли бесследно.
Замок точно вымер. Никто почти не входит, не выходит через парадные двери, кроме нас же самих, да и мы по большей части пользуемся другими входами. Докладывать не о ком, угощать некого. Парадные залы пустуют, даже придворные прячутся по своим углам и не кажут носа. В замковых переходах не встретишь ни души, а на лестницах услышишь разве что эхо собственных шагов. Даже жутко делается, будто попал в царство привидений. А во внутренних, отдаленных покоях все ходит из угла в угол герцог либо сидит в раздумье за столом, где открытой раной зияет проделанное его кинжалом отверстие. Мрачно и грозно смотрит он в одну точку, что-то замышляя, а что – неизвестно.
Печальное, тоскливое время. День едва-едва тащится, и никак не дождешься вечера.
Досуга у меня теперь хоть отбавляй, я могу сколько угодно заниматься описанием своей жизни и излагать свои мысли, но желания у меня нет ни малейшего. Чаще всего я просто сижу у окна и смотрю, как под стеной замка, извиваясь грязно-желтой ящерицей, лениво течет река, слизывая со стены зелень.
Та же самая река, что на земле Лодовико была свидетельницей нашей блистательной победы!
Нет, это неслыханно! Это самое возмутительное из всего, что произошло за последнее, ужасное время! Почва уходит у меня из-под ног – кому и чему можно после этого верить?!
Возможно ли вообразить: герцог считает, что он и дом Монтанца должны примириться и заключить договор о том, чтобы никогда больше не воевать друг против друга! Что нужно, мол, прекратить эти бесконечные войны, что обе стороны должны торжественно обязаться раз и навсегда с ними покончить – никогда больше не поднимать друг на друга оружие! Бык будто бы сперва не соглашался, обозленный, видимо, последним нападением. Однако герцог все более горячо настаивал на своем предложении. Зачем, мол, нашим народам истреблять друг друга, к чему эти бессмысленные войны? Они длятся, с небольшими перерывами, вот уже несколько столетий, не принося никому окончательной победы, обе стороны терпят от них один лишь ущерб. Сколько бедствий они нам причинили! Насколько лучше было бы жить в мире и согласии, чтобы страны наши могли процветать и благоденствовать, как тому, собственно, и следует быть! Постепенно Лодовико начал будто бы прислушиваться к тому, что толковал ему герцог в своих посланиях, и нашел его доводы более или менее разумными. И теперь вот ответил, что согласен на его предложение и принимает приглашение прибыть на переговоры по поводу «вечного мира» и подписания «торжественного договора».
Все, видно, сошли с ума! Вечный мир? Никаких войн? Какой вздор, какое ребячество! Неужели они воображают, что в их власти изменить существующий миропорядок? Какое самомнение! И какая измена прошлому, всем великим традициям! Никаких войн? Так что ж, выходит, и кровь никогда уже не прольется, и честь и геройство не будут больше в почете? И никогда уже не прозвучат фанфары, и конница не ринется в атаку с копьями наперевес, и враги не сойдутся в схватке, погибая смертью храбрых на поле брани? И не будет уже ничего, что способно было бы умерить безграничную гордыню рода человеческого? Не взмахнет уже своим широким мечом никакой Боккаросса, неумолимый и хладнокровный, напоминая спесивому племени, кто и что правит им? И рухнут самые основы жизни?!
Примирение! Можно ли вообразить что-либо более постыдное?! Примирение с заклятым, врагом! Какое кощунство, какое отвратительное извращение законов естества! И какое унижение, какое оскорбление для нас! Для наших воинов, для наших мертвецов! Какое надругательство над нашими павшими героями, которые, выходит, напрасно принесли себя в жертву! Меня просто переворачивает от подобной гнусности.
Так вот, значит, о чем он размышлял. А я-то никак не мог понять. Так вот оно что! И настроение у него теперь заметно улучшилось, он снова разговаривает с людьми и снова бодр и доволен собой. Он, видимо, воображает, что придумал нечто необыкновенно умное, напал на «великую идею».
Нет слов, чтобы выразить мое безграничное презрение. Моей вере в герцога, в моего господина, нанесен удар, от которого ей уже не оправиться. Он пал так низко, как только может пасть правитель. Вечный мир! Вечное перемирие! На веки вечные никаких войн! Все только мир и мир!
Поистине нелегко быть карликом такого господина.
В замке из-за этого идиотского события все вверх дном. На каждом шагу спотыкаешься о лоханки и метлы, повсюду кучи тряпья, и, когда его вытряхивают в окна, пыль стоит такая, что першит в горле. С чердаков нанесли старинных гобеленов, расстелили их повсюду и топчут ногами глупейшие любовные сцены, которые повесят потом на стенки, чтоб украсить этот позорный «праздник мира и согласия». Покои для гостей, годами пустовавшие, спешно приводятся в порядок, и слуги носятся взад-вперед как угорелые, не чуя под собой ног. Все злые, все замученные и проклинают в душе вздорную затею герцога. Палаццо Джеральди тоже чистят и моют, там будет, видимо, расквартирован эскорт Лодовико. Боккаросса и его наемники оставили, говорят, после себя настоящий свинарник. Кладовые набиваются съестными припасами – сотни быков, телят, бараньих туш, которые, по распоряжению дворецкого, поставляются в замок бедным людом; везут целые горы зерна, в том числе на корм лошадям. Крестьяне тоже, конечно, злы, по всей стране недовольство. Думаю, если б только могли, они бы взбунтовались против герцога из-за этого его идиотского «праздника мира». Отстреливают оленей в лесных угодьях, отлавливают и стреляют фазанов и зайцев, охотятся в горах на кабанов. Придворные егеря несут на поварню перепелов, куропаток и цапель, слуги режут голубей, выискивают на птичниках каплунов пожирнее, отбирают павлинов для парадного пира. Портные шьют роскошное платье для герцога и герцогини из дорогих венецианских тканей – на это небось кредит у них открыт, не то что на войну! – а также для всех патрициев города, без конца примеряют, бегают взад-вперед. Перед замком и дальше по всей улице сооружаются триумфальные арки, под которыми должен будет проехать Лодовико со свитой. Повсюду устанавливаются балдахины, служанки выбивают ковры и всякие там вышивки, которые будут вывешены в окнах. Музыканты упражняются с утра до вечера, так что голова раскалывается, а придворные поэты сочиняют какую-то очередную чушь, которую комедианты будут разыгрывать в тронной зале. Все только и делают, что готовятся к этому идиотскому празднику! Только о том и говорят, только про то и думают. Мы кипим как в котле, и ни одного спокойного уголка не найдешь – шагу нельзя ступить, чтобы с кем-то не столкнуться или обо что-то не споткнуться, беготня и суета неописуемые.
Я просто лопнуть готов от злости.
Враг торжественно вступил в нашу столицу, которая небывало разукрасилась и разрядилась в его честь. Предшествуемый тридцатью трубачами и флейтистами на конях, окруженный всадниками-телохранителями в зеленых и черных одеждах и с бердышами в руках, Лодовико Монтанца проскакал вместе со своим молокососом сыном Джованни по улицам, а за ними – знатные рыцари и сеньоры и две сотни арбалетчиков в арьергарде. Он скакал на вороном жеребце под расшитым серебром темно-зеленым бархатным чепраком, сам в серебряных доспехах, и встречен был «народным ликованием» – народ всегда ликует, если ему прикажут, а по какому поводу, ему неважно; Нынче, например, они воображают себя счастливыми оттого, что мир пребудет вовеки. Три герольда, высланные герцогом навстречу, возвестили о прибытии Лодовико и о причине сего визита, и во всех церквах города ударили в колокола. Великолепная увертюра к нашему позору. Дан был даже салют из водруженных на замковом валу бомбард, направленных дулами в небо – следовало бы, по-моему, направить их на процессию да зарядить получше. Лошадь под сыном Монтанцы испугалась салюта, а может, и чего другого и так шарахнулась, что всадник чуть не вылетел из седла, однако он быстро с ней справился и поскакал дальше, красный до ушей. Он выглядит совсем ребенком, ему, должно быть, не больше семнадцати. Хотя все обошлось, кругом тут же принялись гадать, уж не дурной ли это знак. Они вечно выискивают при «торжественных случаях» всякие знаки и предзнаменования, а больше у них и повода-то не было пустить в ход свою проницательность.
У ворот замка Лодовико спешился и приветствуем был в напыщенных, высокопарных выражениях герцогом. Он оказался приземистым крепышом с толстыми щечками сплошь в багровых прожилках и с короткой бычьей шеей. Борода у него растет только по краям подбородка, да и то реденькая, и отнюдь не украшает его и без того не слишком красивую физиономию. Острые серые глазки притворяются приветливыми, но им не следует доверять, всем ведь известно, что он за хитрец. Он производит впечатление человека вспыльчивого, и, при его полнокровии, его, по-моему, в любую минуту может хватить удар.
День прошел в церемониях, приемах, трапезах и переговорах касательно пресловутого соглашения между двумя нашими государствами. Вечером разыгрывалось ужасно скучное представление на латыни, и я не понял ни слова, да и прочие, по-моему, тоже. Зато потом стали представлять на обычном языке неприличную комедию, которую все поняли уже намного лучше – и смаковали грубые шуточки и всякие мерзости.
Мне она показалась тошнотворной.
На сегодняшний день наконец-то все, и я сижу наконец в своей каморке и радуюсь одиночеству. Что может быть приятнее! Хорошо, что потолки в покоях для карликов такие низкие, а то еще и сюда поселили бы гостей. Это было бы ужасно.
Этот герцогский сынок, очевидно, то, что люди называют «писаный красавец»; значит, он не в отца. Когда он скакал рядом с отцом на своем жеребце под голубым бархатным чепраком и сам в наряде того же цвета, все кругом называли его красавцем. Возможно. Но на мой лично вкус, в нем слишком мало мужского – эти его оленьи глаза, длинные черные волосы и девичья кожа... Краснеет, как девица, по всякому пустяку... Возможно, у меня дурной вкус, но я терпеть не могу такую внешность. По-моему, мужчина должен выглядеть мужчиной. Говорят, он похож на свою мать, великую праведницу и писаную красавицу Беатриче, которая, по слухам, уже перенеслась из чистилища в рай, хоть умерла всего десять лет назад.
После полудня я видел, как он прогуливался с Анджеликой по розарию. А позже я видел, как они гуляли у реки и кормили крошками лебедей. И в тот и в другой раз они, я заметил, все время о чем-то разговаривали. Не понимаю, о чем он может говорить с этим ребенком, совсем глупеньким. И он, должно быть, даже не замечает, до чего она некрасива, иначе, конечно, избегал бы ее общества. Возможно, он и сам не умнее, такое же примитивное существо.
Дон Риккардо, разумеется, тут как тут, участвует во всех церемониях, лезет, как обычно, вперед при каждом удобном случае. Раны его уже зажили. Хотя что я говорю? Какие раны? По нему ничего и не заметно, разве что одна рука немного хуже двигается. Вот вам и все геройство.
Вот уж третий день, как враг у нас в городе. Празднества в его честь следуют одно за другим, и нет ни минуты покоя. Я слишком устал вчера к вечеру, чтобы что-то записывать, и вот сейчас, уже утром, тороплюсь наверстать упущенное. Расскажу вкратце, как прошел вчерашний день и какие у меня были впечатления.
Оба герцога выехали еще до рассвета из замка и посвятили несколько часов соколиной охоте в лугах, что к западу от города. Лодовико – большой любитель соколиной охоты, а наш герцог держит превосходных соколов, среди них несколько очень редких, полученных им в дар от короля Франции, и ему, конечно, не терпелось похвастаться ими. Вернувшись с охоты, сели за стол, ели и пили, пили и ели до бесконечности, а потом была музыка, и хочешь не хочешь, а пришлось слушать, хотя, по-моему, ничего нет на свете хуже музыки, после этого показывали какую-то чушь с песнями и плясками, а потом выступали жонглеры, от которых все пришли в восторг, и это было действительно единственное, на что стоило посмотреть. Сразу же вслед за тем снова сели за стол, ели и пили до поздней ночи, и тут была разыграна совершенно непристойная пантомима, в которой и мужчины и женщины одеты были в такое облегающее платье, что казались чуть ли не голыми. Большинство к этому времени были пьяны, как свиньи. Итак, программа дня была исчерпана, и я смог наконец пойти спать и заснул как убитый.
Герцог все это время очень оживлен, любезен и очарователен, как никогда. Похоже, он просто не знает, как угодить своим гостям, и до того перед ними лебезит, что тошно делается. Я смотреть на него не могу без отвращения. Можно подумать, они с Быком закадычнейшие друзья. Наш герцог, по крайней мере, изо всех сил изображает искреннего друга. Лодовико вел себя вначале сдержанно, даже как бы настороженно, но постепенно это прошло. Да и явился-то он сюда с телохранителями и не одной сотней солдат – к чему бы, кажется, столько воинов, когда едешь заключать вечный мир? Хотя, конечно, его просто положение обязывает. Герцог, естественно, не может явиться к чужому двору без подобающей свиты. Я и сам прекрасно знаю, что таков обычай. Но все равно я просто видеть их спокойно не могу, всех этих врагов, так и хочется на них наброситься, а нельзя и пальцем тронуть. Ужасное положение.
Поведение моего господина – совершеннейшая для меня загадка; как он может так недостойно вести себя с нашими заклятыми врагами? Я ничего не понимаю. Впрочем, невелика новость. Никогда я не могу его понять. Это просто какой-то рок. Но довольно об этом, хочу только еще раз повторить то, что уже говорил: мое презрение к нему поистине не знает границ.
Джованни и Анджелику я снова видел вчера вместе, и не раз. Им, верно, скучно. Уже под вечер они сидели, я видел, у реки, но на этот раз они не кормили лебедей и не разговаривали, а просто сидели молча рядом и глядели на воду. Им, верно, не о чем больше говорить друг с другом.
Что еще стоит отметить? Пожалуй, больше ничего. Сегодня договор о «вечном мире» будет подписан, и после этого устроен будет парадный пир, который, вместе со всякими там затеями, продлится, наверно, до утра. Настроение у меня ужасное, и все мне на свете опротивело.
Герцог оказал мне великое доверие! Просто голова кружится! Я не могу сказать, что именно он мне поручил. Ни полслова. Это наша с ним тайна. Я не понимал до сих пор, насколько мы близки.
Я бесконечно счастлив. Вот все, что я могу сказать.
Сегодня в шесть часов вечера начнется большой парадный пир. Это главное из всех празднеств, и к нему столько всего придумано замечательного, что удастся он, без сомнения, на славу. Я жду его не дождусь.
Он поистине великий правитель!
Я расскажу сейчас, как прошел последний день и, главное, про пир, которым завершились празднества в честь подписания договора между нашим герцогским домом и домом Монтанца, а также про некоторые связанные с ним события.
Итак, сначала мы собрались в тронной зале, где зачитан был договор о нерушимом мире между двумя нашими государствами. Он был составлен в очень красивых и торжественных выражениях, и говорилось там среди прочего об упразднении пограничных крепостных сооружений, и свободной торговле между нашими странами, и о том, что именно следует предпринять для облегчения торговли. Затем последовала церемония подписания. Оба герцога, в сопровождении самых знатных приближенных, подошли к столу и начертали свои имена на двух разложенных там больших листах бумаги. Все происходило очень торжественно. И тотчас грянули фанфары: шестьдесят трубачей были расставлены вдоль стен на расстоянии трех шагов один от другого и одеты, через одного, в одежды цветов нашего герцога и Монтанцы. Затем под звуки нарочно для такого случая сочиненной торжественной музыки вся процессия во главе с гофмейстером двинулась в трапезную. Огромная зала утопала в свете пятидесяти серебряных канделябров и двухсот факелов, которые держали лакеи в расшитых золотом ливреях, но, помимо лакеев, еще и подобранные с улицы мальчишки в жалких лохмотьях, с грязными босыми ногами, от них, если подойти поближе, довольно скверно пахло. Было накрыто пять столов во всю длину залы, которые ломились под тяжестью столовой посуды из серебра и майолики, разноцветных гор всяких яств и фруктов и колоссальных, выпеченных из сладкого теста фигур, изображавших, как мне сказали, сцены из греческой мифологии – это какая-то языческая религия, с которой я не знаком. Посредине главного стола все было из золота: канделябры, вазы для фруктов, тарелки, кувшины для вина, кубки, – и там сели оба герцога и члены герцогских фамилий, а также самые знатные приближенные. Герцог сидел прямо напротив Быка, а по правую руку от него сидела герцогиня в пунцовом платье с разрезными рукавами из белой камки, расшитыми драгоценными каменьями, и золотым шитьем на жирной груди. На голове у нее была унизанная брильянтами серебряная сетка, которая немного скрашивала ее безобразные каштановые волосы, и, поскольку она, безусловно, не один час белилась и румянилась, яснее обычного было видно, что это слишком мягкое и полное лицо когда-то, верно, было очень красиво. Она улыбалась обычной своей неуловимой улыбкой. На герцоге был облегающий черный бархатный костюм, совсем простой, с прорезями в рукавах, из которых выбивался пышный желтый шелк. Он был строен и похож на юношу, гибок как клинок. Держался он несколько замкнуто, но был, как видно, в духе: то и дело приглаживал, по хорошо знакомой мне привычке, свои короткие черные волосы. И я вдруг почувствовал, как безгранично я ему предан. На Быке была короткая, широкая накидка из превосходной темно-зеленой ткани, отделанная соболем, а под ней ярко-красный камзол, украшенный свисавшими на грудь массивными золотыми цепями. В этом наряде он выглядел еще шире и приземистее, а упрятанная в соболий мех багровая бычья шея казалась еще толще и короче. Лицо его так и светилось сердечностью и дружелюбием, но человеческое лицо мало что значит, человека выдает тело.
Дон Риккардо тоже, разумеется, занимал место поблизости, и одно из самых почетных, хотя ему полагалось бы сидеть где-нибудь подальше, совсем за другим столом. Но он вечно лезет вперед, а герцог, разумеется, не может без него обойтись, а уж герцогиня и подавно. Он тотчас принялся болтать и надоедать всем, с самодовольным видом крутя между пальцами свою черную кудрявую бородку. Я смотрел на него ледяным взглядом, об истинном смысле которого никто даже и не догадывался. Впрочем, пока помолчу.
Как бы сами по себе – хотя места их, разумеется, были в общем ряду, – сидели друг подле друга Джованни с Анджеликой. Поскольку они почти одного возраста, вполне естественно, что их и посадили рядом. К тому же оба они герцогского рода – он по крайней мере. Она-то, очень возможно, и ублюдок. Они были самые юные среди гостей и выглядели скорее детьми, чем взрослыми, и потому, повторяю, были здесь как бы сами по себе. Казалось, они очутились здесь просто по недоразумению. Для бедняжки Анджелики это был первый выход в большой свет, и ее вырядили в белое шелковое платье с длинными узкими рукавами из золотой парчи, а на голове, слегка прикрывая светлые, чуть не бесцветные волосы, у нее была надета расшитая жемчугом и золотом шапочка. Выглядела она, само собой, ужасно. А всякому, кто привык ее видеть не иначе как в простом, чуть ли не бедном платье, она должна была казаться в этом наряде особенно уморительной. Рот был, как всегда, полуоткрыт, и младенческие щеки пылали смущением. Ее большие круглые голубые глаза восхищенно сияли, словно она невесть какое диво увидела. Впрочем, и Джованни, кажется, смущался, очутившись среди всех этих знатных людей, и время от времени бросал на них робкие взгляды. Но он, как видно, все же более привычен к обществу, робость скорее у него в натуре. На нем был голубой бархатный наряд с золотым шитьем по вороту, а на тонкой цепочке висел овальный золотой медальон, в котором, говорят, портрет его матери, той самой, что, по всеобщему утверждению, блаженствует сейчас в раю – откуда им про это знать, она, быть может, преспокойно мучится в чистилище. Гостям он, конечно, представлялся писаным красавцем, я слышал, они об этом перешептывались, однако, услыхав про «красивую пару», я понял, что представление о красоте кое у кого из них довольно странное. В общем, он не в моем вкусе. По-моему, мужчина должен выглядеть мужчиной. Даже не верится, что он герцогский сын и из рода Монтанца. Как он будет управлять народом и восседать на троне? Впрочем, насколько я понимаю, до этого дело не дойдет – на троне ему все равно не сидеть.
Эти дети не принимали участия в общей беседе, и любое внимание их, видимо, тяготило. Они, собственно, и друг с другом не очень-то разговаривали, но я заметил, что они все время как-то странно поглядывали друг на друга и, встречаясь взглядами, украдкой улыбались. Мне странно было видеть, как эта девица улыбается – что-то не припомню, чтоб она хоть раз улыбнулась с тех самых пор, как вышла из младенческого возраста. Правда, улыбалась она как-то неуверенно, словно пробуя. Возможно, понимала, что улыбка у нее некрасивая. Впрочем, человеческая улыбка всегда, по-моему, некрасива.
Чем дольше я за ними наблюдал, тем сильнее недоумевал: что это, собственно, с ними творится? Они едва прикасались к кушаньям, а то и просто сидели, уставившись каждый в свою тарелку. При этом, я заметил, они держались под столом за руки. Если в это время кто-нибудь из окружающих, перемигнувшись с соседом, принимался их разглядывать, они страшно смущались, краснели и начинали преувеличенно оживленно болтать. В конце концов я понял, что между ними совершенно особенные отношения – любовь. Ужасное открытие! Я и сам толком не понимаю, отчего это меня так возмутило. Отчего мне стало так невыразимо противно.
Любовь между людьми всегда отвратительна. Но любовь между этими детьми, такими невинными с виду, выглядела вдвойне гнусно. Меня даже в жар кинуло, настолько я был взбешен и возмущен, что приходится быть свидетелем подобного безобразия.
Впрочем, довольно пока про них. Я слишком отвлекся на этих малолеток, отнюдь не самых важных особ на торжественной трапезе. Продолжу ее описание.
После того как гости покончили с холодными блюдами, которые, как я говорил, в изобилии имелись на столе, в открытых дверях появился гофмаршал верхом на белой кобыле под пурпурным седлом и зычным голосом провозгласил названия первых двенадцати горячих блюд, которые тотчас же были внесены бесчисленными слугами и стольниками. И два трубача, державшие под уздцы лошадь, дружно затрубили. Дымящиеся блюда распространяли запах мяса, приправ и жира, и меня, при моем вообще отвращении к запахам съестного, чуть не стошнило. Старший стольник, с обычным своим идиотски важным видом, выгнув по-петушиному шею, приблизился к герцогскому столу и принялся разрезать мясо, уток и каплунов, при этом с пальцев левой руки, которой он придерживал кушанья, у него капал жир, а ножом он орудовал точно знаменитый фехтовальщик, демонстрирующий свое смертельно опасное искусство. Гости набросились на еду, и я почувствовал, как мне делается противно: во мне росло то похожее на брезгливость чувство, которое всегда меня охватывает при виде жующих людей, особенно таких вот прожорливых. Чтобы запихнуть кусок побольше, они отвратительным образом разевали рты, и челюсти у них работали безостановочно, в глубине же шевелился язык. Среди сидевших за герцогским столом противнее всего было смотреть на Быка: он ел по-хамски, поглощая кусок за куском с чудовищной прожорливостью. И язык у него был мерзкий, ярко-красный, широкий, настоящий бычий язык. Герцог, напротив, ел без жадности. Он съел в этот вечер даже меньше обычного, а пить почти не пил. Один раз я заметил, как он поднял бокал и задумался, глядя на зеленоватое стекло, точно рассматривал через него мир. Прочие пили безобразно много. Слуги без устали сновали взад-вперед, подливая в бокалы и кубки.
На огромных майоликовых блюдах внесли раззолоченных осетров, карпов и щук, которыми все долго восторгались, так искусно они были приготовлены, потом колоссальные блюда заливного, до того изукрашенного причудливым восковым орнаментом, что и не разобрать было, что это, собственно, такое, затем последовали паштеты в форме оленьих и кабаньих голов, зажаренные целиком молочные поросята, тоже позолоченные, куры в сладкой пахучей приправе и разные прочие пахучие кушанья, приготовленные из перепелов, фазанов и цапель. И наконец наряженные егерями пажи внесли сплошь позолоченного дикого кабана, из разинутой пасти которого вырывались языки пламени, так как туда было заложено какое-то горючее вещество, отвратительно вонявшее. Тут выскочили переодетые нимфами девицы – скорее голые, чем одетые, – и стали посыпать пол ароматическими порошками, отчего сделалось только хуже: совсем нечем стало дышать. Я просто задыхался.
Бык жадно набросился на кабанье жаркое, словно ничего до того не ел. Все прочие тоже положили себе по огромному куску темно-красного полусырого мяса, которое почитается у них за лакомство. Я с отвращением наблюдал, как они снова принялись двигать челюстями, пачкая губы и бороды жирным мясным соком, у меня было такое чувство, словно я присутствую при каком-то непотребстве, – вообще-то я избегаю есть вместе со всеми, довольствуясь лишь самым необходимым, – и мне все противней становилось глядеть на этих багрово-красных, раздувшихся от еды и питья, слишком больших людей, состоявших, казалось, из одних желудков. И невыносимо было смотреть, как старший стольник вспарывал кабана, вырезая изнутри кровавые куски, пока наконец не остался один скелет с висящими на нем лохмотьями мяса.
Дон Риккардо, который ел левой рукой с помощью слуги, специально приставленного нарезать ему мясо, отправлял себе в рот кусок за куском, запивая их огромным количеством вина. Лицо его представляло собой сплошную глупую улыбку, и здоровой рукой он беспрестанно подносил ко рту кубок. На нем был бархатный камзол темно-красного цвета, долженствующего, видимо, символизировать страсть – он всегда ведь одевается в честь своей дамы сердца. Взгляд его пламенел, как никогда, и он вдруг ни с того ни с сего взмахивал рукой и начинал читать какие-нибудь вздорные стишки, обращаясь к любому, кто только желал его слушать, – кроме герцогини. Напыщенные слова о любви к женщине и о любви к этой жизни изливались из него таким же потоком, каким вливалось в его глотку вино. Глаза герцогини вспыхивали, когда он изредка взглядывал на нее, и она дарила его своей загадочной улыбкой, хотя все остальное время сидела с полуотсутствующим видом, как обычно на праздниках. Кроме того, они иногда украдкой подолгу смотрели друг на друга, когда думали, что никто их не видит, и тогда у нее в глазах появлялся влажный, почти болезненный блеск. Я-то все видел. Я ни на минуту не выпускал их из виду – хоть они и не подозревали о том. Не подозревали они и о том, что таилось в глубинах моей души. Кто может про это знать? Кто может знать, что за неведомое зелье приготовляю я, карлик, в тайниках моей души, куда никому никогда не проникнуть? Кто знает что-нибудь о душе карлика, в сокровенных глубинах которой решается их судьба? Никто и не подозревает, что я собой представляю. Их счастье, что не подозревают. Если б узнали, они бы ужаснулись. Если б узнали, улыбка поблекла бы у них на губах и губы увяли бы и ссохлись на веки веков. И все вино в мире не смогло бы снова увлажнить их и окрасить.
Поглядим, найдется ли в мире вино, способное вернуть им свежесть и улыбку!
Я смотрел также на дамиджеллу герцогини Фьяметту, которая сидела хоть и не за герцогским столом, но на хорошем, в общем-то, месте, на лучшем, чем имела право по своему положению. При дворе она появилась недавно, и до сих пор я ее как-то не замечал. Теперь мне это кажется необъяснимым. Она ведь очень приметно красива, рослая и прямая, юная и в то же время зрелая, вполне созревшая для этого мира. У нее смуглое, очень гордое и жесткое лицо с правильными чертами и угольно-черные глаза, в самой глубине которых мерцает одна-единственная искорка. Я заметил, как герцог бросал на нее время от времени беспокойные взгляды, словно хотел по этому непроницаемому лицу прочитать ее мысли и узнать ее настроение. Она на него совсем не смотрела.
Но вот в зале погасили почти все свечи, и неизвестно откуда зазвучала быстрая музыка. В темноту стремительно ворвались двенадцать мавританских танцовщиц с зажженными факелами в зубах и начали свой бешеный танец. Все смотрели затаив дыхание. Они то крутились вихрем в огненных ореолах, окружавших их черные головы, то перебрасывались факелами, то швыряли их высоко в воздух и ловили потом сверкавшими в темноте хищными зубами. Они играли с пламенем, точно с опасным врагом, и все зачарованно и испуганно смотрели на зловещую пляску этих диковинных существ. Они крутились в основном около того места, где сидели оба герцога, и, когда они швыряли факелы, искры вихрем летали над столом. Когда они готовились поймать зубами факел, их черные лица искажались жуткими гримасами, словно то были злые духи, которые вырвались из преисподней, прихватив оттуда адское пламя. А почему бы и нет? Кто сказал, что не в геенне огненной зажгли они свои факелы? Я стоял, укрытый мраком, который делал невидимым мое древнее лицо карлика, и смотрел на этих странных духов и на их диковинную, зловещую пляску, перенятую, казалось, у самого сатаны.
И словно в подтверждение своей сатанинской сущности и в напоминание о царстве мертвых, ожидающем всех живых, они перевернули под конец факелы вниз, быстро погасили их об пол и исчезли, будто сквозь землю провалились.
До того как снова зажгли свечи, я успел различить своими глазами карлика, которые видят в темноте зорче человеческих, что иные из гостей судорожно сжимали рукоятку кинжала, будто готовые к любым неожиданностям.
С какой стати? Ведь то были всего-навсего танцовщицы, которых герцог нанял в Венеции для развлечения гостей.
Как только зала снова осветилась, в дверях снова появился гофмаршал на своей белой кобыле и зычно возвестил о «событии» вечера, удивительнейшем, изысканнейшем кушанье, и тотчас со всех сторон стали стекаться к столам слуги – их было, верно, больше пятидесяти, – они несли над головами огромные, отделанные драгоценными каменьями серебряные блюда, на которых восседали, как на тронах, павлины, позолоченные, с распущенными хвостами, переливавшимися всеми цветами радуги. Их появление вызвало совершенно идиотский восторг. И недавний страх, и перевернутые факелы, напомнившие о смерти, – все улетучилось, словно и не бывало. Люди как дети: одну игру тотчас забывают ради другой. Лишь ту игру, в которую я с ними сыграю, им не удастся забыть.
Потаращив глаза на невиданное кушанье, они накинулись на него с той же жадностью, с какой накидывались на любое блюдо. И все началось заново по милости этих спесивых птиц, которыми я всегда гнушался и которые напоминают мне людей, – видно, потому люди так ими и восхищаются, почитая за лакомство. Когда с павлинами было покончено, на столе снова появились фазаны, каплуны, перепелки, утки, осетры, карпы и сочащееся кровью жаркое из диких животных – снова целые горы еды, которую они заглатывали с такой алчностью, что меня чуть не вырвало от омерзения. А затем явились горы печений, конфет и всяких вонявших мускусом сладостей, пожиравшихся с такой быстротой, точно гости весь вечер просидели голодные. А под конец они набросились на искусно выпеченные и прекраснейшие, по их же собственным словам, фигуры богов из греческой мифологии, резали их на куски и запихивали в рот до тех пор, пока не остались одни крошки. Столы выглядели словно после нашествия варваров. Я смотрел на это опустошение и на этих разгоряченных, потных людей с величайшим омерзением.
Тут выступил вперед гофмейстер и потребовал тишины. Он объявил, что сейчас будет представлена замечательнейшая сцена-аллегория, сочиненная по высочайшему повелению герцога его придворными поэтами для развлечения и удовольствия высокочтимых гостей. Тощие, худосочные поэты, которые сидели в самом дальнем углу за самым бедным столом, навострили уши – эти примитивные, самодовольные создания с нетерпением предвкушали исполнение своего хитроумного творения, которое по причине его глубокомысленного и иносказательного содержания долженствовало составить украшение праздника.
На сооруженных у стены подмостках появился, сверкая доспехами, бог Марс и заявил, что он решил свести двух могучих воинов, Целефона и Каликста, в битве, которая прославится на весь мир и увековечит их имена, но главное – убедит людей в его, бога войны, всемогуществе и величии: пусть все увидят, как два благородных мужа, покорные его воле, вступили в героическую схватку, пролив в его честь свою кровь. Доколе отвага и рыцарство пребудут на земле, оные неоценимые добродетели станут служить ему, и никому другому, сказал он и с этими словами удалился.
Тут на подмостки вышли оба воина и, едва завидев друг друга, ринулись в бой и показали в этой довольно долго длившейся сцене такое искусство владения мечом, что те из гостей, кто знал в этом толк и мог по достоинству оценить поединок, пришли в восторг. Я тоже должен признать, что дрались они замечательно и что я получил большое удовольствие от этой сцены. Они делали вид, будто наносят друг другу опаснейшие раны, пока наконец, якобы обессиленные от потери крови и увечий, не рухнули оба замертво на пол.
Тут опять выступил вперед бог войны и стал говорить в красивых выражениях про их славную битву, уготовившую им смерть героев, про свою неодолимую власть над людскими душами и про самого себя, превосходящего своим могуществом на земле всех богов Олимпа.
Потом он удалился. Послышалась вкрадчивая, тихая музыка, и через некоторое время на подмостки выплыла богиня Венера в сопровождении трех своих подружек по имени «грации» и увидела двух поверженных воинов, валявшихся в совершенно растерзанном виде и купавшихся, как она выразилась, в собственной крови. Три грации склонились над ними и стали причитать, мол, как это ужасно, что двое таких красивых, великолепных мужчин ни за что ни про что лишились своей мужской силы и испустили дух, а их повелительница, покуда они оплакивали горькую судьбу воинов, объяснила, что, без сомнения, это жестокий Марс их раззадорил и заставил кинуться в бессмысленную битву. Грации с этим согласились, но не преминули ей вместе с тем напомнить, что Марс ее любовник, которого она, несмотря на всю свою небесную кротость, заключает в объятия. Но она заявила, что это низкая клевета. Разве могла бы богиня любви полюбить это кровожадное, варварское божество, всем ненавистное и отвратительное, вплоть до собственного его отца, великого Юпитера? С этими словами она подошла и коснулась убитых своим волшебным жезлом, и они тут же вскочили, живые и невредимые, и протянули друг другу руки в знак вечного мира и дружбы, обещая никогда больше не поддаваться на соблазны жестокого Марса, который вовлек их в эту кровавую, смертельную битву.
Затем богиня произнесла длинную и трогательную речь о любви, в которой восхваляла ее как самую могучую и самую кроткую из всех властвующих над нами сил, как источник жизни и начало всех начал. Она долго говорила о благостной власти любви, которая, мол, самой силе дарует нежность и которая диктует земным существам небесные законы и способна заставить склониться пред собою все живое, которая способна исправлять и облагораживать грубое и низменное в людях, управлять поступками правителей и обычаями народов, и что, мол, человеческая любовь и человеческое милосердие уже начали свое триумфальное шествие по разоренному, оскверненному кровью миру, имея у себя в услужении благородство и рыцарственность и одаряя род людской иными добродетелями, нежели воинская честь и боевая слава. И, подняв вверх свой волшебный жезл, она возвестила, что именно она, божество всемогущее и всевластное, завоюет грешную землю и обратит ее в обитель любви и вечного мира.
Будь у меня лицо, способное улыбаться, я непременно бы улыбнулся, услышав это наивное заключение. Чувствительные излияния богини встретили, однако, живой отклик у зрителей и многих взволновали и растрогали, заключительные же красивые словеса все слушали, можно сказать, затаив дыхание. Сочинители, породившие на свет это творение, приписали, судя по их довольным физиономиям, весь успех представления себе, хотя про них и думать забыли. Они, я уверен, рассматривали эту свою изобилующую намеками и красивыми словами аллегорию как самое значительное из всего, что происходило на празднествах в честь заключения договора о вечном мире между нашим герцогским домом и домом Монтанца. Я же смею думать, что самым значительным было то, что последовало за этим.
Мое место было, как обычно, за спиной моего высокого повелителя, поскольку, прекрасно изучив его, я могу угадывать его желания прежде, чем он скажет или даже подумает, и исполнять его приказания так, будто я часть его самого. Он сделал мне знак, никем, кроме меня, не замеченный, чтобы я налил Лодовико, его сыну и его приближенным того самого драгоценного вина, которым я распоряжаюсь и рецепт которого известен только мне. Я взял свой золотой кувшин и налил из него сначала Быку. Он давно уже сбросил отороченную мехом накидку, разгорячившись от всего выпитого, и сидел в своем ярко-красном камзоле, коренастый, мясистый и совершенно багровый от чрезмерного прилива крови к голове. Золотые цепи, которые обвивали его бычью шею, до того перепутались, что он выглядел в них как закованный. Воздух вокруг этой напичканной снедью туши был отравлен газами, потом и винными парами, и находиться рядом с этим звероподобным существом было противно до тошноты. Есть ли на свете тварь омерзительнее человека, подумал я, отходя, и стал наливать по очереди самым знатным его приближенным, тем, кто сидел за герцогским столом. Потом я наполнил золотой кубок Джованни, заметив при этом, что Анджелика уставилась на меня своими круглыми голубыми глазами с тем же точно выражением наивного изумления, как в тот раз, когда, будучи еще ребенком, поняла по моему окаменевшему древнему лицу, что я не хочу с ней играть. Когда я подходил, она, я заметил, выпустила его руку и внезапно побледнела, испугавшись, видно, не проник ли я в их постыдную тайну. И она не ошиблась. Мне гадко было наблюдать за их сближением, тем более преступным, что они принадлежат к двум враждующим домам и что они совсем еще дети, а уже погружаются в грязную трясину любви. Я наблюдал румянец на их лицах, эту краску, выступающую, когда кровь взбудоражена постыдными желаниями, желаниями, которые, вырываясь наружу, являют собой столь тошнотворное зрелище. Противно было видеть эту смесь невинности и похоти, особенно пакостную и превращающую любовь между людьми в этом возрасте в нечто совершенно уж безобразное. Я с удовольствием подлил ему в кубок, который был пуст только наполовину – оно и неважно, моего напитка достаточно только капнуть.
Затем я подошел к дону Риккардо и налил ему до краев. Это не входило в мою задачу. Но у меня есть свои собственные задачи. Я и сам могу давать себе задания. И, увидев, что герцог на меня смотрит, я спокойно выдержал его взгляд. Странный взгляд. У людей бывает такой взгляд. У карликов никогда. Словно нечто затаенное, обитавшее где-то на дне его души, всплыло вдруг на поверхность и со страхом и сладострастием наблюдало за мной. Некое затаенное желание вынырнуло на минутку из темных глубин, как боящееся света водяное чудище с извивающейся скользкой спиной. У древнего, подобно мне, существа никогда не бывает такого взгляда. Я твердо смотрел ему в глаза, и, надеюсь, он заметил, что рука моя не дрогнула.
Я знаю, чего ему хочется. Но я знаю также, что он рыцарь. Я не рыцарь. Я всего лишь карлик рыцаря. Я угадываю его желания прежде, чем он скажет или даже подумает, и, будучи как бы частью его самого, исполняю даже самые неслышные его приказания. Хорошо иметь при себе такого вот маленького браво [3], делающего за тебя часть твоих дел.
Как раз когда я наполнял дону Риккардо кубок, который, разумеется, опять был пуст, он захохотал, откинувшись назад, так что борода у него встала торчком, а рот с двумя рядами широких белых зубов разинулся во всю ширь, зазияв огромной дырой. Я мог заглянуть ему в самую глотку. Я уже говорил, насколько неприятно, по-моему, наблюдать смеющегося человека. Но видеть, как хохочет своим вульгарным хохотом этот шут, «влюбленный в жизнь» и считающий ее такой неотразимо приятной, было противно до невозможности. Десны и губы у него были совершенно мокрые, а в уголках глаз, откуда к расширенным блестящим зрачкам шли тоненькие кровяные прожилки, все время скапливались слезы. Ниже короткой черной щетины под бородой прыгал на шее кадык. На левой руке у него я заметил то самое кольцо с рубинами, которое герцогиня подарила ему как-то раз, когда он заболел, и которое я прятал у себя на груди завернутое в одно из ее похотливых любовных писем.
Чему он смеялся, я не знаю, да мне это и неинтересно, я уверен, что сам я все равно не нашел бы в этом ничего забавного. Смеялся он, во всяком случае, в последний раз.
Я свое дело сделал. И ждал теперь последствий, стоя подле этого жизнерадостного шута и распутника и вдыхая его запах и запах бархата от его темно-красного камзола, цвет которого должен был символизировать страсть.
И вот герцог, мой высокий повелитель, поднял свой зеленоватый бокал и с самой любезной улыбкой обратился к своим почетным гостям, к Лодовико Монтанце со всей его блестящей свитой, – в первую очередь, разумеется, к сидевшему напротив Лодовико. Бледное, породистое лицо герцога производило впечатление благородства и изысканности и сильно отличалось от всех остальных, красных и опухших. Своим приятным, мягким и в то же время низким и сильным, настоящим мужским голосом он провозгласил здравицу в честь вечного мира, что воцарится отныне между обоими государствами, между герцогскими домами и между народами. С бесконечными, бессмысленными войнами отныне покончено, настало новое время, которое всем нам принесет счастье и радость. Наконец-то исполнится слово Писания о мире на земле. С этими словами он осушил свой бокал, и одновременно с ним осушили в торжественном молчании свои золотые кубки и высокие гости.
Мой повелитель сел и долго сидел задумавшись, с бокалом в руке, точно рассматривая сквозь стекло мир.
Праздник снова зашумел, и мне трудно сказать, как долго это продолжалось: бывают случаи, когда представление о времени как бы утрачивается. К тому же слишком велико было во мне внутреннее напряжение, почти нестерпимое, и слишком велика была моя злоба на Джованни, который даже не притронулся к своему кубку. Охваченный гневом, я смотрел, как Анджелика с бледной улыбкой передвинула кубок к себе, сделав вид, будто хочет выпить сама. Я надеялся, что они оба отведают моего напитка, что, будучи влюблены, они захотят выпить из одного источника. Но ни один даже не притронулся. То ли проклятая девчонка что-то заподозрила, то ли они и без вина были пьяны своей страстью. Злоба кипела во мне. Для чего им жить! Дьявол их побери!
Зато дон Риккардо опрокинул, разумеется, свой кубок залпом. Этот последний в своей жизни кубок он осушил, кстати, за здоровье герцогини, неизменно галантный к даме сердца. Он паясничал даже у гробовой доски. Указав комическим жестом на свою негодную к употреблению правую руку, он поднял левой драгоценный напиток, которым я его попотчевал, и улыбался при этом во весь рот своей прославленной, а на самом-то деле просто-напросто глупой улыбкой. Она ему тоже улыбалась, сначала чуть лукаво, а потом с тем влажным, томным блеском во взгляде, который я видеть не могу без отвращения. Не понимаю, как не стыдно так смотреть.
Вдруг Бык издал дикий вопль, и глаза его странно остекленели. Несколько человек из его свиты, которые сидели по ту же сторону стола, вскочили было, но не смогли даже устоять на ногах, ухватились за край стола и грузно повалились обратно на стулья, корчась от боли, охая и бормоча что-то насчет отравы. Расслышать их было трудно. Но кто-то из тех, кому не было еще так плохо, крикнул на всю залу: «Нас отравили!» Все повскакали со своих мест, поднялся страшный переполох. Люди Лодовико, выхватив кинжалы и другое оружие, бросились со всех концов залы к главному столу и начали колоть и рубить наших, пытаясь пробиться к своему господину. Но наши тоже повскакали с мест, защищая себя и герцога, и заварилась невообразимая каша. И у них и у нас падали убитые и раненые, и кровь лилась рекой. Словно на поле брани, сражались в четырех стенах между накрытыми столами пьяные, краснолицые воины, которые только что мирно сидели бок о бок и вот вдруг сошлись лицом к лицу в смертельной схватке. Со всех сторон неслись крики и вопли, заглушая стоны и хрипы умирающих. Жуткие проклятия призывали всех духов преисподней явиться на место ужаснейшего из преступлений. Я взобрался с ногами на стул, чтобы лучше видеть происходящее. Вне себя от возбуждения, смотрел я на дело своих рук, смотрел, как я выкашиваю под корень это мерзкое племя, которое и не заслуживает лучшей участи. Как гуляет по их головам мой могучий меч, беспощадный и разящий, взыскующий кары и мести. Как я отправляю их на вечные муки в геенну огненную. Пусть все они сгорят в адском пламени! Все эти твари, называющие себя людьми и внушающие одно лишь омерзение и гадливость! Для чего им жить! Для чего жрать, хохотать, любить и плодиться по всей земле! Для чего нужны эти изолгавшиеся комедианты и хвастуны, эти порочные, бесстыжие существа, чьи добродетели еще преступнее, чем грехи! Сгори они все в адском пламени! Я казался себе Сатаной, самим Сатаной, окруженным всеми духами тьмы, которых они сами же вызвали из преисподней и которые толпились теперь вокруг них, злобно гримасничая и утаскивая за собой в царство мертвых их свеженькие, еще воняющие плотью души. С неизведанным мной доселе наслаждением, острым почти до потери сознания, ощущал я свою власть на земле. Это благодаря мне мир полнился ужасом и гибелью и из блистательного праздника превращался в царство смерти и страха. Я смешиваю свое зелье – и герцоги и сеньоры стонут в предсмертных муках и корчатся на полу в собственной крови. Я потчую своим напитком – и знатные гости за роскошно накрытыми столами бледнеют, и никто уже больше никому не улыбается, и не поднимает бокала, и не разглагольствует о любви к женщине и о любви к этой жизни. Ибо мой напиток заставляет забыть, что жизнь удивительна и прекрасна, и густой туман обволакивает все вокруг, и глаза слепнут, и наступает мрак. Я перевертываю их факелы и гашу их, и наступает мрак. Это я тут хозяин, я собираю их на свою зловещую Вечерю, где они слепнут, отведав моей отравленной крови, той самой, что изо дня в день питает мое сердце, но для них означает смерть.
Бык сидел неподвижно, лицо у него посинело, а поросшая редкой бородкой нижняя челюсть злобно отвисла, точно он собирался укусить кого-то своими гнилыми зубами. Глаза вылезли из орбит, пожелтев и налившись кровью, на него было страшно смотреть. Вдруг он резко дернул сдавленной цепями шеей, с такой злостью, словно хотел ее вывихнуть, и тяжелая голова свесилась на сторону. Его короткое бычье туловище изогнулось дугой, содрогнулось, словно в него всадили нож, – он был мертв. Те из его приближенных, что сидели за герцогским столом, корчились меж тем в адских муках, но вскоре и они затихли и не подавали больше признаков жизни. Что же до дона Риккардо, то он умирал, откинувшись назад и полузакрыв глаза, точно наслаждаясь моим напитком (это была его излюбленная поза, когда он смаковал тонкое вино), потом вдруг раскинул руки, будто хотел обнять весь мир, грохнулся затылком об пол – и конец.
В завязавшейся яростной драке и всеобщей сумятице всем было не до них, им пришлось умирать самим, уж кто как умел. Один только Джованни, который сидел по ту же сторону стола, что и Бык, и не притронулся по милости проклятой девчонки к моему зелью, кинулся к отцу и склонился над его безобразным телом, словно в состоянии был ему помочь. Но в то самое мгновение, как старый негодяй испустил дух, к Джованни пробился какой-то детина с кулачищами, словно у хорошего кузнеца, схватил его, точно перышко, в охапку и потащил к выходу. Этот трус позволил, разумеется, вытащить себя из драки. Таким вот образом он от нас и улизнул. Дьявол его побери!
Стол опрокинулся, и все, что на нем было, тут же превратилось в сплошную кашу под ногами сражавшихся, которые, обезумев от ярости, жаждали пустить друг другу кровь. Женщины давно уже с визгом разбежались, но в самый разгар схватки я увидел герцогиню, которая стояла каменным истуканом посреди царившего кругом разгрома, помертвелая, с застывшим лицом и остекленелым взглядом. Эта мертвенно-бледная маска с остатками румян на дряблой коже производила комическое впечатление. Наконец слугам удалось увести ее из этой залы ужасов, она последовала за ними безвольно, точно не соображая, где находится и куда ее ведут.
Люди Монтанцы, теснимые нашими превосходящими силами, стали отступать к выходам, но все еще бешено оборонялись, хоть оружия у них явно недоставало. Сражение продолжалось на лестницах, их преследовали до самой площади. Тут, однако, на помощь жестоко теснимому со всех сторон неприятелю подоспела вызванная из палаццо Джеральди личная стража Монтанцы, и под ее прикрытием врагу удалось бежать из города. Иначе бы их перебили всех до единого.
Я стоял один посреди опустевшей залы, в полумраке, потому что все канделябры попадали на пол. Одни лишь оборванные и голодные уличные мальчишки шныряли вокруг со своими факелами, разыскивая среди трупов остатки еды и испачканные лакомства, которые тут же и поглощали с невероятной жадностью, но при этом они не забывали хватать столовое серебро, пряча его под лохмотья. Побоявшись особенно долго задерживаться, они бросили факелы и улизнули со своей добычей, и я остался совсем один в целой зале. Теперь я мог спокойно оглядеться и подумать.
Освещенные колеблющимся светом догоравших на каменном полу факелов, среди луж крови и затоптанных, загаженных скатертей и остатков пиршественных яств, валялись кучами обезображенные трупы, свои и враги вперемешку. Их парадные платья были разодраны и выпачканы, а бледные лица еще искажены злобными гримасами, потому что умерли они в жестокой битве, в пылу безумной ярости. Я стоял, глядя на все на это своим древним взглядом.
Человеческая любовь. Вечный мир.
Говоря о себе и своей жизни, эти создания никак не могут обойтись без громких, красивых слов.
Когда на следующее утро я явился по обыкновению в спальные покои герцогини, она лежала в постели ко всему безучастная, с пустым взглядом и иссохшими губами. Этот рот, казалось, никогда уже больше не произнесет ни звука. Неубранные, тусклые волосы сбились в сплошной колтун на смятом изголовье. Руки бессильно лежали поверх одеяла. Она, по-моему, даже не замечала, что я тут, хотя я стоял посреди комнаты и смотрел прямо на нее, ожидая, не будет ли каких распоряжений. Я мог рассматривать ее сколько душе угодно. Румяна еще не стерлись с ее щек – единственное свидетельство прошлых радостей, кожа лица была увядшая и высохшая, а шея, несмотря на свою полноту, вся в морщинах. Такие выразительные прежде глаза застыли в неподвижности. Весь их блеск пропал. Никто бы не поверил, что она когда-то могла быть красива, что кто-то мог любить и обнимать ее. Самая мысль о чем-либо подобном казалась нелепой. В постели лежала старая, уродливая женщина.
Наконец-то.
При дворе у нас траур. Двор лишился своего шута. Сегодня состоялись похороны. Весь придворный штат, все рыцари и все патриции города провожали его, и, конечно, вся его собственная челядь, которая, я уверен, вполне искренне его оплакивает – приятно, должно быть, служить у такого беспечного, расточительного хозяина. Толпы черни высыпали на улицы поглазеть на процессию – этим беднякам нравилась, говорят, его легкомысленная особа. Они, как ни странно, таких любят. Сами живя впроголодь, они рады послушать красивые истории про чью-то беспечную, расточительную жизнь. Они знают, говорят, наизусть все анекдоты, которые про него ходят – про его «подвиги» и «проказы», – и пересказывают их в своих жалких лачугах, приютившихся возле его дворца. А теперь он еще раз их порадовал, дав возможность поглазеть на свои пышные похороны.
Герцог шел первым в процессии, низко опустив голову, и казался совершенно подавленным скорбью. Когда надо притвориться, он поистине удивителен. Хотя особенно удивляться, пожалуй, нечего. Ведь он многолик по своей природе.
Никто не осмеливался перешептываться. Что они там потом будут говорить в своих лачугах и дворцах – роли не играет. Случившееся объяснили роковым недоразумением. Дон Риккардо нечаянно выпил отравленного вина, которое было предназначено лишь для высоких гостей. Известно ведь, какой он страдал неутолимой жаждой, он сам, к сожалению, виноват в своей трагической гибели. Впрочем, всякий волен думать, что ему хочется. А что Лодовико с его свитой отравили, так все тому только рады, туда, мол, им и дорога.
Герцогини на похоронах не было. Она лежит как лежала, недвижимая, ко всему безучастная, и отказывается от пищи. Вернее, не отказывается, потому что она вообще не говорит, но слуги не могут ничего в нее впихнуть. Дура камеристка суетится вокруг, растерянная, с покрасневшими глазами, и размазывает по толстым щекам слезы.
Меня никто не подозревает. Ибо никто не знает, что я собой представляю.
Очень может быть, что герцог действительно скорбит по нем. При такой натуре это вовсе не исключено. Я склонен думать, что ему нравится по нем скорбеть, ему это кажется красивым и благородным. Рыцарская, бескорыстная скорбь – чувство возвышающее и приятное. К тому же он и в самом деле был к нему привязан, хоть и желал ему смерти. Теперь, когда его больше нет, он стал ему вдвойне дорог. Прежде всегда существовало нечто, что сковывало его чувства к другу. Теперь этого больше не существует. Добившись своего, он чувствует, как все больше и больше привязывается к нему.
Кругом только и разговоров что о доне Риккардо. Говорят о том, какой он был, да как жил, да как умер, да что сказал тогда-то и тогда-то, да как великодушно поступил в таком-то и таком-то случае, да какой он был безупречный рыцарь, да какой веселый и храбрый мужчина. Он словно бы стал теперь еще живее, чем при жизни. Но так всегда бывает, когда человек только что умер. Это быстро проходит. Нет истины бесспорней той, что тебя забудут.
Они же утверждают, что он никогда не будет забыт. И, выдумывая всякие небылицы про его исключительность и необыкновенность, они надеются сделать его бессмертным. Удивительно, до чего они ненавидят смерть, особенно когда дело коснется их любимчиков. Итак, сотворение мифа в полном разгаре, и тому, кто знал всю правду об этом кутиле, этом вертопрахе и шуте, остается только руками развести, слушая их небылицы. Их нисколько не смущает, что все это не имеет ни малейшего отношения к истине; по их словам, он был сама радость, сама поэзия и бог весть что еще, и мир без него уж не тот, и никогда уже им, увы, не услышать его заразительного смеха, и кончены его веселые проказы, и все они осиротели и убиты горем. Всем ужасно нравится скорбеть по нем.
Герцог великодушно принимает участие в мелодраме. Он печально выслушивает хвалебные речи, вставляя время от времени реплики, которые кажутся особенно красивыми потому, что исходят от него.
Но в общем и целом он, надеюсь, вполне доволен своим маленьким браво. Хотя, конечно, не подает виду. Он ни слова не сказал мне о случившемся, ни одобрения, ни упрека. Герцог волен и не замечать своих слуг, если ему так удобнее.
Он меня избегает. Как всегда в подобных случаях.
Скорбь герцогини ни в чем не выражается. Не знаю, как это истолковать, – возможно, это значит, что она очень сильно горюет. Она просто лежит в постели, уставившись в одну точку, и все.
Я, и никто иной, причина ее скорби. Если она в отчаянии, то только из-за меня. Если она переменилась до неузнаваемости и никогда не станет прежней, то только из-за меня. И если она слегла и лежит все время в постели, старая и безобразная, и не заботится больше о своей внешности, то все это тоже только из-за меня.
Я и не подозревал, что имею над ней такую власть.
Убийство снискало герцогу популярность. Все твердят в один голос, что он выдающийся правитель. Никогда еще его торжество над врагом не было таким полным и не вызывало такого поклонения его личности. Им гордятся, считая, что он проявил необыкновенную изобретательность и решительность.
Некоторые сомневаются, приведет ли все это к добру. Они, мол, предчувствуют недоброе. Но такие всегда отыщутся. Большинство же настроено восторженно, и стоит герцогу появиться, как его встречают ликованием. Кто из людей устоит перед обаянием правителя, для которого не существует препятствий на пути к цели!
Народ надеется, что наконец-то настанет спокойная и счастливая жизнь. Они довольны, что соседний народ обезглавлен: теперь он уж их больше не потревожит и не сможет помешать их счастью.
У них только и забот что о счастье.
Интересно бы знать, какие новые далеко идущие планы он теперь строит. Думает ли он снова на них напасть, пойти прямо на их город и овладеть им и всей страной? Это было бы проще простого после того, как все их главари, все сколько-нибудь значительные личности убраны с дороги. Мальчишку Джованни не стоит принимать в расчет, он не доставит нам никаких хлопот, этот трусливый сопляк, который чуть что – сразу удирать. Не мешало бы взять да поучить его, как подобает вести себя мужчине.
Я не сомневаюсь, что мой господин намерен пожать плоды убийства. Это было бы только разумно. Не удовольствуется же он тем, что есть. Уж коли посеял, то надо, разумеется, и пожать.
Ходят нелепые слухи, будто народ Монтанцы в ярости взялся за оружие, поклявшись отомстить за своего герцога и его приближенных. Одна болтовня, конечно. Вполне вероятно, что они действительно в ярости. Того мы, собственно, и добивались. Но что они взялись за оружие, вознамерившись мстить за такого правителя, что-то не верится. А даже если и так, не стоит придавать этому значения. Народ без правителя все равно что стадо баранов без вожака.
Я слышал, будто во главе встал дядя юного Джованни, брат Лодовико. Он-то будто бы и поклялся отомстить. Вот это уже больше похоже на правду. Народ не мстит за своих правителей, с какой стати, спрашивается. Ему при всех при них живется одинаково плохо, и он только рад избавиться хотя бы от одного из своих мучителей.
Говорят, он человек того же склада, что и покойный Лодовико, но до сих пор его затирали, не давая возможности сыграть сколько-нибудь значительную роль. Зовут его Эрколе Монтанца, и, судя по всему, он опасная личность, хоть и не воин. Говорят, будто он взял сейчас бразды правления в свои руки, чтобы, как он выразился, спасти страну в минуту смертельной опасности и вместе с тем попытаться оттеснить в сторону юного наследника престола, слишком, по его мнению, слабохарактерного для роли герцога, в то время как сам он – достойный продолжатель рода Монтанца и весьма, на его собственный взгляд, подходит на роль властителя. Ну что ж, вполне правдоподобно. Так оно обычно и происходит на свете.
Начинает, кажется, все же сбываться мое предсказание, что этому юноше с его оленьими глазами и медальоном на груди никогда не сидеть на троне.
Стянуты уже, говорят, значительные силы для осуществления этой самой мести, и неприятель якобы уже хлынул в страну, продвигаясь по долине вдоль реки. Во главе их стоит Боккаросса, который за двойную по сравнению с нашей плату вызвался умереть со своими наемниками за нового Монтанцу. Они зверствуют, жгут и уничтожают все живое на своем пути – как видно, они вовсе не собираются умирать, а предпочитают, чтобы умирали другие.
Наши военачальники спешно набирают войско, чтобы задержать их продвижение. В городе опять полно солдат, отправляющихся на поле боя, чтобы взяться наконец снова за свое дело.
Герцог ничего, в сущности, не предпринимает.
С людьми у нас, говорят, трудновато, оно и понятно, ведь сколько было убито на предыдущей войне. Не так-то легко набрать нужное количество годных мужчин, умеющих хотя бы держать в руках оружие. Стараются, однако, наскрести из последнего, чтоб было не меньше, чем у Монтанцы, они ведь тоже понесли большие потери и достаточно обескровлены. Воодушевления прежнего не заметно, но все с готовностью покоряются, понимая, что это неизбежно. Все понимают, что надо примириться со своей участью и что нельзя жить ради одного лишь счастья.
Захватчики рвутся к городу, и остановить их может разве что случай. Наши войска не в состоянии долго удерживать позиции и всякий раз вынуждены бывают отступить. С театра войны приходят все те же надоедливые, безрадостные донесения об отступлениях и потерях.
Там, где побывает неприятель, он разоряет все дотла. Села грабят и сжигают, жителей тут же приканчивают. Скот отбирают, закалывают и пожирают у лагерных костров, оставшийся скот уводят, привязывая к обозу – про запас. Хлеб на полях сжигают. Наемники Боккароссы творят на своем пути что хотят. Они не оставляют за собой ничего живого.
В город потянулись толпы беженцев, идут и идут через городские ворота с тачками, нагруженными черт знает чем: горшками, одеялами, грязным рваньем, всевозможным старым хламом, настолько никчемным, что все над ними смеются. Кое-кто ведет за рога козу или отощавшую коровенку, и вид у них у всех ужасно испуганный. Горожане ворчат. И что им, мол, здесь надо, зачем они притащились. Только всем мешают. Беженцы спят на площадях возле своей скотины, и город все больше становится похож на грязную деревню, и запах там, где они располагаются, стоит ужасный.
Наши войска только и делают, что отступают. По слухам, неприятель уже недалеко от города, но где именно, я не знаю, сведения самые противоречивые, и доверять им не приходится. И без конца одни и те же надоевшие, унылые донесения, что, мол, оказали сопротивление, но вынуждены были отступить, что теперь, мол, надеются удержаться, а потом – что опять, мол, пришлось оставить позиции. Поток беженцев не прекращается, они наводняют город своей скотиной, своим тряпьем и своим нытьем.
Странная война.
Мне, признаться, понятно безразличие герцога и почему он передал все дело своим военачальникам. Его не интересует оборона, она его не увлекает. Он как я, он любит наступать. Дух атаки – вот наш дух. Что за удовольствие обороняться, все одно и то же, одно и то же, ни блеска, ни возбуждения битвы. Да и к чему? Чистая бессмыслица. Кому это может нравиться? Скучная война.
Войска Монтанцы и Боккароссы уже видны с городских стен. Сейчас вечер, и из окна моей каморки на верхушке башни я различаю светящиеся точки лагерных костров на равнине. В темноте это очень красивое зрелище.
Я ясно представляю себе лица воинов-наемников, сидящих сейчас вокруг костра и вспоминающих сегодняшние свои подвиги. Вот они подбрасывают в костер корни оливы, и пляшущие языки пламени освещают их суровые, решительные черты. Это настоящие мужчины, они сами вершат свою судьбу, а не живут в постоянном страхе перед волей случая. Они разжигают свои костры на любой земле, не задумываясь над тем, за счет какого народа они кормятся. Они не спрашивают, на службе у какого господина они состоят: они всегда служат только самим себе. Усталые, растягиваются они прямо на земле и отдыхают перед завтрашней резней. Это люди без родины, но им принадлежит вся земля.
Вечер чудесный. Осенний воздух чист и насыщен прохладой, которую приносит ветер с гор, и небо, вероятно, звездное. Я долго сидел у окна и смотрел на бесчисленные точки костров. Пора уже и мне пойти отдохнуть.
Странно, в сущности, что я различаю костры, которые так далеко, а вот звезд на небе вообще не вижу, никогда не мог увидеть. Глаза у меня устроены не как у других, но это не значит, что у меня плохое зрение, поскольку все, что на земле, я вижу совершенно отчетливо.
Я часто думаю о Боккароссе. Он стоит у меня перед глазами, огромный, чуть ли не великан, с этим своим рябым лицом, зверской челюстью и глубоко запрятанным взглядом. И морда льва на груди – злобно оскаленная хищная пасть, показывающая всему миру язык.
Наши солдаты сами явились беженцами в город после битвы, которая разыгралась под самыми стенами. Сражение было кровопролитным и стоило нам не одной сотни убитых, не говоря уж о раненых, которые во множестве приползали и приходили через городские ворота, сами или с помощью женщин, побежавших на поле брани разыскивать своих сыновей и мужей. К тому времени, когда наши солдаты наконец прекратили борьбу и отступили под прикрытие городских стен, они были уже в самом плачевном состоянии. В городе сейчас из-за них сущее столпотворение, город, кажется, вот-вот лопнет, переполненный солдатами, ранеными и беженцами из деревень. Беспорядок ужаснейший, и настроение, естественно, такое, что хуже некуда. Люди спят прямо на улицах, хотя ночи уже сильно похолодали, да и днем, говорят, то и дело натыкаешься на спящих, измученных людей или же на раненых – их кое-как перевязали, а дальше позаботиться о них некому. В общем, все беспросветно, и мысль о предстоящей нам осаде отнюдь не способствует тому, чтобы развеять эту беспросветность.
Да и стоит ли, собственно, делать попытку сопротивляться такому, как Боккаросса? Лично я никогда не верил в успех этой войны.
Утверждают, однако, что город будет защищаться до последней капли крови. Что он, мол, хорошо укреплен, и что продержаться может очень долго, и вообще неприступен. Все города неприступны, пока их не возьмут приступом. У меня свое мнение насчет их неприступности.
Герцог вдруг ожил и берет, кажется, дело обороны в свои руки. Смотрят на него теперь косо и не встречают при появлении восторженным ликованием. Отнюдь. Считают, что убийство Монтанцы вкупе со свитой было безрассудным поступком, который и не мог повлечь за собой ничего иного, кроме новой войны и новых бедствий.
Герцогиня снова на ногах и начала понемногу есть, но по-прежнему на себя непохожа. Она очень исхудала, и кожа на ее когда-то полном лице высохла и посерела. Ее как будто подменили. Платья на ней висят, словно с чужого плеча. Одета она всегда в черное. Если и скажет когда слово, то очень тихо, чуть не шепотом. Рот у нее по-прежнему какой-то иссохший, худоба совершенно изменила выражение ее лица, глаза ввалились и обведены темными кругами, взгляд лихорадочный.
Она часами молится перед распятием, пока колени окончательно не онемеют, так что она едва может подняться. О чем она молится, я, конечно, не знаю, но молитвы ее, видно, не доходят, поскольку каждый день она начинает все сызнова.
Она никогда не покидает своей спальни.
Маэстро Бернардо помогает, как я слышал, герцогу в укреплении оборонных сооружений и придумывает всякие хитрые приспособления, неоценимые при защите осажденного города. Работа, говорят, кипит и не прекращается ни днем, ни ночью.
Я нисколько не сомневаюсь в гениальности маэстро Бернардо. Но против Боккароссы он, думается мне, бессилен. Старый маэстро, бесспорно, могучий дух, и мысль его объемлет многое, если не все. На службе у него, бесспорно, могущественные стихии, отвоеванные им у природы и ему послушные, хотя, скорее всего, и против собственной воли. Но Боккаросса – сам некая стихия, и потому стихии служат ему готовно и охотно. Мне кажется, он гораздо больше сын природы.
Бернардо – человек, отошедший от матери-природы, и его высокомерные, аристократические черты всегда внушали мне известное недоверие.
Мне кажется, поединок будет неравный.
Всякий, кто взглянул бы на них рядом, на Бернардо, с его лбом мыслителя, и на Боккароссу, с его мощной, хищной челюстью, не усомнился бы, кто из них сильнейший.
В городе становится трудно с продовольствием. Здесь-то, при дворе, мы этого, конечно, не чувствуем, но народ, говорят, голодает. Да оно и неудивительно при такой перенаселенности, при таком множестве пришлого люда. На беженцев смотрят все с большей неприязнью, считая их, не без основания, причиной недостатка продовольствия. Поистине: для горожан они тяжкое бремя. Особенно, понятно, раздражают их хнычущие, замурзанные дети, которые шныряют повсюду, выклянчивая милостыню. Говорят, они даже воруют при случае. Хлеб раздают два-три раза в неделю, да и то очень помалу, потому что к осаде никто не был подготовлен и запасы незначительны. Скоро они, видимо, кончатся. Те из беженцев, кто привел с собой козу или корову и кормился вначале молоком, вынуждены были зарезать свою отощавшую скотину, полумертвую от голода, потому что корма для нее взять было неоткуда, и некоторое время они поддерживали свое существование, питаясь этим мясом и меняя его то на муку, то на что-нибудь еще. Теперь у них ничего не осталось, а в разговоры горожан, что, мол, они припрятали мясо и живут получше других, я не очень-то верю, по их виду этого не скажешь. Они страшно худые и явно изголодались. Я вовсе не потому так говорю, что испытываю какую-либо симпатию к этим людям. Я вполне разделяю неприязнь горожан. Они тупы, как все деревенские, сидят целыми днями сложа руки и таращатся по сторонам. Общаться они ни с кем не общаются, разделились на кучки, земляки с земляками, и чуть не все время проводят в этих своих грязных становищах, на каком-нибудь облюбованном кусочке площади, где сложено их вонючее тряпье и где они расположились как у себя дома. Вечерами они сидят вокруг костров – если удастся раздобыть топливо – и разговаривают на своем примитивном наречии, из которого ни слова не поймешь. Да и стоит ли понимать, о чем они там говорят.
Грязь и вонь от всех этих расположившихся на улицах и площадях людей просто ужасающие. При моей вообще чистоплотности и аккуратности и при моей чувствительности в этом смысле к поведению окружающих нечистоплотность этих людей мне просто нестерпима. Особое – по мнению многих, даже преувеличенное – омерзение вызывают во мне человеческие испражнения и тот запах, который они распространяют. А эти примитивные существа уподобились своей домашней скотине и справляют нужду где попало. Безобразное свинство. Воздух словно зачумлен, и улицы и площади пришли, на мой взгляд, в такое омерзительное состояние, что я стараюсь как можно реже выходить в город. Да и поручениями меня не слишком обременяют с тех пор, как герцогиня так переменилась, а дон Риккардо, по счастью, умер.
Все эти бездомные ночуют прямо на улице, и теперь, когда наступила зима, и зима необычайно суровая, им, должно быть, не слишком тепло без настоящей-то одежды. Некоторых, говорят, находят утром замерзшими: лежит такой узел тряпья и не встает, как другие, а когда посмотрят, – уже никаких признаков жизни. Но погибают они, наверное, скорее от голода, чем от холода, и всегда это только старики, и без того уже бессильные и с остывшей кровью. И пусть себе умирают, они ведь только в тягость другим, а в городе и без них слишком много народу.
Наемники Боккароссы ни в чем не терпят недостатка. В их распоряжении вся страна, грабь сколько хочешь, и они так и делают, продвигаясь все дальше и дальше вглубь и обеспечивая себя всем необходимым. Разграбленные села они потом сжигают, и часто по ночам можно видеть в небе далекие зарева пожаров. Все окрестности они давно уже разграбили и разорили.
Но как ни странно, штурма города они пока не предпринимают. Меня это удивляет, ведь взять его сейчас было бы, разумеется, проще простого. Быть может, они считают, что меньше хлопот взять его измором, и при том, что могут грабить страну сколько угодно, готовы ждать.
Анджелика только и знает, что бездельничать. Прежде она занималась хоть своим рукоделием. Чуть ли не все время она проводит у реки, сидит там и кормит лебедей или же просто смотрит на бегущую мимо воду. Иногда она сидит вечер напролет у своего окна, глядя на сторожевые костры и палатки врага далеко внизу и на расстилающуюся за ними выжженную равнину. Все думает, наверное, о своем принце.
Удивительно, что за глупый вид у людей, когда они влюблены, а особенно когда влюблены безнадежно. Выражение лица у них тогда на редкость тупое, и я не понимаю, как можно утверждать, будто любовь делает человека красивее. Глаза у нее, если это только возможно, еще глупее и невыразительнее, чем прежде, а щеки бледные, не то что на пиру. Но рот стал словно бы больше, и губы словно припухли, и видно, что она уже не ребенок.
Я, кажется, единственный, кто знает ее преступную тайну.
К моему удивлению, герцогиня спросила меня сегодня, не думаю ли я, что Христос ее ненавидит. Я, естественно, ответил, что мне про то неизвестно. Она посмотрела на меня своим лихорадочно горящим взглядом, чем-то, казалось, взволнованная. Ну как же, конечно, должно быть, ненавидит, раз не дает ей ни минуты покоя. Он и должен ее ненавидеть за все ее грехи. Я сказал, что его вполне можно понять. Ее словно бы утешило, что я того же мнения, что и она, и, глубоко вздыхая, она опустилась на стул. Дальше мне тут оставаться было ни к чему, поскольку поручений у нее ко мне, как обычно, не оказалось. Когда я спросил, могу ли я идти, она ответила, что не в ее власти мной распоряжаться, но смотрела при этом умоляюще, словно ждала от меня какой-то помощи. Я, однако, чувствовал себя ужасно неловко и предпочел уйти, а обернувшись в дверях, увидел, как она бросилась на колени перед распятием и в отчаянии стала бормотать молитвы, судорожно перебирая худыми пальцами четки.
Все это произвело на меня очень странное впечатление.
Что случилось со старой дурой?
Без сомнения, она вполне серьезно думает, что Христос ее ненавидит. Сегодня она опять к этому вернулась. Все ее молитвы ни к чему, сказала она. Он ее все равно не прощает. Он ее просто не слышит и ничем даже не показывает, что вообще замечает ее существование, разве лишь тем, что не дает ей ни минуты покоя. Это ужасно, она этого не вынесет. Я сказал, что, по-моему, ей следует обратиться к своему духовнику, который всегда выказывал самое горячее сочувствие к ее духовным нуждам. Она покачала головой – она уже пробовала, но он ничем не мог ей помочь. Он даже и не понял. Он считает, что она безгрешна. Я язвительно усмехнулся этому высказыванию льстивого монаха. Тогда она спросила, интересно, а какого я сам о ней мнения. Я сказал, что считаю ее грешной женщиной и уверен, что ей суждено вечно гореть в адском пламени. Тут она бросилась передо мной на колени и стала ломать себе пальцы, так что суставы побелели, она вопила, и причитала, и молила спасти и помиловать ее, несчастную. Но я спокойно смотрел, как она корчится у моих ног. Во-первых, я не имел средства ей помочь, а во-вторых, я считал, что мучится она заслуженно. Она схватила мою руку и омочила ее слезами, попыталась даже поцеловать, но я отдернул руку и не позволил ей ничего такого. Тут она стала еще громче вопить и причитать и довела себя до самой настоящей истерики. «Исповедуйся в своих грехах!» – сказал я и сам почувствовал, что лицо у меня сделалось очень строгое. И она начала исповедоваться во всех своих преступлениях, в своей развратной жизни, в своих недозволенных связях с мужчинами, в объятия которых ее толкал сам дьявол, и в том наслаждении, которое испытывала, окончательно запутавшись в его сетях. Я заставил ее подробнее описать сам грех, в который она впала, и то чудовищное наслаждение, которое она при этом получала, и назвать имена тех, с кем состояла в преступной связи. Она покорно исполнила все, что я ей велел, и передо мной возникла кошмарная картина ее постыдной жизни. Однако она ни словом не упомянула про дона Риккардо, что я ей и заметил. Она недоумевающе посмотрела на меня и, казалось, никак не могла уразуметь, чего я от нее хочу. При чем тут дон Риккардо? Разве это тоже грех? Я объяснил ей, что это тягчайший из всех ее грехов. Она, казалось, никак не могла себе этого уяснить и смотрела на меня удивленно и даже с сомнением, но потом все же задумалась над тем, что я сказал, над этой не приходившей ей, видно, в голову мыслью, и, задумавшись, очевидно, испугалась. Я спросил, разве она не любила его больше всех? «Да», – ответила она шепотом, еле слышно, и тут же снова принялась плакать, но уже не так, как прежде, а как обычно люди плачут. Она никак не могла перестать, и мне в конце концов надоело, и я сказал, что мне пора идти. Она умоляюще и беспомощно посмотрела на меня и спросила, не могу ли я ее чем-нибудь утешить. Что ей сделать, чтобы Господь смилостивился над ней? Я ответил, что неслыханная дерзость с ее стороны просить о милости господней, у нее столько грехов, что вполне естественно, если Искупитель не слышит ее молитв. Он не для того был распят, чтобы искупать грехи таких грешниц, как она. Она безропотно меня выслушала и сказала, что она и сама точно так же чувствует. Она недостойна быть услышанной. Она всегда это чувствовала в глубине души, когда молилась на коленях перед изображением Распятого. Вздыхая, но все же немного утешенная, она уселась на стул и начала говорить о себе как о величайшей на свете грешнице, самой падшей из людей, и жаловалась, что никогда ей не вкусить небесной благодати. «Я много любила, – сказала она. – Но Бога и его сына я не любила, и потому только справедливо, что я так наказана».
Потом она поблагодарила меня за то, что я был добр к ней. Ей стало легче, когда она исповедалась, хоть она и сама прекрасно понимает, что отпущения грехов ей не получить. И сегодня она в первый раз смогла поплакать.
Я ушел, а она осталась там сидеть – согбенная старуха с покрасневшими глазами и волосами сбившимися и спутанными, как старое сорочье гнездо.
Герцог и Фьяметта много времени проводят вместе. Они часто остаются посидеть вдвоем после вечерней трапезы, и я тоже остаюсь, чтобы прислуживать им. С герцогиней они тоже иногда так сидели по вечерам, но очень редко. Фьяметта – женщина совсем иного типа, холодная, сдержанная, неприступная и настоящая красавица. Ее смуглое лицо жестче любого виденного мною женского лица и, не будь оно так красиво, могло бы показаться лишенным всякой привлекательности. Взгляд угольно-черных глаз, с этой их единственной искоркой в глубине, покоряет и завораживает.
Я предполагаю, что она и в любви холодна, и не столько отдает, сколько берет, и от того, кого снисходит полюбить, требует полнейшего подчинения. Герцогу это, кажется, нравится, нравится покоряться. Холодность в любви, возможно, ценится не меньше, чем страстность, откуда мне знать.
Лично я ничего против нее не имею. Зато все другие имеют. Слуги для нее пустое место, а они, по их словам, к такому не привыкли, тем более что она им никакая не хозяйка, а всего лишь герцогская наложница. Но других придворных дам она, видите ли, уже не считает себе ровней – я-то думаю, что она и раньше не считала, да и считала ли вообще когда-нибудь кого-нибудь ровней себе? Однако в ней это не кажется просто спесью, скорее это врожденная гордость. Они, разумеется, бесятся. Но виду показать не смеют, предполагая, что она может занять место герцогини, если, конечно, госпожа вдруг снова не вернет его себе.
Весь двор говорит, что она позволила себя «соблазнить» из одного лишь тщеславия, и что кровь у нее рыбья, и что это безнравственно. Я не понимаю, что они имеют в виду, ведь в отличие от всех прочих, кто пускается в подобные бесстыдства, она вовсе не производит впечатления безнравственной.
Герцог, безусловно, очень ею увлечен и в ее присутствии всегда старается быть особенно любезным и очаровательным. Хотя вообще-то он, видимо, не в духе, стал очень раздражительный и нервный и может вдруг ни с того ни с сего вспылить и накинуться на прислугу, чего прежде за ним никогда не водилось, – да и не только на прислугу, но и на особ повыше. Говорят, он очень раздражен тем, что народ им недоволен, что он уже, как говорится, непопулярен. Особенно, конечно, портят ему настроение голодающие, которые приходят сюда под окна и кричат, чтобы им дали хлеба.
По-моему, ниже достоинства герцога обращать внимание на подобные вещи, какая разница, что там думает или кричит окружающая его чернь. Они всегда найдут повод покричать. Если задумываться обо всем, про что кричит народ, только и дела будет, что угождать ему.
Утверждают, что он втайне от всех велел наказать плетьми придворного астролога Никодемуса и других длиннобородых за их исключительно благоприятные предсказания. Что ж, очень может быть. Ведь так же поступил и его отец, хотя причина тогда была другая: они предсказали не то, что желательно было господину.
Нелегко читать по звездам. И читать при этом так, чтобы другие остались довольны.
Положение в городе все ухудшается и ухудшается. Можно, пожалуй, сказать, что теперь там свирепствует самый настоящий голод. Каждый день люди умирают от голода, а может, от голода и холода вместе, трудно сказать. На улицах и площадях много валяется таких, кто уже не в силах подняться, и похоже, им все уже безразлично. Другие же живыми скелетами бродят по городу в поисках чего-нибудь съедобного или хоть чего-то такого, что могло бы заглушить чувство голода. За кошками, собаками и крысами ожесточенно охотятся, они считаются теперь лакомством. Крысы, о которых прежде говорили как о настоящем бедствии для лагерей беженцев, где они во множестве рыскали среди нечистот, считаются теперь завидной дичью. Но говорят, они стали исчезать, и все труднее становится их отыскивать. Они, видимо, заболели какой-то болезнью, поскольку всюду натыкаются на их трупы, и, выходит, подвели в тот самый момент, когда вдруг оказались нужны.
Меня не удивляет, что крысы не выдержали соседства с этими людьми.
Произошло нечто неслыханное. Я попытаюсь рассказать об этом спокойно и сдержанно, и в том порядке, в каком развивались события. Это не так легко, поскольку я сам был участником, сыграв немаловажную роль в этом деле, и меня до сих пор трясет от возбуждения. Теперь, когда все уже позади и окончилось, смею сказать, благополучно, так что я вполне могу быть доволен и результатом, и самим собой, я хочу посвятить часть ночи тому, чтобы вкратце описать, как это все произошло.
Когда я вчера поздно вечером сидел у своего окошка, глядя на огни костров Боккароссы, что вошло уже у меня в привычку, я заметил вдруг меж деревьев у реки человеческую фигуру, направлявшуюся к правому крылу замка. Мне показалось странным, что у кого-то могло найтись там дело в столь поздний час, и я еще подумал, наверно, это кто-нибудь из прислуги. Светила луна, но сквозь густой туман, так что человека этого я различал с трудом. Он был, похоже, закутан в широкий плащ и чуть не бегом бежал к флигелю, куда и вошел через один из боковых входов. Казалось бы, раз знает вход, значит, кто-то из своих. Но что-то в облике этого человека меня насторожило, да и все его поведение было подозрительно. Поэтому я решил все же проверить, в чем дело, быстро спустился вниз и последовал за ним через тот же вход. На лестнице была кромешная тьма, но именно эта лестница знакома мне, как никакая другая в замке, ведь прежде меня гоняли по ней вверх-вниз до бесконечности. Она ведет, между прочим, и в покои Анджелики. А теперь и вообще только к ней, поскольку все остальные помещения больше не используются.
Я ощупью поднялся наверх, к ее двери, и стал подслушивать. К моему неописуемому удивлению – хотя отчасти я был уже к тому подготовлен, – я услышал за дверью два голоса. И один из них был голос Джованни!
Они говорили шепотом, но благодаря моему тонкому слуху я разобрал все, что было сказано. Судя по всему, я стал невидимым свидетелем трогательного и бесконечного «счастья».
«Любимая!» – задыхался один голос, и «Любимый!» – отвечал ему шепотом другой. «Любимая!» – и снова «Любимый!» – ничего другого не произносилось, и для постороннего уха эта столь увлекавшая их беседа не представляла слишком большого интереса. Если бы не серьезность, не ужас всего происходящего, это бесконечное повторение одного и того же слова показалось бы мне просто смешным. Но мне было не до смеха. Весь похолодев, слушал я, как они наивно и бездумно произносят то самое слово, которое, задумайся они хоть на минуту над его смыслом и над тем, что оно означает в их устах, заставило бы их содрогнуться от ужаса. Потом я услышал, как преступники начали целоваться, продолжая наивно и косноязычно уверять друг друга в любви. Это было чудовищно!
Я кинулся обратно. Где искать герцога? Может, в трапезной, где я всего час назад оставил его вдвоем с Фьяметтой? Я прислуживал им, пока мне не было сказано, что я ему больше не понадоблюсь.
Больше не понадоблюсь! Как бы не так, думал я, торопливо спускаясь ощупью по темной лестнице. Карлик господину всегда понадобится.
Я побежал через внутренний двор замка к арке главного входа, разделяющей старую и новую части строения. Тамошние лестницы и переходы тоже, разумеется, были погружены во мрак. Я, однако, нашел дорогу и наконец, запыхавшись, очутился перед высокими двустворчатыми дверьми. Я прислушался. Не слышно было ни звука. Но возможно, они все-таки были там. Лучше бы, конечно, удостовериться. Но к сожалению, я не мог приоткрыть дверь: эта дверь из тех, которые мне не открыть из-за моего роста. Я еще раз прислушался. Тишина. Мне ничего не оставалось, как отправиться восвояси, хотя полной уверенности у меня не было.
Я направился к спальным покоям герцога. Они расположены не слишком далеко от трапезной, только этажом выше. Я поднялся по лестнице, подошел к его двери и стал прислушиваться. Но сколько ни слушал, не мог различить ни звука, ничего, что указывало бы на его присутствие. Может, он уже спит, подумал я. Это, в общем-то, было вполне возможно. Я подумал, может, стоит все же рискнуть и разбудить его? Нет, немыслимо, это было бы неслыханной дерзостью. Но ведь и дело у меня было неотложное, чрезвычайной важности. Случай совершенно исключительный.
Я набрался духу – и постучал. Никто не ответил. Я изо всех сил забарабанил в дверь кулаком. Никакого ответа.
Значит, его там нет, решил я. Ведь я знаю, какой у него чуткий сон. Но если не там, то где? Я все больше нервничал. Сколько времени уходило! Где же он мог быть?
Может, у Фьяметты? Может, они пошли туда, чтобы чувствовать себя более непринужденно? Это была моя последняя надежда.
Я ринулся вниз по лестнице и выскочил во двор. Фьяметта живет совсем в другой части замка, возможно, они нарочно так устроили, чтобы как-то замаскировать свои отношения. Чтобы добраться туда, надо пересечь весь двор.
Я нашел нужный вход, но, поскольку эта часть замка мне гораздо меньше знакома, я долго блуждал наугад, поднимался не по тем лестницам, спускался, опять поднимался, а потом путался в бесконечных переходах, где тоже было темно и где я, все больше досадуя на потерянное время, метался взад-вперед и никак не мог отыскать дорогу. Я чувствовал себя кротом, который мечется по лабиринту подземных ходов, тревожно обнюхивая все на своем пути. К счастью, я, подобно кроту, хорошо ориентируюсь в темноте. К тому же я знал расположение ее окон по фасаду, и в конце концов мне удалось сориентироваться и отыскать нужную дверь.
Я прислушался. Есть ли кто? Есть!
Первое, что я услышал, – это холодный смех Фьяметты. Я никогда раньше не слышал, как она смеется, но сразу понял, что это она. Смех был жестковатый и, пожалуй, немного деланный, но в нем было что-то возбуждающее. Потом я услышал, как засмеялся герцог, коротко и невесело. Я вздохнул с облегчением.
Потом я услышал их голоса, но слов было не разобрать, они, видимо, находились где-то в глубине комнаты. Однако ясно было, что они действительно ведут беседу, а не просто, как те двое, твердят одно и то же слово. Говорили ли они о любви, я не знаю, но вряд ли, непохоже было. Потом вдруг наступила тишина. Как я ни напрягал слух, я не мог уловить ни звука. Но через некоторое время я расслышал какое-то неприятное пыхтение и понял, что они занимаются чем-то постыдным. Я почувствовал легкую тошноту. Правда, вряд ли мне могло стать плохо при том, что я был охвачен таким азартом, но на всякий случай я отошел подальше, хотя и не слишком далеко, чтобы не упустить герцога, и стал пережидать. Я решил набраться терпения и выждать, чтобы не пришлось снова услышать эти неприятные звуки. Я простоял там, казалось, целую вечность.
Когда я наконец снова подошел к двери, они о чем-то хладнокровно разговаривали, уж не знаю о чем. Неожиданная перемена столь же удивила меня, сколь и обрадовала, я уже решил, что скоро смогу привести в исполнение задуманное. Они, однако, не торопились, лежали себе там и без конца о чем-то рассуждали, скорее всего о каких-нибудь пустяках. Я просто из себя выходил – сколько драгоценного времени было упущено! Но я ничего не мог поделать. Я не мог, разумеется, объявиться и помешать им в такую минуту.
Наконец я услышал, как герцог поднялся и начал одеваться, продолжая обсуждать с ней что-то, в чем они, видимо, были не согласны. Я отошел подальше от двери, в темноту, и стал его караулить.
Выйдя, он пошел, не зная того, прямо на меня. «Ваша светлость!» – прошептал я, держась на всякий случай подальше. Обнаружив мое присутствие, он пришел в ярость и разразился непристойной бранью и угрозами: «Что ты здесь делаешь? Чего тут шпионишь? Ах ты, мерзкий уродец! Змея ты ядовитая! Где ты там? Да я тебя мигом прикончу!» И он стал бросаться в разные стороны, вытянув руки и пытаясь нащупать меня в темноте. Но поймать меня в таком мраке он, конечно, не мог. «Позвольте мне сказать! Позвольте мне сказать, в чем дело», – повторял я невозмутимо, хотя внутри у меня все дрожало. И он в конце концов позволил.
Тогда я швырнул ему прямо в лицо, что в эту самую минуту сын Лодовико Монтанцы насилует его дочь – он пробрался тайком в замок, чтобы отомстить за своего отца, обесчестив ее и покрыв весь его дом несмываемым позором. «Это ложь! – крикнул он. – Что ты болтаешь, безумец! Это ложь!» – «Нет, это правда! – возразил я, бесстрашно подходя к нему вплотную. – Он сейчас у нее, я собственными глазами видел, как преступник пробрался к ней. Ты придешь слишком поздно, преступление уже наверняка совершилось, но, возможно, ты еще застанешь его там». Я понял, что теперь он мне поверил: он стоял как громом пораженный. «Не может быть! – сказал он, но тем не менее быстрыми шагами, чуть ли не бегом, направился к выходу. – Не может быть! – повторял он. – Как бы он сумел проникнуть в город? И в замок – он же охраняется!» Я отвечал, изо всех сил стараясь поспеть за ним, что тоже этого не понимаю, но что я заметил его сперва у реки, возможно, он добрался на плоту или еще как, кто знает, на что способен этот безрассудный молокосос, а оттуда он уже мог попасть прямо во внутренний двор замка. «Не может быть! – твердил он. – Невозможно проникнуть в город по реке, проскользнув незамеченным между крепостными башнями на том и другом берегу с их бомбардирами и лучниками, охраняющими ее днем и ночью. Это просто немыслимо!» – «Да, это немыслимо, – согласился я. – Понять это совершенно невозможно, сам дьявол не поймет, как он умудрился проникнуть, но мальчишка тем не менее там. Я совершенно уверен, что слышал там его голос».
Мы спустились и вышли во двор замка. Герцог быстро направился к главному входу, чтобы отдать страже приказ о бдительнейшей охране всего замка и таким образом помешать ему улизнуть. Его предусмотрительность была вполне обоснованной и разумной – но что, если преступник уже удрал? А то и оба они вместе! Эта ужасная мысль заставила меня кинуться бегом через двор и дальше, вверх по лестнице, к двери Анджелики.
Я приложился к ней ухом. Ни звука! Неужели сбежали? Сердце у меня громко колотилось от бега и от волнения при мысли, что они, чего доброго, улизнули, и этот стук отдавался у меня в ушах – я подумал, что, может, поэтому ничего и не слышу. Я постарался успокоиться, дышать спокойно и размеренно – и снова прислушался. Нет, из комнаты не доносилось ни звука. Я был вне себя. Я думал, я с ума сойду. Наконец я не вытерпел неизвестности и осторожно приоткрыл дверь. Мне удалось сделать это так, что она даже не скрипнула. В щелочку мне было видно, что горит свет, – но ни звука, ничего, что указывало бы на присутствие человека. Я проскользнул в комнату. И сразу же вновь обрел душевное спокойствие. В свете маленького светильника, который они забыли погасить, я увидел их вместе в ее постели – они спали. После первого своего знакомства с животной похотью любви они заснули, как уставшие дети.
Я взял светильник, подошел и посветил на них. Они лежали, повернувшись лицом друг к другу, полуоткрыв рты, порозовевшие и все еще разгоряченные преступлением, которое совершили и о котором теперь, заснув, словно бы и не ведали. Ресницы были влажные, а на верхней губе у обоих выступили капельки пота. Я наблюдал этот невинный в своей безмятежности сон. То ли это самое, что люди называют счастьем?
Джованни лежал с краю, локон черных волос упал ему на лоб, а на губах застыла довольная улыбка, точно он совершил какой-то подвиг. На шее висел на тонкой золотой цепочке медальон с портретом его матери, которая, как утверждают, пребывает в раю.
Тут я услышал шаги на лестнице – вошел герцог в сопровождении двух стражей-наемников, один из которых нес факел. Комната ярко осветилась, но ничто не могло бы разбудить уснувшую крепким сном парочку. Неверным шагом, чуть ли не шатаясь, герцог подошел к постели и увидел свой неслыханный позор. И, мертвенно побледнев от гнева, он выхватил у стража меч и одним ударом отделил голову Джованни от тела. Анджелика вскочила и широко раскрытыми глазами смотрела, как вытаскивали из постели ее окровавленного возлюбленного и как его потом вышвырнули через окно прямо в мусорную кучу. Тут она повалилась без чувств и до нашего ухода так и не пришла в себя.
Герцог, превосходно сделавший свое дело, весь дрожал от возбуждения, и я видел, как, выходя из комнаты, он придержался рукой за косяк. Я вышел вслед за ним и направился к себе. Я шел не торопясь – торопиться было уже незачем. Во дворе, в отдалении, я увидел факел, сопровождавший герцога на его пути, и как он потом исчез под аркой, словно растворился во тьме.
Анджелика слегла в жестокой горячке, против которой придворный лекарь бессилен, и все еще не пришла в чувство. Никто не испытывает к ней ни малейшего сострадания, поскольку считается очевидным, что она не оказала настоящего сопротивления, когда ее насиловали, и поскольку надругательство над ней рассматривается как ни с чем не сравнимое бесчестие для герцогского дома и всего герцогства. За ней ухаживает одна старая женщина. Никто из придворных к ней не наведывается.
Тело ее преступного любовника выбросили в реку, не желая, чтобы оно валялось дольше перед замком. Говорят, его не затянуло в водовороты, а вынесло течением в море.
В городе стала распространяться какая-то странная болезнь. Начинается она, как я слышал, с озноба и ужаснейшей головной боли, потом заплывают глаза и распухает язык, так что человек не может даже толком говорить, а тело делается сплошь красное, и сквозь кожу сочится гнилая кровь. Больные все время кричат, требуя пить, потому что внутри у них все горит огнем. Лекари бессильны оказать им помощь – а когда они, спрашивается, в силах? Говорят, что все заразившиеся умирают; сколько их уже перемерло – мне неизвестно.
У нас при дворе никто, разумеется, не заболел. Зараза свирепствует среди самых бедных и голодных, особенно среди беженцев, и связана, видимо, с тем невероятным свинством, которое они развели в своих становищах и во всем городе. Меня не удивляет, что они мрут от окружающей их грязи.
Анджелика, конечно, больна совсем другой болезнью. Ее горячка – в точности то самое, чем она болела как-то раз в детстве, не помню уж, когда именно и при каких обстоятельствах. Она всегда болеет по-своему и от таких причин, от которых никто другой никогда бы не заболел. Ага, теперь я вспомнил, это было в тот раз, когда я отсек голову ее котенку.
Мор распространяется очень быстро. Теперь заболевают уже не только бедняки, проклятая чума никого не щадит. Беда посетила каждый дом, а также улицы и площади, потому что ведь масса народу живет под открытым небом. Говорят, там всюду натыкаешься на больных, которые мечутся на своем тряпье прямо на мостовой и громко, пронзительно кричат. Муки, должно быть, нестерпимые и доводят людей до безумия. Ходить по городу стало просто невозможно, рассказы очевидцев изобилуют отталкивающими, жуткими подробностями. Дыхание у больных зловонное, а на теле у них отвратительные нарывы, которые лопаются, выделяя какую-то гадость. Когда я слышу про такие вещи, меня чуть не рвет.
Мало кто сомневается, что виноваты в чуме беженцы, и их сейчас ненавидят, как никогда. Но кое-кто, я слышал, объясняет все совсем по-другому. Они считают, что чума – это бич божий, наказание господне за великие грехи человеческие. Нынешние страдания ниспослал людям Бог, чтобы очистить их от греха, и надо, мол, смириться пред его волей.
Я готов рассматривать это как наказание. Но вот Бог ли их бичует? Не знаю. Очень может быть, что и какая-то другая, более темная сила.
Я сижу иногда у своего карликового окошка и смотрю сверху на город.
Герцогиня живет странной жизнью. В ее спальне, которую она никогда не покидает, всегда царит полумрак: окна занавешены плотной тканью. Она говорит, что недостойна наслаждаться солнечным светом. Стены голы, и нет ни стульев, ни стола, одна лишь молитвенная скамеечка и над ней распятие. Настоящая монашеская келья. Кровать стоит как стояла, но спит она не на ней, а прямо на полу, на охапке соломы, которую она не разрешает менять и которая делается все более зловонной. Комната никогда не проветривается, духота ужасная, я просто задыхаюсь от этого спертого воздуха. Сначала, как войдешь со света, ничего не видно, но постепенно глаза привыкают к полумраку, и тогда проступают очертания ее фигуры. Всегда застаешь ее полуодетой, непричесанной, совершенно равнодушной к тому, что на ней и как она выглядит. Взгляд лихорадочный, а щеки совсем ввалились, потому что она умерщвляет свою плоть и почти вовсе отказывается от пищи. Глупая деревенщина-служанка все хнычет, что не может заставить свою хозяйку покушать. Иногда она и съест кусочек, лишь бы дурочка перестала плакать. Сама-то девка круглая и толстощекая и пихает в себя все, что ей перепадет. Громко причитая, она пожирает все те лакомые блюда, от которых отказывается ее госпожа.
Большую часть времени кающаяся грешница проводит перед распятием, стоя на коленях и читая свои бесплодные молитвы. Она знает, что проку от них никакого, и всякий раз, прежде чем начать, обращается к Распятому с особой молитвой – чтобы он простил ей, что она опять к нему взывает. Иногда, отчаявшись, она откладывает в сторону свои четки и, устремив на Искупителя пылающий взор, начинает бормотать молитвы собственного сочинения. Но он ее все равно не слышит, и поднимается она с колен такая же непрощенная, как была до молитвы. Часто она не в силах подняться без помощи служанки, бывает, говорят, и так, что она просто падает от изнурения и лежит, пока не появится камеристка и не оттащит ее на солому.
Теперь она считает себя главной виновницей всех постигших нас несчастий. Не чьи-нибудь, а именно ее грехи – причина всех страданий и всех тех ужасов, что творятся в городе. Вряд ли она так уж много о них знает. Однако, видимо, все же смутно догадывается, что творится вокруг. При всем том она, мне кажется, достаточно равнодушна к этому миру и считает все, что тут творится, суетой сует. Она живет в своем особом мире, и у нее свои заботы.
Теперь она поняла, что любовь к дону Риккардо – величайший из ее грехов. Из-за нее она так цеплялась за жизнь и принимала ее за драгоценный дар. Она говорит, что любила его превыше всего, что чувство к нему заполонило все ее существо и делало ее очень счастливой. Нельзя так беспредельно любить человека. Так можно любить только Бога.
Не знаю, в какой мере ее нынешнее самоуничижение связано с тем, что я открыл ей глаза на ее преступную жизнь и на то наказание, которое ожидает ее в аду. Я описал ей муки нечестивых, и она покорно выслушала мои разъяснения. В последнее время она начала бичевать себя.
Она всегда очень благодарна, когда я прихожу к ней. Я избегаю слишком часто к ней наведываться.
Анджелика оправилась от своей болезни и снова на ногах. Но она не появляется за столом и вообще при дворе. Я только видел ее несколько раз в розарии и у реки, где она сидела, уставившись на воду. Глаза у нее сделались, если это только возможно, еще больше и совершенно уж какие-то пустые. Такое впечатление, будто она ничего ими не видит.
Я обратил внимание, что она носит на шее медальон Джованни и что он запятнан кровью. Она, вероятно, нашла его в постели и взяла на память о нем. Хоть бы отмыла сначала кровь.
Я вот о чем подумал. Мать-то пребывает в раю, меж тем как сын томится в преисподней, поскольку умер он в греховном сне, без исповеди и покаяния. Выходит, им никогда не встретиться. Возможно, Анджелика молится ей как заступнице о спасении его души. Напрасные старания.
Впрочем, кто знает, что у нее в голове. Она ведь не произнесла ни слова с момента своего пробуждения той ночью, точнее, с того мгновения, как сказала последнее слово своему любовнику. Что это было за слово, мне, зная их беседу, догадаться не трудно.
Она предоставлена самой себе, все ее избегают.
Те, кто верят, что чума и все прочие ужасы суть наказание господне, которого не страшиться следует, а, напротив, благодарить за него Всемогущего, все они таскаются сейчас по улицам, проповедуя эту свою веру и бичуя свою плоть, чтобы помочь Господу спасти их души. Это толпы живых скелетов с провалившимися глазами, до того истощенных, что они и на ногах бы не устояли, если бы не охвативший их экстаз. За ними идут очень многие, заражаясь этим их экстазом. Люди оставляют свои дела, бросают дом и близких, даже умирающих своих родичей, и присоединяются к ним. Вдруг раздается истошный, ликующий вопль, человек выскакивает на мостовую, протискивается к ним в толпу и, что-то пронзительно и бессвязно выкрикивая, начинает себя бичевать. Тут все принимаются восхвалять Господа, и глазеющий по обеим сторонам улицы народ падает на колени. Земная жизнь, ужасов которой они достаточно навидались, утрачивает для них всякую ценность. Их заботит теперь только спасение души.
Святые отцы, по слухам, косо смотрят на этих фанатиков, ибо они отвлекают народ от церквей и от их собственных торжественных процессий с иконами и мальчиками-певчими, которые размахивают среди уличной вони благовонными кадильницами. Они говорят, что эти самоистязатели – плохие христиане и что они в своем диком фанатизме бегут утешения, которое дарует истинная вера. Господь, мол, не может взирать на них с радостью и одобрением. Но я считаю, что они-то и есть истинно верующие, ибо принимают свою веру всерьез. Святые же отцы не любят, чтобы их проповеди принимались чересчур всерьез.
Немало, однако, и таких, на кого все окружающие ужасы подействовали иначе, кто полюбил эту жизнь гораздо больше прежнего. Страх смерти заставляет их цепляться за жизнь любой ценой. Ходят слухи, что в некоторых палаццо города празднества не прекращаются ни днем, ни ночью, там пустились, говорят, в самое необузданное распутство. Да и среди бедняков, среди самых убогих, немало таких, кто ведет себя подобным же образом, в меру своих возможностей, кто безудержно предается единственному доступному для них сейчас греху. Они цепляются за свою жалкую жизнь, ни за что не желают с ней расставаться, и, когда тут у нас, перед воротами замка, раздают еще изредка немножко хлеба, эти ничтожества яростно дерутся за куски и готовы перегрызть друг другу глотку.
Но с другой стороны, есть, говорят, и такие, кто жертвует собой ради своих ближних, кто ухаживает за больными, хотя это совершенно бессмысленно и они только сами заражаются. Они выказывают полнейшее равнодушие к смерти и всякой опасности, словно не понимая, чем рискуют. Их можно приравнять к религиозным фанатикам, только у них это выражается по-иному.
Таким образом, люди в городе, если верить доходящим до меня рассказам, продолжают жить точно так же, как жили до того, каждый по-своему и согласно своим склонностям, только все доведено до крайности. Так что результат ниспосланного их Богом наказания совершенно ничтожен. Поэтому я очень сомневаюсь, Бог ли все это устроил: послал им чуму и прочие испытания.
Фьяметта прошла сегодня мимо меня. Она не удостоила меня, разумеется, и взглядом. Но как она прекрасна и совершенна в этой своей невозмутимости! В нынешней мерзкой сутолоке и лихорадке она – как освежающая прохлада. Во всем ее облике, во всем ее неприступно гордом существе есть что-то прохладное, что-то несущее успокоение. Она не дает мерзостям жизни взять верх над собой, она сильнее их. Она умеет даже ими пользоваться. Незаметно, с большим достоинством и непринужденностью она заступает место герцогини и начинает играть при дворе роль госпожи. Остальные все яснее понимают, что тут ничего не поделаешь, и покоряются. Нельзя ею не восхищаться.
Если бы кто другой прошел мимо меня, не удостоив и взглядом, меня бы это взбесило. А тут я нашел это вполне естественным.
Я очень хорошо понимаю, почему герцог ее любит. Сам бы я не смог, но это уж дело другое. Да и способен ли я вообще кого-нибудь полюбить? Не знаю. Если и смог бы, то, пожалуй, только герцогиню. Но вместо того я ее ненавижу.
И все же я чувствую, что она единственная, кого я, пожалуй, смог бы полюбить. Как это так получается – не понимаю, для меня это совершенно непостижимо.
Поистине непонятная вещь любовь.
Анджелика утопилась в реке. Правда, никто этого не видел, потому что сделала она это, должно быть, вчера вечером или ночью. Но она оставила письмо, из которого совершенно ясно, что она лишила себя жизни именно таким способом. Целый день искали ее труп по всей реке в пределах осажденного города, но безрезультатно. Его, должно быть, унесло в море, как и труп Джованни.
При дворе у нас страшный переполох. Все ошеломлены и не могут поверить, что она умерла. По-моему, тут все ясно: ее любовник умер, вот и она умерла. Все хнычут, причитают и упрекают себя. И больше всего разговоров о письме. Пересказывают друг другу его содержание, без конца читают друг другу вслух. Герцога, говорят, оно просто потрясло; он вообще потрясен случившимся. Придворные дамы всхлипывают и вздыхают, они просто слезами исходят над трогательными выражениями этого письма. Мне эти их слезы и вздохи совершенно непонятны. Я не могу взять в толк, что уж в нем такого необыкновенного, в этом письме. И оно ведь ничего не меняет: преступление, которое они только что сами осуждали, остается тем же преступлением. Письмо не содержит ничего нового.
Я слышал его раз сто, до тошноты, и знаю уже наизусть. Там вот что написано:
«Я не хочу больше оставаться среди вас. Вы были очень добры ко мне, но я вас не понимаю. Я не понимаю, как вы могли отнять у меня любимого, который приехал из далекой страны, чтобы сказать мне, что на свете существует любовь.
Я и не знала, что существует такое чувство, как любовь. Но когда я увидела Джованни, я поняла, что любовь – это единственное, что есть на свете, все остальное ничто. В тот самый час, как я его встретила, я поняла, почему мне до сих пор было так трудно жить.
И теперь я не хочу оставаться здесь без него, я хочу пойти за ним. Я молилась Богу, и Он обещал мне, что я встречусь с Джованни и мы всегда будем вместе. Но куда Он меня поведет, Он не мог мне сказать. Я должна просто спокойно лечь спать на воду, и Он отведет меня куда надо.
Вы не должны поэтому думать, что я лишила себя жизни, я просто сделала, как мне было сказано. И я не умерла, а просто ушла, чтобы навеки соединиться с моим любимым.
Медальон я беру с собой, хотя он мне и не принадлежит. Потому что так мне было сказано. Я открыла медальон и посмотрела на портрет, и мне очень захотелось уйти из этого мира.
Она просила сказать вам, что она вас простила. Сама я прощаю вас от всего сердца.
Анджелика»
Герцогиня забрала себе в голову, что это она виновата в смерти Анджелики. Она впервые, по-моему, проявила какой-то интерес к своему ребенку. Она бичует себя хуже прежнего, чтобы смыть свой грех, и совсем уж ничего не ест, и молит Распятого о прощении.
Распятый не отвечает.
Сегодня до обеда герцог послал меня в Санта-Кроче с письмом для маэстро Бернардо. Он давно уж не появлялся при дворе, и за это время я успел, можно сказать, забыть про его существование. Я с величайшей неохотой отправился в город, где не был с того самого времени, как там вспыхнула чума. Не то чтобы я боялся заразы, но есть вещи, на которые я просто не могу смотреть, можно даже сказать, боюсь смотреть. Мне не зря так не хотелось идти. То, что мне пришлось увидеть, оказалось действительно ужасно. Вместе с тем все это произвело на меня глубокое впечатление: увиденное поразило меня своей первобытной обнаженностью и дало почувствовать суетность и эфемерность всего земного. Больные и умирающие устилали мой путь, а умерших подбирали монахи-могильщики в черных капюшонах с прорезями для глаз, что придавало им жуткий вид. Их зловещие фигуры появлялись словно из-под земли, сообщая всей картине какую-то нереальность. Мне казалось, я путешествую по царству мертвых. Даже те, кого еще не коснулась зараза, уже отмечены были печатью смерти. Истощенные, с провалившимися глазами, брели они по улицам, напоминая выходцев с того света. С жутковатой уверенностью лунатиков обходили они валявшиеся на их пути скорченные тела в лохмотьях, – тела, о которых часто нельзя было даже сказать, сохранилась в них жизнь или нет. Трудно представить себе что-либо более жалкое и противное, нежели эти жертвы заразы, и мне то и дело приходилось отворачиваться, чтобы меня не стошнило. Сквозь лохмотья видны были отвратительнейшие нарывы и проглядывала та синюшность на коже, которая означает, что конец близок. Одни пронзительными воплями давали знать, что они всей своей плотью еще принадлежат жизни, другие же лежали в беспамятстве, но вышедшие из повиновения конечности еще судорожно и бессмысленно дергались. Я впервые видел такое человеческое унижение. У иных бездонный взгляд горел безумием, и, преодолевая немощь, они бросались на тех, кто носил для больных воду из колодцев, и вырывали из рук черпак, расплескивая драгоценную влагу. Иные же ползли на четвереньках, как звери, добираясь до желанных колодцев, заветной цели всех этих несчастных. Эти жалкие существа, столь судорожно цеплявшиеся за утратившую всякую ценность жизнь, потеряли человеческий облик, лишились последних остатков человеческого достоинства. О зловонии, исходившем от них, я не хочу и говорить, одна мысль о нем вызывает у меня тошноту. На площадях были разложены костры, где штабелями сжигались трупы, и в воздухе стоял удушливый смрад. Над городом, окутанным слабой дымкой, разносился погребальный звон, все колокола города наперебой звонили по усопшим.
Я застал маэстро Бернардо погруженным в созерцание его «Тайной вечери», как заставал не раз в прежние времена. Он сидел, чуть склонив свою седую голову, и показался мне постаревшим. Восседающий за трапезой Христос преломлял хлеб, оделяя им учеников. Над головой у него было все то же неземное сияние. Чаша с вином ходила по кругу, а на столе была белоснежная льняная скатерть. Здесь не было ни голодающих, ни жаждущих. Но старик с палитрой и кистями казался погруженным в мрачные раздумья.
Он ничего не ответил, когда я сказал, что у меня к нему письмо от герцога, только нетерпеливо махнул рукой: мол, положи куда-нибудь. Он не хотел, чтобы его отрывали от его мира. Какого мира?
Я ушел из Санта-Кроче в недоумении.
На обратном пути я проходил мимо кампанилы – той самой, которая должна вознестись над всеми прочими. Во время войны работы на ней, конечно, не велись, и все про нее забыли. Она так и осталась незаконченной, верхний ряд кладки неровный и неправильный, потому что работу бросили, не доведя его до конца. Она похожа на руины, хотя бронзовые барельефы у основания, изображающие сцены из жизни Распятого, совсем закончены и очень удались.
Я предсказывал, что так будет.
Наш замок в трауре. Стены и мебель обтянуты черной материей, все говорят полушепотом и ходят на цыпочках. Придворные дамы все как одна в черных атласных платьях, а мужчины – в черных бархатных костюмах и черных же перчатках.
Всему причиной смерть Анджелики. При жизни она никому не причиняла столько хлопот. Но у нас при дворе просто обожают скорбеть. Скорбь по дону Риккардо сменилась теперь скорбью по ней, и, значит, он наконец-то по-настоящему умер. На этот раз не вспоминают, какова была покойница при жизни, потому что ничего особенного, ничего интересного в ней не было – да никто, кстати, и не знает, какая она была. Ее просто оплакивают. Все вздыхают над несчастной судьбой юной герцогской дочери и даже над судьбой Джованни, хоть он и принадлежал к вражескому роду, самому ненавистному из всех. Вздыхают над их любовью, в которой никто уже больше не сомневается, и над их смертью во имя любви. Любовь и смерть – излюбленные темы людей, ведь над любовью и смертью так сладко бывает поплакать, особенно если они сливаются воедино.
Герцог, видимо, искренне страдает. Так мне по крайней мере кажется: он совсем замкнулся и ни с кем не делится. Во всяком случае, со мной, а ведь, случалось, он радовал меня своим доверием. Но это бывало при совсем других обстоятельствах. Теперь же такое впечатление, что он, наоборот, избегает меня. Он пользуется моими услугами гораздо реже, чем бывало прежде. Письмо к Бернардо он отдал мне не прямо в руки, а передал через одного из придворных.
Иногда мне даже кажется, что он начал меня бояться.
Эта краснощекая деревенская девка, камеристка герцогини, лежит больная. Наконец-то она побледнела. Что с ней, интересно, стряслось?
Странно, но я нисколько не боюсь гуляющей вокруг заразы. У меня такое чувство, что я-то не заражусь, что я ей не подвержен. Почему? Да просто чувствую, и все тут.
Она опасна для людей, для всех этих созданий, которые меня окружают, – не для меня.
Герцогиня опускается все больше. Тяжело наблюдать этот упадок, это разрушение в ней самой и весь тот беспорядок, запустение и грязь, которые ее окружают. Единственное, что еще указывает на ее высокое происхождение и ее прежний нрав, – это то упорство, с которым она идет своим путем, никому не позволяя вмешиваться.
После того как заболела камеристка, никому не дозволяется к ней входить, и грязь в комнате неописуемая. Она ничего не ест и так истощена, что мне просто непонятно, как она еще не свалилась.
Я единственный, кому разрешено ее посещать. Она клянчит и молит, чтобы я пришел и помог ей в ее несчастье и позволил исповедаться мне в грехах.
Я не могу успокоиться. Я только что от нее и еще полон почти пугающего ощущения власти, какую я имею иногда над людьми. Опишу мое посещение.
В первый момент, когда вошел, я, как обычно, ничего не увидел. Потом проступило более светлое, несмотря на занавеси, пятно окна, а потом я различил и ее перед распятием, бормочущую свои бесконечные молитвы. Она настолько была погружена в молитву, что не услышала, как я открыл дверь.
В комнате была такая духота, что я чуть не задохнулся. Мне стало противно. Все мне было противно. Запах, полутьма, ее согбенная фигура ее худые, непристойно обнаженные плечи, выступающие сзади на шее сухожилия, неубранные волосы, похожие на старое сорочье гнездо, вся ее жалкая плоть, когда-то достойная любви. Я почувствовал что-то похожее на бешенство. Хоть я и ненавижу людей, но в унижении их видеть не могу.
Вдруг я услышал свой собственный бешеный крик впотьмах, раздавшийся прежде, чем она успела меня заметить:
– Что ты все молишься? Разве я не сказал тебе, чтоб ты не смела молиться! Мне надоели твои молитвы!
Она обернулась, не испугавшись, лишь тихонько скуля, точно побитая сука, и не отрывая от меня покорного взгляда. Подобное не умеряет гнев мужчины. Я продолжал безжалостно:
– Ты думаешь, ему нужны твои молитвы? Думаешь, он простит тебя, если ты будешь так вот валяться у него в ногах, и клянчить, и без конца исповедоваться? Не велик фокус покаяться! Думаешь, ты его обманешь? Думаешь, он не видит тебя насквозь?
Ты дона Риккардо любишь, а не его! Думаешь, я не знаю? Думаешь, ты меня обманешь, проведешь своим кривляньем, своими постами, своими бичеваниями развратной плоти? Ты по любовнику своему тоскуешь, а вовсе не по этому Распятому! Ты его любишь!
Она смотрела на меня с ужасом. Бескровные губы дрожали. Потом бросилась к моим ногам и простонала:
– Это правда! Правда! Спаси меня! Спаси!
Услышав ее признание, я окончательно вышел из себя.
– Развратная шлюха! – крикнул я. – Изображаешь любовь к своему Спасителю, а сама развратничаешь потихоньку с распутником из ада! Обманываешь своего Бога с тем, кого он швырнул в преисподнюю! Дьяволица ты проклятая, смотришь смиренно на Распятого и признаешься ему в своей пылкой любви, а сама наслаждаешься мысленно в объятиях другого! И ты не понимаешь, что он тебя ненавидит? Не понимаешь?!
– Понимаю! Понимаю! – стонала она, корчась, как раздавленный червяк, у моих ног. Мне омерзительно было смотреть, как она пресмыкается, меня это только раздражало, как ни странно, мне не доставляло ни малейшего удовольствия видеть ее такой. Она протянула ко мне руки. – Накажи меня, накажи меня, ты бич божий! – простонала она. И, нащупав на полу кнут, она протянула его мне и вся съежилась, как собака. Я схватил его со смешанным чувством отвращения и бешенства и стал хлестать ее ненавистное тело, слыша свой собственный крик:
– Это Распятый! Тот самый, что висит тут на стене, это он тебя бичует, тот, кого ты столько раз целовала своими пылающими, лживыми губами и говорила, будто любишь! Знаешь ли ты, что такое любовь?! Знаешь ли, чего он от тебя хочет?! Я пострадал за тебя, а ты об этом и не думала! Так узнай же сама, что значит страдать!
Я был совершенно вне себя, едва ли я сознавал, что делаю. Не сознавал? Как бы не так! Прекрасно сознавал! Я вершил свою месть, я взыскивал за все! Я вершил правосудие! Я осуществлял свою страшную власть над людьми! Но, несмотря ни на что, я не чувствовал настоящей радости.
За все это время она ни разу даже не застонала. Наоборот, успокоилась и затихла. И когда все было кончено, так и осталась лежать, странным образом избавленная мною от своих терзаний.
– Гореть тебе в геенне огненной! И пусть пламя вечно лижет твое гнусное лоно, изведавшее мерзкий грех любви!
И, произнеся этот приговор, я ушел, оставив ее там валяться словно в полузабытьи.
Я пошел к себе. С колотящимся сердцем я поднялся в покои для карликов и запер за собой дверь.
Пока я сейчас писал, возбуждение мое улеглось, и я чувствую только бесконечную опустошенность и пресыщение. Мое сердце уже не колотится, я не чувствую ничего. Я смотрю в пустоту, и мое окаменелое лицо сурово и безрадостно.
Возможно, она и права была, сказав, что я бич божий.
Сейчас вечер все того же дня, и я сижу и смотрю на город, который расстилается далеко внизу у моих ног. Уже опускаются сумерки, колокола прекратили свой погребальный звон, божьи храмы и человеческие жилища постепенно погружаются во мрак. Я различаю, как струйками пробирается между ними дым погребальных костров, и едкий смрад поднимается сюда ко мне. Словно густая вуаль опускается на землю, и скоро станет совсем темно.
Жизнь! Для чего она нужна, что в ней проку, какой в ней смысл? Для чего ей продолжаться во всей ее безнадежности и полнейшей пустоте?
Я перевертываю факел и гашу его об землю, и наступает ночь.
Девка-служанка умерла. Ее цветущие щеки не помешали ей умереть. Ее скосила своей косой чума, хотя об этом долго не догадывались, поскольку она не мучилась так, как другие.
Фьяметта тоже умерла. Она заболела вчера утром, и через несколько часов ее не стало. Я видел ее, когда призраки-монахи пришли за ней. На нее было страшно смотреть. Лицо вздутое и безобразное, как, видимо, и все тело. В ней не было больше ничего достойного восхищения. Отвратительный труп, и больше ничего. Они накрыли ее страшное лицо и унесли.
У нас при дворе ужасно боятся заразы и стараются поскорее отделаться от покойников. Но ее будут хоронить сегодня вечером с особыми почестями – такова воля господина. Какая разница, если она все равно мертвая.
Никто по ней не скорбит.
Герцог, возможно, и скорбит. Пожалуй, что и так. Или же чувствует облегчение. Возможно, все вместе.
Никому про то не известно, поскольку он ни с кем не разговаривает. Лицо у него бледное и истощенное, и он на себя непохож. Лоб под черной челкой весь в морщинах, и ходит он ссутулившись. Мрачный взгляд блестит странным блеском и полон тревоги.
Я видел его сегодня мельком. С некоторых пор я вижу его очень редко.
Я больше не прислуживаю ему за столом.
У герцогини я с того раза не был. Говорят, она лежит в полузабытьи. Герцог часто к ней наведывается, просиживает ночи напролет у ее постели – еще бы, ведь Фьяметта-то умерла.
Странные существа эти люди. И любовь их друг к другу я никогда не научусь понимать.
Неприятель снял осаду и отошел от города после того, как чума стала свирепствовать и среди них. С таким противником у наемников Боккароссы нет охоты сражаться.
Итак, чума положила войне конец. Ничто другое, разумеется, не в силах было бы это сделать. Обе страны разорены, в особенности наша. И оба народа, по всей вероятности, слишком измотаны двумя войнами, чтобы продолжать. Монтанца тоже ничего не добился. И очень возможно, что его солдаты принесут заразу и к себе домой.
При дворе у нас смертей все больше и больше. Траурные декорации в честь Анджелики так и остались и неплохо подходят к общему похоронному настроению.
Я полностью отстранен от службы при дворе. Никто меня больше не зовет, никому я больше не нужен. И уж меньше всех герцогу. Его я вообще больше не вижу.
Я по лицам замечаю: что-то здесь неладно. Но в чем дело, не понимаю.
Уж не наговорили ли чего про меня?
Я удалился в свои покои, живу здесь сам по себе. Я не спускаюсь даже обедать, у меня сохранились остатки хлеба, которыми я и питаюсь. Мне вполне достаточно, потребности мои всегда были невелики.
Одинокий, сижу я под своим низким потолком, погрузившись в размышления.
Мне все больше и больше нравится это никем не нарушаемое одиночество.
* * *
Я уже очень давно ничего не записывал. Это связано с событиями, которые неожиданно вторглись в мою жизнь и помешали мне продолжать записи. У меня даже и доступа к ним не было. Я только теперь их сюда заполучил.
Я сижу прикованный к стене в одном из подземелий замка. До совсем недавнего времени у меня и руки были закованы, непонятно, правда, с какой целью, ведь убежать я все равно бы не смог. Наверно, просто для того, чтобы усугубить наказание. Теперь мне их наконец расковали – не знаю уж почему, я этого не просил, я вообще ничего не просил. Без кандалов стало чуточку удобней, хотя, в общем-то, ничего не переменилось. Вот тогда я и уговорил Ансельмо, моего тюремщика, принести мне из покоев для карликов мои письменные принадлежности и мои записи, чтоб поразвлечься иногда. Взявшись принести их, он, возможно, подвергал себя некоторой опасности, потому что хоть они и расковали мне руки, но вряд ли согласились бы доставить это маленькое удовольствие и он, как он сам сказал, не имеет права мне ничего разрешать, как бы ему ни хотелось. Но он услужливый и бесхитростный парень, и в конце концов мне удалось его уговорить.
Я перечитал свои записи с самого начала – каждый день понемножку – и получил известное удовольствие, как бы пережив заново свою собственную жизнь и жизнь многих других и еще раз поразмыслив на досуге обо всем. Я попытаюсь теперь продолжить с того места, на котором остановился, чтобы внести хоть чуточку разнообразия в свое поистине однообразное существование.
Я, честно говоря, даже и не знаю, сколько я здесь просидел. Мое тюремное существование настолько лишено всяких событий, один день настолько похож на другой, что я перестал отсчитывать время и вовсе не слежу за его ходом. Но обстоятельства, при которых меня препроводили в эту дыру и приковали к этой стене, я помню совершенно отчетливо.
Однажды утром, когда я сидел себе спокойно в своей каморке, в дверях вдруг появился один из подручных палача и велел мне следовать за ним. Объяснения он мне никакого не дал, а я не стал ничего спрашивать, поскольку считал ниже своего достоинства первым с ним заговорить. Он привел меня в застенок, где уже сидел палач, огромный, краснолицый и до пояса голый. Был там и судейский, и после того, как мне показали орудия пыток, он призвал меня чистосердечно рассказать о том, что происходило во время моих посещений герцогини и почему она теперь в столь плачевном состоянии. Я, естественно, отказался. Он дважды призывал меня признаться, но все напрасно. Тогда палач схватил меня и стал привязывать к кобыле, собираясь пытать. Оказалось, однако, что кобыла не приспособлена для тела таких размеров, как мое, и мне пришлось слезть и ждать, пока они ее приладят, чтобы годилась для карлика. Я вынужден был выслушивать их пошлости и грубые шуточки, что, мол, уж они-то сумеют сделать из меня длинного и рослого парня. Потом меня снова втащили на кобылу и стали мучить самым жестоким образом. Несмотря на боль, я не издал ни звука и только насмешливо смотрел на этих людей, занимавшихся своим презренным ремеслом. Законник стоял, склонившись надо мной, чтобы выслушать мои признания, но ни единого слова не сорвалось с моих губ. Я ее не выдал. Я не хотел, чтобы узнали про ее унижение.
Почему я так поступил? Не знаю. Но у меня и мысли не возникло признаться в чем-нибудь для нее унизительном, я готов был лучше вытерпеть что угодно. Сжав зубы, я терпел пытки ради этой ненавистной мне женщины. Почему? Возможно, мне нравилось страдать за нее.
Наконец им пришлось отступиться, и они с проклятиями развязали веревки. Меня отвели в подземелье и заковали в те самые кандалы, которые были изготовлены, когда я причастил святых тайн мой угнетенный народ, и которые, выходит, действительно пригодились, как сказал тогда герцог. Та тюрьма была более гостеприимна, чем эта. Через несколько дней меня снова взяли, и я снова прошел через те же муки. Но и на этот раз все было напрасно. Нет на свете силы, которая могла бы заставить меня заговорить. Я по-прежнему храню ее тайну в своем сердце.
Через некоторое время я предстал перед своего рода судом, где узнал, что я величайший на свете преступник и среди прочего виноват в смерти герцогини. Я не знал, что она умерла, но я уверен, что мое лицо не выдало, что я почувствовал при этом известии. Она умерла, так и не очнувшись от полузабытья.
Меня спросили, имею ли я что сказать в свою защиту. Я не удостоил их ни единым словом. Тогда объявили приговор. За все мои злодеяния, ставшие причиной стольких несчастий, я приговаривался к пожизненному заточению в самом темном подземелье замка, где должен был сидеть прикованным к стене. Я, видите ли, ядовитая змея и злой гений Его светлости герцога и по высочайшему повелению Его светлости должен быть навсегда обезврежен.
Я выслушал приговор совершенно невозмутимо, и мое древнее лицо карлика выражало лишь насмешку и презрение к ним, и я заметил, что они смотрели на меня с испугом. Меня увели – и с тех пор я не видел никого из этих презренных созданий, за исключением Ансельмо, который до того уж прост, что я не даю себе труда даже презирать его.
Ядовитая змея!
Да, я подмешал яду, но кто приказал мне это сделать? Да, я уготовил дону Риккардо смерть, но кто пожелал его смерти? Да, я бичевал герцогиню, но кто просил и молил меня об этом?
Люди слишком слабы и слишком далеки от реальности, чтобы собственными руками лепить свою судьбу.
Казалось бы, за все перечисленные ужасные преступления меня должны были приговорить к смерти. Но только глупец или тот, кто не знает моего высокого повелителя, может удивляться, что приговор не таков. Я слишком хорошо его изучил, чтобы опасаться чего-либо подобного. Да у него, в сущности, и нет надо мной власти.
Власть надо мной! Какое имеет значение, что я сижу в этой дыре! Что толку заковывать меня в цепи! Я все равно неотделим от замка! Они сами лишний раз доказали это, приковав меня к нему. Я прикован к нему, а он ко мне. Нет, нам не избавиться друг от друга – моему господину и мне. Я в заточении – и герцог в заточении. Мы прикованы друг к другу. Связаны одной цепью.
Я живу в этой своей норе, живу своей невидимой, кротовьей жизнью, в то время как он свободно разгуливает по своим роскошным залам. Но моя жизнь – и его жизнь. А его великолепная и высокочтимая жизнь является, по сути, и моей жизнью.
Мне потребовался не один день, чтобы написать все это. Я могу писать только в те короткие минуты, когда луч солнца из узкого окошечка падает на бумагу, тут мне надо торопиться. Меньше чем за час луч перемещается на пол, куда меня не пускает за ним моя цепь. Мои движения очень ограничены. По этой же причине ушло так много времени и на то, чтобы перечитать мои прежние записи, да оно и к лучшему, поскольку развлечение тем самым продлевалось.
Весь остальной день я сижу, как сидел, будучи в кандалах, и мне совершенно нечем себя занять. Уже с трех часов начинает темнеть, и большую часть суток мне приходится проводить в полнейшей темноте. С темнотой появляются крысы и начинают шнырять вокруг, поблескивая своими алчными глазками. Я тотчас их замечаю, поскольку вижу в темноте не хуже их, да и вообще я, подобно им, все больше превращаюсь в некое подземное существо. Я ненавижу этих уродливых и грязных тварей и охочусь за ними, сидя неподвижно и подпуская поближе, а потом затаптывая ногами. Это одно из пока еще доступных мне проявлений жизни. Наутро я приказываю Ансельмо выкинуть их вон. Не понимаю, откуда они берутся. Видимо, под дверью есть щель.
Стены сочатся сыростью, и в подземелье стоит промозглый, затхлый дух, который мучает меня, быть может, больше всего, потому что к запахам я необычайно чувствителен. Пол земляной, плотно утоптанный узниками, что томились здесь до меня. Они, видно, не были прикованы к стене, как я, во всяком случае не все, потому что пол с виду как каменный. Ночью я сплю на охапке соломы – как она. Но солома у меня не грязная и вонючая, как у нее, я велю Ансельмо менять ее каждую неделю. Я не кающийся грешник. Я свободный человек. Я не занимаюсь самоуничижением.
Таково мое существование в этой тюремной дыре. С окаменелым лицом сижу я здесь и предаюсь размышлениям о жизни и людях, как и прежде, как и всегда, и ни в чем не меняюсь.
Если они думают, что сумеют меня сломить, они очень ошибаются!
Какую-то связь с внешним миром я все же поддерживаю через моего добряка тюремщика. Принося мне пищу, он рассказывает мне в своей бесхитростной манере о том, что происходит наверху, по-своему истолковывая события. Его очень интересует все, что делается на свете, и он любит выкладывать свои соображения на этот счет, стоившие ему немалых усилий мысли. В его изложении все выглядит страшно упрощенно, и больше всего его волнует, что может думать по тому или иному поводу Господь Бог, однако, при моей искушенности в делах сего мира, мне все же удается составить себе хотя бы приблизительное представление о происходящих наверху событиях. Таким вот образом я постепенно составил себе представление о последних днях и кончине герцогини и о многом другом, что случилось со времени моего заточения. Герцог целыми днями преданно просиживал у ее постели, наблюдая, как лицо у нее делается все более и более прозрачным и, как говорили при дворе, необычайно одухотворенным. Она стала красивая, как Мадонна, утверждал Ансельмо, будто сам ее видел. Я-то, видевший ее собственными глазами, знаю, какой она была в действительности. Но я очень даже верю, что он просиживал там дни и ночи напролет, полностью посвятив себя супруге, которая его покидала. Возможно, он заново переживал их юную любовь, только теперь в одиночку, ибо она уже отрешилась от всего земного. Он, конечно, видел в этой ее отрешенности, в этом ее неземном облике страшно много трогательного – уж я-то его знаю. Вместе с тем он был, возможно, и смущен ее непонятным превращением, к которому оказался непричастен, и искренне хотел вернуть ее к жизни. Но она незаметно и безо всякого объяснения ускользала от него, что, вероятно, усиливало его любовь – ведь так оно всегда бывает.
Будучи в таком настроении, он и подверг меня пыткам и заточению. Он любил ее за то, что она так недоступна, за это самое он и меня заставил страдать. Меня это не удивляет, меня ничем не удивишь.
Бернардо и многие другие тоже ее навещали. Старый маэстро сказал будто бы, что лицо ее совершенно удивительно и что он только теперь начинает наконец понимать его. И начинает, Кажется, понимать, отчего не удался ее портрет. Еще неизвестно, действительно ли он тогда не удался, хоть она и стала теперь непохожа на него. Подумал бы, что говорит.
Потом на сцену выступили святые отцы. Я представляю, как они шмыгали там взад-вперед. Они заявили, что ее вступление в вечную жизнь – прекрасное и возвышающее душу зрелище. Явился, конечно, и духовник и, уж конечно, рассказывал всякому встречному, какая она была праведница. Когда она уже отходила, архиепископ собственноручно причастил и соборовал ее и в комнате было полным-полно прелатов и других духовных лиц всех степеней и рангов. Но умирала она все равно в полном одиночестве, не подозревая, что есть кто-то рядом.
После ее смерти нашли записку, написанную на грязном, смятом клочке бумаги, в которой говорилось, что она хочет, чтобы ее презренное тело было сожжено, как сжигаются трупы зачумленных, а пепел развеян по улицам, чтобы все его топтали. Решено было, что она писала это, уже не будучи в здравом уме и твердой памяти, и никто не позаботился исполнить ее последнюю волю, хотя высказана она была вполне серьезно. Вместо того выбрали золотую середину: труп ее набальзамировали, но положили его в простой железный гроб, который так и понесли потом неукрашенный по улицам к герцогской усыпальнице в соборе. За процессией, настолько скромной, насколько это позволял герцогский титул усопшей, следовал затаив дыхание простой люд, еще оставшиеся в живых несчастные скелеты, и Ансельмо, описывая это мрачное шествие через зачумленный город, сказал, что это было душераздирающее зрелище. Возможно, так оно и было.
Теперь народ, конечно, вообразил, что ему все про нее известно: и какая она была, и как жила последнее время, – и стал обращаться с ней как со своей законной собственностью, переиначивая услышанное на свой лад и на обычный в таких случаях манер. Их фантазию подстегнуло, разумеется, зрелище бедного, уродливого гроба рядом с пышными герцогскими гробами из серебра в богато отделанной мрамором усыпальнице. Этот простой гроб как бы приближал ее к ним, простым людям, делал одной из них. А ее посты и бичевания, про которые камеристка всем успела разболтать, сделали из нее избранницу, которая страдала больше других, потому что, несмотря на свое унижение, она была все же знатной особой – это все равно как Иисус страдал больше всех, потому что был сыном Бога, хотя ведь далеко не он один был распят, а некоторые даже и головами вниз, и истязали их и мучили гораздо больше, чем его. Она превратилась постепенно чуть ли не в святую, отвергавшую и презиравшую эту жизнь до такой степени, что собственноручно умертвила свою плоть. И, не заботясь об истине, они не успокоились до тех пор, пока не привели творение своей фантазии в такой вид, как им было желательно. И без чуда, конечно, тоже не обошлось! Ансельмо, во всяком случае, твердо уверовал в чудо. Он утверждал, что по ночам вокруг ее гроба появляется сияние. Ну что ж. Поскольку собор в это время суток на запоре, никто не может тут с полным правом сказать ни «да», ни «нет». А когда верующему человеку приходится выбирать между правдой и неправдой, он всегда выберет второе. Ложь гораздо больше говорит чувству и гораздо необычнее правды, и потому он всегда предпочтет ее.
Слушая эти его рассказы, я не могу не сказать себе, что ведь это я сам, своими руками сотворил для нее неумышленно нимб святой или, во всяком случае, немало способствовал яркости его сияния. И за то, что я это сделал, сижу сейчас прикованный цепями к стене. Они-то, разумеется, ничего про это не знают, а если б и узнали, к моему мученичеству наверняка никто не проявил бы интереса. Да я вовсе и не стремлюсь к ореолу мученика. Но меня, конечно, немало удивляет, что такой далекий от святости человек, как я, был избран орудием в подобном деле.
В свое время – не помню уж, когда именно, – Ансельмо начал рассказывать мне о том, как Бернардо пишет Мадонну, придавая ей сходство с герцогиней. Герцог и весь двор с увлечением следили за его работой, и все были просто счастливы. Старый маэстро заявил, что он хочет попытаться передать ее внутреннюю сущность и все то, что он лишь смутно угадывал, пока не увидел ее на смертном одре. Не знаю, насколько ему это удалось, потому что не видел, но, если верить Ансельмо, все в один голос утверждают, что получился шедевр – впрочем, что бы он ни сделал, все называют шедевром. Работал он очень долго, но все-таки закончил. Его «Тайная вечеря» с преломляющим хлеб Христом все еще не дописана и так, наверное, и останется, но эту свою вещь он докончил. Возможно, оно и легче. Ее повесили в соборе, над алтарем в левом приделе, и Ансельмо, после того как ее увидел, восторгался, как ребенок. Он описал мне ее в очень наивных выражениях и сказал, все, мол, считают, что никто еще никогда не создавал такой Мадонны, такой милосердной и прекрасной Божьей матери. Особенно все восторгались ее таинственной, загадочной улыбкой. Всех она очень растрогала, все говорили, какая она удивительно одухотворенная, и необъяснимая, и неземная. Я понял, что эту улыбку живописец скопировал с ее прежнего портрета, того самого, где она похожа на шлюху.
Нелегко было составить себе представление о картине по описанию такого темного парня, как Ансельмо, но, насколько я понял, маэстро действительно удалось тронуть сердца набожных людей. Хотя сам-то он едва ли верует в Божью матерь, ему, видимо, удалось вдохнуть в созданный им образ истинное религиозное чувство, наполнить его истинным религиозным содержанием и заставить зрителя замереть перед ним в волнении. Народ хлынул к новоявленной Богородице, и скоро к ней уже стали приходить со свечами и преклонять пред ней колена. Коленопреклоненных там стало больше, чем у любого другого алтаря, а свечек перед портретом усопшей герцогини горит столько, что они первыми бросаются в глаза, стоит только войти в собор. Особенно много там собирается бедных – помолиться и обрести утешение в своем горе. Все те несчастные и угнетенные, которых столько развелось в нынешние трудные времена. Она стала их излюбленной Мадонной-заступницей, которая терпеливо выслушивает их жалобы и отпускает с миром, утешенных и ободренных, хотя, насколько мне известно, при жизни она никогда не интересовалась бедными. Выходит, мы с Бернардо содействовали пробуждению в народе глубоких и искренних религиозных чувств.
Я до сих пор все размышляю над этой историей. Кто бы мог подумать, что эта женщина будет красоваться в соборе доброй Мадонной-утешительницей и станет предметом любви и обожания черни. Что она, непорочная и неземная, будет взирать на всех с высоты, в сиянии бесчисленных свечей, пожертвованных ей за ее непорочность и доброту. А в замке меж тем висит другой ее портрет, который герцог велел вставить в раму и прибить на стену, хотя маэстро Бернардо им и недоволен, тот самый, на котором она выглядит шлюхой. И оба изображения, несмотря на всю свою несхожесть, возможно, правдивы каждое по-своему, и на обоих портретах у нее совершенно одинаковая неуловимая улыбка – коленопреклоненные в соборе называют ее неземной.
Люди любят смотреться в мутное зеркало.
Теперь, когда я описал все это, то есть все то, что произошло после моего заточения сюда, я нахожу, что писать мне, в общем-то, больше не о чем. Ансельмо, правда, продолжал рассказывать мне разные случаи в городе и при дворе, но ничего особенного там не случалось. Чума утихла, унеся немалую часть населения, прекратилась сама собой, как и вспыхнула, люди заболевали все реже – и все кончилось. Жизнь постепенно вошла в привычное, проторенное русло, и город, несмотря на все пережитое, приобрел постепенно прежний вид. Крестьяне вернулись к своим сгоревшим дворам и отстроили их заново, и страна постепенно оправилась и собралась с силами, хотя еще очень бедна. Долги от войны остались огромные, и государственная казна пуста, и потому население, как подробно объяснил мне Ансельмо, обременено большими налогами. Но что ни говори, а мир есть мир, как он выразился, и уж как-нибудь, мол, выкарабкаемся, все образуется. Народ не унывает, сказал он, и вся его простецкая физиономия засияла от удовольствия.
Он развлекает меня своей бесконечной болтовней, и я его слушаю, потому что говорить мне больше не с кем, хотя болтовня его порой очень утомительна. Не так давно он пришел и объявил мне, что большой долг Венеции наконец выплачен и страна избавилась от тяжелого бремени. Виден уже какой-то просвет, и времена после тяжких испытаний меняются к лучшему, по всему заметно, сказал он. Начали даже вновь строить кампанилу, которая столько лет простояла в забросе, и надеются скоро достроить. Я упоминаю об этом, хотя и не знаю, стоит ли такое записывать.
Ничего особенно интересного теперь уже не происходит.
Я сижу в своем подземелье и жду не дождусь солнечного луча, а когда он наконец появится, мне нечего поверить бумаге, которую он освещает. Перо мое бездействует, и мне лень даже пошевелить рукой.
Мне наскучили мои записи, потому что мое тюремное существование исключает какие бы то ни было события.
Завтра должно состояться торжественное освящение кампанилы, и первый раз на ней зазвонят колокола. Они отлиты частично из серебра, которое приобрели за счет народных пожертвований. По общему мнению, звук от этого получится красивее.
Герцог и весь двор будут присутствовать при освящении.
Освящение состоялось, и Ансельмо нарассказал мне о нем всякой всячины, услышанной им от очевидцев. Это было, утверждает он, удивительное и незабываемое событие, и народу собралось тьма, чуть не весь город. Герцог прошел пешком по улицам во главе всего своего двора, а за ними валили целые толпы, потому что всем хотелось посмотреть на повелителя и лично присутствовать при таком торжественном событии. Он был очень серьезен, но опять такой же стройный и гибкий, совсем как прежде, и, видно, очень радовался великому дню. И он, и вся его свита были одеты в роскошные одежды. Когда он подошел к собору, то первым делом вошел внутрь и преклонил колена у гроба герцогини, а потом у алтаря, где висит ее изображение, и все остальные тоже опустились на колени. Помолившись, они снова вышли на соборную площадь, и тут зазвонили колокола на кампаниле. Это было так прекрасно, что все замерли на месте и в молчании слушали чудесный звон, который раздавался, казалось, из самого поднебесья. Он разносился по всему городу, и все чувствовали себя счастливыми, слушая его. Весь простой люд собрался на площади вокруг герцога, и все говорили, что это самая счастливая минута в их жизни. Так рассказывал Ансельмо.
Сам он, к великому своему огорчению, не смог присутствовать, потому что как раз в это время ему надо было кормить узников, и он довольствовался тем, что слушал доносившийся с площади колокольный звон. Когда раздался первый удар, он ворвался ко мне и сообщил, что началось. Он был так взволнован, что даже открыл дверь, чтобы и я послушал. Мне кажется, у этого добряка даже слезы на глазах выступили, и он объявил, что звон поистине небесный. По-моему, звон как звон, ничего особенного. Я был рад, когда он наконец оставил меня в покое.
Я сижу здесь в своих оковах, и дни идут, и никогда ничего не случается. Жизнь у меня пустая и безрадостная, но я не жалуюсь. Я жду иных времен, и они, конечно, наступят, не могли же, в самом деле, засадить меня сюда навечно. У меня еще будет возможность продолжить мою хронику при свете дня, как когда-то, и я еще понадоблюсь. Если я правильно понимаю моего господина, он не сможет долго обходиться без своего карлика. Нет, я не унываю. Я думаю о том дне, когда ко мне придут и снимут оковы, потому что герцог пришлет за мной.
Повести
Палач
BÖDELN
Перевод Т. Величко
Редактор С. Белокриницкая
Палач сидел и пил в полутемном трактире. В чадном мерцании единственной сальной свечи, выставленной хозяином, грузно нависла над столом его могучая фигура в кроваво-красном одеянии, рука обхватила лоб, на котором выжжено палаческое клеймо. Несколько ремесленников и полупьяных подмастерьев из околотка галдели за хмельным питьем на другом конце стола, на его половине не сидел никто. Бесшумно скользила по каменному полу служанка, рука ее дрожала, когда она наполняла его кружку. Мальчишка-ученик, в темноте прокравшийся в трактир, притаившись в сторонке, пожирал его горящими глазами.
– Доброе пивцо, а, заплечный мастер? – крикнул один из подмастерьев. – Слышь, хозяйка-то матушка к виселице бегала, палец ворюгин у тебя стянула да в бочку на нитке и подвесила. Уж она расстарается, чтоб ее пиво из всех лучшее было, все сделает, чтоб гостям угодить. А пиву, слышь ли, ничто так смаку не придает, как палец от висельника!
– И впрямь удивительно, – проговорил косоротый старикашка-сапожник, раздумчиво отирая пиво со своей пожухлой бороды. – Что к тем делам причастность имеет – во всем сила таится диковинная.
– Ото, да еще какая! Помню, в наших краях одного мужика вздернули за недозволенную охоту, хоть он и говорил, что невиновен. Как заплечных дел мастер вышиб приступку-то у него из-под ног и петля на нем задернулась, он такие ветры выпустил, что все окрест зачадил, цветы поникли, а луг, что к востоку от виселицы, будто выгорел весь и пожух, дуло-то с запада, я вам не сказал, и в округе нашей тем летом неурожай выдался.
Все хохотали, наваливаясь на стол.
– А мой отец, так тот рассказывал: когда еще он молодой был, у них один кожевник со свояченицей блудил, и с ним точь-в-точь такая история приключилась, когда его час пробил, – оно и немудрено, коли в этакой спешке земную плоть сбрасывать приходится. Народ как попятился от этого духу, глядь, а в небо облако поднимается, да черное, страсть смотреть, а назади сам черт сидит и кочергою правит, душу грешную уносит и ржет от удовольствия, что этакая вонь.
– Будет глупости-то болтать, – вступился опять старик, украдкой косясь на палача. – Разговор нешутейный, я вам истинно говорю, тут сила сидит особая. Да хоть бы Кристена взять, Анны мальца, что наземь опрокидывался с пеною у рта, потому как бесом был одержим! Я сам сколько раз подсоблял держать его да рот ему раскрывать – жуть, как его трепало, пуще всех иных, кого мне видеть доводилось. А как взяла его мать с собою, когда Еркер-кузнец жизни решился, да заставила крови испить, все как рукой сняло. С той поры он ни единого разу не повалился.
– Да-а...
– Я ведь им сосед, да и вы не хуже меня о том знаете.
– Против этого никто и не спорит.
– Как не знать, это всякому ведомо.
– Только надобно, чтоб кровь была от убийцы и покуда она еще тепло хранит, а то проку не будет.
– Это само собою.
– Да. Чудно, что и говорить...
– Опять же вот и дети, которые недужные либо худосочные, здоровехоньки становятся, коли крови им дать с палаческого меча, это я еще с малолетства помню, – продолжал старик. – У нас в округе все про то знали, бабка-повитуха таскала эту кровь-то из дома палача. Или я «что не так говорю, а, заплечный мастер?
Палач на него не взглянул. Не шелохнулся. Его тяжелое, непроницаемое лицо под заслонившей лоб рукою едва проступало в неверном, колеблющемся свете.
– Да. Зло в себе целительную силу скрывает, это уж точно, – заключил старик.
– Не зря, верно, люди так жадны до всего, что к нему касательство имеет. Ночью идешь домой мимо виселицы, а там возня, копошенье – ей-ей, сердце зайдется с перепугу. Вот где аптекари, знахари и прочие богомерзкие колдуны зелья свои берут, за которые беднякам и – страдальцам дорогие деньги приходится платить, в поте лица добываемые. Говорят, иной труп до костей обдерут, уж и разобрать нельзя, что когда-то человек был. Я не хуже вашего знаю, что сила в этом всем сидит и, коли нужда припрет, без этого не обойтись, на себе испытал, ежели на то пошло, да и на бабе своей, а все же скажу: тьфу, скверна! Не одни свиньи да летучие твари мертвечиной живут, а и мы с вами!
– Ох, замолчи ты, право! В дрожь бросает от твоих речей. А что ты такое глотал-то, говоришь?
– Не говорил я, чего глотал, и говорить не стану. Я одно говорю: тьфу, бесовская сила! Потому как это от него все идет, верьте моему слову!
– А-а, пустое. Весь вечер нынче пустое мелете. Не хочу больше слушать вашу околесину.
– Ты чего пиво-то не пьешь?
– Да пью я. Сам дуй, пьянчуга.
– Однако ж, чудно, что зло помогает и этакую власть имеет.
– То-то что имеет.
– Да, эта его власть и одной и другой стороной оборотиться может. С ним шутки плохи.
Они замолчали, задвигали кружками – отстраняясь от них. Некоторые отвернулись и, должно быть, перекрестились.
– Говорят, будто палача ни нож, ни меч не берет, – сказал старик, косясь на грузную молчаливую фигуру. – Правда ль, нет ли, не знаю.
– Брехня это все!
– Не скажи, бывают и впрямь твердокаменные – ничем не проймешь. Я слыхал про одного такого в молодые годы. Привели его казнить за лютые злодеяния, а меч-то его и не берет. Они давай топором – так топор у них из рук вышибло, ну, их страх одолел, они его и отпустили на все четыре стороны, потому смекнули, что нечистый в нем сидит.
– Пустое!
– Ей-богу, правда, провалиться мне на этом месте!
– А-а, пустое болтаешь! Кто ж не знает, что заплечных мастеров тоже мечом да топором казнят, как и прочее отребье. Да хоть бы Енс-палач – ему ведь его же секирой голову-то снесли!
– Ну, Енс – дело иное, он с силами этими в согласии не был. Попал в беду ни за что ни про что, горемыка несчастный, ну и вымолил себе жизнь, с бабой своей да с ребятишками расстаться не мог. Тут, брат, случай особый. Не по нем оказалось это ремесло, он на помосте пуще грешника злосчастного трясся. Страх у него был перед злом, вот что. Он и погибель на себя навлек оттого, что не мог со страхом своим совладать, не по плечу была ему служба – так я полагаю, и тогда он взял да и порешил этого Стаффана, что был ему лучшим другом. Я тебе скажу, топор-то, он куда сильнее Енса был и будто к себе его тянул, а тот не мог супротивиться, вот и угодил под него, потому всегда знал, что так будет. Нет, в нем сила эта самая не сидела. А уж в ком сидит, того ничто не берет.
– Ясное дело, в палаче, как ни в ком, сила таится, даром он, что ли, подле самого зла обращается? А что топор и иное палачево оружие силу в себе таят, тоже верно. Оттого к ним никто и притронуться не смеет, как и ко всему, до чего заплечный мастер касался.
– Что правда, то правда.
– Зло – оно, брат, власть имеет, какая нам и во сне не снилась. Попадешь ему в лапы – пиши пропало, не выпустит из когтей.
– А ты почем знаешь? – сказал человек, до сих пор сидевший молча. – Не так это просто – до сути его добраться, а увидишь поближе, какое оно, зло, так, бывает, и удивишься. Не то чтобы я сам до конца его проник, а только я вроде как побыл какое-то время под его властью и, можно сказать, сподобился заглянуть ему в лицо, к тайне его причаститься. Такое век помнить будешь. И что удивительно, после этого вроде и страха больше нету перед ним.
– Да ну?
– Так-таки и нету? Что-то не верится!
– Право слово, нету. Да вот послушай, коли есть охота, отчего у меня страха не стало. В памяти всплыло, пока вы тут сидели, говорили.
Случилось это еще в младенчестве, думаю, было мне от роду годов пять-шесть. Жили мы в отцовой усадебке, хозяйствовал он не худо, нужды ни в чем не знали. Я один был у отца с матерью, и, надо вам сказать, любили они меня, пожалуй, даже через меру, как уж водится, когда одно дитя в семье. Житье у меня было счастливое, а родители – каких добрее да ласковее и не сыщешь, оба теперь померли, упокой, господи, души их. Усадьба наша лежала на отшибе, на самом краю селения, и я приучился все больше один время проводить либо за матерью с отцом по подворью бегать. До сей поры помню, где у нас что было: и дворовые службы, и поля, и огород с южной стороны дома. И хоть теперь я всего лишился и никогда, верно, больше не увижу, а оно будто так и осталось жить во мне.
И вот как-то летом, в разгар косовицы, мать понесла отцу обед на общинный покос, до которого со мною идти было слишком далеко, и я остался дома один-одинешенек. Солнышко припекало, была жара, мухи облепили камень у порога, роились на том месте возле скотного двора, где по утрам процеживали молоко. Я слонялся, смотрел, где что делается, в сад сходил и к дровяному сараю, заглянул к пчелам, которые лениво выползали из ульев, сытые и разморенные теплом. Да, как уж оно там вышло, то ли заскучал я, то ли что, а только я перелез через изгородь и зашагал в лес по тропинке, по которой до того разу никогда далеко не хаживал, только самое начало знал. А тут понесло меня в места вовсе незнакомые. Тропинка шла по косогору, а лес был частый, с громадными деревьями, я засматривал в просветы между стволами и замшелыми каменными глыбами. Внизу, в ложбине, шумно бурлила река, протекавшая через наше селение. Я шагал себе и радовался: и погожий день, и все меня тешило. Солнце дремало в ветвях средь листвы, дятлы стучали, смолистый воздух обдавал густым теплом, звенел от птичьего пересвиста.
Долго ль я так шел, не знаю, но вдруг послышался шорох, и впереди, в густом кустарнике, что-то зашевелилось и взметнулось с земли. Я прибавил шагу, чтоб посмотреть, что там такое. Дойдя до поворота, увидел, что кто-то бежит, и припустился следом. Тропка пошла по более ровному месту, лес поредел, и, очутившись на прогалине, я разглядел, что это были двое ребятишек. Годами, должно быть, мне ровесники, одеты, однако ж, по-иному. По ту сторону прогалины они остановились, оглянулись назад. И опять пустились бегом. Я – за ними, не уйдете, думаю, все одно поймаю! Но они то и дело сворачивали с тропинки и скрывались в густых зарослях. Сперва я подумал, они со мною в прятки хотят поиграть, потом понял: нет, непохоже. А мне охота было с ними познакомиться да игру затеять, и я не сбавлял ходу и мало-помалу их нагонял. Под конец они разбежались в разные стороны, один заполз под упавшую ель и там схоронился. Я кинулся за ним, разгреб ветви, гляжу: он лежит там, сжавшись в комок. Я, весь взмокший, с хохотом навалился на него и прижал к земле. Он давай вырываться, голову приподнял, глаза дикие, испуганные, губы зло искривились. Волосы рыжие, коротко остриженные, а лицо все в мелких грязных рябинках. Одежи на нем только и было что старая дырявая фуфайка, он лежал почти нагишом и дрожал у меня под руками, ровно какой-нибудь зверек.
Вид у него, по моим понятиям, был малость чудной, но я его не отпускал, потому как худого о нем ничего не подумал. Он было хотел вскочить, а я надавил на него коленкой и ну хохотать, нет, говорю, от меня не уйдешь. Он притих и глядел на меня, ничего не отвечая. Но я уже видел, что теперь мы с ним вроде как подружились и он не станет больше от меня убегать. Тогда я его отпустил, и мы оба поднялись с земли и пошли рядом, но я замечал, он на меня все время сторожко поглядывал. С ним была сестренка, теперь она тоже показалась из своего укрытия. Он отошел от меня и что-то ей зашептал, а она слушала с широко раскрытыми глазами на бледном перепуганном личике. Но когда я к ним приблизился, они не убежали.
Ну, начали мы играть, они, как уж до этого дошло, играли с охотою, прятались в разные места, которые им, верно, наперед были известны, и, только их найдешь, тут же молча перебегали дальше. Там была почти что открытая поляна, лишь торчали кое-где каменные глыбы да валялись рухнувшие деревья, и они, видно, знали там все наперечет, а я подчас никак их не мог отыскать, потому что их совсем было не слышно. В жизни не видывал, чтобы детишки так тихо играли. Они раззадорились, шастали туда-сюда проворно, как ласки, но все молчком. И со мною они словом не перемолвились. Нам, однако ж, и так хорошо было, я по крайности был доволен. По временам они вдруг останавливались прямо средь игры и молча на меня глазели.
Должно быть, мы довольно долго резвились, покуда из лесу не послышался зов. Ребятишки быстро глянули друг на друга и немедля побежали прочь. Я им крикнул, мол, завтра опять свидимся, но они даже не обернулись, только слышно было, как шлепали по тропинке их босые ноги.
Когда я воротился домой, там еще никого не было. Вскорости пришла мать, но я ей не стал рассказывать, куда ходил и что видел. Уж и не знаю – вроде как это моя тайна была.
На другой день она опять понесла косарям обед, и только я остался один, как тотчас отправился на вчерашнее место и нашел там своих дружков. Они все так же дичились, особенно поначалу, и не понять было, рады они моему приходу или нет. Однако очутились они там в одно время со мною, будто нарочно меня поджидали. Мы опять разыгрались и вовсе упарились от своей молчаливой беготни: я-то ведь тоже не кричал и не гикал, как, уж верно, делал бы, кабы не они. Мне казалось, я с ними давным-давно знаком. На этот раз мы добежали до большой поляны, где я увидел домишко, прилепившийся к нависшей над ним скале. Был он невзрачный и какой-то угрюмый, но близко мы к нему не подходили.
Мать уже ждала меня дома, когда я воротился, и спросила, где я был. Я ей сказал, мол, просто гулял в лесу.
И повадился я каждый день туда ходить. Домашние так были заняты сенокосом, что им было не до меня, и никто не замечал моих отлучек. Ребятишки встречали меня на полдороге и, похоже, перестали дичиться.
Мне уж очень хотелось поближе посмотреть, как они живут, но они все время будто противились этому. Тянули меня туда, где мы всегда играли. Однако как-то раз я осмелел и подошел к самому дому – и они за мною следом, чуть поодаль. Все там было обыкновенно, только вокруг ни пашен, ни грядок, земля голая и заброшенная, будто и не живет никто. Дверь была отворена, я подождал их, и мы вместе вошли в дом. Там была полутьма и стоял затхлый дух. Навстречу нам вышла женщина, не поздоровалась, ни слова не сказала. Глаза у ней были жесткие, так меня и буравили – не знаю, что-то в ней чудилось недоброе. Волосы прядями свисали ей на щеки, а рот был большой, бескровный, с какой-то злою усмешкой. Но тогда я не особо раздумывал, какой у нее вид. Разве что подумал, мол, это ихняя мать, и принялся осматриваться по сторонам.
– Как он сюда попал? – спросила она у ребятишек.
– Он приходит в лес с нами играть, – ответили они боязливо.
Она разглядывала меня с любопытством и как будто бы маленько смягчилась, или, может, я к ней просто присмотрелся. Мне даже померещилась в ней схожесть с девчонкой, когда я в первый раз увидел ее, появившуюся из-за деревьев с широко раскрытыми глазами.
Мало-помалу я привык к потемкам. Сам не знаю – как-то чудно мне у них показалось. Вроде и не сильно их жилье от нашего рознилось, а все же что-то в нем было не так, не по мне. И опять-таки у каждого жилья свой запах, а в этом сырость была и духота, воздух тяжелый и вместе холодный, может, оттого, что домишко стоял впритык к скале.
Я ходил, ко всему приглядывался и дивился.
В дальнем углу висел огромный меч, широкий и прямой, обоюдоострый, на нем было изображение богоматери с младенцем Иисусом и множество замысловатых знаков и надписей. Я подошел поближе, чтоб лучше все рассмотреть – никогда не доводилось мне видеть ничего подобного, – не удержался и потрогал его рукою. Тут послышался будто глубокий вздох, и кто-то всхлипнул...
Я оглянулся, пошел к ним.
– Кто это плачет? – спрашиваю.
– Плачет? Никто не плачет! – ответила их мать. Она уставилась на меня, глаза сразу другие стали. – Иди-ка сюда! – сказала она, схватила меня за руку, отвела на то же место и велела мне опять прикоснуться к мечу.
И тут снова послышался глубокий вздох, и кто-то всхлипнул, внятно так.
– Меч! – крикнула она и рванула меня назад. – Это в нем!
Потом выпустила мою руку и отвернулась. Пошла к печке и стала мешать в горшке, стоявшем на огне.
– Ты чей будешь-то? – спросила она немного погодя, и рот ее недобро перекосился, почудилось мне, когда она это говорила.
Я ответил, мол, Кристоффера из Волы сын, так звали моего отца.
– Вон чего.
Ребятишки застыли на месте и смотрели прямо перед собою дикими, испуганными глазами.
Она еще повозилась у печки. А когда кончила, присела на скамейку и усадила меня к себе на колени. Погладила по голове.
– Да, ну-ну... – сказала она и долго, пристально смотрела на меня. – Пойду-ка я с тобою к твоим, так-то лучше будет, – прибавила потом.
Она собралась, надела другую юбку и что-то чудное на голову, чего я прежде ни на одной женщине не видывал. И мы отправились в путь.
– Это здесь вы играете-то? – спросила она, когда мы вошли в лес. И еще несколько раз со мною заговаривала по дороге. Приметивши, что я оробел, она взяла меня за руку.
Я ничего не понимал и спрашивать ни о чем не смел.
Когда мы поднялись к нашему дому, мать выскочила на крыльцо, лицо у нее было белое-белое, я еще никогда ее такой не видел.
– Чего тебе надо от моего сына? Отпусти мальчонку, слышишь! Сейчас отпусти, паскудная тварь!
Она не мешкая выпустила мою руку, лицо ее покривилось, и вся она стала как затравленный зверь.
– Что ты сделала с моим мальчонкой?
– Он был у нас в доме...
– Ты заманила его в свое поганое логово! – закричала мать.
– Я не заманивала. Сам пришел, коли хочешь знать. А как к мечу приступился и тронул его ненароком, стало в нем вздыхать да всхлипывать.
Мать оторопело и боязливо глянула на меня своими разгоряченными глазами.
– А к чему такое, ты, надо быть, и сама знаешь.
– Нет... Не знаю я.
– Смерть он примет от палаческого меча.
Мать испустила сдавленный крик и уставилась на меня, бледная как мертвец, с дрожащими губами, но ни слова в ответ не молвила.
– Я-то думала как лучше, пришла тебе сказать, да ты, я вижу, только злобишься заместо благодарности. Забирай своего гаденыша, и больше ты про нас не услышишь, покуда час не пробьет, раз сама так захотела!
Она в сердцах повернулась и ушла.
Мать, вся дрожа, схватила меня, притянула к себе и стала целовать, но взгляд у нее был неподвижный, чужой. Она отвела меня в дом, а сама бросилась во двор, и я видел, как она побежала через поле, что-то крича.
Они с отцом воротились вместе, примолкшие и понурые. Как сейчас помню, я стоял у окна и видел, как они вдвоем шли к дому вдоль межи.
Ни один со мною слова не сказал. Мать начала возиться у печи. Отец не сел, как обыкновенно, а расхаживал взад и вперед. Его худое лицо застыло и одеревенело, будто неживое. Когда мать вышла на минуту за водой, он поставил меня перед собою и стал глядеть прямо в глаза, опасливо и испытующе, потом опять отворотился. Они и промеж собою не разговаривали. Немного погодя отец вышел, начал бродить по подворью без всякого дела, стоял, глядя вдаль.
Время настало тяжелое и мрачное. Я ходил совсем один, никому не нужный. И все кругом стало иным, даже луга были не те, что прежде, хотя дни стояли все такие же погожие и солнечные. Я пробовал играть, но из этого тоже мало что выходило. Когда они оказывались поблизости, то проходили мимо, ничего не говоря. Точно я им чужой был. По вечерам, однако ж, когда мать меня укладывала, она так крепко прижимала меня к себе, что я чуть не задыхался.
Я не понимал, отчего все переменилось и стало так безотрадно. Даже когда я, случалось, веселел, совсем не то было веселье, что раньше. Вся усадьба как вымерла, здесь будто никто больше друг с другом не разговаривал. Но по временам, когда они не замечали, что я рядом, я слышал, как они перешептывались. Я не знал, что я такое сделал, но думал, верно, что-то ужасное, раз им даже смотреть на меня невмоготу. И я старался, как мог, заниматься сам с собою и не мозолить им глаза, видел, что им так лучше.
У матери щеки ввалились, она ничего не ела. Что ни утро глаза были заплаканные. Помню, я выбрал место позади скотного двора и начал строить из камешков отдельный дом для себя.
Наконец однажды мать меня подозвала. С ней и отец был. Когда я подошел, она взяла меня за руку и повела к лесу, а отец стоял и смотрел нам вслед. Я, как увидел, что она повела меня по той самой тропке, по какой я тогда ходил, в первый раз взаправду испугался. Но все было до того безотрадно, что я подумал, ладно, хуже, чем есть, стать не может. Я жался к ней и послушно шел, осторожно ступая средь камней и корневищ, попадавшихся на тропинке, чтобы ей не было из-за меня лишнего беспокойства. Она так осунулась в лице, что ее было не узнать.
Когда мы добрались до места и увидели дом, по ней дрожь прошла. Я изо всех сил сжал ей руку, хотел ее подбодрить.
Кроме ребятишек и их матери, в доме на этот раз был еще один человек. Кряжистый, могучего сложения мужик, толстые, будто вывороченные наружу губы изрезаны поперечными морщинами, лицо усеяно крупными оспинами, а в выражении что-то грубое и дикое, взгляд тяжелый, глаза налиты кровью – какие-то изжелта-красные. Отродясь на меня ни один смертный такого страху не нагонял.
Никто не поздоровался. Женщина стала у печи и принялась ворочать кочергой, так что искры взвивались. Мужик сперва взглянул на нас искоса, потом тоже отворотился.
Мать остановилась у порога и начала униженно о чем-то просить – я только понял, что речь шла обо мне, однако не мог толком уразуметь, чего ей от них надо было. Она все повторяла, мол, есть ведь средство-то, если только они захотят помочь.
Никто ей не отвечал.
Она была такая несчастная и жалкая, что мне казалось, никак они не могут ей отказать. Но они даже не оборачивались. Будто нас вовсе не было.
А мать одна говорила и говорила, все безутешней и просительней, глухим, отчаянным голосом. И мне было ужас как жаль ее, она говорила, мол, я ведь у нее единственное дитя, и слезы застилали ей глаза.
Напоследок она просто стояла и плакала – ни к чему, видно, были все ее мольбы.
А на меня такая жуть нашла, я просто не знал, куда деваться, и побежал к ребятишкам, что стояли, забившись в самый угол. Мы пугливо переглядывались. А потом уселись все вместе на скамью у стены: мочи больше не было стоять.
Нескончаемо долго сидели мы так в жуткой тишине. Вдруг я услышал грубый мужской голос – и вздрогнул. Он стоял и глядел в нашу сторону – но звал он меня.
– Идем со мною!
Весь дрожа, я тихонько подошел и, когда он двинулся прочь, не посмел ослушаться и потянулся следом. Ну и мать за нами вышла. Женщина у печи оборотилась. «Тьфу!» – плюнула ей вдогонку.
Потом, однако, мы с ним пошли одни по утоптанной дорожке, что вела в березовую рощицу неподалеку от дома. Мне было не по себе рядом с ним, и я норовил держаться подальше. Но все же мы вроде как друг с другом знакомились, покуда вместе шли. В гуще среди деревьев бил родник, они, верно, брали оттуда воду, потому что рядом лежала черпалка. Он опустился на колени у самого края и пригоршней зачерпнул прозрачной воды.
– Пей! – сказал он мне.
По всему было видно, что худого он не замышлял, и я с охотой сделал, как он велел, и нимало не трусил. Можно бы подумать, что, близко смотреть, он и вовсе страшным покажется, а вышло по-иному, в нем будто не было той свирепости, и он больше был схож с обыкновенными людьми. Он стоял на коленях, и я видел тяжелый взгляд его налитых кровью глаз и, помнится, подумал: верно, и он тоже несчастлив. Трижды давал он мне воды.
– Ну вот, теперь снимет, – сказал он. – Раз из руки моей испил, можешь теперь не бояться. – И он легонько погладил меня по голове.
Будто чудо свершилось!
Он поднялся, и мы пошли обратно. Солнышко светило, и птицы щебетали в березах, пахло листвой и берестой, а у дома дожидалась нас мать, и глаза у нее засияли от радости, когда она увидела, как мы согласно идем рука в руку. Она прижала меня к себе и поцеловала.
– Господь вас благослови, – сказала она палачу, но тот только отворотился.
И мы пошли счастливые домой.
– Ну и ну, – протянул кто-то, когда он кончил.
– Да, вот ведь оно как.
– И впрямь зло – штука диковинная, против этого кто ж спорить станет.
– Вроде как в нем и добро вместе сокрыто.
– Да.
– А сила в нем какая! Выходит дело, оно тебя и сразить может, оно же и от гибели может избавить.
– И то.
– Удивительно, право слово.
– Да, такое послушать – ума наберешься, это уж точно.
– А я полагаю, твоей бы матери не грех повиниться перед палачовой женкой за брань-то свою.
– Я и сам так думаю, да она вот не повинилась.
– Ну да.
Они посидели в задумчивости. Отпивали по глотку и отирали губы.
– Ясное дело, и палач добрым может быть. Всякий слыхал, он болящих да страждущих и которые люди до крайности дошли, случается, из беды вызволяет, когда уж все лекари от них отреклись.
– Да. И что страдания ему ведомы, тоже правда истинная. Он, поди, сам муку принимает от того, что творит. Известно же, палач всегда прощения просит у осужденного, прежде чем его жизни лишить.
– Верно. Он зла к тому не имеет, кого жизни должен лишить, нет. Он ему вроде доброго приятеля может быть, я сам видел.
– Правда что вроде приятеля! При мне раз было, они в обнимку к помосту шли!
– Да ну!
– Потому как оба до того захмелели – еле на ногах держались: все выпили, что им поднесли, да еще добавили, вот кренделя-то и выделывали. И хоть оба они были хороши, а все же, сдается мне, палач из них двоих пьяней был. «У-ух!» – говорит, это когда голову-то ему отсекал.
Все расхохотались, приложились к своим кружкам.
– А тебя, стало быть, плаха дожидалась. Да, эта дорожка никому из нас не заказана.
– Верно говоришь.
– Нет, но чтоб у него такая власть была, а? Это ж подлинно как чудо свершилось, что ты нам рассказал-то. Не сними он с тебя проклятия, пропала бы твоя головушка.
– О, брат, он еще какие чудеса творит! Пожалуй что, почище некоторых святых!
– Ну, самые-то великие чудеса святые угодники творят и пречистая дева!
– Да Иисус Христос, искупивший грехи наши!
– Само собою, дурья твоя башка, только не о том теперь речь. У нас-то о заплечном мастере разговор!
– У него и правда власть есть. Зло – оно власть имеет, это уж так.
– Власть-то есть, да только откуда? Говорю вам, от дьявола она! Оттого люди и падки до зла, как ни до чего другого, куда более, чем до слова божия и до святых таинств.
– Однако ж, вот ему помогло.
– Да, что ни говори, а помогло же!
– Может, и так.
– А священнику, глядишь, и не совладать бы.
– Куда, и думать нечего, тут зло верховодило, у него он был под пятой!
– Тьфу, сатана это все, его проделки!
– Ну-у?..
– Сами же слыхали, палач-то отворотился, как мать его молвила «господь благослови».
– Фу ты!..
– А-а, черт, выпьем! Что мы все сидим да всякую дьявольщину поминаем!
– И то верно, пива нам! Пива, говорю, еще! Да какого позабористей!
– Чтоб из самой лучшей бочки! Бр-р... только не из той, где палец ворюгин подвешен... А что, правда ль, что у вас ворюгин палец в пиве болтается?
Служанка, побледнев, покачала головой, что-то пробормотала.
– Чего уж отпираться, весь город знает! Ладно, давай хоть и оттуда! Один черт, нам бы крепость была!.. У-ух! – как палач-то сказал.
– Ты не больно ухай! Не ровен час, без головы останешься, и захочешь напиться – да некуда лить!
– Вот и надо попользоваться, пока время не ушло!
– Это пиво сам бес варил, я по вкусу чую!
– Тут и есть сатанинское логово, зато уж пиво – лучше не сыщешь!
Они выпили. Навалились на стол, широко расставив локти.
– Я вот думаю, казни ль завтра быть спозаранку или как надо понимать? – вопросил старикашка-сапожник.
– Кто ж его знает...
– Может статься, что и так...
– Я к тому, что мастер-то заплечный гуляет. Да в красное разряженный, в полном параде.
– Да... Похоже на то...
– Что-то не слыхать было, чтоб казнить кого собирались, а?
– Не-е...
– Ну что ж. Небось услышим, как в барабан забьют.
– А-а, выпей-ка лучше, дед! Чем тарахтеть-то попусту.
Они выпили.
Вошел парень и с ним две женщины.
– Гляди-ка, и шлюхи явились!
– Куда заплечный мастер, туда и вся его шатая.
– А ну, малый, вздуй-ка свечи, хоть полюбоваться на твоих потаскушек.
– О, да они красотки, из непотребного дома, что ль?
– А то сам не видишь.
– Чего ж к мастеру-то заплечному не подсядете? Иль духу не хватает?
– Да-а... Вы с ним, видать, успели чересчур близкое знакомство свести.
– Эй, девы непорочные, вы к виселице-то ходили? Там один висит, с него вчера ночью одежду до нитки стянули, болтается в чем мать родила, все творения и чудеса господни наружу. Или вам уж такое не в диковинку? Ну-ну, а то бабы нынешний день с самого утра туда тянутся, как на богомолье, подивиться на такое благолепие, потому, слышь ли, у висельников эти штуковины особо приманчивые. Чего фыркаете-то? Глядите, мастер вам задаст!
– Он еще вас ни разу не взгрел у позорного столба?
– Да уж без этого небось не обошлось, им в колодках-то привычно, будто в рукавицах.
– Дайте срок, вы еще от его розог прочь побежите из города, да со всех ног придется улепетывать, а то задницы всю красу утеряют!
Одна из женщин повернулась к ним:
– А ты, Йокум Живодер, попридержи язык-то! Шел бы лучше домой, к бабе своей, она не хуже нашего беспутничает, вечор к нам в заведение прибегала, примите, говорит, а то дома меня никак не у доводят!
– Вы охальничать бросьте. А коли огорошить меня думали, так зря, я и без вас знаю про ее распутство! Она у меня добегается, я с нее шкуру спущу!
– Думаешь, поможет?
– А то так и вовсе прикончу!
– То-то радость ей будет, хоть с самим сатаной блуди!
Он что-то проворчал в ответ, остальные над ним хохотали.
– Да, на баб нигде управы не найдешь, ни на том, ни на этом свете.
– Не скажи, их тоже и жгут, и топят, и казнят, как нас с вами.
– Верно, заплечный мастер и их не милует.
– И то.
– Да, я примечал, много есть палачей, коим в охотку баб казнить.
– Еще бы, оно и понятно!
– Уж само собою, больше приятности, нежели с мужичьем расправляться.
– Надо думать.
– Ну, это еще как сказать, в охотку. Нет, не всегда. Я раз сам свидетелем был, не мог он бабу кончить – и все тут.
– Неужто?
– Правду говорю, никак не мог, а все оттого, что влюбился в нее по уши прямо там, на помосте.
– Да ну?
– Вот те на!
– Ей-ей, каждому видать было, любовь в нем зажглась. Стоял и смотрел на нее, а топор поднять так и не смог!
Она и взаправду редкой была красоты, помню, волосы длинные, черные, а глаза – спасу нет как хороши, кроткие, и насмерть перепуганные, и влажные, ровно у животной твари, я ее лицо как сейчас перед собой вижу, до того оно было особенное и прекрасное. Никто ее не знал, она пришлая была, недавно только у нас поселилась, он ее в первый раз увидал. Да, странного в том не было, что он в нее влюбился. Побледнел как полотно, руки дрожат. «Не могу», – говорит. Кто поближе стоял, все слышали.
– Да ну?.. Подумать!
– Да, удивительно было на них смотреть, право слово, удивительно. А люди увидали в глазах его любовь и умилились, стали промеж собою шептаться, переговариваться – заметно было, что жалели его.
– Понятное дело.
– Да. Постоял он чуток, а потом топор отложил и руку ей подал. Ну, у нее слезы из глаз, и вроде так сделалось, что и на нее любовь власть свою простерла, и что ж в том странного, раз он так поступил – в таком-то месте, да еще когда сам палачом ей был назначен.
– Да-а.
– Ну-ну, и чем же кончилось?
– Он, стало быть, оборотился к судье и перед всем народом объявил, дескать, хочет взять ее в жены – а ежели так, сами знаете, они помиловать могут, коли будет на то их воля. И народ зашумел, дескать, надобно ей жизнь даровать. Всех эта картина за душу взяла: и людей, и судью, – потому как открылась им чудодейственная сила любви прямо на лобном месте, и много было таких, что стояли и плакали. Ну на том и порешили. И священник их повенчал, и стали они мужем и женою.
Только выжгли ей на лбу клеймо, как уж закон того требует, виселица ведь свое взыщет. Хотя от казни-то она, я сказал, убереглась.
– Поди ж ты, какая история.
– Да, чего только не бывает.
– А потом-то что с ними было? Неужто и вправду счастье свое нашли?
– Да, зажили они в доме палача счастливою жизнью – это все их соседи в один голос говорили. Дескать, никогда еще такого палача не видывали, любовь – она его другим человеком сделала, думается мне, раньше ведь он такой не был, и в доме у него жизнь пошла иная, в прежние-то времена там, как водится, всякое отребье околачивалось. Они мне много раз навстречу попадались, когда она ребенка носила, и были они с виду как и всякая любовная пара, она все такая же красавица, даром что на голове позорный колпак, какой положено носить жене палача, ну и, само собою, клеймо на лбу страховидное, а все пригожа была, как я уж сказал.
Когда подоспело ей время рожать, хотели они, как все, позвать повитуху, они будто бы радовались ребеночку своему, как и всякие муж с женою, так по крайности люди говорили. Да не тут-то было, я помню, приходили они в дом, что напротив нашего, за одной такой бабкой, непременно хотели ее к себе залучить, потому боялись, как бы худого не случилось в родах, а она им отказала, и другие к ним не пошли: в них же как-никак скверна сидела.
– Ну, что ни говори, а не по-христиански это – в таком деле отказывать.
– Да оно ведь заразливо, сам рассуди, а ей, глядишь, после них к честной женщине идти роды принимать!
– Это само собою.
– Вот и вышло, что никого при ней не было, одна рожала, сам и то не поспел прийти, раньше времени у ней началось, и это, понятно, не больно хорошо было, ну и толком-то никто не знает, как уж оно там получилось, а только на суде призналась она, что удавила ребеночка.
– Да что ты?.. Удавила?
– Как же это такое?
– Она будто бы сказала там, мол, как разрешилась она от бремени и довольно оправилась, чтоб ребеночка прибрать, кровь ему с лица отереть, увидала на лбу у него родимое пятно – по виду как есть виселица. Они ведь ей самой выжгли клеймо в то время, как во чреве ее дитя зародилось, и у ней, мол, все сердце от этого изныло, изболелось. Ну и не захотела она, чтоб ее дитя в этом мире жить осталось, на нем уже с самого начала метина была поставлена, а она, мол, в нем души не чаяла. И еще она много чего говорила, да только, слыхал я, мало было складу в ее речах, видно, на роду ей, несчастной, написано было черные дела творить, не иначе.
– А мне так жаль ее.
– Да, что ни говори, а жаль.
– Ну и приговор вышел такой, чтобы быть ей заживо погребенной: грех-то она немалый на душу взяла, – и ему самому же выпало землей ее забрасывать. Я тогда тоже ходил смотреть, и, само собою, нелегко ему пришлось, он ведь ее любил, взаправду любил, хоть напоследок-то она небось оттолкнула его своим злодейством. Кидал он лопатою землю и на тело ее красивое глядел, как оно мало-помалу скрывалось, а когда до лица дошел, медлил, сколько мог. Она за все время слова не молвила – они, думается мне, загодя простились, – лежала и смотрела на него любовным взором. Под конец пришлось ему, понятно, и лицо забрасывать, так он отворотился. Да, нелегко ему было. Да ведь никуда не денешься, коли такой приговор.
Говорили, будто он потом ночью туда ходил, откопать ее пробовал, может, думал, жива еще, да болтовня, должен бы вроде понимать, что не могло этого быть.
Он, к слову сказать, вскорости прочь подался из наших мест, и никто не знает, что с ним потом сталось.
– Ну и ну. Да, жалко их.
– Однако ж, они и сами бы должны сообразить, что ничего хорошего выйти не могло, что ихняя скверна и на ребеночка перейдет.
– А то как же, и неудивительно, что метина у него была как виселица!
– Да, такое, видно, накрепко пристает.
– И то.
– Что хочешь делай, все одно не отпустит. Это уж так.
– Стало быть, пришлось-таки ему стать ее палачом.
– Пришлось.
– Выходит, суждено ему было.
За дверью послышались выкрики, шум, в трактир с грохотом ввалился человек, заорал кому-то, шедшему за ним в темноте, грозя ему рукой, у которой была отрублена кисть:
– Брешешь, мужицкая харя! Сам же очки считал, сошлось, ну?
– Свинец в них был, в твоих костяшках, шельма ты!
– Черт в них был! Был свинец? Скажи ему, Юке.
– Не, не, ни в коем разе, – отвечал парнишка, следовавший по пятам за безруким.
– А этот бесенок, он тоже мошенству обучен, вот и шильничает за тебя, самому тебе и карты-то нечем держать, дьявол калечный! Крапленые были твои карты, ясное дело, так бы вам никогда меня не обчистить!
– Да заткнись ты, мужичонка! – Он уселся, искоса поглядел по сторонам. При виде палача лицо его передернулось. Оно было тощее, с ввалившимися щеками, а глаза горели. Парнишка подобрался к нему вплотную на скамейке.
– Никак Лассе Висельник к нам пожаловал!
– Что, Лассе, и ты забоялся подле мастера заплечного сесть?
– А-а, пустое мелешь!
Он пошел вразвалку, сел дальше всех к концу стола. Парнишка шмыгнул за ним.
– Вот там тебе и место, сквернавец! – крикнул крестьянин. – Погоди, приберет он тебя к рукам со всеми потрохами!
– Да, брат Лассе, теперь виселица на очереди. Нечего им больше у тебя отрубать.
– Дрянь ты городишь, башка-то пустая. Меня никакая виселица не возьмет, понял?!
– Где уж...
– Неужто не возьмет?..
Дернув плечами, он придвинулся к столу.
– Пива! – бросил служанке, и она поспешно налила. Парнишка поднес ему кружку ко рту, и он отхлебнул изрядный глоток. Потом перевел дыхание, парнишка подождал и снова поднес. – Шильничаю, говоришь!.. – Он медленно повернулся в сторону крестьянина, сидевшего где-то у самой двери.
– И говорю, а то нет!
– Больно мне нужно шильничать, чтоб выудить у тебя твои жалкие мужицкие гроши! Да они сами ко мне в карман утекают, им от вони невтерпеж в твоих несуразных портах!
– Заткни свою поганую глотку!
Все расхохотались над крестьянином, не нашедшим ругательства похлестче.
– На кой они ему, крапленые карты да свинец в костяшках! Лассе Висельник захочет – и без них обойдется.
– Он похитрей уловки знает, куда тебе с ним тягаться, мужичок!
– Да те же, поди-ка, ходы, что у всех жуликов. И не пойму я, Лассе, ведь уж как тебя утеснили, а тебе и горя мало.
– А-а... Небось! Лассе не пропадет!
– Похоже, что так...
– Помню, они мне пальцы отсекли – я тогда вот с этого был, – сказал он, кивая на парнишку, – да гвоздями их к плахе и прибили. Хе! Я потом ходил поглядеть – умора! Они мне: ага, вон где теперь пальцы-то твои воровские. А я только ржал, мне, говорю, это тьфу, мне хоть бы хны! Лассе, говорю, не пропадет! Так и вышло!
Он несколько раз моргнул, лицо задергалось. Ткнул Юке культей, требуя еще пива. И тот с готовностью поднес ему кружку. У парнишки была смышленая мордочка, а глаза так и шныряли из стороны в сторону. Ничего из происходившего вокруг не ускользало от него.
– Однако они и до рук добрались, а это, надо быть, дело иное!
– А-а, да мне это тьфу. Не-е...
Он утер себе рот рукавом.
Старикашка-сапожник на другом конце стола наклонился вперед.
– У него корень мандрагоры есть, слыхали? – прошептал он, присвистывая от возбуждения.
– Не, меня не застращаешь, – громко отчеканил Лассе. – Мне все нипочем, понял? Да и малец вон есть. У него котелок варит.
– Оно и видать!
Парнишка, довольный похвалой, замигал глазами.
– Уж не сын ли тебе, а, Лассе?
– Почем я знаю! А похоже на то, ей-ей, он вроде как весь в меня.
– Вон чего, ты и сам не знаешь.
– Не. Он Ханны Гулящей сын, да вот удрал от нее, лупила, говорит, а жрать не давала, он ко мне и прилепился, у меня кой-чему подучится, что в жизни потом пригодится. А уж смекалистый – поискать. Как, Юке, отец я тебе иль нет?
– А-а, мне все одно, – хихикнул Юке.
– Дело говоришь. Плевать! Хорошо ему со мною – и ладно. Верно, Юке?
– Ага! – осклабился парнишка.
– Ну, одним-то этим сопляком тебе бы ни за что не обойтись. Никогда не поверю.
– Да неужто?..
– Правда что!
– Нет, ты, брат, силы иные на выручку призываешь, ясное дело.
– Это какие же, ну-ка?
– Мне-то откуда знать!
– Ага, не знаешь! Чего ж тогда языком попусту мелешь?
Все на мгновение примолкли. Вертели свои кружки, двигали ими.
– Стало быть, неправда, что этот корень-то у тебя есть?
– А-а, пустое...
– И то. Нешто тебе, какой ты есть, корень выдернуть?!
Горящие глаза ярко сверкнули в полутьме, а тощее лицо еще больше сжалось.
– Эка невидаль, Лассе и не с таким управится, случись нужда!
– И впрямь.
– Не скажи, вырвать этакий корень из-под виселицы – дело не простое. А тем паче ежели рук нет.
– Да. И опять же известно: как крик услышишь – кончено, пришел твой смертный час.
Они покосились на Лассе. Он резко вскинул голову и весь задергался.
– Я вам скажу, у него и корень этот есть, и еще кой-чего! Я так полагаю, ты давно уж сатане запродался, а, Лассе?
– Ясное дело, а то нет!
– Ну вот, я же говорю!
– Ого, слыхали?
– А злые духи тебя по ночам не проведывают?
– Не-е... Кто с самим дьяволом в дружбе, того они не трогают. Тому спится сладко, ровно младенцу.
– Ну, это уж ты, Лассе, прихвастнул!
– Да, брат! Это уж ты привираешь! Кабы так, не пришлось бы тебе увечным по жизни маяться!
– Мастер-то тебя отделал, будто своей почитал добычей, а не бесовой!
Они хохотали над собственными шуточками. Злоба зажглась в обращенном к ним пылающем взоре.
– Да мне это тьфу, понял?!
– Так уж и тьфу!
– Они ведь с тобою как с обыкновенной палаческой поживой обошлись, ей-богу!
– Ну и что! Все одно не обломать им Лассе Висельника! – Он выкрикивал слова, яростно сверкая глазами. – Чего захотели! Не так это просто!
– Неужто! Однако начать-то они все же начали!
– Да ничего им у меня не отнять, нету у них такой власти! – крикнул он, вскакивая. – Понял? Нету – и все! Не в человеческой это власти – меня одолеть, сказано тебе, и шабаш!
– Да что ты! Беда, да и только!
– Им до меня нипочем не добраться! Чем я владею, никакая в мире сила не отымет! А от меня потом к мальцу вон перейдет, он мой наследник!
– Ба! Так у тебя и наследство есть, Лассе? Ну и ну, слыхали?
– А ты как думал! Есть, да побольше вашего! Ему от меня и корень, и вся преисподняя в наследство достанутся!
– Выходит, есть у тебя корень-то?!
– Есть! Душу можешь дьяволу прозакладывать, что есть! Показать тебе, что ль!
– Не, не!..
– Вот он где, на груди у меня! По виду будто как человечек, и с ним хоть воруй, хоть чего хочешь делай – все тебе в руку пойдет, пусть даже и рук нету!
Они разинули рты. Воззрились на него со страхом.
– Как же ты раздобыть-то его ухитрился, пропащая твоя душа? Неужто на лобном месте?
– А то где ж! Под самою виселицей, куда они трупы закапывают, как их ветром снесет!
– И ты решился туда пойти! Да ночью!
– То-то и есть, что решился! Это тебе не дома в постельке лежать да «Отче наш» перед сном бубнить! Ты бы сроду не решился!
– Не, не!..
– Они там вздыхали да стонали – жуть...
– Это кто ж?
– Известно кто, мертвецы! Уж они на меня кидались да цеплялись за меня, пока я шарил-то! Так и лезли! Я их колотил почем зря, а они вопили и рыдали, ровно помешанные, когда их лупят, чтоб угомонились! Вой стоял и рев – как в аду, думал, с ума свихнусь, никак от них было не отвязаться! «Прочь, окаянные! – орал я им. – Прочь от меня, нечистые видения! Я-то не помер, я живой, у меня он в дело пойдет!» Ну, напоследок разогнал я их. И тотчас увидел: прямо под самой виселицей и растет, там тогда Петтер Мясник и еще какие-то болтались. Я землицу округ культею разгреб, а потом наземь бросился и давай его зубами выдирать!
– Да ну?! Прямо зубами?
– Ага! Зубами! Которые сами-то не смеют, так они собак заставляют!
Взор его пылал неистовым огнем.
– И тут вдруг в нем как завоет! Как завоет! У-у-у! Кровь в жилах леденела! Но я ушей не затыкал, как иные! Баба я, что ль! Я терпел! И все дергал и дергал за корень! Мертвечиной смердело, и кровью, и порчей! И ревело, и голосило из подземного царства! Но я ушей не затыкал! Я тащил его и тащил! Потому – завладеть им хотел!
Он бесновался как одержимый. Все отшатнулись назад.
– А как вырвал я его – загрохотало все вокруг, затрещало, ходуном заходило! И разверзлась бездна, и всплыли трупы и кровь! И тьма раскололась, и пламень побежал по земле! И ужас, и плач! И все полыхало! Будто ад на землю выплеснулся! А я кричал: «Мой он теперь! Мой!»
Он стоял, потрясая над головой обеими обрубленными руками, как чудовищный, изувеченный фантом, безумные глаза словно взорвались, а голос утратил всякое человеческое выражение.
– Есть у меня наследство, есть! Есть у меня наследство! Душу можете дьяволу прозакладывать, что есть!
Палач сидел недвижимо, его тяжелый, вневременный взгляд был уставлен в темноту.
* * *
Народу прибыло, стало шумно и тесно, в полусумраке слышались голоса, и смех, и звон бокалов, стеклянный шар под потолком медленно вращался, отбрасывая неясные сине-фиолетовые и зеленоватые блики, танцующие пары скользили по полу где-то посредине, и слабо звучала музыка.
Танцы вылились в проходы между столиками, растеклись по всему залу, женщины в светлых туалетах, полузакрыв глаза, висели на мужчинах, музыка отбивала джазовые ритмы.
Пышная красотка проплыла мимо, взглянула через плечо кавалера.
– Смотри-ка, и палач здесь, – сказала она. – Как интересно!
Блики кружились над шумной сумятицей, столы отсвечивали бледным мертвенно-зеленым светом, официанты в испарине метались средь гомона и криков, пробки от шампанского стреляли.
Жирный господин в топырящейся манишке подошел и учтиво поклонился.
– Для нас большая честь видеть среди нас палача, – сказал он, угодливо потирая руки, и поправил пенсне, за которым блестели колючие глазки.
Танец кончился, и пары рассеялись, с улыбками вернулись за столики.
– А вы знаете, что палач здесь?
– Да ну, неужели!
– Ага, вон он сидит.
– Ну шикарно, а!
Молодой человек с энергичным мальчишеским лицом приблизился к нему и, чеканно приставив ногу, вскинул прямую руку.
– Хайль! – воскликнул он и на мгновение замер. Повернулся кругом и, щелкнув еще раз каблуками, пошел обратно на свое место.
Все галдели и хохотали, человек в лохмотьях проник в зал и ходил от стола к столу, что-то шепча и протягивая тощую руку, пока его не выдворили.
Уличная шваль сидела, попивая из бокалов.
– Ну здорово, до чего он шикарный в своем красном костюме, а!
– Ага, здорово!
– И вид такой зверский – вот это мужик!
– По виду он, по-моему, настоящий кот.
– Ничего подобного, с ума ты сошла! Такой шикарный мужчина.
– А чего это он сидит и все время рукой за лоб держится?
– Я-то откуда знаю.
– Но он шикарный.
– Ага!
– Как ты думаешь, если бы с палачом, а?
– О, пальчики оближешь, можешь не сомневаться.
Снова зазвучала музыка, на этот раз томно, играл другой оркестр. Пары заскользили в блуждающем синем свете, тонкие руки свисали через плечи, глаза полусонно смежались.
– Разве завтра что-нибудь такое ожидается?
– Не знаю, но вообще-то у них полно людей, которых намечено прикончить. По мне, так пожалуйста.
– Да, это совсем не вредно. Людей на свете предостаточно, причем настоящих, полноценных людей. Во всяком случае, жить остаются, как правило, лучшие, уж за этим-то, безусловно, следят.
– Конечно.
Пожилой господин с военной выправкой, жуя губами, прошел твердым пружинистым шагом мимо столика палача.
– Отлично, что будет порядок, господин палач! Народ разболтался, пора, черт возьми, приструнить его!
– Нет, да что ж это! Мы вам заказывали сухое, а вы приносите полусухое! Безобразие!
– О, извините, пожалуйста...
– Вот именно, больше вам нечего сказать. Ну и обслуживание! Да еще сидели ждали целую вечность.
– Он уже и бутылку откупорил!
– Нет уж, придется вам поменять. Мы не пьем ничего, кроме сухого.
Раскормленная бюргерша шла вперевалку из дамского туалета; увидев палача, она всплеснула руками:
– Нет, вы только поглядите! И палач здесь! Я обязательно должна сказать об этом Герберту!
Она подошла и доверительно положила руку палачу на плечо.
– Мой сын наверняка будет ужасно рад с вами познакомиться. Милый мальчик, он так обожает кровопролития.
Она подняла голову и с материнской улыбкой огляделась, высматривая своих.
Музыка звучала томно, ласкала гибкие, скользящие женские тела, чумазый малыш прошмыгнул в зал через двустворчатые двери и, обходя столы один за другим, распахивал свои жалкие лохмотья, показывая, что под ними он голый, пока официанты не схватили его и не выставили.
– Напротив, сударь мой! Насилие является наивысшим проявлением не только физических, но и духовных сил человечества! Это факт, который благодаря нам стал наконец совершенно очевидным. А тех, кто думает иначе, мы будем переубеждать именно путем применения насилия, и уж тогда-то они, безусловно, в это поверят, или вы так не думаете?
– Ну что вы, конечно, безусловно.
– Да! Мы тоже на это надеемся.
– Так вот. Мы выдвинем категорическое требование: все инакомыслящие должны подвергаться кастрации! Это диктуется элементарной необходимостью, если мы хотим закрепить победу своих идей! Не станете же вы требовать, чтобы мы позволили этой заразе распространиться на будущие поколения. Нет, сударь мой! Мы сознаем свою ответственность!
– Да, разумеется.
– Право же, милейший сударь, вы все еще – смешно сказать – находитесь в плену привычных представлений прошлого! Поймите, никакое иное мировоззрение, кроме нашего, никогда больше не будет существовать! С этим покончено, понимаете, раз и навсегда!
– Ах вот как, ага! Да, вот теперь я вас понял. Конечно! Да, разумеется!
– Не правда ли, стоит лишь отказаться от привычного образа мыслей, как сразу начинаешь постигать этот наш совершенно новый взгляд на вещи. Только в самом начале чуточку трудновато. А в сущности, это же очень просто.
– Да, конечно.
– Вам не доводилось присутствовать при основательном избиении непокорных, каким мы пользуемся в нашей практике? Вот уж действительно самое воодушевляющее зрелище из всех, какие только могут быть, уверяю вас. Ощущение такое, будто ты участвуешь в воспитании человечества для новой, более высокой жизни, в его совершенствовании.
– О да, я бы действительно с удовольствием на это посмотрел!
– Бывали случаи, когда нам удавалось обращать стариков лет под восемьдесят, если только мы не жалели времени.
– Просто невероятно. Особенно если вспомнить, как трудно вообще распространять истинные убеждения среди людей.
– Да! Мы действительно добиваемся совершенно исключительных успехов, уверяю вас.
– Но мы сознаем свою ответственность за все грядущие поколения, понимаете? Мы знаем, нельзя терять ни минуты! Будут люди думать правильно сейчас – значит, и потом никогда уже не будут думать неправильно. Мы не должны забывать, что живем в великое время! Время, которое имеет решающее значение для всего человечества и для дальнейшего развития жизни на земле.
– Да, конечно.
– И мы знаем, что мы за него в ответе.
– Классы! Нет больше никаких классов! В этом-то и состоит величие и значительность происходящего! Есть лишь люди, которые думают, как мы, и известное число людей, которых посадили – именно с целью обучить их думать, как мы. И те из них, кто останется жить, безусловно, этому обучатся.
– Вы сами видите, вот здесь, например, пьют шампанское или, как, пожалуй, большинство, просто» пиво и бюргеры, и рабочие, и более состоятельные люди – все вперемешку, все они равны. И все думают в точности одинаково – как мы! Все, кто не сидит, думают, как мы!
– Угу.
– Перед вами наконец-то великолепная, небывалая картина единого, сплоченного народа! К которому, кстати сказать, очень скоро примкнут и заблудшие, в этом нет никакого сомнения. Тех, кто будет упираться, мы приструнить сумеем! Народ, сплоченно стоящий вокруг своих тюрем и с упованием ожидающий, когда оттуда послышится крик еще одного из обращенных!
– Это потрясающе! Какой высокий дух!
– Да, такого еще не видывал мир! Это как общее молебствие, и многие стоят по стойке «смирно», дожидаясь стонов новообращенных, такое они испытывают почтение к сокрытым от их взора таинствам, свершающимся с их расой. Это воистину патетическое зрелище. Такое мыслимо только у нас. Мы не похожи ни на какой другой народ на земле! Ничуть не похожи!
– Да, нам совершенно необходимо заиметь собственного бога, причем безотлагательно. Невозможно требовать, чтобы наш народ поклонялся богу, которым пользуются другие, неполноценные расы. Наш народ очень религиозен, но он желает иметь собственного бога! Представление о некоем общем боге не что иное, как открытое издевательство над всей системой наших взглядов, и будет караться мерами, отныне распространяющимися на все виды преступлений.
Подозрительный субъект шлялся в полусумраке по залу, с наглой ухмылкой просил милостыню, грубо толкал столики, расплескивая содержимое бокалов, если ничего не подавали.
В дальнем углу сидела за столиком компания.
– Да что за дьявольщина! Мы вам пиво заказывали с сосисками, а вы приносите шампанское. Безобразие, черт дери! Вы что, думаете, мы миллионеры, вроде этих жирных свиней?
– Извините, я думал, господа – из высшего общества...
– Тьфу, анафема! В другой раз получше смотри, а то тебе так засветят – не будешь спать на ходу!
Пошатываясь, ввалился солдат, подсел к палачу и затарахтел ему в лицо:
– Ну и вид у тебя дурацкий!.. Ты почему не в походной форме, а? Нет, вы гляньте на него, а!..
– Тс-с... – прошептал кто-то рядом. – Ты что, не видишь, это палач.
– Да вижу я, вижу! Только смотреть на него – со смеху помрешь! И это палач, а! Фу, да на что он такой годится! Пулеметы – вот что нужно! И гранаты!.. Это дело другое, ясно? Не под силу тебе ремесло, не тянешь, сразу видно!
– Не болтай глупости! Еще как тянет, получше тебя. Ты, парень, зря не тарахти. Вы ведь с ним друг другу сродни, сам понимаешь.
– Вот я и говорю, пусть пулеметом пользуется!.. Отличная вещь, современная, ясно тебе?.. Мигом, раз – и готово!.. Походная форма тебе нужна, ясно, старикан?
– Не зарывайся, малый! Ты про войну-то меньше моего ночного горшка знаешь, не нюхал еще, по речам слышно!
– Не знаю, так узнаю, понял?! Душу можешь дьяволу прозакладывать, что узнаю! Вот тогда увидите, черт побери!
– Еще бы, уж если ты возьмешься!..
– Да, и я, и другие ребята! Не беспокойся, мы свое дело знаем! И не трусливого десятка!
– Молодец, парень, правильно!
– Парень молодец, хоть он сегодня и многовато хватил пивка для своих неокрепших мозгов. Замечательно, что у нас в стране такая молодежь! Как тут не растрогаться старому человеку...
– А ну вас, старичье... ничего вы уже не смыслите... Твое здоровье, палач! Тебя я одобряю! Ты да я – мы с тобой уж как-нибудь наведем порядок в этом мире!.. Ты чего не пьешь-то? Вот те на, чертяка несчастный! Взгрустнулось, что ли?
За одним из столиков так хохотали, что гости и официанты стали оглядываться, молодая женщина прямо пополам переломилась.
– Ясно, что нам необходима война! Война равнозначна здоровью! Народ, не желающий войны, это больной народ!
– Верно, мир хорош лишь для грудных младенцев да для больных – вот кому нужен мир! А взрослому нормальному человеку он не нужен!
– Окопы – вот единственное место, где приличный мужчина чувствует себя хорошо. Надо бы и в мирное время жить в окопах, а не в домах, они только изнеживают людей.
– Да, свинцовый душ войны – вещь незаменимая! Здоровый народ не может обходиться без него дольше одного десятилетия. Иначе он начинает вырождаться – если он, конечно, действительно нормальный.
– Да. И тот, кто прекращает войну, – предатель!
– Это точно!
– Долой предателей! Долой предателей!
– Смерть им!
– Даже если он одерживает победу. Потому что и в этом случае он бессовестно обрекает свой народ на полнейшую неопределенность мирного существования. Что такое война – известно и понятно, а когда народ живет в мире, ему со всех сторон грозят неведомые опасности.
– Сущая правда.
– Хватит, пора нам кончать с нашей пагубной размягченностью! Детей надо воспитывать для войны. Когда они учатся ходить, они должны учиться этому для военных нужд, а не просто для своих мамаш!
– С этим делом скоро все уладится. Детьми мы будем заниматься сами, нельзя оставлять их на попечение безответственных родителей.
– Разумеется.
– Тем самым наше будущее можно считать обеспеченным.
– Я слышу, друзья, вы говорите о войне, – сказал человек с отстреленным почти напрочь лицом, от которого сохранилась лишь нижняя часть, а над нею была красная шероховатая поверхность; он неуверенно приподнялся со стула. – Это радует мое сердце! Надеюсь, мне посчастливится дожить до того дня, когда наш народ снова гордо выйдет на поля былых сражений! И надеюсь, современная наука к тому времени достигнет таких успехов, что я тоже смогу принять участие! Мне прочитали в одной недавно вышедшей книге, что ученые полагают возможным сделать так, чтобы можно было видеть, а значит, и целиться непосредственно с помощью души. В таком случае вы найдете меня в самых первых рядах, и глаз мой будет зорок – ибо душа у меня, друзья, в полной сохранности!
– Браво, браво!
– Это замечательно!
– Великолепно!
– Таких людей рождает лишь великое время!
– Да, недаром говорится, что война кладет печать благородства на человеческое чело! Это прекрасно видно!
– Грандиозно!
– Такой народ! Он воистину непобедим!
– Да, ясно, что мы должны распространить свои идеи на весь мир! Было бы просто возмутительно, если бы мы не поделились этим с другими. А если какой-либо народ не захочет их принять, придется его истребить.
– Разумеется. Ради его же блага. Для любого народа быть истребленным куда лучше, чем жить, не приобщившись к такому учению!
– Разумеется!
– Мир будет нам благодарен, когда он поймет, чего мы добиваемся.
– Да, совершенно необходимо, чтобы человечество через какое-то время разрушало то, что оно раньше создало! Иначе утрачивается детская свежесть восприятия. Разрушение значительнее примитивного созидания, в котором проявляется лишь обыкновенная сила привычки. Настали великие, славные времена! Всегда найдутся старательные, работящие муравьи, чтобы созидать мир, об этом, право же, не стоит беспокоиться. Но дерзкие умы, способные единым махом смести игрушечный человеческий мирок, чтобы можно было все начать сначала, они являются редко, лишь тогда, когда мы оказываемся достойны их.
– Да, мы абсолютно здоровый народ! Поэтому у нас хватает силы духа открыто заявить: мы любим то, что другие именуют угнетением. Лишь расслабленные, дегенеративные расы стараются его избежать. Всякий же сильный народ радуется занесенной над ним плетке и чувствует себя при этом превосходно!
– Да, не правда ли? Больше всего окрыляет то, что в наших рядах мы видим молодежь. Молодежь – наша опора! Мужественная, несентиментальная современная молодежь! Повсюду становится она на нашу сторону, на сторону власть имущих! Молодые герои!
– Да, хватает же смелости!
– Кажется, кто-то что-то сказал?.. Значит, мне просто послышалось.
Возникло какое-то волнение вблизи входной двери, люди зашептались, стали вскакивать с мест, вскидывать руки, все взгляды устремились в одном направлении. Шум пронесся по залу.
– Да здравствуют убийцы! Да здравствуют убийцы!
Двое хорошо одетых молодых людей симпатичной, самой обыкновенной наружности шли по проходу между рядами рук, с учтивой улыбкой кивали направо и налево. Весь зал поднялся, танцевальная музыка смолкла, и тот оркестр, что поприличнее, заиграл гимн, который слушали стоя. Тем временем трое официантов бесшумно бросились к вновь прибывшим, а поспешивший за ними метрдотель опрокинул столик с пивными кружками и графином красного вина на каких-то дам, которые тихо и горячо заверили его, что они ничуть не в претензии, после чего он ринулся дальше. Зал был переполнен, кому-то пришлось встать и уйти домой, а молодые люди расположились за освободившимся столиком.
– Вот черт, теперь, куда ни придешь, обязательно сразу узнают.
– Правда, фу ты, дьявол, – сказал второй и выпустил изо рта дым сигареты, вытянул ноги под столом в ожидании заказа. – Это начинает мне надоедать.
– Да уж, если бы мы знали, что быть убийцей так обременительно, мы бы, наверно, его не пристрелили, этого малого. Кстати, он ведь вроде вполне ничего был парень.
– Да, но по виду его было ясно, что он не наш.
– Это-то конечно. Вид у него был черт-те какой.
Негритянский оркестр опять наяривал фокстрот, тощая женщина с закутанным в платок ребенком прошла по залу, и даже персонал не обратил на нее внимания, так что немного погодя она сама вышла вон.
– Придешь сегодня ночью трупы перетаскивать?
– Трупы перетаскивать?
– Ну да, надо перетащить кое-каких предателей, врагов нового мировоззрения, с кладбища в болото, там они будут на месте.
– М-м...
– М-м? Не хочешь?
– Не знаю. Что-то мне идея не ясна.
– Идея? Идея нашего движения, приятель!
– Да, но... Они же умерли еще до того, как мы начали.
– Ну и дальше?
– Это уж, по-моему, черт-те что.
– Как ты сказал? Ты не хочешь? Отказываешься?
– Отказываюсь? Я только говорю, что, по-моему, это уж слишком.
– Слишком! Может, это, по-твоему, глупо?
– Нет, ну не то чтобы глупо...
– Слушай, ты, собственно, что хочешь сказать? А ну выкладывай напрямик!
– Что я хочу сказать?.. Какого ты черта в меня вцепился?
– Отказываешься повиноваться приказу?! В рассуждения пускаешься, да?!
– Отпусти, тебе говорят!
– Ишь, чего захотел, так мы тебя и отпустили!
– Да пустите же, дьяволы!
– Слыхали, как он нас обзывает?!
– Сволочь! Отказываешься!.. В перебежчики нацелился!..
– Я не отказывался!
– Нет, отказывался!
– Чего с ним пререкаться, с перебежчиком! Кончай разговор!
Грянул выстрел, и тело глухо бухнулось.
– Унесите эту падаль!
– Да ладно, пусть валяется, кому он мешает.
Джаз продолжал греметь, молодая девушка повернула голову на тоненькой шейке.
– Что это там такое? – спросила она.
– Кажется, кого-то застрелили.
– А-а.
Небольшая компания пристроилась за дальним столиком.
– Они тут все толкуют о том, что произойдет завтра, а знаете, что, по-моему, будет?
– Ну?
– Совсем не то, что воображают себе эти сопляки.
– А что же?
– М-м... – Свернув цигарку, он прикурил у соседа, сплюнул табачную крошку. – Мы ведь тоже умеем нажать на курок, когда надо. И между прочим, бог его знает, не у нас ли они научились кое-каким приемам – если только этому нужно учиться.
– Вряд ли, к таким делам у всех в наше время природная склонность.
– Конечно.
– А недурно было бы еще чуточку прочистить человечество. Оно в этом явно нуждается.
– Да, не возражаю принять посильное участие.
Молодая женщина подошла и тихонько села рядом с палачом. Она была похожа на нищенку, но, когда она откинула платок с головы, лицо ее лучилось удивительным, щедрым светом. Она осторожно положила свою руку на его, и он повернулся к ней – кажется, она была единственной, на кого он посмотрел за все это время. О ней рассказ впереди.
Музыка переменилась, оркестр получше в другом конце зала заиграл томное танго на тему старой классической мелодии. Обстановка была спокойная и одушевленная, но одному господину, как на грех, понадобилось выйти в туалет. Возвращаясь назад, он увидел, что негры сидят и наспех глотают бутерброды за столиком позади своей эстрады. Он подошел к ним с побагровевшим лицом.
– Да как вы смеете, свиньи этакие! Сидеть и есть вместе с белыми людьми!
Они изумленно обернулись. Ближайший из них приподнялся со стула:
– Что? Что господин хочет сказать?
– Что я хочу сказать! Ты смеешь сидеть тут и есть, обезьяна поганая!
Чернокожий подскочил как на пружинах, и глаза его сверкнули, но он не решился ничего предпринять.
– Хэлло, джентльмены! Хэлло! – заорал разгневанный господин, адресуясь к публике, и люди начали сбегаться, столпились вокруг него и негров. – Видали вы что-нибудь подобное? Это же неслыханно! Эти обезьяны сидят и едят вместе с нами!
Поднялся страшнейший переполох.
– Какая наглость! Неслыханно! Вы что, думаете, вам тут обезьянник?! Так, что ли, по-вашему?!
– Нам тоже надо есть, как всем живым существам! – сказал один из негров.
– Но не вместе с людьми, собака!
– Есть! Вы пришли сюда играть! А не есть!
– Вы имеете честь играть для нас, поскольку нам угодно находить удовольствие в вашей музыке! Но извольте вести себя прилично, а иначе вас линчуют! Понятно?!
– Полезайте-ка живо на место!
– Ну! Пошевеливайтесь!
Чернокожие и не думали исполнять приказание.
– Да это же форменное пассивное сопротивление, господа! – сказал представительный джентльмен благородной наружности.
– Ну! Долго еще ждать?!
– Go on! [4] Живо полезайте на эстраду!
– Мы голодные! Нам надо поесть, чтобы мы могли играть!
– Голодные! Нет, вы слыхали, а?!
– Да, надо! И мы имеем на это право, – сказал огромный детина, с угрозой сверкнув глазами.
– Право! Это у тебя-то есть какие-то права? Бесстыжий!
– Да, есть! – сказал чернокожий, подступая.
– Что?! Это ты белому человеку так отвечаешь, сволочь! – Он ударил чернокожего прямо в лицо.
Негр сжался в комок, задрожал, как зверь, потом с быстротой молнии прыгнул вперед и всадил в него кулак, так что белый господин упал навзничь.
Поднялась невообразимая кутерьма. Народ бросился к ним, весь зал пришел в неистовое возбуждение. Чернокожие сбились в тесную кучу, стояли напружинившись и ощетинившись, с налитыми кровью глазами и белым оскалом зубов, словно какие-то невиданные звери в человеческих джунглях. Грохнул выстрел, и один, отделившись от кучи, рыча и истекая кровью, бросился на белых, в ярости колотил всех без разбора. Остальные с ревом рванулись за ним, но были остановлены револьверами, выстрелы гремели непрерывно, и они, окровавленные, уползали за столы и стулья.
– Ну что, будете вы играть? – крикнул симпатичный белокурый господин и разрядил свой браунинг туда, где они прятались.
– Нет! – прорычали чернокожие.
– У нас же есть другой оркестр! – воскликнул кто-то, пытаясь всех успокоить. – Есть же еще один!
– К черту сентиментальную слякоть! Пусть вот эти играют! Ну-ка поднимайтесь, черномазые обезьяны!
Их вытеснили из укрытий, и опять началась свалка, еще хуже прежней, сплошное безумие и столпотворение. Предметы носились в воздухе, как смертоносные снаряды, уличная шваль взгромоздилась на стулья и визжала. Негров гоняли по всему залу.
– Кой черт! Ведь мы же все-таки цивилизованные!..
– Что?! Скажешь это слово еще раз – пристрелю!
– Цивилизация, черт ее возьми!
Чернокожий детина, кажется тот, с кулаком, метался по залу, как бешеный зверь, пинками опрокидывая все на своем пути и раздавая смертельные нокауты направо и налево, но был настигнут метким выстрелом, схватился за грудь и рухнул, растянув губы в широкую пустую усмешку. Остальные, собрав разрозненные силы, вооружились стульями и крушили черепа всем, кому могли. Они дрались в слепом остервенении, излучая ненависть белками глаз, пока не падали, сраженные.
– Кусаешься, трусливая собака! – рявкнул богатырь в военной форме полумертвому цветному, лежавшему на полу и стиснувшему челюстями его ногу, направил дуло вниз и послал в него пулю. Черные испускали страшные, диковинные воинственные клики, как в первобытном лесу, но белые не давали себя запугать, стойко удерживали позиции всего лишь с помощью оружия, револьверные выстрелы трещали, как пулеметные очереди. Это была жаркая, яростная схватка.
Двое молодых убийц не принимали участия, сидели и забавлялись, наблюдая за происходящим, – они свое сделали.
Наконец оставшиеся в живых негры были оттеснены в угол и окружены. Их сопротивление было сломлено, пришлось им сдаться на милость победителя.
– Ну то-то же! – Белые перевели дух.
– Живо на эстраду!
Чернокожих вытолкнули на эстраду и заставили взять инструменты.
Мощный господин в смокинге уселся перед ними верхом на стуле и направил на них дуло револьвера.
– Кто не будет играть – прикончу! – объявил он.
И негры играли. Жутко, неистово, с налитыми кровью глазами, с окровавленными руками и лицами, играли, как бешеные. То была музыка, дотоле неслыханная, исступленная, устрашающая, как полночный вой в джунглях, как грохот барабана смерти, когда племена сходятся в лесу после захода солнца. Исполинского роста негр стоял впереди всех и, стиснув зубы, выбивал, как одержимый, бешеную дробь, из зияющей раны на его голове струйка бежала по шее, и разодранная сорочка ярко краснелась. Он бил и бил окровавленными кулачищами, и звуки остальных инструментов примешивались к громовой дроби, сливаясь в единый нечленораздельный рев.
– Великолепно! Великолепно!
Белые танцевали, подпрыгивали и подскакивали в лад музыке. Танцевали повсюду, по всему огромному залу, все бурлило, как клокочущее варево в ведьмином котле. Лица горели после боя и от жары в помещении, тяжелые испарения расходились душными волнами, умирающие хрипели, валяясь между столиками, их отшвыривали ногами танцующие пары. Шар под потолком, переливаясь всеми цветами, вертелся над смрадной гущей. Женщины сияли сладострастием и красотой, бросали пылкие взгляды на огромного, истекавшего кровью негра и вдвигали свою ногу между ног кавалера, мужчины упруго прижимали их к себе, распаленные взглядами и горячим револьвером, что висел, болтаясь, у них на поясе. Царило неслыханное воодушевление.
Пунцовый от восторга господин с разорванным в бою воротом вскочил на стол неподалеку от палача и размахивал в воздухе браунингом.
– Победа за нами, друзья! Напрасны все попытки восставать против нас! Порядок! Дисциплина! Под их знаком мы побеждаем! На них мы построим наше мировое господство! – Он жестикулировал и кричал, вокруг собралась толпа послушать его речь. – И вот в этот знаменательный день, когда мы утвердили превосходство своей расы над всеми другими, мы имеем счастье и радость видеть среди нас представителя дела, которое мы ценим превыше всего! Палач находится среди нас! Мы гордимся тем, что он здесь, ибо его присутствие доказывает, если кто-либо не знал этого раньше, что мы живем в великое время! Что век бесчестья и расслабленности остался позади и новый рассвет занимается над человечеством! Могучая фигура палача вселяет в нас уверенность и мужество! Пусть он ведет нас – единственный, под чьим водительством мы без колебаний пойдем вперед!
Приветствуем тебя, наш вождь, с твоими священными эмблемами, символами всего самого святого и драгоценного, что есть в нашей жизни и что откроет новую эру в истории человечества! Кровь – вот цвет человека! И мы знаем, мы тебя достойны! Мы знаем, ты можешь смело на нас положиться, когда мы, ликуя, возглашаем: «Слава тебе! Слава!»
Он спрыгнул со стола и, весь красный, отдуваясь, направился к кумиру.
Палач взглянул на него, не поднимая головы, не шелохнулся и ничего не ответил.
Пламенный господин пришел от этого в некоторое замешательство, недоумевал, что ему делать дальше.
– Слава! – крикнул он опять не очень уверенно, вскинув руку, и все вокруг сделали то же самое.
Палач смотрел на них без единого слова.
– Но... но разве ты не палач? – спросили его с некоторым сомнением.
Тот, к кому они обращались, отнял руку ото лба, на котором было выжжено палаческое клеймо, – гул восторга пронесся по толпе.
– Да, я палач! – сказал он. И он поднялся, огромный и устрашающий, в своем кроваво-красном одеянии. Взоры всех устремились на него, и стало так тихо в гремящем, ревущем зале, что слышен был звук его дыхания.
– От рассвета времен справляю я свою службу, и конца ей покамест не видно. Мелькают чередой тысячелетья, народы рождаются и народы исчезают в ночи, лишь я остаюсь после всех и, забрызганный кровью, оглядываюсь им вослед – я единственный не старею. Верный людям, я иду их дорогой, и не протоптано ими такой потаенной тропки, где не разжигал бы я дымного костра и не орошал землю кровью. Искони я следую за вами и останусь при вас, пока не прейдет ваш век. Когда, осененные божественным откровением, вы впервые обратили свой взор к небу, я зарезал для вас брата и принес его в жертву. По сей день помню клонимые ветром деревья и отсветы огня, игравшие на ваших лицах, когда я вырвал его сердце и бросил в пламень. С тех пор многих принес я в жертву богам и дьяволам, небу и аду, тьмы тем виноватых и безвинных. Народы стирал я с лица земли, империи опустошал и обращал в руины. Все делал, чего вы от меня хотели. Эпохи я провожал в могилу и останавливался на мгновение, опершись на обагренный кровью меч, покуда новые поколения не призывали меня молодыми нетерпеливыми голосами. Людское море я взбивал в кровавую пену, и беспокойный шум его я заставлял умолкнуть навек. Пророков и спасителей я сжигал на кострах за ересь. Человеческую жизнь вверг я в пучину ночи и мрака. Все я делал для вас.
И поныне меня призывают, и я иду. Я озираю просторы: земля лежит в лихорадке, в жару, а из поднебесной выси слышатся скорбные вскрики птиц. Настал час злу выбросить семя! Настал час палача!
Солнце задыхается в тучах, отсырелый шар его зловеще тлеет пятном запекшейся крови. Вселяя страх и трепет, я иду по полям и сбираю свою жатву. На челе моем выжжено клеймо преступления, я сам злодей, осужденный и проклятый на вечные времена. Ради вас.
Я осужден служить вам. И несу свою службу верно. Кровь тысячелетий тяготеет на мне.
Душа моя полна вашей кровью! Глаза мои застланы кровавой пеленою и ничего не видят, когда вой из человеческих дебрей достигает меня! В ярости крушу я все и вся – как вы того хотите, как вы кричите мне! Я слеп от вашей крови! Слепец, заточенный в вас! Вы моя темница, из которой мне не вырваться!
Когда в своем доме, доме палача, я стою возле сумрачного окна, за которым в вечернем безмолвии спят луга и все цветы и деревья объяты глубоким, дивным покоем, тогда судьба моя давит и душит меня. И я бы рухнул без сил, если бы рядом со мною не стояла она.
Он взглянул на нее, на бедную женщину, что была как нищенка, встретился с нею глазами.
– Я отворачиваюсь, ибо мне нестерпимо видеть, как прекрасна земля. А она все стоит и смотрит в окно, покуда не смеркнется.
Она, как и я, узница в нашем общем жилище, но она может смотреть на земную красу – и жить.
Дом палача она держит в чистоте и прибирает так, будто это жилье человека. На столе, за которым я ем, она расстилает скатерть. Я не знаю, кто она, но она со мною добра.
Когда на дворе темнеет, она гладит рукою мой лоб, говоря, что на нем больше нет палаческого клейма. Она не такая, как все, она может меня любить.
Я спрашивал у людей, кто она, но они не знают ее.
Можете вы сказать мне, для чего она любит меня и смотрит за нашим домом?
Мой дом – это дом палача! Он не должен быть ничем иным! Отчаянье, владеющее мною, сделалось бы лишь еще ужасней!
Я жду, пока она тихо заснет у меня в объятьях, потом встаю, укрываю ее потеплей и собираюсь – бесшумно, чтобы ее не разбудить. Неслышно выхожу я из дома творить свое дело в ночи, вижу зловещее небо, грозно нависшее над землею. Хорошо, что она не проснулась. Хорошо, что я один – один со своей неизбывною ношей.
Но я знаю, что она будет ждать меня, когда я вернусь, что она встретит меня, когда я приду, исполнив свою службу, изнеможенный и выпачканный кровью.
Отчего я должен нести на себе все! Отчего все должно ложиться мне на плечи! Весь страх, вся вина, все содеянное вами! Отчего вся пролитая вами кровь должна вопиять из меня, чтобы мне никогда не узнать мира! Проклятья злодеев и жалобы безвинных жертв – отчего моя злосчастная душа должна страдать за все!
Осужденные взваливают на меня свои судьбы – я стараюсь не слушать, о чем они говорят в ожидании погибели, и, однако, слова их во мне остаются. Голоса из далеких тысячелетий вопиют во мне, голоса, позабытые всеми, лишенные жизни, но живущие прежнею жизнью во мне! Запах вашей крови будит во мне тошноту, давит на меня неискупимостью вины!
Ваши судьбы я должен тащить на себе, вашей дорогой я должен идти неустанно, между тем как вы давно нашли отдых от деяний своих в могиле!
Кто выроет могилу такой глубины, чтобы в ней погрести меня! Чтобы мне дать забвенье! Кто снимет с плеч моих бремя проклятья и дарует мне смертный покой!
Никто! Ибо никто не снесет моей ноши!
В те времена, когда был еще бог, я отправился однажды к нему, дабы изложить свою нужду. Но каков же получился ответ!
Помню, сделал я это потому, что пришлось мне стеречь человека, который говорил, что он спаситель. Он хотел пострадать и умереть за вас и тем принести вам спасенье. Он хотел снять с меня мое бремя.
Я не находил в словах его смысла, ибо видел, что он слаб и маломощен, не наделен и обычной мужскою силой, и я лишь смеялся над ним. Он звал себя мессией и проповедовал мир на земле – и за это был осужден.
Еще ребенком он понял, что должен пострадать и умереть за людей. Он много рассказывал о своем детстве – они всегда рассказывают о детстве, – о стране, которую он называл Галилеей, будто бы дивно прекрасной – всегда они так говорят. Там было множество лилий в горах вешнею порой, он стоял среди них и глядел окрест на светлые луга и понял тогда, что он – сын божий. Он был несчастный безумец, я в этом убедился, едва начавши слушать его речи. И пока он на них глядел, открылось ему, какое слово он проповедает людям, что он им возвестит, и будет это – мир на земле. Я спросил, отчего ему надобно умереть, дабы они могли жить в мире, но он мне ответил, что так должно быть, таково сокровенное согласие. Ибо так ему сказано его отцом, а под этим разумел он самого господа бога. Он был тверд в своей вере, как доброе дитя.
Но когда приблизилось время его, он убоялся и затрепетал, как другие, и, должно быть, уже не был во всем так уверен, как прежде. Я ничего ему не говорил, он был один со своим страхом, и взгляд его порою уносился, казалось, куда-то далеко. Будто он снова хотел увидеть край своего детства и луга, усыпанные лилиями.
Страх его делался сильней и сильней. Он упал на колени и начал шептать и молиться: «Душа моя скорбит смертельно. Отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня!» Мне пришлось тащить его за собою, когда пробил его час.
Крест нести у него едва доставало сил, и он шатался в изнеможении, мне стало жалко смотреть, и я взял его крест и нес за него часть пути. Лишь я это сделал, из других же – никто. Тяжесть была невелика против той, какую я привык нести для людей.
Когда я положил его на крест, то перед тем, как вбивать гвозди, попросил по обычаю прощенья. Не знаю отчего, но мне было больно предавать его смерти. И тогда он взглянул на меня добрыми, испуганными глазами – глазами не преступника, но просто несчастного человека. «Я прощаю тебе, брат мой», – сказал он мне своим тихим голосом. И один из стоявших вблизи утверждал, будто клеймо палача исчезло со лба моего, когда он это говорил, хоть сам я этому не верю.
Я не знаю, для чего он так меня назвал! Но из-за этого одного я тогда словно распинал родного брата. Ни с кем из тех, кто прошел через мои руки, не было мне так тяжело. Когда делаешь то, что делаю я, поневоле приходится время от времени взглядывать на жертву, и он – нет, он не походил ни на одну из прежних моих жертв.
Мне не забыть его глаза, когда он на меня посмотрел! Когда он сказал те слова!
Я так хорошо это помню! Я, сохранивший в себе все голоса и всю пролитую кровь – все, что вами давно забыто!
Отчего я должен страдать! Отчего я должен нести на себе все – ради вас! Отчего я должен брать на себя ваши грехи!
Мне ведь и плетьми пришлось его сечь на темничном дворе, как будто он и без этого не умер бы, – тело его у меня под руками было израненное и вспухшее. И так мне сделалось все постыло, что я едва смог поднять его крест.
Люди же возрадовались, когда я его поднял. Они кричали и ликовали, увидев, что он наконец распят. Я не запомню такой радости на лобном месте, какая была, когда я распял его! И они насмехались над ним, и глумились, и изрыгали хулу на несчастного, пеняя ему, что он возомнил себя их мессией, их Христом, – и что они там еще про него говорили... Они плевали в него, смеясь над его страданьем. Он зажмурил глаза, чтобы не видеть людей в ту минуту, когда он спасал их. И, быть может, старался думать о том, что все же он царь их и божий помазанник. Терновый венец, ими сплетенный, смешно свесился набок на его окровавленной голове. Мне стало тошно смотреть, и я отвернулся.
Но прежде, чем он испустил дух, сделалась тьма по всей земле, и я слышал, как он громким голосом возопил:
– Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил!
И тогда мне стало совсем невмочь видеть это все. Вскоре затем он умер, что было благо. И мы тотчас сняли его, ибо наступала суббота и нельзя было оставить его висеть на кресте.
Когда все ушли готовиться к субботе и вокруг наконец опустело, я сел там, на лобном месте, средь трупного смрада и нечистоты. И, помню, сидел под звездами до поздней ночи. Тогда-то и надумал я направить стопы свои к богу, дабы с ним поговорить.
И, покинув землю, я отправился в небеса, где хотя бы дышалось вольней и легче. Я шел и шел, сам не знаю сколько. Он обитал ужасающе далеко, господь бог.
Наконец я увидел его перед собою: он величаво восседал на престоле средь небесных просторов. Я устремился туда и приступил к нему, положив свой кровавый топор к подножью его престола.
– Мне постыло мое ремесло! – сказал я ему. – Не довольно ль я его справлял! Пора тебе меня освободить!
Но он сидел, вперившись в пустоту, недвижимый и словно окаменелый.
– Слышишь?! С меня довольно моей палаческой службы! Мне ее долее не вынести! Не могу я жить средь крови и ужасов, средь всего, что свершается твоим попущением! И какой во всем этом смысл, можешь ли ты мне сказать?! Я нес свою службу верно, делал все, что было в моих силах, но нет более сил моих! Мне не выдержать этого! Будет с меня! Ты слышишь?!
Но он меня не замечал. Шаровидные очеса его, пустые и мертвенные, уставлены были в пространство, как в пустыню. Страх объял меня тогда и нестерпимое отчаянье.
– Сегодня я распял твоего единородного сына! – крикнул я в диком неистовстве. Но ни одна черта не дрогнула в суровом, бесчувственном лице его. Оно словно вырублено было из камня.
Я стоял средь холодного безмолвия, и ветер вечности пронизывал меня своим ледяным дыханьем. Что мне было делать? С кем говорить? Не было ничего! Мне оставалось лишь взять свой топор и отправиться обратно тою же дорогой.
Я понял, что он не был его сыном. Он был из человеческого рода, и надо ль удивляться, что обошлись с ним так, как принято у них обходиться со своими. Они распяли всего лишь одного из себе подобных, как было у них в обычае. Я шел, негодуя и возмущаясь, и зяб на обратном пути.
Его не стало, как и других, и он обрел покой. Моя же злосчастная душа осуждена длить сей путь ныне и присно, и во веки веков. Я должен был вернуться на землю и вновь ступить на скорбную стезю – иного мне не дано. Мне никто не поможет!
Нет. Он не был их спаситель. Под силу ль это такому, как он! У него были руки подростка, меня мучила жалость, когда я вбивал в них гвозди, стараясь пропустить их между тонкими костями. Я сомневался, удержится ли он на них, когда повиснет. Под силу ль такому спасти людей!
Когда я пронзил ему бок, чтобы посмотреть, скоро ль его можно снимать, он был уже мертв, намного раньше, чем они обычно умирают.
Какой он был спаситель, этот несчастный! Как мог он вам помочь! И снять с меня мое бремя! Какой он был Христос для людей! Я понял, почему служить вам должен я! Почему вы призываете меня!
Я ваш Христос, с палаческим клеймом на челе! Ниспосланный вам свыше!
Ради вражды на земле и в человеках зловоления!
Бога своего вы обратили в камень! Он мертв давным-давно. Я же, ваш Христос, я живу! Я – плод его великой мысли, сын его, зачатый им с вами и рожденный, когда он еще был могуч, когда он жил и знал, чего хотел, какой он во все это вкладывал смысл! Теперь он высится недвижно на престоле, подтачиваем временем, точно проказой, и мертвящий ветер вечности уносит прах его в небесную пустыню. Я же, Христос, я живу! Дабы вы могли жить! Я свершаю по миру свой ратный путь и вседневно спасаю вас в крови! И меня вы не распнете!
Я тоскую по жертвенной смерти – как когда-то мой несчастный, беспомощный брат. Быть пригвожденным к кресту – и испустить дух, растворившись в глубокой, милосердной тьме! Но я знаю, этот час не придет никогда. Я должен отправлять свою службу, доколе пребудете вы. Мой крест никогда не будет поднят! В конце концов я завершу свой труд, и у меня не останется дел на земле, но и тогда моя неупокоенная душа будет мчаться безустанно сквозь вселенскую ночь в смертной обители отца моего – преследуемая страхом и терзаньями за все, содеянное мною для вас!
И все же я тоскую об этом. Чтобы настал конец, чтобы не множить долее моей тяжкой вины.
Я тоскую о времени, когда вы будете стерты с лица земли и занесенная рука моя сможет наконец опуститься. Тихо, нет больше хриплых голосов, взывающих ко мне, я стою одиноко и гляжу окрест себя, понимаю, что все завершено.
И я ухожу в вечную тьму, швырнув на пустынную землю свой кровавый топор – в память о человеческом роде, некогда здесь обитавшем!
Он смотрел поверх их голов суровым огненным взором. Потом оттолкнул стол и грозно зашагал к выходу.
Он взялся за дверь, но женщина, что сидела возле него и была похожа на нищенку, поднялась с места и заговорила с ним ясным и тихим голосом, и лицо ее светилось затаенным, мучительным счастьем.
– Ты знаешь, что я буду ждать тебя! Я буду ждать тебя среди берез, когда ты придешь, изнеможенный и выпачканный кровью. И ты приклонишь ко мне свою голову, и я тебя буду любить. Я поцелую твой горящий лоб и сотру кровь с твоей руки.
Ты знаешь, что я буду ждать тебя!
Он смотрел на нее с тихой, печальной улыбкой. С улицы донесся глухой барабанный бой – он постоял, прислушиваясь.
Потом взялся рукою за пояс и вышел навстречу мглистому рассвету.
Варавва
BARABBAS
Перевод Е. Суриц
Редактор Н. Федорова
Всем известно, как они висели тогда на крестах и кто собрался вокруг него – Мария, его мать, и Мария Магдалина, и Вероника, и Симон Киринеянин, и Иосиф из Аримафеи, тот, который потом обвил его плащаницей. Но ниже по склону, чуть поодаль, стоял еще один человек и не отрываясь смотрел на того, кто висел на кресте и умирал, от начала и до конца он следил за его смертными муками. Имя человека – Варавва. О нем и написана эта книга.
Ему было лет тридцать, он был крепок, но желт лицом, борода рыжая, волосы черные. Брови тоже были черные, а глаза запали, словно для того, чтоб получше упрятать взгляд. Под одним глазом начинался глубокий шрам, шел вниз и терялся в бороде. Но не так уж важно, как выглядит человек.
Он следовал за толпой по улицам от самой претории, но отстав от других, и, когда измученный равви упал вместе с крестом, он замедлил шаг и переждал, чтоб с ним не поравняться, и крест заставили нести того самого Симона. Мужчин в толпе было мало, не считая, конечно, римских солдат; провожали осужденного больше женщины, да еще стайка мальчишек – эти сорванцы всегда были тут как тут, если кого-то вели по их улице на распятие. Уж они не пропустят забавы. Но они скоро уставали и возвращались к обычным играм, глянув на человека, который шел позади толпы, у которого на щеке был шрам.
И вот он стоял на лобном месте и смотрел на того, кто висел на среднем кресте, и не мог оторвать от него глаз. Он не хотел сюда подниматься, все здесь было нечисто, все полно заразы, говорили, что всякий, кто ступит на это окаянное, проклятое место, оставит здесь часть души и вернется сюда, да здесь и останется. Черепа и кости валялись повсюду и сгнившие кресты, они уже ни на что не годились, но их не убирали, чтобы ни до чего не дотрагиваться. Зачем он тут стоял? Он не знал этого человека, ему не было до него никакого дела. Зачем Варавва пришел на Голгофу, ведь его отпустили?
Голова у распятого свесилась, он тяжко дышал. Значит, уже недолго осталось. Крепким его нельзя было назвать. Тело было тощее, костлявое, руки тонкие, будто он ими никогда не работал. Странный. Бороденка редкая, а грудь совсем безволосая, как у мальчонки. Варавве он не понравился.
Когда он увидел его, еще тогда, возле дворца, он сразу понял, что тот не такой, как все люди. Почему – он не мог бы сказать, просто он это понял. Никогда еще не встречал он никого даже похожего. Но может, так ему показалось потому, что он только что вышел из застенка и глаза еще не привыкли к свету. Вот он и увидел его сперва будто в каком-то сиянии. Сияние, конечно, сразу погасло, глаза у Вараввы снова стали зоркие, как всегда, опять прекрасно видели все вокруг, а не только того – одиноко стоявшего возле дворца. Но все равно – тот был странный какой-то, ни на кого не похожий. И Варавва не мог понять, как такого могли бросить в тюрьму, приговорить к смерти, в точности как его самого. Это не умещалось у него в голове. Конечно, что за дело Варавве, но как могли они осудить такого? Ясно же, он невиновен.
Да, и вот того повели на распятие – а с Вараввы сняли цепи и отпустили его на свободу. Он тут ни при чем. Они сами решили. Их воля была отпустить, кого пожелают, вот они и отпустили Варавву. Обоих приговорили к смерти, и одного надо было отпустить. Он только диву давался. Пока его освобождали от цепей, он стоял и смотрел, как того, другого, солдаты уводят под арку, а на спине у него уже лежит крест.
Он еще долго стоял и смотрел на пустую арку. Потом стражник толкнул его и крикнул:
– Ну, чего стоишь, рот разинул? Убирайся подобру-поздорову, тебя освободили!
И он очнулся, и прошел в ту же арку, и там увидел, как тот, другой, тащит крест, и пошел следом по улице. Варавва сам не знал, почему он за ним пошел. И почему часами стоял и смотрел на долгие смертные муки, ведь ему не было до него никакого дела.
Ну а те, которые теснились к самому кресту, они-то за какой надобностью сюда пожаловали? Видно, по своей охоте. Никто их не неволил сюда приходить, набираться заразы. Надо думать, близкие друзья и родные. Странно, заразы они, кажется, совсем не боялись.
Вон та женщина, видно, его мать. Хотя – совсем не похожа. Но кто на него похож? Лицо у нее было крестьянское, суровое, грубое, и она все утирала ладошкой губы и нос, потому что из носу у нее текло, она удерживала слезы. Но она не плакала. Она горевала не так, как другие, смотрела на распятого не так, как другие. Да, конечно, это была его мать. Наверное, она жалела его больше, чем все, но будто и обижалась на него за то, что он тут висит, за то, что дело дошло до распятия. Наверное, он все же что-то сделал такое, что его распяли – чистого и невинного, а она за это его осуждала. Она-то знала, что он не повинен ни в чем, на то и мать. Что бы он ни натворил, она все равно это знала.
У самого Вараввы матери не было. Да и отца тоже, он и не слыхал ни про какого отца. И родных не было, он не знал никаких родных. Так что, случись повиснуть на кресте Варавве, не много бы слез пролилось. Не то что из-за этого. Уж как они били себя в грудь, будто страшнее горя еще не бывало, как рыдали, как выли – ужас.
Распятого на правом кресте он знал как облупленного. Если б тот вдруг заметил Варавву, наверняка бы решил, что он явился сюда ради него: поглядеть, как он получил по заслугам. А Варавва вовсе не ради него явился. Хоть и не прочь был полюбоваться на его муки. Если кто заслуживал смерти – так перво-наперво этот подлец. Но не за то, за что осудили, совсем за другое.
Только зачем смотреть на него Варавве, на него, а не на того, что висел посредине, ведь пришел он ради него, и висел он тут вместо него, Вараввы. Это он заставил Варавву сюда прийти, у него была такая власть над ним, такая сила. Сила? Уж если кто бессильный, так тот. Жальче нельзя было обвиснуть на кресте, другие двое выглядели куда лучше, мучились, кажется, куда меньше. Видно, были покрепче. А этот даже голову не мог удержать, она у него совсем свесилась набок.
Вот он приподнял ее, облизнул пересохшие губы, в тощей, безволосой груди застрял тяжкий вздох. Он что-то прошептал, кажется: «Жажду». Солдаты валялись на траве ниже по склону, скучливо ждали, когда эти трое наконец-то умрут, играли в кости и ничего не расслышали. Тогда к ним подошел кто-то из родственников. Один из солдат нехотя поднялся, обмакнул в кувшин губку и, наложив на трость, протянул распятому, но, отведав мутной жижи, тот не стал пить, а негодяй хихикнул, пошел к дружкам, и они покатились со смеху. Негодяи!
Родичи – или кем там они ему приходились – в тоске смотрели на распятого, а он задыхался, задыхался, ясно было, что вот-вот он испустит дух. И поскорей бы уж конец, думал Варавва, поскорей бы уж он отмучился. Поскорей бы это кончилось! Как только это кончится, можно будет убежать и больше никогда про это не думать!
Но вдруг гору объяла тьма, будто погасло солнце, черная тьма, и в этой тьме на верху горы распятый закричал громким голосом:
– Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?
Ужасный крик. Что хотел он сказать? И отчего вдруг стало темно? Средь бела дня? Совершенно непонятно. Три креста еле-еле виднелись во тьме. Жутко. Сейчас случится что-то ужасное. Солдаты вскочили, схватились за оружие, – эти чуть что хватаются за оружие. С копьями в руках обступили кресты, стояли так и перешептывались – Варавва слышал. Теперь-то они перепугались! Теперь-то они не хихикали! Суеверные, видно.
Варавва и сам испугался. И обрадовался, когда стало светлеть и все снова сделалось почти как всегда. Светлело медленно, как светает утром. День растекся по холму, по масличным деревьям вокруг, и снова защебетали притихшие птахи. В точности как утром.
Родственники у креста стояли не шевелясь. Уже не вздыхали, не выли. Стояли и смотрели на распятого. И солдаты тоже. Все было тихо-тихо.
Можно было спокойно взять и уйти. Ведь все кончилось. И солнце снова светило, и все было опять как всегда. Просто ненадолго стемнело, оттого что он умер.
Да, пора было уходить. Самое время. Нечего было тут делать Варавве. Раз тот, другой, умер, ему незачем было тут оставаться. Того сняли с креста – вот что он, уходя, увидел. Двое обвили тело чистой плащаницей – это он тоже увидел. Тело было очень белое, и они обращались с ним бережно, будто боялись поранить, причинить ему боль, странно: ведь его и так уже распяли. Вообще, чудные какие-то люди. Зато мать сухими глазами смотрела на то, что осталось от ее сына, и суровое, темное лицо не умело выразить всего ее горя и показывало только, что ей не охватить умом того, что случилось, и никогда не простить. Ее-то понял Варавва.
Когда все они скорбной чередой шли мимо – мужчины несли тело, женщины ступали следом, – одна, подойдя к его матери, шепнула что-то и кивнула на Варавву. Та остановилась и посмотрела на него, и взгляд у ней был такой жалкий, такой корящий, что он подумал, что никогда не сможет его позабыть. Они пошли дальше вниз по дороге с Голгофы, потом свернули влево.
Он следовал за ними на расстоянии, чтоб они его не заметили. Совсем близко был вертоград и там гроб, высеченный в скале. Туда и положили умершего. И, помолясь подле гроба, привалили к двери большой камень и ушли.
И тогда Варавва подошел к гробу и постоял там немного. Только молиться он не стал, он был злодей, молитвы злодеев вообще не доходят, а Вараввин грех вдобавок не был искуплен. Да он и не знал этого человека. Он просто так постоял там немного.
Потом он тоже пошел по дороге к Иерусалиму.
* * *
Войдя в город через Давидовы ворота, он скоро увидел на улице Заячью Губу. Та кралась вдоль стен и прикинулась, будто его не видит, но Варавва-то заметил, что она его увидела и, кажется, не ожидала встретить. Наверное, думала, что его распяли.
Он пошел за нею следом, скоро догнал, и так они оказались вместе. Конечно, не нужно было ее догонять. И не нужно было Варавве с ней заговаривать, он и сам удивился, что с ней заговорил. И она, кажется, тоже. Она робко глянула на него, когда ничего другого уже не оставалось.
Они не стали говорить о том, что занимало обоих, он только спросил, куда она собралась и нет ли вестей с Галгала. Она отвечала коротко и, как всегда, гугняво, он с трудом разбирал слова. Оказалось, она никуда не собиралась, а когда он спросил, где она живет, она не ответила. Подол у нее обтрепался и висел лохмотьями, большие грязные ноги были босы. Беседа скоро иссякла, и дальше они пошли молча.
Из открытой двери одного дома, как из черной дыры, неслись громкие голоса, и прямо навстречу Варавве оттуда с криком выскочила высокая толстая женщина. Она была пьяная, при виде Вараввы от радости замахала толстыми руками, зазывая его в дом. Он мешкал, вдобавок он немного стеснялся своей странной спутницы, но женщина не отставала и втолкнула в дом обоих. Там его громко приветствовали двое мужчин и три женщины, которых он узнал только тогда, когда глаза его свыклись с полумраком. Его тотчас усадили за стол, налили вина, и все заговорили наперебой. О том, что вот его-де выпустили из тюрьмы на волю и до чего же ему повезло, что вместо него казнили другого! Их распирало от хмеля, от желания разделить его радость, они даже дотрагивались до Вараввы, чтоб она перешла и на них, а одна женщина сунула руку ему за пазуху и щупала волосатую грудь под громкий хохот толстухи.
Варавва пил вместе со всеми, но говорил он мало. Сидел, уставясь прямо перед собой своими темно-карими глазами, которые так глубоко запали, будто хотели спрятаться. Все решили, что он какой-то чудной. Правда, на него, бывало, и раньше находило.
Женщины подливали ему вина. Он снова пил, слушал общую беседу, но сам почти не принимал в ней участия.
Наконец все стали приставать к нему с расспросами: мол, что это с ним да отчего он такой. Но толстуха обняла его за шею и сказала, что не диво, если Варавва кажется чудным: он так долго томился в застенке, почти что умер, ведь, раз кого приговорили к смерти, тот уже умер, и, если его потом отпустили и помиловали, он все равно умер, потому что был мертвым. И только воскрес, а это, мол, вовсе не то же самое, что просто жить-поживать, как другие. А когда слова ее встретили гоготом, она вышла из себя и пригрозила, что вышвырнет всех, кроме Вараввы и девчонки с заячьей губой, про эту, мол, она ничего не знает, но с виду девчонка скромная и добрая, хоть и проста немного. Мужчины чуть не лопнули со смеху после таких ее слов, но потом успокоились и шепотом рассказали Варавве, что им опять надо в горы, едва стемнеет, спустились же они для того, чтобы принести в жертву козленка. Жертва не была принята, поэтому козленка они продали и вместо него заклали двух горлинок без порока. А на вырученные деньги хорошо погуляли у толстухи. Они спрашивали, собирается он к ним вернуться или нет, и объясняли, где их теперь искать. Варавва только кивал и отмалчивался.
Одна женщина завела речь про человека, которого распяли вместо Вараввы. Раз как-то она его видела, он проходил мимо, говорят, он знает писания, пророчествует и творит чудеса. В этом вреда нету, и многие занимаются тем же, так что его, наверно, не за это распяли. Тощий такой – вот и все, что она запомнила. Другая сказала, что видеть его не видела, а слыхала, будто он говорил, что храм рухнет, Иерусалим погибнет от землетрясения и огонь пожрет небо и землю. Вот уж глупости-то, за такие речи как им его не распять. Третья же сказала, что он водил дружбу больше с бедными и все обещался, что они войдут в царствие божие, шлюхам и то обещался; тут все три стали хохотать, но решили, что, кабы так, оно бы неплохо.
Варавва слушал их уже не с таким задумчивым видом. Правда, он даже ни разу не улыбнулся. Он вздрогнул, когда толстуха снова обняла его и сказала, что плевать ей на того, другого, как-никак он ведь уж помер. Как-никак распяли-то его, а не Варавву, и это главное.
Заячья Губа сперва сидела скорчившись, невнимательная к разговору. Но когда речь зашла о том, другом, она встрепенулась. Теперь же с ней сделалось что-то неладное. Она вскочила с выражением ужаса на белом, изможденном лице, уставилась на спутника и крикнула своим чудным, гнусавым голосом:
– Варавва!
Кажется, ничего особенного, ну, назвала человека по имени, но все глядели на нее в изумлении и не могли взять в толк, отчего она раскричалась. Сам Варавва тоже сделался странным, глаза забегали, как с ним бывало всегда, когда он не хотел на кого-то смотреть. Никто ничего не понял, да и какая, в общем-то, разница, лучше не обращать внимания. Что ни говори, Варавва – свой человек и всякое такое, но ведь он немного не в себе, и мало ли что может выкинуть Варавва?
Девушка снова съежилась на земляном полу, на подстилке, но не отвела от него горящих глаз.
Толстуха принесла Варавве поесть, она решила, что он небось изголодался, небось эти скоты не кормят людей в застенках. Хлеб, соль и кусок жареного барашка выставила она перед ним на стол. Он поел немного, а остальное отдал Заячьей Губе, будто уже насытился. Она набросилась на съестное, заглотала все, как зверь, тотчас бросилась вон и исчезла.
Тогда они решились спросить у Вараввы, кто она такая, но, конечно, не дождались ответа. Очень на него похоже: собственные свои дела он вечно держал в тайне.
– А какие чудеса творил этот пророк? – спросил Варавва у женщин. – И что он пророчил?
Те отвечали, что он исцелял больных, изгонял злых духов, говорят, даже мертвых воскрешал, но кто же знает, правда это или нет, наверно, неправда. А что он пророчил – об этом они понятия не имели. Только одна сказала, что слыхала от людей какую-то его историю, про то, как кто-то созвал гостей на большой пир, брачный или еще там какой-то, а гости не пришли, и тогда слуги вышли на дороги и стали созывать всех подряд, но нашли только разных нищих и убогих, которые совсем изголодались и им нечем было тело прикрыть, ну и богатый хозяин разгневался... не то сказал, что это ничего, мол, ладно... Нет, она позабыла, чем дело кончилось. Варавва все время слушал очень внимательно, будто ему сообщали что-то удивительно важное. А когда одна женщина сказала, что распятый, наверное, как иные прочие, воображал себя мессией, Варавва сгреб в кулак свою большую рыжую бороду и глубоко задумался.
– Мессия? Ну нет... – бормотал он про себя.
– Да какой же он мессия, – сказал один из мужчин, – ведь кабы так, разве б его распяли? Да тогда б эти недоноски сами полегли на месте. Видно, ей невдомек, что значит – мессия!
– Ну ясно! Он бы сошел с креста и всех их перебил!
– Чтоб мессию – да распяли! Слыханное ли дело?
Варавва все сидел, зажав бороду в кулаке и уставясь взглядом в земляной пол.
– Нет, он не мессия...
– Чего ты там бормочешь, Варавва, ты лучше выпей! – сказал один из дружков и ткнул Варавву под ребра, странно, как это он на такое отважился, но он его ткнул.
И Варавва послушно глотнул из глиняной кружки и снова рассеянно поставил ее на место. Женщины тотчас налили ему еще и заставили выпить. Вино, наверно, подействовало, но мысли Вараввы по-прежнему где-то блуждали. И снова приятель ткнул его локтем.
– Ну-ка, Варавва, выпей, встряхнись! Не рад, что ли, что сидишь в теплой компании, вместо того чтобы гнить на кресте? Ведь так-то оно лучше, а? Ведь тебе с нами неплохо, а? Ты только подумай, Варавва! Ты сберег свою шкуру, ты живой! Живой! Слышишь, Варавва?
– Да-да, – говорил он. – Да, конечно...
Так постепенно они добились того, что он уже не пялился в пол и стал вроде больше похож на человека. Они сидели, пили, болтали о всякой всячине, и Варавва уже был не такой чудной.
Но вот ни с того ни с сего он задал им один очень странный вопрос. Он спросил их, что думают они о тьме, которая наступила сегодня, когда вдруг померкло солнце.
– Тьма? Какая еще тьма? – Они ошарашенно смотрели на него. – Разве было темно? Когда?
– Часу в шестом...
– Тьфу ты! Эка хватил! Небось бы и другие внимание обратили!
Он смешался и недоверчиво переводил взгляд с одного на другого. Его уверяли, что никакой тьмы они не заметили, да и никто не заметил, во всем Иерусалиме. И он действительно вообразил, что вдруг стало темно? Средь бела дня? Что за притча? Но если ему правда помстилось такое, значит, у него неладно с глазами после застенка, он же так долго там пробыл. Ну да, в этом все дело. Толстуха сказала, что ясно, все из-за этого, из-за того, что глаза у него отвыкли от света, – вот свет его и ослепил. И нечего тут удивляться.
Он с сомнением оглядел всех – и ему, кажется, полегчало. Он распрямился, потянулся за кружкой, отхлебнул. Но уже не поставил кружку на место, а опять протянул, чтобы ему налили еще. Ждать не пришлось, и все снова пили, и Варавва, видно, наконец-то распробовал вкус вина. Он, как бывало, осушал кружку одним глотком и заметно хмелел. Не то чтобы он стал чересчур разговорчив, нет, но кое-что он им все же рассказал про тюрьму. Да, натерпелся он там. Станешь странным. Надо же – отпустили, а? Им ведь только попадись в когти! И вдруг так повезло! Во-первых, его черед пришелся на пасху, когда они одного отпускают! А во-вторых, отпустили как раз его! Вот счастье привалило! Варавва был с ними согласен, и, когда они колотили его по спине, наваливались на него, горячо дышали ему в лицо, он хохотал и пил по очереди со всеми. Вино ударяло ему в голову, и он оттаивал, он все больше веселел, ему стало жарко, и он распахнул рубаху, и лег, и устроился поудобнее вместе со всеми. Видно было, что ему хорошо. Он даже облапил соседку и притянул к себе. Та захохотала и повисла у него на шее. Но тут толстуха оттащила его и сказала, что наконец-то, мол, она узнает своего миленка, наконец-то он опять здоров, видать, очухался после этой жуткой тюрьмы. И теперь уж ему не будут метиться разные глупости, всякая тьма, – ню-ню-ню, тю-тю-тю – она притянула его к себе, обчмокала ему все лицо, хватала его за шею толстыми пальцами и теребила рыжую бороду. Все радовались, что ему полегчало; он стал другой, как раньше, когда, бывало, развеселится. И они пришли в отличнейшее настроение. Пили, орали, и во всем соглашались друг с дружкой, и не могли нарадоваться, до чего же им хорошо, до чего же им славно вместе, и все больше разгорячались от выпитого. Мужчины месяцами не пробовали вина, не видели женщины и теперь наверстывали упущенное – надо ж отпраздновать, что они наконец-то в Иерусалиме, надо ж отпраздновать, что отпустили Варавву! А то времени мало, скоро опять в горы! Они упивались крепким кислым вином и тешились всеми женщинами, кроме толстухи, волокли их по очереди за занавеску и выходили оттуда красные, пыхтящие, чтоб снова пить и снова орать. Они все делали основательно, так уж у них было заведено.
Они веселились, пока не стало темнеть. А потом оба мужчины встали и объявили, что им пора восвояси, распростились, накинули козьи шкуры, спрятали под ними оружие и выскользнули на улицу, где уже сгущались сумерки. Три женщины тотчас улеглись за занавеской, пьяные, измученные, и крепко уснули. И когда Варавва с толстухой остались одни, она спросила его, не пора ли им тоже потешить друг дружку, не тянет ли его на это после всего, чего он натерпелся, а у нее-то, мол, у самой все нутро уж изныло по бедолаге, который так истомился в тюрьме и которого чуть не распяли. И она повела его на кровлю, где был сложен шалаш из пальмовых листьев для жаркого времени года. Там они легли, и она ласкала его, и скоро он распалился и впился в ее большое жирное тело накрепко, будто навеки. Пролетело полночи, а они не заметили.
Наконец они изнемогли оба. Она повернулась на бок и тут же уснула. Он лежал без сна рядом с ее потным телом и глядел на листву шалаша над своей головой. Он думал про того человека на среднем кресте и про то, что случилось сегодня на Лысой Горе. Потом он стал думать про эту тьму, была она или нет? Неужели ему правда все примерещилось? А может, это просто на Голгофе было темно, а здесь, в городе, никто ничего не заметил? Там-то точно было темно, и солдаты перепугались, и вообще... или ему и это примерещилось? Может, ему все примерещилось? Нет, ничего не выходит, ничего не понятно...
Он снова стал думать про того, на кресте. Лежал с открытыми глазами, не мог уснуть, и рядом было ее толстое тело. Сквозь сухую листву шалаша виднелось небо – наверное, это небо, хотя звезд на нем ни одной. Нигде ничего – только тьма.
Да, теперь было темно и на Голгофе, и всюду.
* * *
На другой день Варавва бродил по городу, и ему попадалось много знакомых – недругов и друзей, – и все удивлялись, завидя его, а кое-кто даже вздрагивал, будто привидение встретил. Варавве было не по себе. Выходит, им неизвестно, что его отпустили? Когда уж они наконец возьмут в толк? Когда поймут, – что распяли-то не его!
Палило солнце, и просто удивительно, как трудно было глазам глядеть на яркий свет. Может, с ними правда что-то случилось в тюрьме? И Варавва решил держаться в тени. Пройдя под сводами портика к храму, он зашел вовнутрь и сел в полумраке, чтобы дать глазам отдых. И ему сразу полегчало.
Несколько человек уже сидели в храме, скорчившись у стены. Они разговаривали тихонько и, кажется, были недовольны тем, что он пришел, оглядели его искоса и еще больше понизили голоса. Он слышал отдельные слова, но смысла не улавливал, да и не старался, его не интересовали их тайны. Один был примерно в тех же годах, что и Варавва, и тоже рыжебородый, волосы, тоже рыжие, были длинные, спутанные и смешивались с бородой. Глаза были голубые и поэтому смотрели как-то странно, по-детски, а лицо было большое, мясистое. Все у него было большое. Высокий, здоровенный детина. Надо думать, ремесленник, судя по рукам и одежде. Варавве, в общем, было все равно, кто он да как он выглядит, но такого нельзя не приметить, хоть вроде ничего в нем особенного. Кроме, конечно, этих голубых глаз.
Высокого что-то печалило, и всех других, видимо, тоже. Говорили они, кажется, о каком-то умершем, да, пожалуй, что так. То и дело они тяжко вздыхали – хоть и мужчины. Если Варавва правильно понял, если они горевали о ком-то, они же могли оставить эти вздохи женщинам, плакальщицам?
Вдруг Варавва услышал, что этого, кто у них умер, распяли. И распяли вчера. Вчера?..
Он насторожил уши, но те, у стены, еще больше понизили голоса, и дальше Варавва уже ничего не разобрал.
О ком они говорили?
Тут мимо по улице прошли люди, невозможно было расслышать ни слова. Но когда снова стало тихо, он опять кое-что расслышал, и он понял, что так оно и есть: они говорили о нем. О том, которого...
Странно... Варавва тоже о нем только что думал. Проходил под той аркой напротив дворца и как раз вспомнил. Ну а когда проходил мимо места, где тот уронил крест, снова, конечно, вспомнил.
И вот – эти тоже сидят и его вспоминают... Странно! Им-то какое до него дело? И зачем все время шептаться? Только рыжий, высокий иногда говорил чуть погромче, так что можно расслышать, видно, он чересчур был огромный для шепота.
Уж не говорят ли они про... про тьму? Про то, что, когда тот умер, стало темно!..
Он внимательно вслушался, так внимательно, что они, наверно, заметили. Вдруг умолкли, не говорили больше ни слова, сидели и смотрели на него искоса. Потом еще пошептались о чем-то – он ничего не расслышал. А после простились с высоким и ушли. Их было четверо, и ни один не приглянулся Варавве.
Варавва остался один с высоким. Он хотел было завести с ним разговор, но не знал. Как подступиться. Тот сидел, время от времени встряхивая большой головой, и у него кривился рот. Как водится у простых людей, он даже не пытался скрыть горя. В конце концов Варавва спросил напрямик, что его печалит. Тот удивился, посмотрел на Варавву круглыми голубыми глазами и не ответил. С минуту он доверчиво разглядывал незнакомца, а потом спросил у Вараввы, не из Иерусалима ли он родом. Нет, он не здешний. А разговор-то, похоже, как у них? Варавва отвечал, что родина его близко, в горах к востоку. Высокий, кажется, успокоился. Не верит он этим иерусалимским, так напрямик и сказал он Варавве, не верит им ни на йоту, почти все – разбойники и злодеи. Варавва усмехнулся и от души согласился с высоким. Ну а сам он откуда? Он-то? Ну, его родина далеко-далеко. Детские глаза попытались выразить, до чего она далеко. И как бы хотелось ему очутиться там, простодушно поведал он Варавве, там, а не в этом Иерусалиме, и больше нигде на свете не хотел бы он очутиться. Только вряд ли ему приведется увидеть родные места, жить и умереть там, как он думал когда-то. Варавва удивился. Отчего же? Что ему мешает? Каждый сам себе хозяин.
– Ан нет, – ответил высокий, глубоко задумался и прибавил: – Не так это, нет.
А зачем он здесь? – Варавва не удержался от вопроса. Высокий ответил не сразу, а потом нехотя выговорил, что это из-за Учителя.
– Учителя?
Да, неужели он про Учителя не слыхал?
– Нет.
– Нет? Про того, кого распяли вчера на Голгофе?
– Распяли? Нет, не слыхал. Почему распяли?
– Потому, что так ему было назначено.
– Назначено, чтоб его распяли?
– Ну да. Так сказано в писаниях. Учитель и сам это предсказал.
– Сам? И в писаниях сказано? – Варавва был несилен в писаниях и не знал ничего такого.
– Я тоже не знал. Но так там сказано.
Варавва охотно поверил. И все же – почему распяли Учителя, зачем? Все это очень странно.
– Да... По-моему, тоже. Не понимаю, зачем ему было умирать. И такой страшной смертью. Но так ему было назначено, он сам предсказал. Все исполнилось, чему надлежало быть. Он же столько раз говорил, – и тут высокий повесил свою большую голову, – что ему надлежит пострадать за нас и умереть.
Варавва посмотрел на него:
– Умереть за нас!
– Да, вместо нас! Пострадать невинно и умереть вместо нас. Ведь, ясное дело, виноваты-то мы, не он.
Варавва сидел, смотрел на улицу и больше не задавал вопросов.
– Теперь куда легче понять то, что он говорил, бывало, – сам себе сказал высокий.
– И ты хорошо его знал? – спросил Варавва.
– Конечно. Конечно, хорошо. Я был с ним с самого начала, еще когда он начинал там, у нас.
– А, значит, он из твоих краев?
– И потом я следовал за ним повсюду, куда бы он ни пошел.
– Почему?
– Почему? И ты еще спрашиваешь. Сразу видно, ты не знаешь Учителя.
– Почему это – сразу видно?
– Пойми, у него была сила. Непонятная сила. Он только скажет: следуй за мной! И ты за ним следуешь. И ничего другого не остается. Такая у него была сила. Если б ты знал его, ты бы не спрашивал. Ты тоже пошел бы за ним.
Варавва помолчал. Потом сказал:
– Да, наверно, он был замечательный человек, если все, что ты говоришь, правда. Но раз его распяли, выходит, не так уж велика была его сила?
– Ан нет, не выходит. Я и сам сперва так подумал – вот ведь что самое страшное. Что я мог хоть на минуту подумать такое! Но теперь я, кажется, понял, для чего нужна была эта позорная смерть, теперь я хорошенько поразмыслил и поговорил с людьми, которые лучше моего знают писания. Понимаешь, оказывается, ему, невинному, надо было все это претерпеть и даже спуститься в ад ради нашего брата. Но он еще вернется и докажет всю свою силу. Он воскреснет из мертвых! Мы в этом не сомневаемся!
– Воскреснет из мертвых! Да что за бредни?
– Не бредни! Наверняка воскреснет. Кое-кто думает – даже завтра утром, потому что это должно случиться на третий день. Он будто бы говорил, что пробудет в аду три дня, сам-то я не слышал. Но будто бы он так говорил. А завтра чем свет...
Варавва пожал плечами.
– Не веришь?
– Нет.
– Не веришь... да где ж тебе... Ты ведь не знал его. Но у нас многие верят. И правда, почему бы ему не воскреснуть, если он других воскрешал из мертвых?
– Воскрешал? Быть не может такого!
– Еще как может! Я своими глазами видел.
– Неужели правда?
– Истинная правда. Воскрешал. Так что сила-то у него есть. Силы у него на всех хватит, была б только охота. Была б у него только охота для самого для себя постараться. Покамест он ничего такого не делал. Зачем он, при такой своей силе, и дал себя распять?.. Да, знаю, знаю... Но понять это нелегко. Я, видишь ли, человек простой, и все это, брат, понять нелегко.
– Ты, выходит, не веришь, что он воскреснет?
– Нет, нет, я верю. Конечно, они говорят правду. Что Учитель вернется и явит свою силу и славу. Я в этом не сомневаюсь – и они же писания знают получше. И тогда пробьет великий час. Они даже говорят: начнется новый век, счастливый век, когда Сын Человеческий будет править в своем царстве.
– Сын Человеческий?
– Да. Так он себя называл.
– Сын Человеческий?..
– Да. Так он говорил. Но некоторые думают... Нет, никак не выговорю...
Варавва придвинулся к нему поближе.
– Что же они думают?
– Они... они думают, что он сын самого Бога!
– Сын Бога!
– Да... Но только, поди, неправда это. Даже оторопь берет. Лучше пусть бы он вернулся такой же, как был.
Варавва стал сам не свой.
– Чего болтают! – крикнул он. – Сын Божий! Сына Божьего – и распяли! Сам понимаешь, не могло этого быть!
– Я тебе уже сказал, что это, поди, неправда. И еще повторю, если хочешь.
– Какие же безумцы могут этому верить? – продолжал Варавва, и шрам под глазом у него побагровел, как бывало всегда, когда что-то выводило из себя Варавву. – Сын Божий! Какой же он Сын Божий! Думаешь, так он и спустился бы на землю! И стал бы бродить по твоим родным местам да проповедовать!
– Ну... почему? Это как раз могло быть. Почему бы и не по нашим местам? Край у нас, конечно, глухой, но откуда-то надо же было начать. – И высокий посмотрел на него так простодушно, что Варавва чуть не рассмеялся. Но он чересчур был взволнован для этого. Он весь дергался и все время подтягивал на плечо козью шкуру, хоть она вовсе не сползала с плеча. – Ну а чудеса, которые были после его смерти? – спросил высокий. – О них ты подумал?..
– Чудеса?
– Ты что, не знаешь, что, когда он умер, стало темно?
Варавва глянул в сторону и потер глаза.
– И что земля потряслась и Голгофа треснула снизу доверху в том месте, где стоял крест?
– Ничего подобного! Вы все это выдумали! Откуда ты знаешь, что она раскололась? Ты разве там был?
И вдруг высокий изменился в лице. Он с сомнением посмотрел на Варавву и тотчас опустил взгляд.
– Нет, нет. Я ничего не знаю. Я не могу ничего доказать, – пробормотал он. И долго потом он молчал и вздыхал тяжко.
Наконец он положил руку на плечо Варавве и выговорил:
– Знаешь... Меня не было рядом с Учителем, когда он страдал и умер. Я убежал. Покинул его и убежал. А перед тем я от него даже отрекся. И это самое страшное. Я от него отрекся. Как ему простить меня, если он вернется! Что я скажу, что отвечу, когда он меня спросит! – И, уткнувшись большим бородатым лицом в ладони, он стал раскачиваться из стороны в сторону. – Как я мог это сделать! Как мог человек сделать такое! – В синих глазах его стояли слезы, когда он снова взглянул на Варавву. – Вот ты спрашивал, что меня печалит. Теперь ты знаешь. Теперь ты знаешь, что я за человек. А Господь мой и Учитель еще лучше твоего это знает. Горе мне, несчастному. Как ты думаешь, простит меня Учитель?
Варавва сказал, что, наверное, простит. Его не очень-то занимало, что ему говорил высокий, но он все равно так сказал, просто для разговора, да и нравился почему-то Варавве этот человек, который винился, будто преступник, хоть он, в общем, ничего худого не сделал. Ну мало ли кто кого обманывает, подумаешь!
Высокий схватил его за руку и крепко ее пожал.
– Ты правда так считаешь? Правда? – повторял он осипшим голосом.
Тут как раз несколько человек проходили мимо по площади.
Когда они заметили высокого рыжего и увидели, с кем тот сидит и беседует, они замерли, будто не веря своим глазам. Они бросились к высокому, и, хотя во всей их повадке была странная почтительность, не вязавшаяся с его жалкой одеждой, они закричали:
– Ты знаешь, кто этот человек?
– Нет, – ответил честно высокий, – я его не знаю. Но у него добрая душа, и мы славно поговорили.
– И ты не знаешь, что это вместо него распяли Учителя?
Высокий выпустил руку Вараввы и переводил взгляд с одного на другого не в силах скрыть своего смятения. Остальные же ясно показывали своим видом, что они думают о Варавве, и слышно было, как тяжело, гневно они дышат.
Варавва встал и отвернулся так, что они больше не видели его лица.
– Прочь отсюда, нечестивец! – закричали они на него.
И Варавва запахнулся в козий мех и пошел один по улице, не оглядываясь.
* * *
Девушка с заячьей губой не спала. Она лежала, смотрела на звезды и думала про то, что скоро должно случиться. Нет, спать ей нельзя, ей надо бодрствовать всю ночь.
Она лежала на соломе, которую собрала в яме у Навозных ворот, а вокруг нее стонали, ворочались во сне больные и тренькали бубенцы прокаженного, ходьбою старавшегося утишить боль. Кучи отбросов наполняли всю долину зловонием, трудно было дышать, но она уже привыкла, она не замечала смрада. Здесь никто его не замечал.
Завтра чем свет... Завтра чем свет...
Странно даже подумать – скоро все увечные исцелятся, все алчущие насытятся. Просто не верится. Как же это будет? Отворятся небеса, оттуда спустятся ангелы и всех накормят – хотя бы всех бедных. Богачи – те по-прежнему пусть едят у себя дома, а вот всех на самом деле голодных ангелы сразу накормят здесь, у Навозных ворот, прямо по земле расстелют скатерти, белые скатерти из чистого полотна, и расставят на них всякие яства, и каждый сможет прилечь рядом и угоститься. В общем, не так уж и трудно это себе представить, надо только помнить, что все будет совсем непохоже на нынешнее. Все переменится и станет другим...
Может, и сама она будет в новом платье, кто знает? Может, в белом. А может, в синей юбке? Ведь все переменится, оттого что Сын Божий воскреснет из мертвых и настанет новый век.
Она лежала и думала про все это, про то, как все это будет.
Завтра... Завтра чем свет... Хорошо, что ей сказали заранее.
Бубенцы прокаженного прозвякали совсем близко. Она их узнала, он всегда проходил тут ночами, хоть им и запрещено, им положено быть у себя, в самой низине, но по ночам он решается выходить. Тянет, наверное, к людям поближе. Он сам как-то раз говорил. Она видела, как он осторожно бредет меж спящими в свете звезд.
Царство мертвых... Какое оно?.. Сейчас, говорят, он ходит по царству мертвых... На что оно похоже?.. Нет, этого она не могла себе представить.
Слепой старик застонал во сне. А чуть подальше лежал изможденный юноша, он задыхался, каждую ночь было слышно, как он задыхается. А совсем рядом лежала женщина из Галилеи, у нее дергалась рука, потому что в нее вселился чей-то чужой дух. И кругом лежало великое множество больных, которые верили, что они исцелятся в потоке, и нищих, которые кормились отбросами тут, на свалке. Но завтра уже никого тут не будет. Они лежали, ворочались во сне, а ей уже никого не было жалко.
Наверное, ангел дохнет на воду, и она сразу очистится? И все сразу исцелятся, вступив в эту воду? И даже прокаженные исцелятся? Но неужели их пустят в поток? Не прогонят? Кто же знает... Никто ничего не знает...
А может, ничего и не станет с потоком, и не в нем вовсе дело. Может, сонмы ангелов пролетят над всей Гехиномской долиной, над всей землей и крыльями выметут все болезни, печали и беды!
Вот, может, как оно будет!
Потом она стала вспоминать, как она видела Сына Божия. Как он был с нею ласков. Никто еще никогда не был с нею так ласков. Она бы могла его попросить, чтоб исправил ее уродство, да только ей не хотелось – Ему ничего бы это не стоило, да только ей не хотелось просить. Он помогал тем, кому помощь правда нужна, он творил великие дела. Ей не хотелось докучать ему такой малостью.
Но странную вещь он сказал ей, очень странную вещь, когда она упала на колени в дорожной пыли, а он повернулся и к ней подошел.
– Ты тоже ждешь от меня чудес? – сказал он.
– Нет, Господи, я их не жду. Я просто глядела, как ты идешь по дороге.
А потом он посмотрел на нее, посмотрел так нежно и так печально, и погладил ее по щеке, и коснулся ее рта, и губа у нее осталась точно такая, как прежде. А потом он сказал:
– Ты будешь свидетельствовать обо мне.
Удивительные слова. Что они значат? «Свидетельствовать обо мне». И это она-то? Непонятно. Как она станет о нем свидетельствовать?
Он легко разобрал, что она сказала; не то что другие, он сразу все разобрал. Но чему удивляться, на то он и Сын Божий.
И еще всякие, всякие мысли бродили у нее в голове: о том, как он смотрел на нее, когда с ней говорил, и какой запах шел от его руки, когда он коснулся ее рта... Глаза у нее были широко раскрыты, в них отражались звезды, и она удивлялась тому, что их высыпает все больше и больше, пока она на них смотрит. С тех пор как она не живет дома, она их столько перевидела... Интересно, что такое звезды? Кто же их знает. Конечно, их Бог сотворил, но что они такое – кто знает... Здесь, в пустыне, много звезд... И в горах их было много... в горах у Галгала... Но только не той ночью, нет, не той ночью...
Она стала думать про дом между двумя кедрами... Мать стояла в дверях и глядела ей вслед, пока она спускалась под гору и несла на себе проклятие... Да, им пришлось ее выгнать, чтоб она отныне жила, как звери живут в норах... Она думала про то, до чего зеленое было поле весной, а мать стояла тогда бочком в темноте у двери, чтобы тот, проклинавший, не увидел ее...
Но теперь это неважно. Теперь все неважно.
Слепой сел и прислушался, он проснулся и услышал, как бренчат бубенцы прокаженного.
– А ну, убирайся! – закричал он и погрозил темноте кулаком. – Вон отсюда! Ишь, повадился!
Звук бубенцов замер во тьме, и старик снова улегся, прикрывая пустые глазницы рукой.
Ну а мертвые дети – они тоже попадают в царство мертвых? Но не те же, которые умерли, еще не выйдя из утробы? Не может этого быть... Неужели и эти мучаются? Они-то за что? Хотя точно сказать нельзя... Ничего нельзя сказать точно.
«Проклятие плоду во чреве твоем»...
Но когда начнется новый век, разве не снимутся сами собой все проклятия? Может, и так. Да кто ж его знает?
«Проклятие... плоду... во чреве твоем»...
Она вздрогнула, словно от холода. Скорей бы утро! Когда уж оно настанет! Она лежит тут так долго, а все не кончается ночь! Да, звезды вверху уже светят иначе, а рожок молодого месяца давно спрятался за горами. Сменилась последняя стража, трижды она видела факелы на городской стене. Да, кончилась ночь. Последняя ночь...
Вот над Масличной горою встала утренняя звезда! Ее сразу можно узнать, такая большая и яркая, куда ярче других. Никогда еще не сияла так эта звезда. Сложив руки на впалой груди, она лежала и смотрела на звезду горячими глазами.
Потом встала и убежала во тьму.
Он лежал скорчившись за кустом тамариска напротив гроба по другую сторону дороги. Когда рассветет, ему все будет видно. Отсюда хорошо видно. Скорей бы взошло солнце!
Конечно, не может мертвец воскреснуть, он и так это знал, но хотел все увидеть собственными глазами, убедиться. Для того-то он и встал рано-рано, задолго до рассвета, и залег здесь, за кустом. Хотя, в общем, он сам себе удивлялся. Зачем он сюда пришел? В конце концов, не все ли ему равно? Ему-то какое дело?
Он думал, многое множество народа придет посмотреть на великое чудо. Потому и спрятался – чтоб они его не заметили. Но похоже, никто, кроме него, не пришел. Странно.
Хотя нет – кто-то стоял на коленях, совсем близко, на самой дороге. Кто это? И как получилось, что он не слышал шагов? Кажется, женщина. Серая фигура почти сливалась с серой дорожной пылью.
Уже светало, и скоро первый луч солнца упал на скалу, в которой был высечен гроб. Все случилось так быстро, что он ничего не заметил – а тут бы как раз и следить Варавве! Гроб был пуст! Камень был отвален от двери гроба, и гроб в скале был пуст!
Сначала он поразился, лежал и смотрел на дверь гроба, куда – он сам видел – внесли распятого, и на камень, который у него на глазах тогда привалили ко входу. Но потом он все понял. Ничего не случилось особенного. Камень был отвален уже раньше, еще до того, как Варавва сюда пришел. И гроб уже раньше был пуст. Кто отвалил камень и кто унес мертвого – догадаться нетрудно. Все сделали ночью ученики. Под покровом тьмы они похитили своего возлюбленного Учителя, а потом заявят, будто он воскрес, в точности как обещал. Большого ума не надо, чтобы такое сообразить.
Вот они и подевались куда-то утром, на рассвете, когда ожидалось великое чудо. Спрятались!
Варавва вылез из своего укрытия и подошел ближе к гробу, чтоб получше его разглядеть. Проходя мимо серой коленопреклоненной фигуры, он бросил на нее взгляд и, к изумлению своему, узнал Заячью Губу. Он замер – стоял и смотрел на нее. Бледное, изможденное лицо было обращено ко гробу, и блаженный взгляд ничего другого не замечал. Губы раскрылись, но она почти не дышала, и безобразящий шрам над верхней губой совсем побелел. Она не видела Варавву.
Странно и как-то стыдно было ему смотреть на ее лицо. И вспомнилось кое-что – кое-что, о чем вспоминать не хотелось, тогда у нее тоже было такое лицо. И тогда ему тоже было стыдно... Он передернул плечами, стряхнул с себя это воспоминание.
Наконец она его заметила. И тоже удивилась, что видит его, что он здесь. Оно и понятно – он сам себе удивлялся. Какое ему до всего этого дело?
Лучше всего Варавве было притвориться, что он просто шел по дороге, просто случайно шел мимо, знать не знал, какое тут место, ведать не ведал ни про какой гроб. Почему бы не притвориться? Конечно, поверить будет трудно, и, скорей всего, она не поверит – но все-таки он сказал:
– Ты зачем тут лежишь?
Она не подняла на него глаз, не шелохнулась, стояла на коленях, как прежде устремив взгляд на дверь гроба в скале. Он едва расслышал, как она про себя шепнула:
– Сын Божий воскрес...
Странно – его тронул этот шепот. Против воли он что-то почувствовал – он сам не понимал что. Стоял и не знал, что бы такое сказать, как быть. Потом он подошел к гробу, как собирался, и убедился, что гроб пуст – но он же это заранее знал, и не все ли ему равно, это ничего ведь не значит. И он вернулся к тому месту, где она стояла на коленях. У нее было такое блаженное, такое упоенно-счастливое лицо, что ему сделалось ее жалко. Все ведь это неправда. Он мог бы, конечно, рассказать ей, как было дело с этим воскресением из мертвых, – но он и так уж ее обидел... Не довольно ль с нее? Он не смог себя заставить сказать ей всю правду. Только осторожно спросил, как, по ее мнению, случилось, что распятый – воскрес?
В первую минуту она смотрела на Варавву с недоумением. Неужели же он не знает? Но потом она подробно и восторженно рассказала ему своим гнусавым голосом, что ангел слетел с неба, простерши руку, как копье, и одетый огнем, как ризою. И копье вонзилось между камнем и скалой и рассекло их. Кажется, все очень просто, да все и было просто, хоть это и чудо. Так это случилось. Он разве не видел?
Варавва опустил взгляд и сказал, что нет, он ничего не видел, а про себя порадовался тому, что он ничего этого не видел. Значит, глаза у него исправились, стали опять как у людей, и теперь ему ничего не мерещится, он видит все так, как оно есть. Нет у того человека больше над ним власти. Никакого воскресения, ничего такого не видел Варавва. А девушка все стояла на коленях, и глаза у нее сияли от воспоминания о том, что она видела.
Когда она наконец поднялась, чтоб уйти, они пошли к городу вместе. Говорили они мало, но Варавва понял, что с тех пор, как они тогда расстались, она поверила в того, кого называла Сыном Божиим и кого он, Варавва, называл мертвым. Но когда Варавва спросил, чему же учил этот человек, она не ответила. Отвела глаза в сторону и промолчала. Так они дошли до развилки – ей надо было к Гехиномской долине, а ему к Давидовым воротам, – и он снова спросил напрямик, какое же тот проповедовал учение, во что она верит, хоть это не его, Вараввы, забота. С минуту она стояла потупившись, потом робко глянула на него и сказала, как всегда, неразборчиво:
– Надо любить друг друга.
И на том они расстались.
Варавва долго стоял и смотрел ей вслед.
* * *
Варавва даже сам удивлялся, почему он застрял в Иерусалиме, где делать ему нечего. Он слонялся по улицам без всякого проку. А ведь в горах, наверное, ждали его, не понимали, куда он подевался. Зачем он остался в городе? Варавва и сам не знал.
Толстуха сперва подумала, что это из-за нее, но скоро она поняла свою ошибку. Ей было немного обидно, но – господи! – мужчины, они все неблагодарные, их нельзя баловать, а она спала с ним каждую ночь, и ей это нравилось. Хорошо, когда рядом с тобой лежит настоящий мужчина, с которым приятно потешиться. А в Варавве что еще хорошо: пусть ему на тебя наплевать, но ему же на всех наплевать – это уж точно. Ему никто не нужен. И всегда так было. А в общем, ей даже нравилось, что ему на нее наплевать. Ну, то есть, когда они любились. После-то ей горько бывало, случалось всплакнуть. Да ведь и это неплохо. И даже сладко, если подумать. Толстуха имела большой опыт в любви и не презирала ее ни в каких видах.
Но почему он сшивался в Иерусалиме – этого она не могла взять в толк. И где он пропадал целыми днями, чем занимался? Ведь он не из тех лоботрясов, которым бы только шляться по улицам, он человек, привычный к жизни трудной, опасной. На него непохоже эдак болтаться без дела.
Нет, он стал на себя непохож с тех пор, как это случилось, – с тех пор, как его чуть не распяли. Будто все не свыкнется с тем, что его взяли да отпустили, – так сказала себе толстуха, лежа на припеке, сложив на толстом животе руки. И она расхохоталась.
Время от времени Варавва набредал на последователей того распятого равви. Никто бы не мог сказать про Варавву, будто он очень об этом старается, просто они попадались ему на торжищах, на улицах, и, когда он их встречал, он с удовольствием останавливался с ними поболтать, и он расспрашивал их про того распятого и про странное это учение, в котором он никак не мог разобраться. Любить друг друга?.. На дворцовую площадь он не ходил, и на соседние богатые улицы тоже, а бродил по закоулкам нижнего города, где ремесленники сидят и работают по своим лавчонкам да выкликают товар разносчики. Среди этих простых людей было много верующих, и они куда больше нравились Варавве, чем те, кого увидишь под колоннадой. Он кое-что узнал про странные их понятия, но не мог в них разобраться. Может, потому, что они очень глупо все объясняли.
Например, они свято верили, что их Учитель воскрес из мертвых и скоро объявится во главе небесного воинства и утвердит на земле свое царство. И все повторяли одно, видно, их так научили. Но вот в том, что он Сын Божий, не все они были убеждены. Некоторые считали, что как-то это странно: ведь они сами его видели, слышали, даже разговаривали с ним. А один даже сшил ему пару сандалий, и снимал мерку, и вообще. Нет, как-то не верится. А другие говорили, что все равно он Сын Божий и будет сидеть на облаке рядом с Отцом. Но сперва еще рухнет этот грешный, негожий мир.
Ну что за чудные люди?
Они замечали, что Варавва ни во что такое не верит, и относились к нему с опаской. Иные явно держались с ним начеку, и почти все давали понять, что не очень-то рады Варавве. Варавва к такому отношению привык, но, странно, сейчас оно его задевало, чего прежде с ним не случалось. Люди вечно давали ему понять, что он им не нужен, старались держаться от Вараввы подальше. Может, это из-за его внешности, может, из-за ножевой раны под глазом, никто ведь не знал, откуда она у него, может, это из-за глаз, которые так глубоко запали, что их никто не мог разглядеть. Варавва все это прекрасно знал, но какое ему дело, что про него думают люди: он просто не замечал их отношения.
До сих пор он не знал, что оно задевает его.
А этих всегда и во всем объединяла их общая вера, а того, кто к ней непричастен, они боялись и подпустить. У них было их братство и вечери любви, где они преломляли хлеб, будто одной большой семьей. Все это, видно, было как-то там связано с их учением, с этим их «любите друг друга». Но еще неизвестно, любили они кого-то, кто был не такой, как они, или нет.
Варавву ничуть не тянуло на их вечери любви, этого еще не хватало, даже подумать противно. Чтобы так связаться с кем-то одной веревочкой! Варавва всегда был сам по себе, и меняться он не желал.
Но почему-то он искал с ними встреч.
Он даже прикинулся, будто хочет вступить в их братство, ему бы, мол, только понять хорошенько их веру. Они отвечали, что будут рады ему, что постараются разъяснить ему слова своего Учителя, на самом же деле радости он не заметил. Очень странно. Им было совестно, но они ничуть не радовались его предложению, тому, что могут обзавестись новым единоверцем, – а они ведь так всегда этому радовались. Какая же тут причина? Но Варавва знал, какая причина. Вдруг он встал и большими шагами пошел прочь, и шрам у него под глазом побагровел.
Верить! Как мог он поверить в того, кого своими глазами видел распятым на кресте! В это тело, давным-давно мертвое и – он точно удостоверился – никак не воскресшее! Одно их пустое воображение! Все от начала и до конца – одно их воображение! Никто из мертвых не воскресал: ни их бесценный «Учитель», никто! И вообще! Варавва не отвечает за то, кого тогда выбрали! Это их дело, не его! Кого хотели, того и выбрали, просто так вышло. Сын Божий! Да какой он Сын Божий! А если бы и так, неужели бы он повис на кресте, не пожелай он этого сам? Выходит, он сам этого пожелал! Чудно и противно – сам пожелал страдать. Ведь если он правда Сын Божий, ему б легче легкого было от этого увернуться. А он не хотел. Он решил страдать и умереть этой жуткой смертью и не хотел увернуться, и так оно и вышло, он поставил на своем, его не отпустили. Он сделал так, чтобы отпустили Варавву. Взял и повелел: отпустите Варавву, а меня распните.
Хотя никакой он не Сын Божий, это же ясно...
Странно воспользовался он своей силой, очень даже странно, так, будто ею и не воспользовался, предоставил другим решать, как хотят, будто ни во что и не вмешивался, а сам поставил на своем: чтобы его распяли и отпустили Варавву.
Они вот болтают, будто он умер за них, вместо них. Что ж! Возможно. Но вместо Вараввы-то он умер уж точно, этого-то никто отрицать не будет! И выходит, Варавва ближе ему, чем они, чем все вообще, он совсем иначе с ним связан, и они еще не подпускают к себе Варавву! Он избран, можно сказать, – избран, чтоб не страдать, чтоб избавиться от мучений. Он и есть настоящий избранник, его отпустили вместо самого Сына Божия – тот сам таю пожелал, так повелел. Просто они ничего не знают!
А их «братство», и «вечери любви», и «любите друг друга» – это ему не нужно. Он сам по себе. И в своих отношениях с тем, кого они называют Сыном Божиим, с тем распятым, он тоже останется самим собой. Он не раб ему, вроде них. Сами пусть молятся и вздыхают.
Как это можно – хотеть страдать? Когда не надо, когда тебя никто не неволит? Даже представить себе нельзя, и тошно делается при одной мысли об этом. При мысли об этом ему снова виделось тощее, бедное тело, руки, на которых так трудно было висеть, и губы, такие иссохшие, что едва сумели выговорить слово «жажду». Нет, не нравился ему тот, кто сам нарывался на такие страсти, кто по своей воле повис на кресте. Вовсе он ему не нравился! А эти обожали своего распятого, носились с его страданиями, с его жалкой смертью – или она не казалась им жалкой? Они именно смерть обожали. Варавве было противно, даже подумать тошно. И не нужно ему было их учение, и сами они не нужны, и тот, в кого они верили, если их послушать.
Нет, он-то, Варавва, смерть не любил. Он ненавидел ее, он вообще не хотел умирать. Может, потому так и вышло? Может, потому именно он и был избран – избавлен от смерти? Если распятый действительно Сын Божий, значит, он всеведущий, и тогда он прекрасно знал, что Варавва не хотел умирать – ни страдать, ни умирать. Вот он и умер вместо Вараввы! А Варавве пришлось только проводить его на Голгофу и посмотреть, как его распинают. Больше ничего от него не требовалось, но и это для него было слишком, он ведь так ненавидел смерть и все, что с ней связано.
Да, он-то и есть тот человек, за которого умер Сын Божий! О нем, и ни о ком другом, было сказано: отпустите его, а меня распните!
Так думал Варавва, пока он шел прочь от них после того, как попробовал с ними соединиться. Пока он большими шагами шел из лавки в переулке Горшечников, где ему так ясно дали понять, что они не рады ему.
И он решил больше к ним не ходить.
Но когда назавтра он все-таки к ним пришел, они спросили, что для него непонятно в их вере, и ясно показали, что жалеют о вчерашнем, корят себя за оказанный ему холодный прием и готовы наставить и просветить его, раз он горячо к этому стремится. Так о чем он хотел спросить? Чего он не понял?
Варавва решил было просто пожать плечами и ответить, что не понял он ровным счетом ничего и, в общем, не очень об этом печалится. Но потом сказал, что вот, например, такая вещь, как воскресение, не укладывается у него в голове. Он не верит, что кто-то мог воскреснуть из мертвых.
Они подняли глаза от своих кругов, посмотрели на Варавву, потом друг на друга. Потом они пошептались, и старший из них спросил, не желает ли Варавва взглянуть на человека, которого Учитель воскресил из мертвых? Если угодно, они отведут к нему Варавву, но только вечером, после работы, потому что тот живет не в самом Иерусалиме.
Варавва испугался. Такого он не ждал. Он-то думал, они начнут рассуждать, излагать свои понятия, не будут навязывать ему такие грубые доказательства. Конечно, он понимал, что все это одно их воображение, благочестивый обман, что тот человек просто-напросто не умирал. И все-таки он испугался. Варавве ничуть не хотелось видеть того человека. Но не мог же он взять и все это выложить. Пришлось ему притвориться, будто он очень им благодарен и рад случаю убедиться в могуществе их Господа и Учителя.
Дожидаясь вечера, он бродил по улицам и час от часу сильней волновался. К концу дня он снова пошел в гончарню, и один юноша повел его за городские ворота, на Масличную гору.
Тот, к кому шли они, жил на краю небольшого селения на склоне горы. Когда молодой горшечник отодвинул соломенную завесу на двери, они увидели, что хозяин сидит боком к ним, за столом, положив на него руки и глядя прямо перед собой. Он, кажется, их не заметил, покуда юноша звонким голосом не поздоровался с ним. Тогда он медленно поворотил лицо к двери и поздоровался в ответ странно беззвучным голосом. Юноша передал ему привет от братьев в переулке Горшечников и объяснил, для чего они здесь, и он знаком предложил им сесть за стол.
Варавва сел напротив и стал разглядывать его лицо. Оно было желтое и с виду твердое, как костяное. Кожа совсем иссохла. Никогда не думал Варавва, что может быть такое лицо, и никогда еще и ни в чем он не видел такой покинутости. Лицо было как пустыня.
На вопрос юноши хозяин отвечал, что да, он умер, а потом его вернул к жизни равви из Галилеи, их Учитель. Четыре дня и четыре ночи пролежал он в гробу, и вот у него то же тело и та же душа, что прежде, он ничуть не переменился. И Учитель явил свою силу и славу и доказал, что он истинно Сын Божий.
Говорил он медленно, без выражения и все время смотрел на Варавву бледным, потухшим взглядом.
Потом они еще немного поговорили про Учителя и великие его дела. Варавва в разговор не вмешивался. Потом юноша пошел навестить мать и отца, которые жили в том же селении, и оставил их одних.
Варавва вовсе не хотел оставаться один с этим человеком. Но не мог же он взять и уйти, он не находил никакого предлога. А тот все смотрел на Варавву своим странным тусклым взглядом, который не выражал ровным счетом ничего, тем более интереса к Варавве, и все же непонятно его притягивал. Варавве хотелось уйти, вырваться и убежать, но он не мог убежать.
Сначала хозяин сидел молча, а потом он спросил Варавву, верит ли он в их равви, в то, что он – Сын Божий. Варавва помялся, а потом ответил «нет», потому что странно было лгать этому пустому взгляду, которому и неважно вовсе, лжешь ты или нет. Хозяин не обиделся, только кивнул и сказал:
– Да, многие не верят. Мать его вчера приходила – та тоже не верит. Но меня он воскресил из мертвых, чтобы я свидетельствовал о нем.
Варавва сказал, мол, ясное дело, тут уж как не поверить, и, ясное дело, теперь ему надо вечно благодарить за то, что над ним сотворили такое великое чудо.
Тот отвечал на это Варавве, что каждый день благодарит за то, что его возвратили к жизни, за то, что ему больше не надо быть в царстве мертвых.
– Царство мертвых? – выпалил Варавва и сам заметил, как чуть-чуть дрогнул у него голос. – Царство мертвых?.. Какое оно? Ты же там был! Расскажи!
– Какое оно? – отозвался тот и посмотрел на Варавву с недоумением. Ясно было, что суть вопроса непонятна ему.
– Да! Что там было? Что ты испытал?
– Я не испытал ничего, – отвечал тот неохотно, будто недовольный настойчивостью Вараввы. – Я был мертв. А смерть – это ничто.
– Ничто?
– Да. И чем же еще ей быть?
Варавва смотрел на него не отрываясь.
– Значит, ты хочешь, чтобы я тебе рассказал о царстве мертвых? Я не могу о нем рассказать. Царство мертвых – это ничто. Оно есть, но оно – ничто.
Варавва только смотрел на него не отрываясь, и покинутое лицо пугало его, но он не мог отвести от него глаз.
– Да, – сказал тот, глядя пустым взглядом мимо Вараввы, – царство мертвых – ничто. Но для того, кто там побывал, и все остальное – ничто. Странно, что ты о нем спрашиваешь, – продолжал он. – Другие не спрашивали.
И он рассказал, что братья в Иерусалиме часто посылали сюда людей, чтобы он обратил их, и многие обращались. Так служил он Учителю и выплачивал неоплатный долг ему за то, что возвратил его к жизни. Чуть не каждый день этот ли юноша или другой приводили к нему кого-нибудь, и он свидетельствовал о своем воскресении. Но про царство мертвых не говорил. Никто никогда не спрашивал у него про царство мертвых.
Стало темнеть в комнате. Он поднялся и зажег масло в светильнике, свисавшем с низкого потолка. Потом он принес хлеб и соль и поставил их на стол, преломил хлеб и протянул часть Варавве, а свою обмакнул в соль, приглашая Варавву сделать то же. Пришлось Варавве послушаться, хоть рука у него дрожала. Так они молча сидели и ели вместе в тусклом свете лампы.
Этот человек не побрезговал справить вечерю любви с Вараввой! Не то что братья в переулке Горшечников! Он-то не делает такого большого различия между людьми! Но когда сухие, желтые пальцы протянули Варавве преломленный хлеб и пришлось его есть, Варавве показалось, будто он жует мертвечину.
И почему, почему он стал есть вместе с Вараввой? Какой тайный смысл скрывался за этой вечерей?
Когда она кончилась, хозяин проводил Варавву до двери и отпустил с миром. Варавва пробормотал что-то в ответ и поскорее ушел во тьму. Он шагал в сторону города, вниз по склону, большими шагами, а неотвязные мысли теснились у него в голове.
Толстуха удивилась и обрадовалась тому, как жадно взял ее в тот вечер Варавва. Он был в тот вечер просто горяч. Она не могла понять, отчего бы, но сегодня его правда надо было утешить. А кому, как не ей, утешить Варавву? И грезилось ей, что она опять молодая и кто-то любит ее.
На другой день он старался держаться подальше от нижнего города, от переулка Горшечников, но один из них увидел Варавву под колоннадой Соломоновой и тут же спросил, как было вчера. Ну, что, разве ему сказали неправду? Он отвечал, что да, человек тот был мертв и потом воскрес, в этом нет никакого сомнения. Но лично он, Варавва, не понимает, зачем их Учителю понадобилось его воскрешать. Горшечник остолбенел, лицо у него стало серое от такого оскорбления их Господу, но Варавва от него отвернулся, и тому оставалось только уйти.
Наверное, об этом проведали не только в переулке Горшечников, но и у маслобойщиков, кожевников, ткачей и во всех других переулках, потому что, когда Варавва потом снова туда пришел, он заметил, что те верующие, с которыми он всегда разговаривал, вдруг переменились. Отмалчивались, подозрительно, искоса на него поглядывали. Близкой дружбы они с ним никогда не водили, но тут уж открыто показывали свое недоверие. А один сухонький старичок, которого Варавва и не знал вовсе, налетел на него и начал спрашивать, зачем он, Варавва, к ним повадился, и чего ему от них надо, и не подослала ли его дворцовая стража, или стража первосвященника, или саддукеи? Варавва не мог ничего ответить и смотрел на лысого старика, а лысина у того побагровела от злости. Варавва его отродясь не видывал и знать не знал, кто он такой, и только по синей и красной пряже, продетой в мочки ушей, догадался, что он красильщик.
Варавва понял, что они разобиделись и отношение к нему стало другое. На всех лицах он видел теперь холод, вражду, а иные буравили его взглядом, ясно показывая, что хотят вывести его на чистую воду. Но Варавва прикидывался, будто не замечает.
И вот наконец – случилось. Весть, как лесной пожар, понеслась по всем переулкам, где жили верующие, и вдруг ни единого не осталось, кто бы не знал: это он! Он! Кого отпустили вместо Учителя! Вместо Спасителя, Сына Божия! Это Варавва! Варавва – отпущенник!
Его преследовали злые взгляды, ненавистью горели глаза. Буря не улеглась и тогда, когда он совсем перестал к ним ходить.
– Варавва-отпущенник! Варавва-отпущенник!
* * *
И вот он замкнулся в себе, ни с кем не видался. Да он и не выходил никуда, лежал у толстухи за занавеской либо на кровле, в шалаше, если в доме чересчур шумели. Целые дни он проводил так, ни за что не принимаясь. Даже поесть забывал; если не поставить перед ним еду, не сказать, так и не ел бы совсем. Он ничего не видел кругом.
Толстуха ломала голову, что это с ним стряслось, она ничего не понимала. А спросить боялась. Пришлось ей оставить его в покое, раз уж ему так хочется. Скажешь ему что-нибудь – не ответит. И как ни заглянешь за занавеску – вечно он там лежит и глядит в потолок. Толстуха ломала голову. Рехнулся он, что ли? Рассудком ослаб? Нет, ничего не понимала толстуха.
И вдруг до нее дошло. Это когда она узнала от людей, что он якшался с умалишенными, которые верили в того малого, кого распяли тогда, когда Варавву самого распять хотели! Тут уж она смекнула! Ясно, потому он и стал такой! Теперь все понятно! Это они его заморочили! Всякой чушью голову ему забивали! Каждый спятит, коли с этими недоумками поведется! Они верили, что этот их распятый – спаситель, что ли, какой-то или чего-то еще, и будто бы он им поможет и даст им все, чего ни попросят, и будто он станет царем в Иерусалиме, а безбородую сволочь повыгонит, и еще там разное всякое, толком она не знала, чему они учат, да и знать не хотела, но что они блажные – любому известно. Ах, боже ты мой, да зачем бы ему с ними связываться? Для какой такой надобности? Ну да! Теперь ей все понятно! Его самого хотели распять, а потом не распяли, распяли этого их спасителя, и ведь это же страсть-то какая, пришлось им все объяснять, что так, мол, и так, что, мол, не он виноват, ну, а те ему, видно, свое, какой расчудесный их малый, в кого они верят, невинный и чистый, да еще, мол, он важная птица, и, дескать, с таким великим царем, ихним господом, нельзя было так обращаться, – словом, забили Варавве голову своей ахинеей, ну он и помешался из-за того, что не умер, что умер тогда не он. Ясно же, ясно, как оно получилось!
Ну да, значит, это он из-за того, что его не распяли! Вот дурень! Ай Варавва, смех, да и только! Живот надорвешь. Все из-за этого, ясное дело!
Но поди, уж хватит ему. Пора бы и за ум взяться. Ей бы с ним толком поговорить. Что это с ним? Что, мол, за притча?
Но ей не удалось с ним поговорить. Она и хотела, да ничего у нее не вышло. Разве Варавва станет о себе говорить? Нет, с таким разговором к нему не подступишься.
Так что все осталось по-прежнему, она ходила вокруг него и гадала, что с ним такое. Уж не захворал ли? Правда, может, захворал? Он совсем исхудал, и шрам от ножа Елиаху только и розовел на белом, тощем лице. С виду он стал жалкий какой-то, на себя непохож. Он и вообще стал на себя непохож. Болтаться без дела, лежать и смотреть в потолок! И это Варавва! Такой человек, как Варавва!
А вдруг его подменили? Может, это уже и не он, может, в него вселился кто-то, чей-то дух? Пожалуй, что так! Дух того, другого? Кого распяли? И ясно, тот не желает Варавве добра. Может, этот «спаситель», когда испускал дух, взял и вдохнул его в Варавву, чтоб самому не умереть и отомстить за обиду, какую ему причинили, отомстить отпущенному? Ведь могло быть и так! И если подумать – Варавва с тех пор-то и стал чудной, она же помнит, какой он явился к ней, сразу как его отпустили. Да, видно, так оно и было, все ясно. Вот только трудновато понять, как это равви ухитрился вдохнуть свой дух в Варавву, ведь он его испускал на Голгофе, а Вараввы там не было. Но если уж он такой сильный, как про него рассказывают, ему ничего не стоит куда угодно попасть невидимкой. Он со своей этой силой на что угодно способен.
Интересно, сам-то Варавва знал, что с ним приключилось? Что в него вселился чужой дух? Что сам он мертвый, а живет в нем распятый? Знал он или не знал?
Может, и не догадывался, но от этого ему было не легче, сразу видно. Оно и понятно: чужой дух есть чужой дух, и он не желал Варавве добра.
Она жалела его, даже глядеть на него не могла, до того жалела. Он тоже на нее не глядел, но просто потому, что ему не хотелось. Не нужна она ему стала, ничуть не нужна, вот он на нее и не глядел. И уже никогда не хотел он ее ночами – вот что хуже всего. А она, дура, прикипела к нему, бедолаге. Ночами она лежала и плакала, и теперь ей от этого вовсе не было сладко. Чудно... Вот уж не думала не гадала, что с ней опять случится такое.
Как его снова приворожить? Как выгнать распятого и сделать Варавву прежним Вараввой? Она не имела понятия, как изгоняют духов. Она ничего про это не знала, а ведь этот дух был опасный и сильный, сразу видно, она его даже побаивалась, хоть была не робкого десятка. Сразу видно по Варавве, какой это сильный дух, если сумел скрутить большого, здорового парня, который вот только что был живехонек. И как это он? Эдакого будешь побаиваться. Ясно, раз это дух распятого, у него особая сила.
Ну, она не то чтоб уж очень его боялась. Но распятые ей не нужны. Покорно благодарим. У нее большое и, грех жаловаться, полное тело, и ей подходит Варавва. Настоящий Варавва. Какой он был, пока не забрал себе в голову, будто это его надо было распять. А вот она, например, рада-радешенька, что его не распяли, что его отпустили!
Так думала толстуха в своей одинокой тоске. Но потом она вдруг подумала, что совсем не знает Варавву. Не знает, что с ним сделалось, вселился в него дух распятого или нет. Ничегошеньки. Знает только, что она ему не нужна, а ее угораздило в него влюбиться. И как подумала про это, она всплакнула и поняла, что она разнесчастная женщина.
Варавва за то время, что жил у нее, несколько раз наведывался в город. И один раз приключилось с ним вот что.
Он зашел в домишко – низкую лачугу с дырами для света прямо в кровле и с резким запахом кож и кислот, наверно, то была кожевня, хоть стояла она не на улице Кожевников, а на склоне холма, сбегавшем от храма к долине Кедрона. Здесь, верно, прежде выделывали кожи жертвенных животных, закланных в храме. Сейчас кожевню, видно, забросили, корыта и чаны вдоль стен были пусты, хотя запахи все сохранились. На полу валялось корье, всяческие отбросы и нечистоты.
Варавва незаметно скользнул внутрь и устроился в уголке у самого входа. И, присев там на корточки, оглядел комнату, куда набились молящиеся. Он разглядел не многих, видны были, в общем, только те, на кого падали лучи света, пробивавшиеся сквозь дыры в кровле; но, наверное, молились повсюду, и в полутьме тоже, и оттуда шло бормотание. Где-нибудь оно вдруг становилось громче, громче, а потом снова стихало и тонуло в общем гуле. А то вдруг все вместе повышали голоса, приходили в исступление, и кто-то вставал с колен и начинал горячо свидетельствовать о воскресшем Спасителе. Остальные тогда разом стихали и, оборотясь к говорящему, словно ждали, чтобы на них снизошла его сила. Когда он кончал свою речь, все вновь принимались молиться еще горячее прежнего. Лиц этих свидетелей Варавва не мог разглядеть, и только раз, когда свидетель поднялся совсем рядом, Варавва увидел, что лицо у него мокро от пота. Казалось, он забыл обо всем на свете, и по впалым щекам у него катился пот. Он был уже в годах. Он говорил, говорил, а потом вдруг отбил поклон на земляном полу, коснувшись его лбом, как всегда и все делают, когда молятся. Будто спохватился наконец, что есть ведь еще и Бог, а не только тот, распятый, о ком он твердил все время.
После этого в дальнем углу раздался голос, который показался Варавве знакомым. И, посмотрев в ту сторону, он увидел в луче света рыжебородого верзилу из Галилеи. Говорил тот спокойней других, и на своем галилейском наречии, каким можно насмешить любого в Иерусалиме. И все равно его слушали куда внимательней, чем всех остальных, ловили каждое слово – хоть ничего он такого особенного не говорил. Сперва немного потолковал о своем «драгоценном» Учителе, иначе его и не называл. Потом напомнил, как Учитель сказал, что всякого, верующего в него, будут гнать и поносить имени его ради. И чтоб все они терпели свои страдания и помнили, что претерпел сам Учитель. Конечно, они всего лишь слабые, жалкие люди, не то что он, но им надо стараться сносить испытания, не отрекаясь от него, не изменяя своей вере. И больше ничего он не говорил. И говорил-то будто сам себе, а не им. Когда он кончил, собравшиеся даже будто разочаровались. Он небось это заметил и сказал, что сейчас он прочтет им молитву, которой его научил сам Учитель. Так и сделал, и, пока он ее читал, они, кажется, были очень довольны, а многие вовсе расчувствовались. Все пришли в какой-то восторг. Вот он кончил, и те, что стояли близко к Варавве, повернулись к нему, будто сейчас целовать начнут, и тут-то он их узнал – это они кричали тогда: «Прочь отсюда, нечестивец!»
Потом еще двое свидетельствовали, и так исполнились духа, что все забылись, даже качались из стороны в сторону. Варавва следил за ними из угла своим зорким глазом.
И он вздрогнул. В одном из лучей он увидел девушку с заячьей губой, она стояла, прижав руки к плоской груди и обратив бледное лицо к свету. Он не видел ее с тех пор, как они расстались тогда у гроба, и она еще больше исхудала, стала совсем жалкая, щеки запали от голода, а тело было едва прикрыто лохмотьями. Все с удивлением ее разглядывали, видно, никто тут ее не знал. Видно, она показалась им странной, хоть они и не понимали, в чем тут суть – разве что в этих лохмотьях, – и они с недоумением ждали, что же она им скажет.
Зачем она-то полезла свидетельствовать? Что надумала? Варавва так и ахнул в душе. Неужели же ей непонятно, что не ее это дело? Очень на нее разозлился Варавва, хоть, в общем, все это его не касалось. И зачем ей свидетельствовать?
Кажется, она и сама была не рада: прикрыла глаза, будто не хочет никого вокруг видеть и мечтает только, чтобы все поскорей кончилось. Так зачем же тогда? Никто же ее не неволил!
И вот она начала. Прогнусавила о своей вере в Господа и Спасителя, но, кажется, никого она не растрогала. Наоборот. Говорила она еще нелепей и неразборчивей, чем обычно, потому что не привыкла, чтоб ее слушало сразу столько народу, и, конечно, конфузилась. А они ясно показывали, что им не по себе, что они не знают, куда глаза девать от стыда, а иные даже просто отворачивались. Наконец она что-то промямлила, вроде: «Господи, вот я и свидетельствовала о тебе, как ты повелел». И снова скорчилась на земляном полу, стараясь привлекать к себе как можно меньше внимания.
Все смущенно переглядывались. Она будто насмеялась над ними. А вдруг и правда! Может, так оно и есть! Всем, кажется, захотелось поскорей разойтись в разные стороны. Один из главных, из тех, кто говорил: «Прочь отсюда, нечестивец», поднялся и объявил, что пора расставаться. И прибавил, что всем, должно быть, понятно, отчего они собрались здесь, а не в городе, и что в следующий раз они соберутся в другом месте, никому еще покуда не ведомо где. Но Господь уж, верно, отыщет для них прибежище, где их не коснется зло мирское, он не оставит свое стадо, он пастырь добрый, и...
Дальше Варавва слушать не стал. Он выскользнул наружу прежде остальных, он хотел поскорей убраться от всего этого подальше.
Ему было тошно.
* * *
Когда начались гонения, слепой старик, опираясь на руку того юноши, который всегда задыхался, пошел к гонителям в синедрионе и сказал:
– Одна женщина у Навозных ворот распускает ересь о каком-то спасителе, который якобы явится и изменит весь мир. Все, что ни есть, дескать, погибнет, и начнется новая, лучшая жизнь, где будет исполняться одна его воля. Не следует ли и эту женщину побить камнями?
Гонитель, человек осмотрительный, попросил слепого объясниться подробнее. На чем, собственно, основано его обвинение? И прежде всего – что это еще за спаситель? Слепой отвечал, что все тот же, за веру в которого побивают камнями, так что справедливости ради надо бы побить и ее. Он своими ушами слышал, как она говорила, будто ее Господь спасет всех, даже прокаженных. Мол, исцелит их, и они очистятся, станут не хуже других. Но что же это получится? Прокаженные будут бродить, где им вздумается, и, наверное, без бубенцов, и как же их тогда разберешь, особенно если ты, к примеру, слепой? Ну можно ли распускать подобную ересь?
Рядом, во тьме, слышал слепой, муж совета почесал бороду и потом спросил, верит ли кто-нибудь этим ее посулам?
– Есть такие, – отвечал он, – сброд у Навозных ворот чему хочешь поверит. А прокаженные, ясное дело, те всех больше обрадовались. Вдобавок она с ними якшается, много раз, говорят, к ним в ограду ходила, хороводится с ними, бесстыдница. Может, даже блудит с ними, кто ж ее знает. Сам-то я не знаю. Но слыхал я, будто и не девица она. И говорят, младенчика своего уморила. Сам-то я не знаю. Слышу только, что говорят люди. Уши-то у меня на месте, это глаз у меня нет, я слепой. А это большая беда, господин хороший. Большая беда – быть слепым вроде меня.
Муж совета спросил, много ли она этому «спасителю», как она его называет, а верней бы сказать – распятому, приобрела поклонников?
– Много. Всем исцелиться хочется, а он всех исцелит, она обещает, увечных, бесноватых, слепых. Так что никаких скорбей на земле не останется ни у Навозных ворот, нигде. Но сейчас уже на нее обижаться начали, что он все не идет. Она давно обещала, а он не идет и не идет, ну и надоело им, смеются над ней, ругаются, оно и понятно, и нечего хныкать ночами и людям сон разбивать. Одни прокаженные еще надеются, и диво ли – сколько она им наговорила. Сулит им, будто бы их до храма допустят, разрешат войти в дом Господень.
– Это прокаженным!
– Да.
– Да как же она могла такое наплесть?
– Она ж не сама, мол, это им обещает, а ее Господь, а он так могуч, что может что угодно пообещать, что угодно переменить. Он вершит всем, потому что он Сын Божий.
– Сын Божий!
– Да.
– Сын Божий? Так она и говорит?
– Да, а ведь это кощунство, все же знают: его распяли, чего же еще, и, кто судил его, соображали небось, что они делали?
– Я сам был в числе судивших.
– Ну, выходит, ты лучше моего разбираешься, кто он есть.
На время стало тихо, и слепой только слышал опять, как чешет себе бороду тот, во тьме. А потом голос сказал, что женщину надобно призвать в судилище, пусть ответит за свою веру и защитит ее, если сумеет. Старик поблагодарил, попятился, смиренно кланяясь, и стал нашаривать по стене дверь, в которую он вошел. Чтоб помочь ему, член совета послал за слугой, а покуда они ждали, для порядка спросил у слепого, нет ли у него на ту женщину зла.
– Зла на нее? Да за что? Я вообще зла на людей не имею. За что? Я и не видел их никого. Ни единой души не видел.
Слуга вывел его на улицу, а у дверей его дожидался тот юноша, который всегда задыхался, слепой схватил его за руку, и вместе они отправились восвояси.
Заячьей Губе вынесли приговор и повели ее к яме, где побивали камнями осужденных, а эта яма была немного к югу от города. Следом шла орущая толпа и один из начальников храмовой стражи со своими людьми; были они голые по пояс, бороды и волосы заплетены в косы, а в руках они держали бичи воловьей кожи с железными наконечниками – они поддерживали порядок. Когда дошли до места, разгоряченная толпа обступила яму, а стражник повел девушку вниз. Вся яма была завалена камнями, и там, внизу, они были темны от старой, черной крови.
Начальник стражи велел всем молчать, и глашатай первосвященника прокричал приговор и причины его и добавил, что тот, кто обвинил, должен первым бросить камень. Потом слепого подвели к краю и растолковали ему, что надо делать. Но он про это и слушать не хотел.
– Зачем мне кидать в нее камень? Какое мне до нее дело? Да я и не видел ее никогда!
Но когда ему наконец внушили, что таков порядок и от него никуда не денешься, он пробормотал хмуро:
– Ну что ж.
В руку ему вложили камень, и он бросил его во тьму. Снова попробовал – и снова без толку, ведь он понятия не имел, где его цель, он просто бросал камни во тьму, а тьма повсюду была одинаковая. Варавва, который стоял с ним рядом и до сих пор не спускал глаз с той, внизу, теперь заметил, как кто-то подоспел к слепому на выручку. У человека этого было суровое, старое, высохшее лицо и на лбу заповеди завета, зашитые в кожаные мешочки. Книжник, наверное. Он навел руку слепого на цель, чтобы казнь продолжалась. Но опять ничего не вышло. Камни пролетали мимо. Приговоренная стояла внизу, широко раскрыв сияющие глаза, и ждала, что будет.
Праведный муж наконец потерял терпение, он наклонился, поднял большой острый камень и изо всех своих старческих сил запустил им в девушку. Он сразу попал очень точно, она пошатнулась и как-то беспомощно вскинула тощие руки. Толпа взревела восторженно, а праведник, наклонясь вперед, смотрел на свою работу, видимо очень довольный. Варавва сделал к нему шажок, слегка приподнял на нем плащ и всадил нож ловкой, привычной рукой. Все случилось так быстро, что никто ничего не заметил. Им было не до того: они целились в жертву, швыряли камни.
Варавва протолкался к краю и увидел, как Заячья Губа внизу, шатаясь, прошла немного вперед, распростерла руки и крикнула:
– Он пришел! Пришел!.. Я вижу! Вижу его! – Потом она рухнула на колени, она будто схватилась за чью-то полу, прогнусавила: – Господи, как же мне свидетельствовать о тебе? Прости меня. Господи, и помилуй...
Рухнула на окровавленные камни и испустила дух.
Когда все кончилось, те, кто стоял поближе, увидели, что один человек лежит мертвый, другой же пробежал виноградниками и скрылся в оливковой роще, что вела к долине Кедрона. Стражники кинулись за ним следом, искали, но не нашли. Будто земля поглотила его.
* * *
Когда настала ночь, Варавва вернулся к яме и спустился в нее. Он ничего не видел в потемках и пробирался ощупью. В самом низу он нашел ее растерзанное тело, почти погребенное под камнями, которые еще долго швыряли в нее, уже мертвую. Она была такая маленькая и легкая, что почти не отягчала ему руку, пока он нес ее по круче и дальше, во тьму.
Час за часом нес ее Варавва. Время от времени останавливался и садился отдохнуть, положив мертвую рядом с собою во тьме. Потом облака рассеялись, вызвездило, а скоро взошла луна, и стало все видно. Он сидел и смотрел на ее лицо, которое, странное дело, почти не было повреждено. И бледней оно не стало, чем при жизни, куда уж бледней. Совсем прозрачное. И шрам над верхней губой стал такой незаметный, будто и неважно вовсе, есть у нее шрам или нет. Да оно и было неважно – теперь-то.
Он вспомнил, как он тогда сообразил ей сказать, будто любит ее. И как он ее взял – нет, про это лучше не думать... Но когда он сказал ей, что любит, – сказал для того, чтобы не выдала и чтобы слушалась, – как тогда у нее просветлело лицо!
Не привыкла слышать такое... Он просто осчастливил ее тогда, а ведь она небось догадалась, что это вранье. Или не догадалась? Так ли, нет ли, а своего он добился: она прибегала к нему каждый день, носила еду – хватало, чтоб не умереть с голоду, – ну и сама она с ним ложилась, чаще даже, чем было нужно ему, и он ее брал, потому что рядом не было женщины, брал, хоть его корежило от ее гнусавого голоса и он просил, чтоб она говорила поменьше. Ну, и когда нога зажила, он, конечно, ушел. А как же еще?
Он оглядел пустыню, расстилавшуюся перед ним, покинутую и мертвую в мертвом лунном свете. Во все стороны тянулась она такая, он знал это. Он знал пустыню, он, не глядя, всю ее видел.
«Любите друг друга»...
Он снова всмотрелся в ее лицо. Потом поднял ее и опять пошел в гору.
Он шел верблюжьей и овечьей тропой через пустыню Иудейскую к земле Моавитской. Тропа была почти не видна, но помет животных, а то их скелеты, обглоданные шакалами, обозначали ее повороты. Так шел он полночи, и вот тропа побежала вниз, и он знал, что теперь уже близко. Он пробрался по узким ущельям и вышел словно в другую пустыню, еще покинутой и мрачней. Здесь продолжалась тропа, но Варавва присел отдохнуть, он измучился тяжким спуском. Да он и почти добрался.
Еще удастся ли ему найти или придется просить старика? Варавве не хотелось идти к старику, лучше бы обойтись без него. Старику небось непонятно будет, зачем Варавва ее принес. Да и самому Варавве разве понятно? Какой в этом прок? Но тут ее дом, он подумал. Если где-то есть у нее вообще дом... Ни за что бы ее не упокоил Галгал, и в Иерусалиме бы бросили ее псам. А это нехорошо. Хотя – не все ли равно? Какая разница? Ну, принес он ее сюда, где она жила, где ее гнали и где ляжет она в тот же гроб, в котором лежит младенчик. Ей-то какая польза? Просто ему захотелось это для нее сделать. Нелегко это – порадовать мертвого.
И зачем ей понадобился Иерусалим? Зачем связалась с этими полоумными пустынниками, у которых одно на уме – грядет великий мессия, всем надо спешить в град божий? Слушалась бы лучше старика – и никогда бы с ней не случилось такого. Старик – тот не собирался сниматься с места, говорил: с него хватит, сколько раз уж он надеялся, и все зазря, уже многие выдавали себя за мессию. Почему же этот окажется истинным? А она – нет, сумасшедших послушалась.
И лежит – растерзанная, мертвая. Из-за него. А он – истинный?
Истинный, да? Спаситель мира? Спаситель рода человеческого? Так почему же ей-то он не помог? Допустил, чтоб ее из-за него побивали камнями? Раз он спаситель, почему же ее он не спас?
Ему это было легче легкого, если б он захотел. Но нет, ему подавай страдание, самому страдать и чтоб другие страдали. И еще ему надо, чтоб о нем свидетельствовали. «Вот я и свидетельствовала о тебе, как ты повелел»... «Восстал из царства мертвых, чтобы свидетельствовать о тебе»...
Нет, не по душе Варавве был этот распятый. Варавва его ненавидел. Это он ее убил. Сам потребовал от нее жертвы и следил за нею, чтобы не увернулась. Ведь он был даже там, в яме, она его видела, она шла к нему, тянула к нему руки, просила выручить, хватала его за полу – а он и пальцем не шевельнул, чтобы ей помочь. И это – Сын Божий! Любящий Сын Божий! Спаситель мира!
Сам-то Варавва хоть прикончил того, кто бросил в нее первый камень. Хоть это он сделал. Толку, в общем-то, мало. Камень уже пролетел, уже попал. Совсем никакого толку. Но все равно. Все равно Варавва его прикончил.
Он обтер ладонью свой кривой рот и про себя усмехнулся. Потом повел плечами и встал. Поднял свою ношу, раздраженно, будто уже от нее устал, и зашагал дальше.
Он миновал скит старика, он его тут же узнал, запомнил с того раза, когда набрел на него случайно. И он стал вспоминать, как они шли, когда старик вел его к гробу младенчика. Пещеры прокаженных были тогда у них слева, а полоумных пустынников – те впереди, только они туда не дошли. Да, он все вспомнил, хотя сейчас, в лунном свете, место выглядело по-другому. Вот здесь они спускались по склону, и старик еще рассказывал, что ребенок родился мертвый, потому что был проклят в материнской утробе, и он похоронил его сразу, ведь все, что рождается мертвым, нечисто. «Проклятие плоду во чреве твоем»... Мать – та прийти не могла, зато потом она часто у гроба сидела... Старик говорил, говорил...
Здесь, что ли? Кажется, здесь... Ага, вот он, этот камень...
Он отвалил камень и уложил ее рядом с иссохшим младенчиком. Уложил разбитое тело так, будто старался, чтобы ей было поудобней, и напоследок взглянул на лицо и на шрам над верхней губой; теперь это было неважно. Потом он снова придвинул камень, сел и оглядел пустыню. Пустыня, он думал, похожа на царство мертвых, а она уже там, он отнес ее туда. И где лежит человек после смерти – вовсе неважно, но она лежит рядом со своим иссохшим младенчиком, не где-то еще. Он сделал все для нее, что мог, подумал Варавва и косо усмехнулся, почесывая рыжую бороду.
«Любите друг друга»...
* * *
Когда он вернулся к своим, никто не узнавал в нем прежнего Варавву, так он переменился. Те двое, которые тогда были в Иерусалиме, рассказали, правда, что он стал странный какой-то, да и немудрено: его столько держали в застенке и чуть не распяли. Наверно, скоро пройдет. Но нет, не прошло, а давно уж пора бы. Непонятно, в чем тут причина, но он стал на себя непохож.
В общем-то, он всегда был чудной, никогда не поймешь, что он думает, что затевает, но сейчас дело другое, сейчас он стал им совсем как чужой и на них смотрел тоже, кажется, как на чужих, будто впервые видит. Объясняют ли они ему свои планы – он их не слушает и сам никогда слова не вставит. Будто ему все равно. Он, конечно, участвовал в набегах на караванные пути в долине Иордана, но как-то без интереса, и толку от него было немного. Если встречалась опасность, он от нее не то чтобы вовсе увертывался, но близко к тому. Может, тоже от безразличия, кто его знает. Ему будто ничего не хотелось. Один только раз, когда грабили обоз с десятиной для первосвященника, собранной с жителей Иерихона, он вдруг осатанел от ярости, изрубил обоих из храмовой стражи, которые охраняли этот обоз. Зачем – непонятно, те и не думали сопротивляться, сразу сдались, как увидели их перевес. А потом он еще надругался над трупами, и все решили, что это уж слишком. Они и сами ненавидели стражников, всю эту первосвященникову свору, но мертвые – достояние храма, а храм – достояние бога. Им стало чуть ли не страшно, что он так обошелся с мертвыми.
А вообще никогда не выказывал он охоты выполнить что-нибудь, как каждому из них подобало, будто бы их дела вовсе не касались его. Даже когда они напали на римских солдат на Иордане, у переправы, он и то не больно старался, – а ведь это они едва не распяли его, и остальные разъярились тогда не на шутку, всем до единого перерезали глотки и тела побросали в реку. Никто, конечно, не сомневался, что он ненавидит притеснителей народа господня ничуть не меньше других, но, если бы все повели себя с такой же прохладцей, им бы в ту ночь, конечно, несдобровать.
Непонятная перемена. Потому что если кто среди них и был настоящий храбрец, так это Варавва. Он замышлял, бывало, самые отчаянные набеги, и в деле всегда он был первым. Для него не было невозможного, все ему удавалось. Из-за его отваги и умной головы они во всем на него полагались и привыкли к тому, что планы Вараввы всегда приносят удачу. Он стал у них почти главарем, хоть они не признавали главарей и никто не любил Варавву. Может, из-за того все и вышло. Из-за того, что он был чудной и нравный, не такой, как они сами. Они так в нем и не разобрались, он остался для них чужим. Про себя они знали все, а вот про Варавву почти ничего и, странное дело, потому и надеялись на Варавву. Они даже побаивались его и из-за того еще больше втайне на него надеялись. Хотя нет, конечно, все вышло из-за его храбрости, и ума, и успеха во всем, что он затевал.
Ну а теперь – кому нужен главарь, которому вовсе не хочется верховодить и вообще не хочется ничего? Которому бы только сидеть у входа в пещеру, глазеть на долину Иордана и дальше, на море, называемое Мертвым? Который смотрит на тебя таким непонятным взглядом, что оторопь берет? Вечно молчит, а если заговорит с тобою, ты еще больше уверяешься, что он какой-то чудной. Будто мысли его далеко где-то. Даже тошно. Может, все потому, что он пробыл так долго в Иерусалиме, что его чуть не распяли? Да его как будто и вправду распяли, и уж потом, после этого, он вернулся к своим.
С ним было тошно. Они были сами не рады, что он здесь, что вернулся. Ему здесь было не место. В главари он стал вовсе негоден – а на что же еще годен Варавва? Выходит, он вообще ни на что не годен? Да, странное дело, выходит, что так!
Ведь если вспомнить хорошенько, он не всегда был тем, кто ведет и решает, тем отважным, безоглядным Вараввой, которому все нипочем – и опасность, и смерть. Он не был таким, пока Елиаху не оставил у него под глазом этот шрам. До того он вовсе не был таким уж храбрым, скорее даже наоборот. В общем-то, все это помнили. А тут вдруг он стал мужчиной. После того как Елиаху тогда коварно напал на него и, видно, хотел убить, и они схватились в отчаянной схватке, и Варавва сбросил могучего, страшного, но уже старого, отяжелевшего Елиаху в пропасть у входа в пещеру. Молодой был проворней, он был гибкий, и старый боец при всей своей силе не мог его одолеть, зря он это затеял. И зачем? За что он всегда ненавидел Варавву? Никто так и не понял. Но все знали, что он всегда ненавидел Варавву.
Тогда-то Варавва и сделался у них главарем. А до тех пор в нем не было ничего приметного. Он стал мужчиной только после того, как заработал свой шрам.
Так они говорили, говорили – шептались.
Но того не знали они, и никто не знал, что Елиаху, которого они так хорошо помнили, был Варавве отцом. Этого никто не знал, никто не мог знать. Мать его была моавитянка, ее захватили в плен, когда ограбили караван на пути к Иерихону, и все они вдоволь натешились ею, а потом ее продали в Иерусалим, в веселый дом. Когда же там заметили, что ей скоро родить, ее не захотели держать, и она разрешилась на улице, там ее и нашли мертвой. Никто не знал, от кого ребенок, и сама бы она не сказала, а сказала бы только, что прокляла его в утробе и исторгла, ненавидя небо и землю и Творца неба и земли.
Нет, никто ничего про это не знал. Ни те, кто шептались в пещере, ни сам Варавва, который сидел у входа, и заглядывал в пропасть, и смотрел на выжженные горы Моава и на бескрайное море, называемое Мертвым.
Варавва и не думал про Елиаху, хотя сидел на том самом месте, откуда сбросил его тогда. Невесть по какой причине, а вернее сказать, вовсе без всякой причины – он вспомнил про мать распятого Спасителя, про то, как она стояла и глядела на своего пригвожденного сына, на того, кого родила. Вспомнил Варавва ее глаза без слез, ее крестьянское, грубое лицо, не умевшее выразить ее скорби, или, может, она не хотела показывать свою скорбь при чужих? И еще он вспомнил ее корящий взор, который она бросила, проходя, на него, Варавву. Почему именно на него? Будто некого больше корить!
Он часто думал про Голгофу, про то, что тогда случилось. И про нее, мать того, другого...
Он смотрел и смотрел на горы по ту сторону Мертвого моря, как тьма падает на них, на землю Моавитскую.
* * *
Они ломали головы, как бы им от него избавиться. Мечтали освободиться от ненужной, досадной помехи, не видеть мрачного лица, которое наводит тоску, убивает всякую радость. Но как к этому приступиться? Вдруг взять и сказать, что он им больше не нужен, стал лишний, что ему лучше уйти? Кто ему такое выскажет? Никому особенно не хотелось. А честно признаться, никто не осмеливался. Так глубоко в них засел глупый, нелепый страх, или как там ты это ни назови.
И они продолжали шептаться о том, что он им надоел, что они не любят его, никогда не любили, может, это из-за него им изменила удача, вот недавно они потеряли двоих, да и какая уж тут удача – со смертником. Глухая, ярая неприязнь наполняла пещеру, и почти ненавистные взгляды устремлялись из полутьмы к тому, кто сидел и сидел одиноко над пропастью, будто обручник дурной судьбы. Как от него отделаться?
И вот однажды на рассвете он просто исчез. Его нигде не было. Сперва решили, что он повредился в уме и бросился с утеса или в него вселился злой дух и туда его толкнул. Может, это дух Елиаху так расквитался с ним? Обыскали дно в том месте, где когда-то подобрали разбитое тело Елиаху, но Вараввы там не нашли. И нигде вообще не нашли следов Вараввы. Он просто исчез.
Им сразу полегчало, и они вернулись в свое гнездо на крутой горе, уже раскаленной солнцем.
* * *
Дальше о судьбе Вараввы, о том, куда подевался он и как жил после, покуда был еще крепким мужем, никто ничего не знает с определенностью. Иные думают, что после исчезновения он удалился в пустыню, в пустыню Иудейскую либо Синайскую, и там предался одиноким раздумьям о мире Божием и человеческом. Другие, напротив, говорят, будто он ушел к самарянам, ненавидящим храм иерусалимский, и священство, и книжников, и что будто бы во время праздника пасхи у них на святой горе при заклании агнца видели, как он, преклонив колено, ожидает восхода над Гаризимом.
А кое-кто с точностью утверждает, что большую часть времени он просто-напросто был главарем разбойников на склонах Ливана, ближних к Сирии, и жестоко расправлялся и с иудеями, и с христианами, если те попадались к нему в руки.
И никто, как уже сказано, не знает точно, что тут правда, а что – нет. Но зато определенно известно, что уже на шестом десятке он, проведя несколько лет в медных рудниках, принадлежавших римскому наместнику в Пафосе, стал рабом у него же в доме. За что схватили его и приговорили работать в рудниках – а страшней наказания не придумать, – неизвестно. Но удивительно не то, что он туда попал, а то, что, побывав в этом аду, он вернулся к жизни, хоть и рабом. Тут, однако, замешаны особые обстоятельства.
Был он теперь морщинист и сед, но после всего, что выпало ему на долю, до странности хорошо сохранился. Он на диво скоро оправился и снова стал могуч, почти как в прежние времена. Выйдя из копей, он был похож скорее на мертвеца: тело иссохло и глазницы, без взгляда, пусты, как два иссякших колодца. Когда же глаза снова стали глядеть на белый свет, взгляд сделался еще тревожней, чем прежде, сторожкий, как у собаки, будто загнанный, но по временам в нем еще вспыхивала та ненависть, с какою мать прокляла все творение, когда рожала Варавву. И совсем незаметный уже шрам у него под глазом опять багровел, сбегая к седой бороде.
Не будь он сделан из такого прочного теста, ни за что бы ему не выжить. Тут ему следовало благодарить Елиаху и моавитянку, ведь это они подарили ему жизнь. А ведь оба не любили, оба ненавидели его. Да и друг друга они не любили. Вот как мало значит любовь. Но сам Варавва не знал, чем обязан он тем двоим, которые, ненавидя, обнимали друг друга.
Он попал в большой дом, где было много рабов. Среди них был высокий, неуклюжий, тощий армянин по имени Саак. Из-за своего роста он вечно сутулился. Глаза у него были большие, чуть навыкате и такие черные, распахнутые, горящие, что и он весь как будто горел. Из-за белых, коротких волос и словно выжженного лица казалось, что он старик, на самом же деле ему едва перевалило за сорок. Он тоже побывал в копях. Все годы провел он там вместе с Вараввой и вместе с Вараввой сумел оттуда выбраться. Однако оправиться он так и не смог. Изможденный, седой как лунь, он будто носил на себе вечную отметину каторги, и лицо его было как пепелище. Казалось, он испытал что-то такое, о чем и не ведал Варавва. Да так оно и было.
Других рабов очень занимали эти двое, выбравшиеся оттуда, откуда никто обычно не выходил живым, им бы хотелось послушать их рассказы. Но те молчали о своем прошлом. Вообще они держались особняком и между собой почти не разговаривали, и непонятно, что объединяло их. А они были неразлучны. Кажется странно. Но они усаживались рядом во время еды или отдыха, а по ночам ложились рядом на соломе, потому что в копях были скованы одной цепью.
Их сковали сразу же, как только доставили с материка. Рабов с самого начала сковывали по двое, и с тех пор эти двое всегда работали в шахте рядом. И уже нельзя было им разлучаться, и эти рабы-близнецы наизусть знали друг друга и доходили часто до бешеной ненависти. Случалось, они свирепо набрасывались друг на друга без всякой причины, лишь оттого, что их сковали вместе в аду.
Но эти двое, казалось, ладили и даже помогали друг другу выносить невзгоды. Нередко они вели разговоры и тем облегчали тяжелое бремя каторги. Варавва, понятно, был не очень-то разговорчив, но он внимательно слушал, что ему говорил другой. О себе они вначале не распространялись, оба молчали о своем, у каждого были тайны, которые не хочется поверять, и немало прошло времени, пока они кое-что друг о друге узнали. Однажды, скорее, случайно выяснилось, что Варавва еврей и родом из города, называемого Иерусалимом. Саак встрепенулся и тотчас засыпал его вопросами. Город этот, казалось, был ему хорошо знаком, хоть он никогда не бывал даже близко. Наконец он спросил у Вараввы, не знал ли тот о равви, который там жил и творил, о великом пророке, в которого многие верят. Варавва понял, о ком речь, и ответил, что да, он слыхал про такого. Саак стал расспрашивать дальше, но Варавва ответил уклончиво, что не знает почти ничего. Ну а видел он его своими глазами? Гм... в общем-то, видел. Саака, кажется, потрясло, что Варавва его видел. Потому что немного погодя он снова спросил, правда ли это. И Варавва снова ответил, нехотя, через силу, что да, он видел его.
Саак уронил кирку. Он стоял, глубоко задумавшись, стоял, ошеломленный тем, что выпало ему на долю. Все для него вдруг переменилось, он был едва в состоянии постичь эту новость. Шахта переменилась. Вдруг переменилось все. Он был скован одной цепью с тем, кто видел Бога.
Тут его огрел бич надсмотрщика, тот как раз проходил мимо. Саак согнулся под ударом, будто так можно его избежать, и стал рьяно орудовать киркой. Когда мучитель пошел наконец дальше, Саак обливался кровью и трясся всем своим длинным телом. К нему не сразу вернулся дар речи. Но лишь только он смог говорить, он спросил у Вараввы, когда ему привелось видеть равви и где. Наверное, в храме, в святилище? Не тогда ли, когда тот говорил про свое грядущее царство? Или в другой какой-нибудь раз? Сперва Варавва отмалчивался. Но потом он нехотя проговорил, что видел его на Голгофе.
– Голгофа? Что еще за Голгофа?
Варавва сказал, что это такое место, где распинают преступников.
Саак притих. Опустил глаза. Потом, очень тихо, он проговорил:
– Вот, значит, где...
Так впервые зашла у них речь о распятом равви, о котором они потом говорили так часто.
Саак хотел побольше услышать о нем, о святых словах, которые он говорил, о великих его чудесах. Он и сам знал, что его распяли, как же не знать. Хорошо бы Варавва рассказал ему и кое-что другое.
Голгофа... Голгофа... Странное, чужое имя, а ведь он давно про нее знал, сколько раз уже приходилось ему слушать о том, как Спаситель умирал на кресте и какие великие чудеса совершились тогда. Он спросил у Вараввы, видел ли тот завесу в храме после того, как она разодралась надвое. И гора ведь тоже треснула, он это видел, наверное, раз он сам там стоял?
Варавва отвечал, что, может, так все и было, но он ничего этого не заметил.
– И ведь мертвые вышли из гробов! Поднялись из царства мертвых, чтобы свидетельствовать о нем, о его силе и славе!
– Да... – сказал Варавва.
– И ведь всю землю объяла тьма, когда он испустил дух?
А-а, вот это Варавва видел. Тьму он видел.
Саака, кажется, просто осчастливил ответ Вараввы, хотя его угнетали мысли о страшном месте казни; он так и видел расколотую гору, а на ней крест, а на кресте – приносимого в жертву Сына Божия. Да, конечно. Спасителю надлежало страдать и умереть, так надлежало ему, чтобы нас спасти. Да, конечно, хоть понять это невозможно. Но Сааку отрадней представлять его во славе, в собственном его царстве, где все совсем иное, непохожее на здешнее. И лучше бы Варавва, скованный с ним одной цепью, увидел Спасителя где-то еще, не на Голгофе. И почему он именно там его видел?
– Как странно, – сказал он Варавве, – что ты увидел его именно там. И почему ты там оказался?
Но на это Варавва ему не ответил.
В другой раз Саак спросил, правда ли, что Варавва раньше, до того, никогда его не видел. Варавва ответил не сразу. Но потом он сказал, что был он и во дворе претории, когда осудили равви, и рассказал, как все было тогда. Рассказал про странное сияние, в котором увидел равви. Саак так обрадовался, услыхав про это сияние. И Варавве не захотелось объяснять, что все получилось из-за того, что он вышел тогда из застенка и его ослепило солнце. Зачем? Какой от этого прок Сааку? Кому вообще от этого прок? Вот он и не стал ничего объяснять и осчастливил Саака, и Саак просил еще и еще рассказывать про это чудо. Лицо у Саака сияло, счастье будто передавалось Варавве, они будто делили счастье. И всякий раз, как Саак просил Варавву, тот рассказывал о своем чудесном видении, и всякий раз будто снова видел тот давний и странный свет.
Прошло немного времени, и он поведал Сааку, что был свидетелем воскресения Учителя. Нет, он не видел, как тот воскрес. Никто этого не видел. Но он видел, что ангел слетел с неба, простерши руку, как копье, и одетый огнем, как ризою. И копье отвалило камень от гроба, оно вонзилось между камнем и скалой, рассекло их. И Варавва увидел, что гроб пуст...
Саак слушал не дыша, не сводя больших доверчивых глаз с Вараввы. Неужели? Неужели жалкий, грязный раб все это видел? Неужели при нем совершилось великое чудо, чудо из чудес? Да кто же он? И за что ему-то, Сааку, выпала эта милость: он скован одной цепью с человеком, который испытал такое, был так близок к Господу?
Он стал сам не свой от счастья при этом известии и понял, что пора и ему раскрыть свою тайну, уже невозможно скрываться. Он осторожно огляделся, удостоверился, что рядом – никого, и шепотом пообещал Варавве кое-что ему показать. А потом повел Варавву к светильнику на выступе каменной стены и в дрожащем пламени показал ему свою бирку раба, которую носил на шее. У всех рабов были такие бирки, и на них нарезано хозяйское тавро. Здесь, в копях, на бирках у всех было тавро Рима, они были государственные рабы. Но на бирке Саака, на оборотной стороне, оба различили странные, таинственные знаки, которых ни один из них не мог понять. Саак объяснил, что это имя распятого, Спасителя, Сына Божия. Варавва недоуменно разглядывал странные, будто колдовские, нарезки, но Саак шепнул, что значат они только одно: он, Саак, принадлежит Сыну Божию, он его раб. И он разрешил Варавве потрогать бирку. Варавва долго стоял и держал ее в руке.
Вдруг им показалось, что идет надсмотрщик. Нет, ошиблись, и снова оба склонились над странной надписью. И Саак поведал Варавве, что она у него от одного грека. Он был христианин и тоже раб, этот грек, и он рассказал ему про Спасителя, про его царство, которое скоро начнется, и научил его верить. Саак свел с ним знакомство у плавильных печей. Там никто не выдерживает больше года. Грек и года не выдержал, и, когда он испускал дух, Саак расслышал в палящем жару шепот: «Не оставь меня, Господи». А потом ему обрубили ноги, так легче снимать колоды, и тело швырнули в огонь – там всегда так поступают со всеми. Саак думал, и у него будет такая судьба, другого не ждал. Но скоро часть рабов, и Саака тоже, перевезли сюда, здесь понадобилось много рабов.
Ну вот, теперь Варавве известно, что он христианин, что он раб Божий, – так заключил Саак и доверчиво посмотрел на Варавву.
Несколько дней после этого Варавва был тих и задумчив. А потом спросил у Саака странно дрогнувшим голосом, не вырежет ли он ту же надпись и у него на бирке.
Саак с готовностью обещал постараться. Он, правда, не знает таинственных знаков, но ведь он может смотреть на свою бирку...
Они выждали, и, как только прошел надсмотрщик, Саак острым осколком камня при тусклом свете светильника стал старательно нацарапывать знаки. Нелегко было его непривычной руке воспроизводить непонятные очертания, но он очень старался, чтоб они выходили точно такие же. Много раз он прерывался: то подходил кто-то, то им это казалось, – но наконец надпись была закончена, и оба решили, что вышло очень хорошо. Оба молча смотрели каждый на свою нарезку, на таинственную надпись, которая была непонятна им, но, они знали, означала имя распятого и что они его рабы. А потом оба бросились на колени в горячей молитве своему Господу, Спасителю всех несчастных, Богу.
Надсмотрщик увидел их издали, они лежали прямо возле светильника и ничего не замечали, так забылись в молитве. Он накинулся на них, исстегал чуть не до смерти. Вот надсмотрщик оставил их наконец, и Саак рухнул на землю. Но нет, тот вернулся опять, опять стал стегать Саака и заставил подняться. Качаясь, валясь друг на друга, рабы снова стали работать.
Так впервые пострадал Варавва за распятого, за бледнотелого равви с безволосой грудью, которого распяли вместо него.
Шли годы. День за днем. Они бы и не различали дней, но каждый вечер их заталкивали спать вместе с сотнями других, точно так же изможденных работой, и они понимали: настала ночь. Никогда их не выпускали на волю. Бескровные, словно тени, год за годом жили они в полутьме, внизу, в царстве мертвых, где путь освещали только светильники да редкие печи. Через вход в шахту пробивался слабенький свет, и там, наверху, они видели что-то, может быть небо. Но земли, того мира, которому прежде принадлежали, они не видели никогда. Тут же, у входа, им опускали еду – в корзинах и в грязных корытах, чтоб жрали, как звери.
У Саака было горе. Варавва перестал с ним молиться. Несколько раз помолился, после того как попросил тогда вырезать имя Спасителя у себя на бирке, и вот перестал. И сделался еще молчаливей, совсем странный какой-то, непонятный. Саак ничего не понимал. Тут голову сломаешь. Сам-то он молился по-прежнему, но Варавва только отворачивался, будто даже смотреть на это не хочет. Правда, вставал он, однако, так, чтоб заслонить Саака, пока он молится, чтоб ему не мешали молиться. Выходит, хотел помочь? Но сам он никогда не молился.
Почему? Из-за чего? Саак недоумевал. Просто загадка. Вообще Варавва стал для него загадкой. Он-то думал, что так хорошо его знает, что они так близко сошлись с ним тут, в подземелье, в этом аду, особенно после того, как несколько раз вместе молились. И вдруг он понял, что совсем не знает Варавву, ничего про него не знает, хоть неотделим от него. И порой странный человек у него под боком казался ему совершенно чужим.
Да кто же он такой, в самом деле?
Они по-прежнему разговаривали, но уже вовсе не так, как раньше, и Варавва теперь отворачивался, когда они говорили друг с другом. Сааку больше не случалось увидеть его глаза. Да и видел ли он их когда-нибудь? Если подумать – видел он их или нет?
С кем же скован Саак одной цепью?
Варавва больше не рассказывал о своих видениях. А что это было для Саака, какая потеря, даже и передать нельзя. Он пробовал сам представлять себе все, кое-как вспоминать. Легко ли? Нет, получалось не то – как же иначе... Сам-то Саак никогда не стоял рядом с Любящим, и окружавший того свет не слепил Саака. Сам он не видел Бога.
И пришлось ему довольствоваться памятью о чем-то чудесном, что он увидел когда-то глазами Вараввы.
Больше всего полюбилось ему видение пасхального утра, пылающий ангел, бросающийся вниз с небес, чтобы вызволить Господа из царства мертвых. Когда ясно себе представишь такое, точно знаешь, что он, конечно, воскрес, что он жив. И скоро он вернется и утвердит на земле свое царство, как столько раз обещал. Саак в этом нисколько не сомневался, был в этом совершенно уверен. И тогда позовут на волю всех, всех, кто томится в шахте. И сам Господь станет у входа, он встретит рабов, освободит от цепей, и все они сразу войдут в его царство.
Как мечтал об этом Саак! И всякий раз, когда их созывали кормить, он смотрел из колодца шахты вверх – не свершилось ли чудо. Но разве отсюда увидишь мир? Неизвестно, что там происходит. Там может всякое произойти, а ты не узнаешь. Но если б такое вправду случилось, если бы он уже явился – он бы, конечно, их позвал. Он о них не забудет, он не забудет своих, вызволит их из царства мертвых.
Однажды, когда Саак стоял на коленях и молился на уступе скалы, произошла очень странная вещь.
Надсмотрщик, совсем новый в шахте, недавно сменивший прежнего их истязателя, подошел к Сааку сзади так, что тот не видел его и не слышал. Но Варавва, который стоял рядом с молящимся, а сам не молился, различил его в полутьме и шепнул Сааку, что кто-то идет. Саак тотчас перестал молиться, вскочил и взялся за кирку. Он, однако же, ожидал худшего и весь согнулся, заранее подставляя спину ударам бича. К великому изумлению обоих, наказания не последовало. Надсмотрщик остановился, конечно, но только дружелюбно спросил у Саака, отчего тот лежал так, что это значит? Саак еле выговорил в ответ, что он молился своему Богу.
– Какому Богу? – спросил надсмотрщик.
Саак сказал ему, о каком Боге речь, и тот молча кивнул, будто давая понять, что так он и думал. И принялся расспрашивать Саака о распятом «Спасителе». Он уже слышал о нем много странных рассказов. Правда ли, что он дал себя распять? И умер позорной смертью раба? И после такого – его почитают как бога? Чудеса, право слово, чудеса... И отчего называют его Спасителем? Удивительное имя для бога... Что оно значит?.. Он спасет нас? Спасет наши души?.. Что за странность?.. Это еще зачем?
Саак постарался ему объяснить. И надсмотрщик внимательно слушал, хоть из путаных, невнятных речей темного раба почерпнуть можно было не много. Иногда только надсмотрщик качал головой. Но слушал все время внимательно, будто эти нехитрые речи чрезвычайно для него важны. Наконец он сказал, что просто беда, как много этих богов, от них никуда не денешься. И своего спокойствия ради надо всем приносить жертвы...
Саак отвечал, что распятый не требует жертв. Он требует только, чтобы ты себя самого принес в жертву.
– Себя? Да как это? Что это значит?
– Чтобы ты принес себя в жертву в его великом горниле.
– В его горниле?..
Надсмотрщик покачал головой.
– Ты темный раб, – сказал он потом, – и говоришь по своему разумению. Что за выдумки? Где набрался ты эдаких бредней?
– Я слышал эти слова от грека-раба, – сказал Саак. – Он всегда так говорил. А сам-то я точно не знаю, что это значит.
– То-то же. И никто не знает. Принести себя в жертву... в его горниле... в его горниле...
И, пробормотав что-то, чего не разобрали они, он исчез в полутьме между редкими светильниками, будто сгинул в земных недрах.
Саак с Вараввой долго думали об этом невероятном событии. Все было до того странно, невозможно понять. Как оказался здесь такой человек? Неужели он обыкновенный надсмотрщик? И расспрашивал о распятом, о Спасителе? Нет, даже не верится. Но конечно, они радовались оба, что с ними случилось такое.
С тех пор он часто останавливался поговорить с Сааком. С Вараввой он ни разу не заговорил. А Саака просил снова и снова рассказывать о своем Господе, о его жизни, и чудесах, и удивительном этом учении, что надо любить друг друга. И вот однажды надсмотрщик сказал:
– Я уже давно думаю, не поверить ли мне заодно и в этого бога, и в этого тоже. Но как могу я поверить в него? Как поверить во все эти странные вещи? И как могу я, надсмотрщик рабов, поклониться распятому рабу?
Саак отвечал, что да. Господь его умер смертью раба, но на самом деле он истинный Бог. Единый Бог! И если уверуешь в него, ни в какого другого уже верить не будешь.
– Единый бог! И распят, как раб! Как можно! Один-единственный бог – и его распяли!
– Да, – сказал Саак. – Так оно и есть.
Тот посмотрел на него в великом недоумении и ничего не ответил. И, по своему обычаю покачав головой, ушел и исчез в темноте шахты.
Они стояли и смотрели ему вслед. Вот он мелькнул у ближнего факела и совсем скрылся от них в темноте.
А надсмотрщик шел и думал про неведомого бога, который, чем больше о нем думаешь, делается непостижимей. Вдруг он правда единственный бог? И только ему, единому, и надо молиться? Вдруг на всем свете и есть один-единственный могучий бог, владыка неба и земли, который проповедует свой закон повсюду, даже тут, в подземелье? Закон до того удивительный, что его никак не поймешь... «Любите друг друга»... «Любите друг друга»... Нет, невозможно понять...
Он остановился в черном промежутке между двумя светильниками, чтобы хорошенько поразмыслить. И тут его осенило, что ему надо сделать. Надо вызволить раба, который верит в неведомого бога, вызволить из рудника, где все гибнут, и определить на другую работу, наверху, под солнцем. Ему непонятен ни бог этот, ни тем более его учение, невозможно такое понять, но раба он вызволит. Как будто сам Бог повелел ему это.
И в первый же раз, когда он поднялся наверх, он пошел прямо к надсмотрщику, у которого в ведении были рабы, обрабатывавшие принадлежавшие руднику земли. Тот, человек со свежим крестьянским лицом, но с мокрыми большими губами, выслушав, дал понять, что это для него нежелательно, раб из шахты ему не нужен. На самом деле в рабах у него была большая нужда, особенно в ту пору, во время пахоты, потому что волов не хватало. Но нет, снизу он никого не возьмет. Они все никуда не годятся, от них никакого толку, да и другие рабы не хотят с ними знаться – что им делать тут, на земле? И все-таки в конце концов он уступил старшему – просто удивительно, как тот умел поставить всегда на своем. И старший вернулся в шахту.
На другой день он дольше обычного говорил с Сааком про его Бога. А потом сказал ему, как он насчет него распорядился. Ему надо только назваться стражнику у входа в шахту, и с него снимут колодки и отделят его от второго раба. А потом его поднимут наверх и отведут к тому, под чьим началом он будет отныне работать.
Саак смотрел на него, не веря своим ушам. Неужели это правда? Надсмотрщик подтвердил, что да, это правда и, возможно, так повелел сам Бог Саака, чтоб свершилась воля его.
Саак прижал руки к груди и стоял, не говоря ни слова. Но потом он выговорил, что не может разлучиться с товарищем, потому что у них один Бог, одна вера.
Надсмотрщик очень удивился и посмотрел на Варавву.
– Одна вера? С этим? Но он же никогда не встает на колени, не молится!
– Да, – отозвался Саак. – Так-то оно, может, и так. Но он еще ближе к Богу. Он стоял возле него, возле креста, когда тот мучился и умирал. И видел вокруг него сияние, и видел, как огненный ангел отвалил камень от гроба, чтобы помочь Богу выйти из царства мертвых. Это он открыл мне глаза на его славу.
Надсмотрщик только покачал головой и искоса поглядел на Варавву, на этого малого с шрамом на щеке, который никогда не смотрел человеку в лицо, вот и сейчас отвернулся. Неужто такой принадлежит богу Саака? Возможно ли? Нет, не нравился ему этот Варавва.
И ему совсем не хотелось его вызволять из шахты. Но Саак повторил:
– Я не могу с ним разлучиться.
Надсмотрщик что-то бормотал про себя и долго искоса глядел на Варавву. А потом нехотя согласился, чтобы все было так, как хочет Саак, чтобы им не разлучаться. А сам пошел от них прочь, в свое одиночество.
И вот в условное время Саак и Варавва явились к страже у входа, их освободили от цепей и подняли из шахты. И когда они оказались наверху, увидали солнце, сиявшее над горами, от которых шел дух лаванды и мирта, увидали весеннюю зелень долин и дальнее море, Саак упал на колени и крикнул, сам не свой от радости:
– Он уже здесь! Он здесь! Смотри – вот оно, его царство!
Высланный за ними погонщик с недоумением посмотрел на него, а потом легонько пнул ногой, чтобы он поднялся, и сказал:
– Ну-ну, пшел.
* * *
Они хорошо впрягались вдвоем в плуг, потому что прежде были скованы вместе и, как пара волов, привыкли друг к другу. Тощие, жалкие, с наполовину выбритыми головами, они были посмешищем для остальных рабов. Сразу видно, откуда явились. Но один из них скоро набрался сил, он был здоров по природе, и они стали неплохо справляться с работой. Надсмотрщик на них не жаловался: что еще возьмешь с выходцев из-под земли.
Сами же они были исполнены благодарности за то, что с ними случилось. Хоть им приходилось трудиться как рабочей скотине, с утра и до вечера, все стало не то что прежде. Видеть белый свет, дышать вольным воздухом, уже одно это – радость. И они не могли нарадоваться на солнце, хоть тощие их тела обливались потом под его лучами, а обращались с ними как с животными и, в общем, не лучше, чем прежде. Хлыст жужжал над ними в точности так же, как в руднике, и особенно доставалось Сааку, у которого сил было меньше, чем у Вараввы. И все-таки они вернулись к жизни, жили, как вся тварь живет на земле, а не в недрах ее, в вечном мраке. Наступало утро, и наступал вечер, и день, и ночь, и все они видели и всему радовались.
Но что царство Божие пока не пришло, это они понимали.
Постепенно другие рабы с ними свыклись, перестали видеть в них каких-то диковинных зверей. Волосы у них отросли, они стали как все, не привлекали к себе внимания. Да и вообще – не то было замечательно в них, что они побывали в аду, но что сумели оттуда выбраться. Ведь это с самого начала и вызывало у других любопытство и даже невольное восхищение, в котором бы никто не признался. Но напрасно старались у них выведать, как это случилось. И всегда молчаливые, оба вовсе отказывались говорить о происшедшем с ними чуде. Они были странные, избегали всех и всегда держались вдвоем.
А ведь теперь в этом не было необходимости. Общая цепь уже не держала их. Они с кем хотели могли теперь подружиться, вовсе не обязательно было им спать рядом и рядом принимать пищу. А они, как прежде, ходили всегда рядом, будто они нераздельны.
И это тем более удивительно, что они уже тяготились друг другом, им стало трудно разговаривать. Они вели себя словно нераздельные, несмотря на то что их разделяло многое.
Правда, работая, им приходилось держаться рядом, в упряжке. Но когда кончалась работа, они могли бы смешаться с другими. Хотя, если вспомнить, какими чужаками они себя чувствовали среди них, может, не так уж и странно, что они держались особняком... Да они и привыкли друг к другу, привыкли к цепи, которая уже не связывала их. Проснувшись среди ночи, обнаружив, что цепи нет, каждый почти пугался, пока не находил рядом товарища. А найдя его, успокаивался.
Подумать только, до чего дожил Варавва! Чтоб с ним случилось такое! В высшей степени непонятно. Уж кому-кому, а Варавве вовсе не надо было бы ни с кем связываться накрепко. А его связали, не спросясь, да еще железной крепью. И хоть крепи этой больше не было, она будто осталась на нем. Но он дергал ее, конечно, он хотел вырваться...
Саак вырываться вовсе не хотел. Наоборот, он страдал, что они не так близки, как прежде. И почему? Что случилось?
О своем чудесном спасении из рудников, из царства мертвых, они никогда не говорили. Поговорили немного в первые дни, а потом перестали. Саак тогда говорил, что вызволил их Спаситель, Сын Божий. Оно конечно... Ясное дело... хотя, в общем-то, выходило, что Саака и вправду вызволил Спаситель и Сын Божий, Варавву же спас Саак. Верно ведь? Ведь так выходило?
Да, лучше не думать про это.
Варавва, конечно, благодарил Саака за то, что тот его спас. Ну а Бога он благодарил? Ведь, наверное, благодарил? Но точно сказать ничего нельзя. Кто его знает, Варавву...
Саак печалился, что совсем не знает Варавву, которого он полюбил. Ему было горько, что нельзя больше молиться с ним вместе, как там, в руднике, в царстве мертвых. А как этого хотелось Сааку! Но он не упрекал Варавву. Просто не мог ничего понять.
В Варавве вообще было много непонятного. Зато он видел, как умер Спаситель и как он воскрес из мертвых. И видел вокруг него нездешний свет. Хотя они больше никогда про это не говорили...
Саак страдал – но не за себя. Его иссохшее, обожженное лицо под белыми как снег волосами было все в отметинах от искр плавильной печи, худое тело исполосовано хлыстом надсмотрщика. Но за себя он не страдал. Он-то, наоборот, был счастливый человек. Особенно после того, как Господь сотворил над ним это чудо, вывел его наверх, под солнце, и к лилиям полевым, о которых сам Он когда-то говорил так красиво.
Он и Варавве сотворил то же чудо. Но Варавва окидывал вновь увиденный мир беспокойным взглядом, и никто не знал, что у него на уме.
Так жили они наверху первое время.
Когда кончилась весенняя пахота, их поставили работать у водяного колеса, которое надо было пустить в ход, как только начнется жара, чтобы все не засохло. Тоже тяжелая работа. А потом, когда собрали урожай, их отправили на мельницу, стоявшую недалеко от дома римского наместника в ряду других построек, которые вместе с жалкой деревушкой туземцев образовывали как бы городок подле гавани. Так оказались они у самого моря.
Там, на мельнице, они и свели знакомство с одноглазым коротышкой.
Был он коренастый, приземистый раб со стриженой головой, морщинистым серым лицом и высохшими губами. Один глаз его смотрел воровато, а другой ему вырвали за то, что он украл несколько четвериков муки. За ту же провинность он носил на шее большое деревянное ярмо. Работа его заключалась в том, чтобы наполнять мешки мукой и относить в амбар, и ни в простом этом занятии, ни в мышино-сером лице, ни в кургузой фигурке не было ничего замечательного. И однако ж его замечали больше, чем остальных, неизвестно почему, может, потому, что в присутствии его всем делалось неловко и тошно. Всегда можно было сразу сказать, нет его или он здесь, и спиною ты чувствовал на себе его одноглазый взгляд. Поймать его взгляд редко кому приходилось.
Он не обратил никакого внимания на двоих новичков, кажется, их и не увидел. Презрительной усмешки, с которой он наблюдал, как их ставят к самому тяжелому жернову, не заметил никто. А может, просто никто не понял, что этот изгиб серых иссохших губ означает усмешку. Жерновов было четыре, и на каждом работало по двое. Люди тут заменяли ослов, потому что ослов было мало, людей – вдоволь и содержать их куда дешевле. Но Саак и Варавва считали здешний корм почти изобильным в сравнении с тем, которым их потчевали раньше, да и вообще здесь им куда лучше жилось, хоть работа была тяжелая. Надсмотрщик, толстый и вялый, обращался с ними неплохо, в основном расхаживал, закинув хлыст за плечо, редко пуская его в ход. Только слепому старику, еле державшемуся на ногах, то и дело случалось его отведать.
Изнутри мельница вся была белая от муки, мука за долгое время осела повсюду: на полу, на стенах, в паутине под потолком. Сам воздух забит был мукою и тяжелым грохотом камней, когда вращались все четыре жернова. Все работали голыми, и только одноглазый, обвязанный мешковиной по бедрам, крысой шнырял по мельнице. Из-за деревянного ярма казалось, что его поймали, а ему как-то удалось вырваться. Говорили, будто он ест муку из мешков, когда остается один в амбаре, хотя ему бы должно мешать ярмо. И будто бы ест он ее не с голоду, а из упрямства, потому что ведь, если он попадется, ему вырвут второй глаз и поставят работать у жернова, как того слепого старика, а эта работа ему не под силу и страшней даже вечной тьмы, которая ожидает его, если он снова попадется на воровстве. Только правда это или нет – кто его знает...
Нет, двое новичков не особенно его занимали. Он следил за ними исподтишка, как он всегда и за всеми следил, и выжидал, что будет дальше, но ничего особенно он против них не имел. Особенно ничего. Эти двое, он слыхал, – из подземных, а он пока никого не встречал оттуда. Но он ничего особенно не имел против подземных. Ни против кого ничего особенно не имел.
Они побывали в копях – значит, за тяжкие преступления, хотя один на такого преступника был совсем непохож. Зато другой был очень даже похож и, видно, боялся, что это сразу заметно. Он был жалок, а второй, видно, совсем дурачок, и как это им удалось выйти из шахты? Из этого ада? Кто им помог? Вот в чем вопрос.
Но на этот вопрос не так-то просто ответить. Ничего, надо только обождать, и все объяснится. То ли, другое ли, а объяснение всегда найдется. Все, так сказать, объяснится само собой. Тут только глаз нужен, ясное дело. Ну а глаз у него был.
И потому он заприметил, что тощий, длинный, с коровьими глазами по вечерам, в темноте, встает на колени и молится. Почему так? Конечно, богу молится, да вот какому? Что за бог за такой, которому надо эдак молиться?
Одноглазый коротышка знал много разных богов, хоть молиться им он и не думал. Но если б такое вдруг взбрело ему в голову, он бы, конечно, молился, как люди, перед кумирами, в храме, где им самое место. А этот чудак, кажется, думал, что его бог стоит в темноте, перед ним. И говорил с ним прямо как с кем-то живым, кто знает его и видит. Чудеса. Шепчет-шепчет в темноте, молится от души, а ведь каждому ясно, что никакого бога тут нет. Одно пустое воображение.
Тем, чего нет, и интересоваться не станешь, однако, с тех пор как он заметил, что Саак молится, одноглазый стал спрашивать у него про его необыкновенного бога. И Саак объяснил ему все, как умел. Сказал, что Бог его – всюду, и в темноте тоже. Можно призвать его, когда хочешь, и ты почувствуешь, что вот он, с тобою. Да, а иногда даже чувствуешь, что он у тебя в груди – и это блаженней всего. Одноглазый отвечал, что Бог у него и вправду какой-то необыкновенный.
– Верно, – сказал Саак.
Одноглазый как будто взвесил то, что сказал ему Саак про невидимого, но очень, наверно, сильного бога, а потом спросил, не бог ли этот вызволил их из шахты.
– Да, – сказал Саак. – Это он.
И еще прибавил, что он – Бог всех угнетенных и всех рабов он освободит от цепей. Сааку хотелось проповедать свою веру, и ведь его слушали сейчас открыв рот.
– Вот как? – сказал одноглазый.
Саак все больше убеждался, что этому рабу, низенькому, никому не нужному, которому вырвали глаз, надо услышать про то, как спасут и его, и всех, и что он, Саак, должен его просветить – такова воля Господня. И он без конца ему говорил про Бога, хотя Варавва косился на них и, кажется, осуждал. И вот однажды, когда они, отработав, сидели одни на жернове, Саак открыл одноглазому свою тайну, показал ему надпись на бирке. В общем-то, одноглазый сам попросил назвать ему имя неведомого бога – если, конечно, позволительно его выговорить, – ну, и Саак назвал, и уж в доказательство силы и величия Господа дал ему поглядеть на тайные знаки святого имени. Одноглазый с большим интересом разглядывал надпись и слушал рассказ Саака про грека-раба, который ее вырезал и понимал, что значит каждая черточка. Надо же так понимать знаки Бога!
Саак еще раз поглядел на надпись и снова перевернул бирку. И, прижимая ее к груди, он, совершенно счастливый, сказал, что он – раб Божий, что он принадлежит Богу.
– Вот как, – сказал одноглазый.
А потом он спросил про его друга из шахты. У того тоже такая надпись?
– Конечно, – ответил Саак.
И одноглазый кивнул – мол, так он и думал. Хотя на самом-то деле ему было странно, что у них один бог и одна вера, ведь преступник со шрамом никогда не молился. Они еще говорили про удивительного бога, еще и еще, и Саак чувствовал, как они понимают друг друга. Хорошо, что он открыл одноглазому свою великую тайну, видно, это сам Господь надоумил его.
Все поразились на мельнице, когда в одно прекрасное утро надсмотрщик объявил, что Саака и Варавву днем, в условленное время, ожидает к себе сам прокуратор. Такого еще не бывало, во всяком случае, на памяти этого надсмотрщика, и он поразился не меньше всех остальных и не мог ничего понять. Двух жалких рабов вызывают к самому римскому правителю! Надсмотрщику велели их проводить, и он даже сам заробел: никогда прежде не видел он вблизи важного господина. Хотя он-то, надсмотрщик, тут был ни при чем, его дело было доставить их куда нужно.
В положенное время они отправились, и все на мельнице смотрели им вслед, и даже похожий на крысу коротышка, который не умел улыбаться, так ссохлись у него губы, тоже смотрел им вслед своим единственным глазом.
Без провожатого Саак и Варавва, конечно, заплутались бы в узких улочках, они ведь совсем их не знали. И они шли за надсмотрщиком и держались близко, рядом, как прежде. Будто их снова сковали одной цепью.
Статный черный раб, прикованный за ногу возле резных кедровых дверей, впустил их в большой дом. Сразу же за дверями в крытой колоннаде он передал их стражнику, и тот повел их оттуда солнечным двориком к средних размеров зале, которая выходила прямо во дворик. И там они вдруг предстали перед римлянином.
Все трое пали ниц, стукнулись лбами об пол – так научил надсмотрщик Саака с Вараввой, хоть они и считали, что негоже так унижаться перед тем, кто всего лишь человек. И только когда им было ведено, осмелились они встать. Римлянин, раскинувшийся в кресле в дальнем конце залы, знаком подозвал их к себе, и они робко приблизились, разглядывая его на ходу. Был он крепок, лет шестидесяти, у него было полное, но твердое лицо, широкий подбородок и, сразу видно, привыкший повелевать рот. Взгляд был острый и цепкий, прямой вражды он не выражал. Странно, но ничего пугающего не было в этом римлянине.
Сначала он расспросил надсмотрщика, как ведут себя эти рабы, доволен ли он ими. Тот, заикаясь, отвечал, что да, он ими доволен, и на всякий случай прибавил, что он вообще-то не дает спуску рабам. Непонятно, оценил ли это рвение высокий властитель, он только бросил беглый взгляд на толстую фигуру и легким взмахом руки отпустил надсмотрщика. Тот не заставил себя второй раз просить и с готовностью удалился. Так обрадовался, что впопыхах даже повернулся спиной к своему господину.
А тот занялся Сааком и Вараввой и стал их расспрашивать, откуда они родом, за какие провинности осуждены и как они вышли из рудников, кто этим распорядился. И все время он говорил с ними вполне дружелюбно. Потом он встал и прошелся по зале, и просто удивительно, как он оказался высок ростом. Он подошел к Сааку, взял в руку его бирку, посмотрел на тавро и спросил у Саака, знает ли он, что нарезано у него на бирке. Саак отвечал, что это тавро Римского государства.
Прокуратор кивнул, сказал, что да, это верно и что Саак, стало быть, принадлежит государству. А потом перевернул бирку и с видимым интересом, хоть и без особого удивления, стал разглядывать тайные знаки на оборотной ее стороне.
– Иисус Христос... – прочитал он, и Саак с Вараввой изумились, что он разобрал тайные знаки и святое имя Господне.
– Кто это такой? – спросил он.
– Мой Бог, – отвечал Саак, и голос у него чуть дрогнул.
– Так. Кажется, я не слыхивал его имени. Но богов много, всех не упомнишь. Он бог твоего родного края?
– Нет, – ответил Саак. – Он Бог всех людей.
– Всех? Вот как? Недурно. А я, например, про него и не слыхивал. Он, можно сказать, ловко скрывает свою славу.
– Да, – сказал Саак.
– Бог всех людей. Значит, у него немалая сила. На чем же она у него зиждется?
– На любви.
– На любви?.. Гм, почему бы и нет. Ладно, я не вмешиваюсь, верь, как тебе угодно. Только ответь, почему ты носишь его имя на своей бирке?
– Потому что я ему принадлежу, – ответил Саак, и снова чуть дрогнул у него голос.
– Вот как? Ему? Каким же образом? Разве ты не принадлежишь государству, как означено этим тавром? Разве ты не государственный раб?
Саак ничего не ответил. Стоял и смотрел в пол.
Наконец римлянин сказал, впрочем, вовсе без злобы:
– Но ты должен ответить. Нам надобно выяснить, понимаешь ли. Итак, принадлежишь ли ты государству? Скажи.
– Я принадлежу Господу Богу моему, – ответил Саак, не поднимая глаз.
Прокуратор стоял и смотрел на него. Потом взял его за подбородок и заглянул в обожженное лицо, побывавшее у плавилен. Он ничего не сказал и, увидев то, что хотел, отпустил подбородок Саака.
Потом он подошел к Варавве и, поворачивая теперь уже его бирку, спросил:
– А ты? Тоже веришь в этого любящего Бога?
Варавва ничего не ответил.
– Ну? Веришь ты или нет?
Варавва покачал головой.
– Нет? Так зачем же тогда ты носишь на бирке его имя?
И опять промолчал Варавва.
– Твой он бог или нет? Не это ли означает надпись?
– У меня нет Бога, – наконец ответил Варавва так тихо, что его почти не было слышно. Но и римлянин, и Саак расслышали этот ответ.
И после этих немыслимых слов Саак взглянул на него с таким отчаянием, болью и недоумением, что взгляд этот в самое нутро впился Варавве, пронизал его насквозь, хоть сам Варавва и не смотрел тогда на Саака.
Удивился и римлянин.
– Не понимаю, – сказал он. – К чему же тогда «Иисус Христос» у тебя на бирке?
– Потому что мне хочется верить, – отвечал Варавва, не поднимая глаз.
Римлянин посмотрел на него, на опустошенное лицо, шрам под глазом, грубый, жесткий рот, все еще хранивший прежнюю силу. Лицо было лишено выражения, и вряд ли бы обнаружилось оно на нем, если взять его вот так же за подбородок. Впрочем, с этим рабом ему бы такое и в голову не пришло. Почему? Он и сам не знал.
Он опять повернулся к Сааку:
– Понимаешь ли ты толком, что ты сейчас наговорил? Ведь ты восстаешь против Кесаря? Понимаешь ты или нет, что он тоже бог, что ты ему принадлежишь, его тавро носишь на своей бирке? А ты объявляешь, будто принадлежишь другому, неведомому богу, да еще вырезал его имя на своей пластине, чтоб показать, что ты – его, а не кесарев. Что, разве не так?
– Да, – ответил Саак неверным голосом, но он у него уже меньше дрожал.
– И ты на этом стоишь?
– Да.
– А понимаешь ты или нет, что тебя ждет за это?
– Да. Понимаю.
Римлянин помолчал. Он размышлял про этого бога рабов, по правде сказать, он про него уже слышал, про него много болтали в последнее время – безумец из Иерусалима, который принял позорную смерть раба. «...Разбить все оковы»... «...Раб божий, и он меня освободит»... Не так уж невинно все это, если вдуматься... И лица, как вот у него, вряд ли придутся по вкусу какому-нибудь рабовладельцу...
– Если ты откажешься от своей веры, ты останешься цел, – сказал он. – Понятно?
– Нет, я не могу, – ответил Саак.
– Почему же?
– Я не могу отречься от моего Господа.
– Странный малый... Надеюсь, ты понимаешь, какой приговор я вынужден буду вынести тебе? Неужто ты вправду так смел, что готов принять смерть за свою веру?
– Это не мне решать, – был тихий ответ Саака.
– Не так уж это смело звучит. И неужто тебе жизни не жалко?
– Жалко, – ответил Саак.
– Но если ты не откажешься от этого своего бога, тебя уже ничто не спасет. И ты расстанешься с жизнью.
– Я не могу расстаться с моим Господом Богом.
Прокуратор пожал плечами.
– А я ничего не могу для тебя сделать, – сказал он и подошел к столу, за которым сидел, когда их привели. И постучал молоточком слоновой кости по мраморной столешнице. – Ты такой же безумец, как твой бог, – прибавил он, уже не обращаясь к Сааку.
Покуда они ждали стражника, прокуратор подошел к Варавве, повернул на нем бирку, вынул свой кинжал и острием перечеркнул Иисуса Христа на пластине.
– Это ведь не нужно тебе, раз ты в него не веришь, – сказал он.
А Саак в это время смотрел на Варавву таким взглядом, что он жег его как огнем, и никогда не смог его позабыть Варавва.
И вот Саака увели, а Варавва остался. Прокуратор похвалил его за разумное поведение и сказал, что его следует вознаградить. Пусть пойдет к десятнику, и его поставят на другую работу, полегче.
Варавва быстро глянул на прокуратора, и тот увидел, что выражение, оказывается, есть на этом лице, есть взгляд, и взгляд неопасный. Ненависть стояла в нем и дрожала, как наконечник стрелы, которая никогда не слетит с тетивы.
И Варавва отправился исполнять, что было ему ведено.
* * *
Когда распинали Саака, Варавва стоял чуть поодаль за кустом гибиска, чтобы друг на кресте не увидел его. Но Саака заранее так пытали, что он все равно бы вряд ли заметил Варавву. Пытали его по привычке и оттого, что решили, будто правитель просто забыл отдать об этом приказ. На самом же деле тот не предполагал никаких пыток, хотя и не подумал о том, что надо их отменить. И на всякий случай все было сделано как всегда. За что приказали распять этого раба, они не знали, да и не очень хотели знать. Они привыкли к своей работе.
Опять ему выбрили полголовы, и все в крови были белые волосы. Лицо, в общем, ничего не выражало, но Варавва слишком хорошо знал его и понял, что оно выразило бы, если б было в силах. Варавва смотрел и смотрел на это лицо горящими глазами, если только можно назвать горящими глаза Вараввы, но сейчас их можно было так назвать. И на изможденное тело он смотрел, не отрываясь, и захотел бы – не смог оторваться, но он не хотел. Оно было до того тощее и бессильное, это тело, и непонятно, как в таком могло корениться злодейство. На груди, где все ребра можно счесть, выжжена государственная печать в знак того, что казнят его за государственную измену. А бирку сняли, как-никак металлическая, да она и была уже не нужна.
Казнили его за городом, на склоне небольшого холма, поросшего редкими кустами. За одним из таких кустов и стоял Варавва-отпущенник. Кроме него и тех, кто распинал, ни души не было возле холма, никому не было дела до смерти Саака. Обычно тут собирался народ, особенно если казнили тяжкого преступника. Но Саак не убил, не ограбил, и никто не знал, кто он и что натворил.
Опять стояла весна, совсем как тогда, когда они с Сааком вышли из подземелья и Саак упал на колени и крикнул: «Он уже здесь! Он здесь!»
Поля зеленели кругом, и даже холм, на котором казнили Саака, был весь в цветах. Солнце сияло над горами и над синим морем невдалеке. Но был полдень, давила жара, и роем взвивались мухи, чуть кто появится на нечистом холме. Все тело Саака обсели они, а он не мог шелохнуться, отогнать их. Нет, не назовешь эту смерть ни возвышенной, ни поучительной.
Тем более непонятно, почему она так захватила Варавву. А она его захватила. Глаза Вараввы вбирали в себя все, чтоб удержать навсегда: пот, катящийся со лба и из глубоких тощих подмышек, грудь, и на ней ходуном ходит выжженное клеймо Рима, мух, которых не отгоняет никто. Голова свесилась, умирающий тяжко стонал, Варавва у себя за кустом слышал каждый звук. Он и сам дышал тяжко, прерывисто, и рот у него тоже открылся, как у друга на кресте. Ему даже самому захотелось пить, как, конечно, хотелось сейчас пить Сааку. Да, непонятно все это. Но ведь они же так долго были скованы вместе. И вдруг показалось Варавве, что все повернулось вспять, что его снова сковали с распятым одной цепью.
Вот Саак попытался что-то сказать, наверное, чтобы дали попить, но никто ничего не понял. Варавва и то не расслышал, хоть вовсю напрягал слух. Правда, он стоял далеко. Вообще-то, можно было взбежать на холм, подбежать к кресту, окликнуть друга, спросить, чего он хочет и не может ли он, Варавва, чем-то помочь, – а заодно и мух отогнать. Но ничего этого не сделал Варавва. Он стоял за своим кустом. Он ничего не сделал. Он только все время смотрел на Саака горящими глазами, и рот у него приоткрылся от мучений распятого.
Скоро стало ясно, что ему недолго терпеть. Он задышал слабее, и грудь уже не ходила, и Варавва уже не слышал, как он дышит. А потом тощая грудь застыла совсем, и, значит, Саак умер. Без всякой тьмы средь бела дня, без всяких чудес, тихо и незаметно он испустил дух. Те, кто должен бы за ним следить, ничего не заметили, они лежали и играли в кости, в точности как в тот раз – давным-давно. Но на сей раз они не вскочили, не испугались, что тот, на кресте, умер. Они просто ничего не заметили. Один Варавва заметил. И, понявши, что случилось, он задохнулся и упал на колени – будто молиться.
Странное дело. И ведь как бы обрадовался Саак, доведись ему это увидеть. Но Саак уже умер.
Правда, Варавва хоть и упал на колени, но молиться не мог. Некому было. Он просто немного постоял на коленях. А потом он уткнулся в ладони измученным, седобородым лицом, и, наверное, он заплакал.
Вдруг один солдат выругался, заметив, что распятый уже умер, надо только снять его с креста и можно идти восвояси. И они сняли его и ушли.
Так распинали Саака, а Варавва-отпущенник стоял и на это смотрел.
* * *
К тому времени, когда прокуратор оставил свой пост и вернулся в Рим, чтобы там дожить оставшиеся ему годы, богатство его было больше, чем у всех прежних правителей острова, но зато и рудники, и вся вообще провинция давали при нем государству небывалый еще доход. Бессчетные надсмотрщики немало тому способствовали рвением, строгостью и, пожалуй, жестокостью, это они помогли прокуратору взять все возможное от природы и выжать все силы из населения и рабов. А сам прокуратор вовсе не был жесток. Сурово было его правление, не сам он. И если его обвиняли в жестокости, то лишь по неведению, просто не знали его. Его совершенно не знали, о нем ходили слухи и домыслы. Тысячи жалких людишек во глубине рудников и за плугом в полях, иссушенных солнцем, благословляли судьбу, прослышав, что он их собрался покинуть, по своей глупости они надеялись, что новый правитель окажется лучше. Прокуратор же покидал милый остров с печалью и сожалением. Он славно тут пожил.
Особенно не хотелось ему расставаться со своими трудами, ибо он был полон сил. Но он был к тому же натура изысканная, и с приятностью он ждал наслаждений, которые обещали ему роскошества Рима и тонкое общество равных. И, покоясь в удобных креслах на затененной палубе, он предавался легким мечтам.
Он взял с собою рабов, которые могли пригодиться ему для собственных нужд, среди них и Варавву. Варавву он, правда, внес в список скорей по доброте душевной, ведь от раба в таком возрасте проку не много. Но прокуратору запомнился славный, послушный раб, так разумно позволивший перечеркнуть имя своего Бога, и он решил захватить и его. Кто б мог подумать, что у Вараввы окажется такой памятливый и заботливый покровитель.
Корабль плыл дольше обычного, долго не было попутного ветра, но, много недель без отдыха налегая на весла, окровавленные гребцы привели его наконец в Остию, а на другой день прокуратор был уже в Риме, куда вскорости прибыли и богатства его, и челядь.
Дворец, который приказал он купить, стоял в самом сердце города, в богатейшей его части. Был он в несколько этажей, весь отделан разноцветным мрамором и разубран с неслыханной роскошью. Варавва, живший в подвале вместе с другими рабами, только и видел из всего дома что этот подвал, но он понимал, что дом у хозяина богатый и пышный. И это было ему решительно все равно. Работа у него была нетрудная, нехитрые мелкие поручения, а каждое утро вместе с двумя другими рабами он сопровождал важного вольноотпущенника, распорядителя кухни, когда тот отправлялся на торг за снедью. Так что на Рим Варавва нагляделся достаточно.
Но возможно, вернее будет сказать, что Рима он вовсе не видел. Рим только мелькал у Вараввы в глазах. Протискиваясь сквозь густые толпы по узким улочкам, по орущей рыночной площади, Варавва видел все будто бы издали, как сквозь туман. Могучая шумная столица мира была для него словно ненастоящая, и он двигался по ней, будто отсутствуя, погруженный в собственные думы. Тут были мужчины и женщины разных рас, из разных стран, и любого другого, кроме Вараввы, поразил бы этот людской муравейник, богатство и пышность, огромные здания и несчетные храмы всевозможным богам, куда на золоченых носилках несли знатных господ, чтоб они поклонялись там каждый своему богу в те часы, когда их не влекли соблазны, предлагаемые в дорогих лавках купцов на Via Sacra, либо нега роскошных бань. У любого другого глаза б разбежались, ловящее это великолепие. Но глаза Вараввы ничего не ловили, быть может, оттого, что были слишком глубоко упрятаны, и все, на что смотрели они, скользило мимо, ненужное и чужое. Нет, ни к чему было все это Варавве. Хоть бы и вовсе не было. Безразлично. Так по крайней мере думал он сам.
Но не так уж был этот мир безразличен Варавве. Потому что Варавва ненавидел его.
Словно ненастоящими были для него двигавшиеся по улицам процессии: жрецы, верующие, священные символы. Ему, не имевшему бога, казалось странным, что они то и дело встречаются у него на пути и надо уступать им дорогу. Он прижимался к стене и смотрел им вслед, искоса, украдкой. А один раз он пошел за ними, и пришел к какому-то удивительному храму, какого не видывал прежде, и вошел вовнутрь, и, как все, встал перед изображением матери с младенцем на руках, и, когда он спросил, кто она такая, ему сказали, что это благословенная Изида с младенцем Гором. Но потом они стали оглядывать его недоверчиво, что за человек – не знает имени Святой Матери, и храмовый стражник вытолкал его вон и у кованых медных дверей сделал тайный знак, чтоб охранить и себя и храм от Вараввы. Будто догадался, что он зачат и рожден в ненависти ко всему творению на земле и на небе и к Творцу неба и земли!
Шрам багровел у Вараввы под глазом, ненависть дрожала в диком, упрятанном взгляде, как готовая слететь стрела, Варавва бежал по улицам и закоулкам. «Прочь отсюда, нечестивец!» Он сбился с пути, заблудился, и, когда наконец он добрался до дому, его хотели наказать, но не тронули, зная, что к нему благоволит хозяин. Да они и поверили сбивчивому объяснению Вараввы, что он заплутался в чужом, незнакомом городе. Он забился в дальний угол подвала для рабов, лег там в темноте, грудь у него надрывалась, и перечеркнутое имя «Иисус Христос» жгло ее как огнем.
И снилось ему в ту ночь, что он скован одной цепью с другим рабом, и тот раб лежит рядом и молится, и Варавва его не видит.
– О чем ты молишься? – спрашивает Варавва. – Зачем?
– Я молюсь о тебе, – отвечает из темноты раб, и голос у него знакомый.
И Варавва лежал тихо-тихо, чтобы не мешать ему молиться, и старые глаза Вараввы были полны слез. Но когда он проснулся и стал шарить по полу, искать цепь, цепи рядом не оказалось, и не было рядом того раба. Варавва ни с кем не был связан, ни с кем в целом свете.
Однажды, когда он был один в сводчатом подвале дворца, он увидел нацарапанный в укромном месте знак рыбы. Неумелая рука вывела этот рисунок, но в том, что изображал он и каков его смысл, сомневаться не приходилось. Варавва стоял и думал, кто же из здешних рабов – христианин. Он и потом еще долго думал про это и присматривался ко всем и каждому, старался найти разгадку. Но расспрашивать он никого не стал. Не разузнавал, не наводил никаких справок. А ведь это было б нетрудно. Но он не стал никого спрашивать.
Он не сообщался с остальными рабами, верней, сообщался только по необходимости. Он ни с кем никогда не разговаривал, и потому он не знал их. Потому и его никто не знал и никому не было до него дела.
В Риме было много христиан, это было известно Варавве. Ему было известно, что они собираются в своих молитвенных домах, своими братствами, в разных местах города. Но он к ним не ходил. Думал даже пойти несколько раз, да так и не пошел. Он носил имя их Бога у себя на бирке, но оно было перечеркнуто.
В последнее время они, конечно, начали прятаться, собирались тайно, в других местах: испугались гонений. Он про это слыхал на торгу, там от них кое-кто защищался растопыренной пятерней, совсем как тот сторож в храме Святой Матери защищался тогда от Вараввы. Они опасны и мерзки, способны на ворожбу – и на что только они не способны! А бог у них – ужасный преступник и повешен давным-давно. Лучше от них держаться подальше.
Однажды вечером он случайно услышал, как двое рабов шепчутся во тьме подвала, они его не видели и думали, что рядом никого нет. Варавва их тоже не видел, но узнал по голосам. Они совсем недавно были в доме, их купили всего несколько недель назад.
Речь шла о собрании братства, назначенном на завтрашний вечер в саду Марка Люция у Аппиевой дороги. Но скоро Варавва понял, что соберутся не в саду, а в еврейских катакомбах, которые начинаются там.
Вот уж странное место для встречи... Среди мертвых... Надо же додуматься до такого...
На другой вечер, пока запирали на ночь подвал, Варавва, рискуя жизнью, успел выскользнуть из дворца.
Когда он вышел на Via Appia, уже надвигались сумерки, и он не встретил почти ни души. Как пройти к саду, он спросил у пастуха, который гнал домой стадо овец.
Войдя в подземелье, он стал ощупью пробираться по узкому, отлогому ходу. Дневной свет еще проникал сюда сверху, и было видно, как первый ряд гробов убегает во тьму. Варавва шел, шаря руками по холодным, мокрым стенам. Соберутся в первой большой галерее – так те рабы говорили. Варавва шел и шел.
Вот, кажется, голоса. Он замер, прислушался – нет, ничего не слышно. Он снова пошел. Он ступал с осторожностью, часто на пути попадались ступеньки, то одна, то несколько ступенек, и они уводили все дальше вниз.
И все не было галереи. Только узкий ход меж гробов. Потом этот ход раздвоился, и Варавва теперь не знал, куда же идти. И остановился в недоумении, совершенно потерянный. Но тут где-то далеко мелькнул огонек – где-то очень далеко. Ну да, огонек! Варавва бросился туда. Значит – там!
И вдруг огонек исчез. Совсем исчез. Может, он нечаянно пошел по другому проходу? Он бросился обратно, чтоб снова увидеть огонек. Но огонька уже не было, нигде не было!
Варавва ничего не понимал. Где же они? Как их найти? Ведь они же здесь!
А сам он куда забрел? Ну, ничего, он же помнит, как шел, всегда можно добраться до выхода. И Варавва решил вернуться.
Но когда он пробирался назад по тому же самому ходу, где ему запомнилась каждая выемка, вдруг снова он увидел огонек. Четкое, сильное сияние – в боковом проходе, – наверное, раньше он его не заметил, и двигалось оно теперь в другую сторону. Все-таки это, наверное, был тот же самый свет, и Варавва бросился туда. А свет делался ярче и ярче... И вдруг погас. Исчез совсем.
Варавва схватился за голову. Пощупал рукой глаза. Что же за свет? Был ли вообще свет? Вдруг просто ему почудилось? Или опять что-то у него с глазами... когда-то, когда-то давным-давно... Он тер глаза и беспомощно озирался...
Нет никакого света! Нигде, нигде! Только тьма ледяная кругом, и он один в этой тьме, и больше тут никого, ни души, никого, только мертвые!..
Мертвые! Кругом только мертвые! Везде, всюду, со всех сторон, во всех проходах, куда ни пойди. Куда же идти? Он понятия не имел, куда ему надо идти, чтобы выбраться, выйти отсюда, выйти из царства мертвых...
Царство мертвых!.. Он сошел в царство мертвых! Он заточен в царстве мертвых!
Его охватил ужас. Тошный страх. И вдруг он бросился наобум, он носился по переходам, спотыкался о невидимые ступеньки, кидался то туда, то сюда, стараясь выбраться, вырваться наружу... Он метался как безумец, он задыхался... Шатаясь, натыкаясь на стены, в которых были замурованы мертвецы, он уже не чаял отсюда выбраться...
И вот наконец его коснулся теплый ветер оттуда, сверху, ветер иного мира... Почти не помня себя, взобрался Варавва по склону и очутился в винограднике. Там он лег на землю, лежал и смотрел в пустое, стемневшее небо.
Уже повсюду было темно. И на земле, и на небе. Повсюду.
Когда Варавва возвращался в город по ночной Via Appia, ему было очень одиноко. Не потому одиноко, что никто не шагал с ним рядом и никто не встречался ему, а потому, что был он один-одинешенек в бескрайной ночи, охватившей всю землю, и не было у него никого ни на земле, ни на небе, никого среди живых или мертвых. Он и всегда-то был одинок, но только теперь это понял. Он шел во тьме, будто был в ней погребен, и старое, одинокое лицо его пересекал шрам от раны, нанесенной отцом. И на морщинистой, старой груди пряталась в седых волосах бирка раба с перечеркнутым именем Бога. Да, он был один-одинешенек, никого не было у него ни на земле, ни на небе.
Он был заперт в самом себе, в своем царстве мертвых. И как из него вырваться?
Один-единственный раз был он соединен с другим человеком. Да и то железной цепью. Только железной цепью, и больше ничем, никогда.
Он слушал, как его собственные шаги отдаются от кремнистой дороги. А то тишина была полная, будто во всем свете, кроме него, ни души. Со всех сторон обступала его тьма. Ни огонька. Нигде ни единого огонька. И не было звезд в вышине, и все было покинутое, пустое.
Он тяжело дышал, воздух был душный и жаркий, будто в горячке. Или это сам Варавва в горячке, может, он занемог, может, там, внизу, закралась в него смерть? Смерть! Он всегда носил ее в себе, она была в нем, все время с тех пор, как он жил на свете. Она гнала его по темным ходам, темным кротовым ходам его собственного рассудка, наполняла его ужасом. Хоть был уже стар Варавва и не хотел больше жить, но она наполняла его ужасом. А ведь он бы даже с радостью... Просто с радостью...
Нет, нет, только не умереть! Не умереть!..
А те собираются в царстве мертвых, чтоб молиться своему Богу, соединяться с ним и друг с другом. Те не боятся смерти, они победили ее. Сходятся на свои братские встречи, на свои вечери любви... «Любите друг друга»... «Любите друг друга»...
Но вот он пришел к ним, а их там не оказалось, их там ни единого не оказалось. И он блуждал среди тьмы, по своим кротовым ходам...
Куда же они подевались? Куда они подевались, эти, которые якобы любят друг друга?
Куда подевались они, ведь кругом ночь, душная ночь (здесь, уже в городе, его еще больше давила духота), – ночь окутала всю землю, горячечная ночь, и нечем дышать, ночь давила, душила Варавву...
Он повернул за угол, и в ноздри ему ударил запах дыма. Дым шел из подвала в доме неподалеку, валил из первого этажа, и кое-где сквозь оконца выбивались языки пламени... Варавва бросился туда!
На бегу он слышал голоса тоже бегущих людей:
– Пожар! Пожар!
На перекрестке он увидел, что по другой улице тоже горит, и даже еще сильнее. Он ничего не мог понять... И вдруг откуда-то донеслось:
– Это христиане! Это христиане!
И – разом отовсюду:
– Это христиане! Христиане!
Сперва Варавва так и застыл на месте, он не мог понять, что они говорят, не мог сообразить. Христиане?.. И вдруг он все понял.
Ну да! Это же христиане! Это они подожгли Рим! Они весь мир подожгли!
Теперь-то ясно, почему их не было в катакомбах! Они оставались тут, чтобы предать огню мерзкий Рим, чтобы весь мерзкий этот мир предать огню! Их час настал! Пришел их Спаситель!
Распятый вернулся, тот, с Голгофы, вернулся. Чтоб спасти людей, чтоб разрушить этот мир. Он же обещался! Уничтожить, сгубить его в пламени. Он же обещался. Наконец-то он явил свою силу. И Варавва должен ему помочь! Пропащий Варавва, пропащий брат его по Голгофе, теперь уж не подведет! Теперь уж он его не обманет!
Он уже бежал к горящему дому, тому, что поближе, выхватил головню, швырнул в окно соседнего дома. Одну за другой он хватал головни и бросал, бросал, в подвалы, в дома! Он не подведет. Уж Варавва не подведет! Он попадал точно! И какой взвивался огонь! Пламя перепрыгивало от одного дома к другому, лизало стены, все стояло в огне! А Варавва все бегал, чтоб еще больше было огня, он бегал, задыхался, и перечеркнутое имя Божие колотилось возле его сердца. Он не подвел! Он не подвел своего Господа, когда в самом деле ему понадобился, когда пробил час, великий час, когда пришла пора погибнуть всему! Огонь разбегался, разбегался! Все превратилось в огромное неуемное море пламени. Весь мир стоял в пламени!
Вот оно! Смотри – вот оно, его царство!
* * *
В тюрьме под Капитолием собрали всех христиан, которых обвинили в поджоге, среди них был и Варавва. Его схватили на месте преступления, допросили и привели сюда, к ним. Он был теперь с ними.
Тюрьма была высечена прямо в скале, и влага сочилась по стенам. В полумраке нельзя было разглядеть лиц, и Варавва радовался этому. Он сидел на гнилой соломе, в сторонке, отвернувшись ото всех.
Они говорили все про этот пожар, про то, какая их ждет судьба. Конечно, обвинение в поджоге – только предлог, чтобы их схватить. Судья сам прекрасно знал, что ничего они не поджигали. Их же никого и не было там, на пожаре, они из домов-то не выходили, как узнали, что на них готовят облаву, что кто-то выдал место встречи в катакомбах. Они не виноваты. Но какая разница? Всем надо, чтоб они были виноваты. Всем надо верить тому, что орал подкупленный сброд: «Это христиане! Это христиане!..»
– Кто же их нанимал? – раздался голос из темноты. Но никто на него и внимания не обратил.
...Как могли они, последователи Учителя, устроить пожар, поджечь Рим? Ну можно ли поверить в такое? Учитель души людей сожигает огнем, не города их. Он Господь наш и Бог неба и земли, не преступник.
И стали они говорить про него, про того, кто Свет и Любовь, и про царство его, которого они ждали по его обетованию. И стали петь гимны, и в них были красивые, странные слова, каких Варавва не слыхивал прежде. Он сидел и слушал их повесив голову.
Тут отодвинули снаружи железный засов, заскрипели дверные петли, и вошел надзиратель. Он оставил дверь приоткрытой, чтоб впустить немного света, пока он будет кормить заключенных. Сам же он, видимо, только что плотно поел и неплохо выпил, ибо был краснорож и болтлив. Грубо бранясь, он швырял им почти несъедобную пищу. Руганью своей он, правда, не хотел никого оскорбить, он просто говорил на языке, присущем тем, кто несет эту службу, все тюремщики во все времена говорят так. В общем, он был даже дружелюбен. Вдруг он заметил Варавву, на которого как раз падала полоса света из приоткрытой двери, и разразился хохотом.
– Этот болван тоже тут! – заорал он. – Бегал, Рим поджигал! Вот дурень! А вы еще врете, будто не вы поджигали! Его схватили, как раз когда он бросился с головней к складу горючего – Кая Сервия складу!
Варавва не поднимал глаз. Лицо у него застыло и не выражало ничего, только побагровел шрам под глазом.
Остальные узники разглядывали его с изумлением. Тут никто его не знал. Они-то думали, он преступник, чужой какой-то, его и допрашивали отдельно.
– Быть не может, – перешептывались они.
– Чего – не может? – удивился тюремщик.
– Не может он быть христианином, – отвечали ему. – Если все правда, что ты про него сказал.
– Нет? Не может? Да это собственные его слова. Мне говорили, которые схватили его. Он и на допросе признался.
– Мы его не знаем, – бормотали они смущенно. – Если б он был из наших, мы б его знали. А мы в первый раз его видим.
– Будет вам прикидываться! Погодите-ка, сейчас полюбуетесь! – И он подошел к Варавве и повернул у него на шее бирку. – Нате! Глядите! Это что – не вашего бога имя, а? Я каракулей этих не разбираю, но разве не так, а? Читайте-ка сами!
Они обступили его и Варавву и, потрясенные, рассматривали надпись на оборотной стороне бирки. Большинство не могло ее разобрать, но кое-кто шептал в тревоге:
– Иисус Христос... Иисус Христос...
Надзиратель перевернул бирку и торжествующе оглядел лица вокруг.
– Ну, теперь что скажете, а? По-вашему, он не христианин? Сам небось показал это судье, да еще объявил, что он не кесарев раб, а бога этого, какому вы молитесь и которого давно вздернули. Ну вот, и самого его вздернут, тут уж я об заклад побиться могу. И вас всех, между прочим, тоже! Хоть вы-то куда ловчее, вот только не повезло вам, объявился между вами дурак, сам дался нам в руки и объявил, что он, мол, христианин!
Ухмыляясь, он обвел глазами их потерянные лица и ушел, заперев за собою дверь.
Снова они обступили Варавву и засыпали его вопросами. Кто он? Неужели христианин? К какому же он принадлежит братству? И неужели он действительно поджигал?
Варавва ничего не отвечал им. Лицо у него было совсем серое, и старые глаза глубоко прятали взгляд.
– Христианин! Да вы что – не видели, надпись-то перечеркнута!
– Перечеркнута? Имя Господа – перечеркнуто!
– Ну да! Вы же сами видели!
Кое-кто, правда, все заметил, но они не подумали о том, что могло это означать. Что же это означало?
Вот один потянул к себе бирку и принялся снова разглядывать, и, хоть совсем потускнел свет, они разглядели, что чьей-то, бесспорно, сильной рукой с помощью ножа четко, грубо, крест-накрест перечеркнуто имя.
– Почему перечеркнуто имя Господа? – спрашивали они. – Зачем? Что это значит? Ты что – не слышишь? Что это значит?
Но Варавва не отвечал ни единого слова. Он сидел, свесив голову, позволял им делать что хотят с его биркой, но не отвечал ни единого слова. Их все больше дивил и возмущал этот человек. Выдает себя за христианина, но не может такой быть христианином! Виданное ли дело! Наконец кто-то пошел за стариком, который сидел поодаль во тьме застенка и не принимал никакого участия в общем переполохе. С ним поговорили, скоро он поднялся и подошел к Варавве.
Был он крепко сложен и, хоть спина уже слегка согнулась, все еще очень высок ростом. Волосы у него были длинные, но поредели и совсем побелели, как и низко свисавшая на грудь борода. Все в нем вызывало почтение, но был он кроток, и синие глаза глядели открыто, почти по-детски, хоть мудрость старости стояла в них.
Сперва он долго вглядывался в Варавву, в его старое, опустошенное лицо. Потом как будто вспомнил что-то и качнул головой.
– Это же так давно было, – сказал он, оправдываясь, и опустился рядом с ним на солому.
Остальные, те, кто стояли вокруг, изумлялись. Неужели высокочтимый отец знает этого человека?
А он, безусловно, его знал, это сразу стало ясно, едва он заговорил. Он спрашивал у Вараввы, как прошла его жизнь. И Варавва рассказал о том, что выпало ему на долю. Не все, конечно, куда там, но так, что тот многое понял и о многом мог догадаться. Когда он понимал что-то, о чем Варавва умалчивал, он только задумчиво кивал головой. Они хорошо поговорили, хоть Варавва не привык никому доверяться, да и теперь он доверялся старику только отчасти. Но он отвечал тихим, усталым голосом на вопросы старика и даже смотрел иногда в детские умные его глаза и в старое, морщинистое лицо, которое тоже не пощадили годы, но совсем иначе, чем лицо у Вараввы. Морщины врезались в него глубоко, но все равно лицо было другое, оно будто светилось покоем. Кожа была почти белая, и щеки запали, может, оттого, что зубов уж не много осталось. А вообще он почти не изменился. И говорил он в точности как когда-то, и тот же был у него простой, бесхитростный выговор.
Высокочтимый старик узнал постепенно, отчего перечеркнуто имя Господне и отчего Варавва помогал поджигать Рим – он хотел помочь им, помочь Спасителю спалить этот мир дотла. Горько покачал головой старик, услышав такое. И спросил у Вараввы, как мог он поверить, что это они, христиане, разжигали пожар. Это же все приказал сам Кесарь, и это ему помогал Варавва.
– Ты помогал властителю мира сего, – сказал он. – Тому, про которого значится у тебя на бирке, что он твой хозяин, а вовсе не Господу, чье имя у тебя перечеркнуто. Сам того не ведая, ты служил законному своему владельцу. Наш Бог есть Любовь, – прибавил он тихо. И он взял в руку бирку, болтавшуюся на седой волосатой груди у Вараввы, и горестно посмотрел на перечеркнутое имя своего Господа и Учителя.
Потом он выпустил ее и тяжко вздохнул. Он понял, что такая уж у Вараввы пластина, и носить ему ее до конца, и ничего, ничего нельзя тут поделать. И он понял, что Варавва тоже это понимает, он прочел это в робких, одиноких глазах.
– Кто это? Кто он? – закричали все наперебой, когда старик поднялся с места. Тот не хотел отвечать, хотел уклониться. Но они так наседали, что ему пришлось уступить.
– Это Варавва, тот, кого отпустили вместо Учителя, – сказал он.
В полном недоумении оглядывали они чужака. Ничто не могло сильней удивить их и возмутить.
– Варавва, – шептали они. – Варавва-отпущенник!
Это не умещалось у них в голове. И глаза их блестели во тьме гневом.
Но старик их утешил.
– Это несчастный человек, – сказал он, – и мы не вправе судить его. Сами мы полны изъянов и пороков, и не наша заслуга, если Господь милует нас. Мы не вправе судить человека за то, что у него нету Бога.
Они стояли потупясь и словно не смели взглянуть на Варавву после этих слов, страшных слов. Молча отошли они от него и опять сели там, где сидели раньше. И старик нехотя, вздыхая, пошел следом за ними.
А Варавва опять остался один.
Так сидел он потом один все дни в застенке, в стороне и отдельно от всех. Он слышал, как они пением славили Бога, как поверяли друг другу мысли о смерти и о жизни вечной, которая их ожидала. И когда вынесли приговор, они еще больше говорили про это. Они верили, и не было в них никакого сомнения.
Варавва слушал их речи, но крепко задумавшись. Он тоже думал о том, что предстояло ему. Вспоминал он и человека на Масличной горе, который разделил с ним тогда хлеб и соль и который давно уже умер снова и давно уже скалится мертвым черепом в вечную тьму.
Жизнь вечная...
А был ли какой-то смысл в той жизни, что прожил Варавва? Вряд ли. Но ведь он ничего про это не знал. И не ему это было решать.
Поодаль, в кругу своих, сидел седобородый старик. Он их слушал и беседовал с ними на неповторимом своем галилейском наречии. А то вдруг умолкал, подперев ладонью большую голову. Может, вспоминались ему родные берега Геннисаретские, где он хотел бы лежать после смерти. Но не в его это было воле. Он повстречал на дороге Учителя, и тот сказал ему: «Следуй за мной». И ничего другого ему не осталось. Он смотрел прямо перед собой детским взглядом, и старое, морщинистое лицо излучало великий покой.
И вот повели их на распятие. Их сковали цепями по двое, но Варавве не хватило пары, и он шел последним, не скованный ни с кем. Просто так получилось. И еще получилось, что распяли его на самом дальнем кресте.
Собралась большая толпа, и, пока все кончилось, прошло много времени. И все это время распятые обнадеживали и утешали друг друга. Но никто не утешал Варавву.
Спустились сумерки, и зрители разошлись, истомившись долгим стоянием. Да все и умерли уже.
Только один Варавва висел еще живой. Когда он почувствовал, что пришла смерть, которая всегда так страшила его, он сказал во тьму, словно бы к ней он обращался:
– Тебе предаю я душу свою.
И он испустил дух.
Сивилла
SIBYLLAN
Перевод Т. Величко
Редактор С. Белокриницкая
В одинокой хижине на откосе горы, у подножия которой лежали Дельфы, жила древняя старуха со своим слабоумным сыном. Хижина была совсем маленькая, задней стеною ее служил горный склон, из которого постоянно сочилась влага. Это была убогая лачужка, некогда построенная здесь пастухами. Она сиротливо лепилась к пустынной горе высоко над городом и над священной землею храма. Старуха редко покидала хижину, сын – никогда. Он сидел в полумраке и улыбался чему-то своему, как он сидел и улыбался всю жизнь. Теперь он был далеко не молод, кудлатая голова начала уже седеть. Но лицо его осталось нетронуто, осталось такое, каким оно было всю жизнь – безбородое, поросшее пухом и в своей младенческой первозданности лишенное ясно обозначенных черт, – с этой застывшей на нем странною улыбкой. У старухи лицо было суровое и морщинистое, почерневшее, точно опаленное огнем, взгляд ее обличал человека, которому дано было видеть бога.
Жили они в полном уединении, никто к ним не наведывался и даже близко никогда не подходил. У них было несколько коз, в горах старуха собирала коренья и травы – тем они и кормились. От других людей им не приходилось ждать помощи, ибо никто не хотел с ними знаться.
Вход в хижину был обращен в сторону долины, и старуха часто сидела на пороге в сумрачной нише и смотрела вниз, на давным-давно оставленный ею мир. Все лежало перед нею как на ладони: город, где люди сновали меж домами, занятые своими хлопотами, священная дорога, по которой пилигримы торжественно шествовали к храмовой площади, алтарь, где совершались жертвоприношения перед обителью бога. Все ей было хорошо знакомо. А в иные дни поутру, рано поутру, происходило то, что было ей знакомо ближе и лучше всего. Храмовая площадь еще безлюдна, лишь юноша-прислужник подметает перед храмом и убирает вход свежими лавровыми ветками из священной рощи бога. Солнце только встало из-за гор на востоке, и вся долина залита новым ясным светом. И, сопровождаемая двумя жрецами, неспешно идет вверх по священной дороге молодая женщина, она совершила омовение в источнике, бьющем из горной расщелины, лицо ее исполнено благоговения, а взор устремлен к святилищу, к которому она приближается. Она наряжена невестою, боговой невестою. И юноша-прислужник у входа в храм идет ей навстречу, неся чашу, и окропляет ее освященной водою, и, очистившись, вступает она в обиталище бога, дабы исполниться его могучим духом.
Так велось с незапамятных времен, так было и теперь. Она сидела на пороге хижины и смотрела на все своими старыми глазами. Позади нее сидел в полутьме ее седоголовый сын с поросшим пухом младенческим лицом и улыбался.
Однажды под вечер, перед самым закатом, на горной тропе, что вела из города, показался человек. В этом не было ничего необычного, случалось иногда, что люди поднимались на горные пастбища, где пасся их скот. Тропа проходила ниже хижины на порядочном расстоянии. Но на этот раз произошло нечто такое, чему она немало удивилась. Человек вдруг свернул и начал взбираться вверх по крутому откосу без всякой дороги. Такого никогда прежде не случалось, ни разу не бывало, чтобы кто-то сошел с тропы и стал подниматься к ее хижине. Кому было сюда приходить. Склон был каменистый, в осыпях, и порою человек с трудом продвигался вверх. Быть может, ему были внове здешние места. Из своего горного гнезда она не отрываясь следила за ним своими старыми глазами.
Он подходил все ближе, и она могла уже различить его лицо. Она его не знала. Но она ведь никого не знала. Никого из ныне живущих. Он был довольно высокого роста, с темной бородою, густой и длинной, не остриженной по местному обычаю. Щеки его были бледны, совсем бескровны, хотя подъем, очевидно, требовал от него немалых усилий. Был он мужчина в цвете лет, пожалуй, едва вступивший в средний возраст.
Подойдя, он приветствовал ее, однако не так, как принято было в этих краях. Когда же, опустившись на каменную скамью возле хижины, он заговорил, медленно и поначалу с заметным трудом подбирая слова, она вполне удостоверилась в том, что он чужеземец, прибывший, должно быть, издалека. Что-то чужое почудилось ей и в его тяжелом взгляде, в выражении глаз, старых, несмотря на его молодость. Но конечно, это могло быть его собственное выражение, не общее для всех его соплеменников.
Он прибыл в Дельфы, рассказал он ей, чтобы спросить оракул о том, что имеет для него большую важность. Однако его отослали, не дав изложить свой вопрос оракулу, не допустили его в ту залу в глубине храма, где собираются вопрошающие.
На его вопрос ответа нет – так ему объяснили. Ни один в мире оракул не может на него ответить.
Удрученный покинул он храмовую площадь и весь день бесцельно бродил по городу, то и дело порываясь оставить Дельфы, где ему нечего больше ждать, и отправиться дальше, куда глаза глядят. Но случилось, что в одном из грязных переулков в самой бедной части города он разговорился со слепым нищим, дряхлым стариком, который сидел на углу с протянутой вперед трясущейся рукою в надежде, что кто-нибудь бросит ему подаяние.
Странно было видеть его в этом переулке, где, верно, все одинаково бедны, но он рассказал мне, что в прежние времена собирал милостыню на храмовой площади и у священной дороги, а теперь нет больше сил добраться туда. Так завязался у нас разговор, и я тоже поведал ему о своих заботах, о долгом и напрасном странствии своем в Дельфы и о том, как я огорчился, узнав, что оракул не может дать мне ответ. Он выслушал меня с участием и с пониманием, хотя ему показалось удивительно, что Дельфийский оракул не может на что-то ответить. «Видно, мудреные у тебя вопросы», – сказал он мне.
Но потом, поразмыслив немного, он задумчиво добавил, что, пожалуй, есть один человек, который может мне помочь. Который может дать ответ на любой, даже самый трудный вопрос. И он рассказал, что высоко в горах живет старая жрица Дельфийского оракула, древняя пифия, проклятая и ненавидимая всеми за то, что преступила свой долг перед богом. Перед храмом, и перед богом, и перед всем, что священно, преступила она свой долг, но она была великая сивилла, наделенная особым даром, ни одна жрица Дельфийского оракула не могла с нею сравниться, не была любима и одержима богом, как она. С широко отверстыми устами изрекала она свои прорицания, и никто не мог выдержать вида ее, когда она предавалась своему богу. Его могучее дыхание вырывалось у нее изо рта, и рассказывали, что речь ее была неистова, точно бушующее пламя, – так любил ее бог. Он вещал лишь через нее, отвергая всех других, и это продолжалось долгие годы.
Но потом она тяжко провинилась и перед богом, и перед людьми, и тем сама себя погубила, и была изгнана из города разъяренной толпою с кольями и каменьями, и проклята была всеми людьми, ну и богом, само собою, богом, коего она предала. «Случилось это, когда я еще был мальчишкой, – сказал старик, – однако, хоть никто о ней больше не говорит и даже имени ее не поминает, она, по слухам, все еще живет в горах, куда ее прогнали. И я не сомневаюсь, что так оно и есть. Ибо, кто был столь близок к божеству, как она, тому, я думаю, умереть непросто, в ней, должно быть, особая сила таится и по сей день. В кого бог однажды вселил свой дух, того он не бросит, в том он останется жить, хоть бы и проклятием.
Ступай-ка ты, разыщи ее, у нее ты, уж верно, получишь ответ на твои вопросы, хоть, может статься, слова ее тебя ужаснут».
И он указал трясущейся рукою вверх, на эту гору, и, несмотря на свою слепоту, верно указал мне направление.
Та, к кому обращал он свою речь, продолжала сидеть недвижно, как сидела она в продолжение всего его рассказа. Черты ее не дрогнули, не выдали скрытых движений души. Удивленно, с пристальным вниманием всматривался он в темное морщинистое лицо, словно силясь прочесть эту древнюю книгу, несмотря на свой ясный шрифт столь трудную для чтения. Она словно написана была старинным языком, на котором ныне никто не говорит.
Долгое время сидела она молча, с отрешенным выражением, углубившись в себя.
– О чем же ты хотел спросить оракул? – молвила она наконец, словно очнувшись от своих мыслей.
– Я хотел спросить о моей судьбе, – ответил он.
– О твоей судьбе?
– Да, о моей судьбе. О моей жизни, какой она будет. Что меня ждет впереди.
– Но об этом почти все люди спрашивают, это единственное, что им любопытно знать. Чем же так примечательна твоя судьба? Или есть в ней что-то особенное?
– Да. Есть.
И он поведал о том необычном, что с ним приключилось, о происшествии, глубоко врезавшемся в его память, в которой, кажется, ни для чего другого не осталось места, о том, что никогда не оставляет его в покое и что побудило его отправиться в Дельфы, а теперь вот прийти сюда, к ней, в надежде найти объяснение и обрести хоть какой-то мир в душе.
– Я жил счастливо с молодою женой и маленьким сыном, – начал он, – в городе, где я родился и думал прожить до конца своих дней. Было у меня там дело, приносившее доход, и был дом, доставшийся в наследство от отца. Богат я не был, но нужды ни в чем не знал, о будущем своем мог не тревожиться и вел безмятежную жизнь, – казалось, все у меня шло хорошо.
Однажды, стоя у ворот своего дома, я увидел незнакомого человека, который брел, неся на себе свой крест. В этом не было ничего удивительного, ничего необычного, частенько бывало, что солдаты вели мимо моего дома людей, осужденных на распятие, путь к месту казни проходил по нашей улице. И в самом этом человеке тоже не было ничего особенного, что бросилось бы мне в глаза. Был он бледен и слаб на вид, казался изможденным. И, верно, потому приостановился на миг и прислонился к стене моего дома в нескольких шагах от меня. Это Мне пришлось не по нраву, я подумал, для чего ему здесь стоять, – осужденный на смерть, несчастный человек, еще, чего доброго, беду на дом накличет. И я ему сказал, пусть он идет своей дорогой, я не хочу, чтобы он тут стоял.
Тогда он оборотился ко мне, и, увидев его лицо, я понял, что это не был обыкновенный человек, что в нем воистину было что-то особенное. Но отчего мне так показалось, этого я не мог бы объяснить. В самих чертах его не было злобности, я думаю, они в обычное время выражали кротость и покорность, но не таким было лицо его в ту минуту – оно было столь властно и устрашающе, что мне никогда его не забыть. «За то, что ты не дал мне приклонить голову к твоему дому, твоя злосчастная душа не узнает блаженства вовек», – сказал он.
Слова его меня поразили и задели за живое, мне стало от них не по себе. Солдаты же только посмеялись, они понукали его, тоже недовольные тем, что он остановился, и погнали его дальше. Но прежде чем уйти со своим крестом, он снова оборотился ко мне и грозно произнес: «За то, что ты отказал мне в этом, тебя ожидает казнь ужасней моей: ты никогда не умрешь. Во веки веков будешь ты скитаться в этом мире и никогда не обретешь покоя».
И он взвалил на спину крест и вновь побрел с ним по улице, пока не скрылся вдали за городскими воротами.
А я остался стоять с каким-то странным чувством в душе. Будто со мною что-то случилось, что-то такое, чего я пока не в состоянии осмыслить. Я не мог бы этого объяснить ни себе, ни другим, но так это было. Соседи, которые слышали слова этого человека и видели, что я все еще стою, словно никак не могу опомниться, стали мне говорить, дескать, есть из-за чего огорчаться, стоит ли придавать значение словам какого-то преступника, которого должны распять, разве я не знаю, что такие любят изрыгать угрозы и проклятия, ибо злы на все и вся за то, что должны лишиться жизни, они же, известное дело, всякого могут наплести, так стоит ли придавать этому значение.
Я, конечно, понимал, что они правы. И мне стало спокойней оттого, что они так на это смотрят, подшучивают надо мною и лишь пожимают плечами. Я тоже повеселел, поболтав с ними, и воротился к своим делам, стараясь больше не думать об этом.
Однако совсем забыть о случившемся я не мог. Оно нет-нет да и всплывало передо мною, как я ни гнал от себя воспоминание. Время шло, я занимался своею работой, все было как обычно. Так мне по крайней мере казалось. Но произнесенные им слова остались во мне, звучали у меня внутри, кто-то повторял мне их снова и снова – кто? Я сам? Не знаю, но я их слышал, и слышал ясно и отчетливо. Я не мог понять, чего ради я их вспоминаю, ведь я знал, что они ничего не значат, совсем ничего, что они просто вырвались у какого-то неизвестного мне злодея, которому я не позволил приклонить голову к моему дому. Только и всего, и поэтому глупо придавать им значение. Отчего же я не могу их забыть?
Я твердо верил, что уж к завтрашнему дню это непременно пройдет. Но наутро я проснулся с ощущением, что со мною что-то случилось, и, пока я лежал в полусне, голос внутри меня вновь начал повторять те же слова, напоминая мне совсем тихо, будто шепотом, о том приговоре, который был надо мною произнесен – кем?
Поднявшись с постели, я опять стал самим собою и, как обычно, взялся за работу. Однако занимался я ею без особой охоты – это я-то, всегда работавший с усердием и радостью. На этот раз я не мог спокойно усидеть на месте и принялся праздно слоняться по дому, не берясь ни за какое дело. Ни к чему у меня душа не лежала. Это было совсем на меня не похоже, раньше я был другой.
И так продолжалось изо дня в день, я заметно переменился, не узнавал сам себя.
Не знаю, много ли прошло времени, пока донеслась до меня эта странная молва, будто тот, кого вели тогда по нашей улице на распятие, был сын бога. Открыто об этом не говорили, но люди в городе шептались, тайком передавали это друг другу. Те, кто должен бы доподлинно это знать, кто уверовал в него, они, по-видимому, прятались, не решались принародно свидетельствовать о нем, тогда еще не решались. Их, надо полагать, было немного, большинство же в городе, разумеется, не поверило молве, сочло ее наивною выдумкой, а те, что казнили его, объявили ее богохульством.
Сын бога... какой он сын бога, ясно, что нет, говорил я себе. Это же смешно. Чистейший вздор. Сын бога?.. И я стал разузнавать об этой молве, откуда она пошла и кто ее распускал – само собою, это были те, что уверовали, те самые, что прятались. Они утверждали, что свершилось чудо, даже множество всяческих чудес, по которым видно, что это правда, и к тому же разве не чудо, что сами они уверовали и просто-таки знают, что он – сын бога, им дано почувствовать это в сердце своем. Для них это было, разумеется, самое большое, самое важное из чудес. Эти люди доверия к себе не вызывали, к их словам прислушиваться не стоило.
Я заводил разговор об этом со своими соседями, спрашивал их, как им кажется, что они думают о слухах, будто тот самый злодей – если они еще помнят его, – тот, что прошел тогда мимо нас со своим крестом, будто бы он – сын бога. Они тоже слышали об этом, но полагали, что это все вздор и глупости.
– Но многие, кажется, верят этому, – говорил я.
Они в ответ пожимали плечами, дескать, мало ли на свете безумцев.
– А ты до сих пор все ходишь, раздумываешь о его словах? – со смехом спросил один из соседей.
– Конечно, нет, – ответил я и тоже засмеялся. – В уме ли ты, стану я думать об этом.
Но правду ли я ему сказал? Действительно ли я не думал об этом? Сказать-то можно что угодно, однако отчего я так переменился, упал духом, разучился радоваться, отчего все стало казаться мне так бессмысленно? Отчего это сделалось? Отчего я чувствовал, что все вдруг стало как-то пусто и уныло и во мне самом, и вокруг, – ведь прежде у меня никогда не было такого чувства. Что за перемена со мною совершилась? Отчего я стал таким?
Помню, выйдя однажды прогуляться, я очутился за городскими воротами, в хорошо знакомых мне благодатных местах с их виноградниками и нивами, средь которых разбросаны оливы и смоковницы. Я был поражен тем, какою серой и безотрадной показалась мне картина, прежде всегда восхищавшая мой взор. Стоял ясный день, мне же казалось, что уже вечереет, и непонятная тоска охватила меня при виде этих мест, серых и пустынных. Что это значит? Что творится со мною?
Неужели таков стал отныне мой мир, тот, в котором предстоит мне жить?
До сих пор помню, какая была у меня тяжесть в ногах, когда я шел обратно в город и к себе домой.
Жене я тогда еще ничего не сказал о своем состоянии, не хотелось ей говорить. Но она, я думаю, и сама видела, что я не в себе. Как было не видеть?
В конце концов мне стало невмоготу оставаться наедине со своею тайной, я долее не выдержал. И я пошел в ту комнату, где она обычно бывала в это время дня, чтобы рассказать ей все как есть.
Я застал ее лежащей на соломенной циновке, она играла с ребенком, и вышло так, что я пришел и помешал их игре. Как мог, я постарался ей объяснить, что со мною творится неладное, должно быть, на меня пало проклятие.
Она рассмеялась в ответ, продолжая играть с сыном, и, лежа на спине, приподняла его на руках высоко над собою, а смех ее звучал молодо и звонко.
– Похоже, так оно и есть, – сказала она, – ты теперь даже никогда меня не поцелуешь.
Я попытался улыбнуться, стоял и смотрел на них, и знал, что то, что я вижу, прекрасно и горячо любимо мною, – но и они тоже словно были припорошены серым пеплом, как и все, что я видел вокруг.
И я вдруг почувствовал себя чужим им обоим, посторонним, который не должен мешать их жизни.
Едва удалившись, я услышал, что они опять принялись за свою игру.
Я и сам был такой, как они, совсем недавно. Радовался, что я живу, что я существую, всякий день радовался этому. Эта жизнь была мне очень дорога.
Всякий день?.. Как странно, ведь он сказал, что я буду жить всегда, что я никогда не умру. Не странно ли... чем же мне быть недовольным? Не это ли было самым заветным моим желанием – чтобы мне не надо было умирать, чтобы никогда не умирать? Так отчего же я не радуюсь? Отчего не чувствую себя счастливым?
«Во веки веков... И никогда не обретешь покоя...»
Прежде я всерьез об этом не задумывался, а теперь мне словно приоткрылось, что такое вечность. Я начал понимать, что она отнимет у меня мою жизнь. Что она-то и есть сама погибель, само проклятие, она-то и лишит мою душу блаженства.
Вечность... что общего между нею и жизнью, думал я, ведь это полная противоположность всякой жизни, нечто беспредельное, необъятное, царство смерти, в которое живому существу страшно заглянуть. И в ней обречен я жить? Потому-то она и уготована мне? «Во веки веков...» Вот она, моя смертная казнь, самая жестокая, какую только можно измыслить. «Этот бог отнимет у меня всю радость жизни», – шептал я про себя.
Впервые представилось мне тогда то существование, какое ожидало меня в будущем, впервые провидел я его бессмысленность. И впервые поверил во власть надо мною страшного проклятия, поверил, что этот сомнительный бог сумеет добиться своего и душе моей действительно суждено испытать все, чем он ей грозил. Что все исполнится, как он предрек.
И все исполнилось. Совершавшееся со мною пагубное превращение становилось все заметней, и я был бессилен противиться ему. Что мне было делать, что я мог? Как мог бы я вмешаться в то, что со мною происходило, воспрепятствовать ему? Это было не в моей власти, я был совершенно беспомощен. Мог ли я помочь, если злосчастная, взывавшая о помощи душа – это и был я сам, если пагубное превращение, которое совершалось, преисполняя меня безысходной тоскою, – это и был я сам.
И вот однажды, доведенный до отчаяния, я сделал нечто... нечто такое, что лишь усугубило мою беду, мое злосчастие. На дворе был день, но я праздно лежал на постели, терзаемый моими неизбывными думами, тоскою моей души, – моей души, которая не была больше моею. Внезапно меня охватила бешеная ненависть к своей судьбе и к этому злобному богу, который был в ней повинен. Для чего я мирюсь с этим?! С этим безумием?! Для чего не восстану против этой силы, завладевшей мною, и не крикну: «Я не желаю! Не желаю! Я хочу жить, жить, как живут другие, быть таким, каким я был! Я хочу быть как все другие! Хочу жить!»
И когда я это произнес – я произнес это вслух, хотя говорил с самим собою, – проклятие будто спало с меня, как тяжелые одежды, и я почувствовал такое облегчение, такую свободу, каких не испытывал все последнее время. И тогда я поднялся со своего ложа и пошел в ту комнату, где были жена и сын. Минуту я стоял, слушая их лепет и любуясь их игрою, а затем подошел, мягко отстранил ребенка и поцеловал ее. Она обвила мою шею руками, своими теплыми обнаженными руками, и мы с нею пошли ко мне в комнату, и, когда мы разделись, она легла на мою постель, где я незадолго перед тем лежал в терзаниях, и улыбнулась мне знакомой милой улыбкой, ожидая, чтобы я к ней пришел. Все было как раньше, когда мы друг друга любили, и мне казалось, я одержал победу и снова сделался счастлив.
Но я ничего не мог. Она была со мною нежна, нежней, чем всегда, я это чувствовал, ведь мы так давно не были вместе, но желание во мне не разгоралось. Она обдавала меня своим жаром, но жаром пылала лишь она, я же только покрылся холодной испариной и ничего не мог. Я ощущал на своем лице ее прерывистое дыхание, прерывистое от влечения ко мне. Но я был ни на что не способен.
В конце концов я разрыдался. Охваченный отчаянием, я лежал, обнимая ее прекрасное горячее тело, и рыдал.
Она погладила меня по волосам, по щекам. Потом обхватила обеими руками мою голову и долго смотрела на меня, смотрела пристальным, испытующим взглядом мне в лицо, как она давно уже не делала.
– Какие старые у тебя стали глаза, – сказала она.
С того дня несчастье мое сделалось полным, стало подобно бездонному колодцу, куда я низвергся теперь, когда и это тоже было у меня отнято. Но чему же тут удивляться? Не в этом ли высшее блаженство и счастье жизни? Неудивительно, что у меня его отняли, что мне не дано было больше его вкусить и никогда уже не будет дано, мне, лишившемуся блаженства вечного. Мне, осужденному на вечное злосчастие.
После этого, кажется, все стали замечать происшедшую во мне перемену, по крайней мере мне так чудилось. Меня избегали, обходили стороною, казалось мне, а кто бывал принужден беседовать и встречаться со мною взглядом, тот смотрел на меня как-то странно. Соседи стали неразговорчивы, они, должно быть, наконец поняли, что со мною случилась беда, и догадывались, что это связано с тем человеком, которого вели на распятие и которому я не дал приклонить голову к моему дому. Они никогда не заговаривали об этом и, как я уже сказал, избегали меня, но то, что они заметили совершившееся со мною превращение, было очевидно, так же как и то, что они украдкой наблюдали за мною, перешептывались и, конечно, лишь из сострадания не говорили мне, как жена, что у меня стали старые глаза.
Жена моя чем дальше, тем больше робела передо мною, будто что-то во мне пугало ее. Я думаю, это мои глаза ее пугали. И быть может, она помнила мои слова, что на меня пало проклятие. Не знаю, мы с нею об этом не говорили, и о том, что между нами произошло, тоже ни словом не обмолвились.
Она, верно, больше не хочет заглядывать в мои глаза, говорил я себе.
Должно быть, она не меньше меня страдала от того превращения, какое со мною совершилось. Не знаю, ведь мы не поверяли друг другу своих мыслей, не знали, что у другого на уме. А взоры наши после того случая, о котором я рассказал, никогда не встречались.
Какие мысли ее занимали, мне, кстати сказать, всегда было безразлично, она была сущее дитя, и никакого проку от разговоров с нею быть не могло, но прежде я об этом не думал, а просто наслаждался, слушая ее младенческую болтовню. Теперь же я вовсе перестал к ней обращаться, ибо понимал, что обсуждать что-то с нею бессмысленно. И для меня стало мукою само ее присутствие, стало мукою знать, что она где-то здесь, поблизости, даже слышать ее голос или смех у себя в доме. Но смеялась она теперь не так уж часто. Большую часть времени она проводила с ребенком, они, должно быть, по-прежнему играли друг с другом, но тише, чем раньше, их было почти не слышно. Вообще все в нашем доме очень переменилось.
Я невольно затаил на нее злобу после того, как не смог тогда ею овладеть, мне нужно было как-то ей отомстить. И вот теперь я ей мстил. Я перестал смотреть в ее сторону, не замечал ни ее, ни ребенка, вел себя так, будто их нет. К сыну я, впрочем, никогда не был особенно привязан – или был? Во всяком случае, мне всегда казалось, что она слишком много нянчится с ним, верно, потому, что сама как дитя, и подспудная неприязнь, которую я к нему питал, с особою силой вспыхнула теперь, когда я оказался навсегда от нее отлучен. Это, как я понимал, мучило ее более всего другого – что из-за нашего разлада страдает ребенок, – и я все чаще видел по ней, что она плакала.
Хоть я и избегал на нее смотреть, но это я всегда замечал.
От горя человек не становится добрей. Коли я страдаю, отчего другой не должен страдать!
Впрочем, ничего грубого и злого я ей не говорил, в этом она не могла бы меня упрекнуть. Я вообще почти не говорил с нею, и то ожесточение, что копилось во мне, старался ничем не выдавать, держал его при себе. Но все же она, я думаю, чувствовала, что происходило у меня внутри, не могла не чувствовать. Злоба, она, как любовь, понятна без слов.
Дом наш будто вымер, так он стал тих и уныл, жена ходила забитая и подавленная, а сын норовил спрятаться при моем приближении.
Счастливей от этого я, понятно, не делался. Наоборот, душа моя лишь чувствовала себя еще более неприкаянной и злосчастной. С пустыми глазами я подолгу стоял и смотрел в пространство перед собою либо в окно, ничего не видя и даже не сознавая, где я нахожусь, точно узник, заточенный в самом себе. Или же, не зная, куда себя деть, бродил по серым, безотрадным местам за городскими воротами, где деревья и нивы были покрыты пеплом. Так продолжалось сам не знаю сколько времени.
И вот однажды она исчезла. Вместе с сыном. К собственному удивлению, я стал метаться по всему дому в надежде их отыскать, и, когда я вновь – не знаю, в который раз, – вбежал в комнату, где они имели обыкновение играть друг с другом и откуда всегда раздавался их смех – правда, в последние недели его не было слышно, – когда я вновь туда вошел и наконец-то понял, что их здесь нет и никогда уже больше не будет, я со стоном рухнул наземь. Мне словно ножом пронзили грудь, и я истекал кровью, лежа на их соломенной циновке, той самой, на которой она когда-то лежала на спине и смеялась, держа сына высоко над собою в своих обнаженных руках. Не знаю, сколько времени я так провел. Но вдруг я услышал какой-то звук внутри себя, он раздавался все ясней и ясней, какой-то голос, – я невольно приподнялся. И сел, уставив взгляд в пространство. Снова и снова, все громче и громче слышал я то, что звучало во мне, слышал то, что он мне тогда сказал, устрашающие слова приговора, произнесенного им надо мною. Они заполнили меня всего своим гулким звучанием, внутри у меня было пусто, точно в оставленном всеми доме, и лишь зловеще отдавались меж голых стен грозные слова, предначертавшие мою судьбу, мое будущее. Его проклятие гулким эхом перекатывалось у меня в душе.
И в тот же вечер, никем не замеченный, я покинул родной город и ушел во тьму, ушел, чтобы начать свое странствование сквозь времена. В одинокий ночной час ступил я на стезю моего вечного проклятия.
С той поры я блуждаю по свету, не зная отдыха, не зная покоя, как мне и должно, – блуждаю, не находя, куда приклонить голову, как он. Странствую в этом мире, припорошенном пеплом, – в моем мире, покрытом слоем серого пепла. Все горе людское, все зло и страдание я в нем перевидал. Я постиг, что он таков же, как я, так же зол, бессердечен и чужд любви, как я, обреченный вечно в нем жить. Я постиг, что это мой мир, мир неприкаянного, проклятого богом человека, чьей злосчастной душе вовек не узнать блаженства.
По временам мне встречаются люди, которые верят в того, кто осудил меня на эту жизнь. Все чаще сталкиваюсь я с ними, ибо учение его, должно быть, расходится все шире. Люди эти кажутся довольно счастливыми, наивность ли их тому причиною или что другое, быть может, вера, – сами они, разумеется, говорят, что вера. И быть может, это правда. Для них он, по-видимому, стал благословением, тот бог, что для меня стал страшным проклятием. И они утверждают, что он добр и полон любви, что он – сама любовь для того, кто в него верит и предается ему. Что ж, возможно. Да что мне до этого? Для меня он – злобная сила, которая держит меня в своих когтях и никогда не выпустит, никогда не даст мне обрести мир.
Что он действительно бог, что тот человек, которого вели тогда по нашей улице мимо моего дома на распятие, действительно был сын бога, в этом они нимало не сомневаются. Им, говорят они, было множество знамений: он воскрес из мертвых, он вознесся на небеса, был поднят туда на облаке – и много, много других. Но что мне за дело до этого всего? Их вера, их учение, их знамения и чудеса – до всего этого мне нет никакого дела.
Для меня знамение – вечный непокой моей души.
Конечно, я напрасно не дал ему приклонить голову к моему дому. Но для меня он был не бог, а всего лишь преступник, один из многих, кто проходил мимо, неся на себе свой крест, и кого все сторонились. Сострадание? Человеколюбие? Что ж, может, и так. Но я человек не слишком добросердечный и никогда не выдавал себя за такового. Я обыкновенный, самый обыкновенный человек, каких больше всего. В ту пору, когда это случилось, я был счастлив, беззаботен и черств сердцем, каким естественно быть, когда не знаешь жизненных тягот. Быть может, я был дурной человек, однако не хуже других людей. Из всего его учения любви я понял немногое, пожалуй, лишь то, что оно не для меня. И кстати сказать, так ли уж сам он добр и полон любви? Тем, кто верит в него, он дарует мир и покой – так про него говорят, – берет их к себе на свои небеса, а кто в него не верит – и это тоже про него говорят, – тех он обрекает на вечные муки. Коли это правда, то выходит, что он точь-в-точь как мы, такой же добрый и такой же злой. Кто нам по нраву, с теми мы тоже добры, а остальным желаем всяческого зла. Будь у нас такая власть, как у него, быть может, и мы предавали бы их проклятию на вечные времена – хотя это, пожалуй, сомнительно. Пожалуй, только у бога достанет на это злобы.
Время от времени я сталкивался с этими людьми в разных концах мира, но близкого знакомства я с ними не завязывал. Я никогда не схожусь с людьми близко, они меня чуждаются, робеют передо мною, должно быть, чуют во мне что-то необычное, что-то странное, такое, что их пугает. Я думаю, это мои глаза их пугают. Я замечал, что они отводят взгляд, увидев мои глаза. Им, верно, страшно в них заглянуть, заглянуть в этот пересохший колодец, в эту глубь, в которой нет ничего. Кого не испугает такое? Понятно, что они боятся меня.
Как она.
Как она... Теперь у нее, верно, есть мужчины с молодыми глазами, не раз думал я во время моих одиноких странствований. И сердце у меня сжималось, и я прикрывал ладонью свои глаза, будто хотел их спрятать, хотя никто в них не смотрел, не от кого было мне прятать их.
Почему бы ей и не иметь мужчин! Так все и должно быть. Когда у меня были молодые глаза, тогда она любила меня.
Или не любила?
Так я думал наедине с собою. Но однажды очень далеко, на чужбине, я встретил человека из родного города, который рассказал, что жена моя окончила жизнь в доме своей матери, жалкая и исчахшая, без всяких следов былой красоты, а сын мой умер от чумы задолго до ее смерти.
Так их не стало, тех, что вдвоем весело смеялись.
Сколько времени прошло с той поры? Не знаю, ведь время – вещь неведомая мне, для меня оно не существует. К чему мне вести ему счет? Но кажется, что это было уже очень давно.
Да, все они умрут. За родом род, со всеми их муками и злодействами, со всем, что служит им для мучительства, для истязания друг друга. Я же не умру никогда. Доколе существуют эти создания, по большей части злые, дотоле буду существовать и я, сам такой же злой, как они, их судьба – моя судьба. Оттого-то хочу я узнать свою судьбу, хочу заглянуть в нее, заглянуть в будущее, хоть я трепещу и ужасаюсь. Сорви же покровы и дай мне в него заглянуть, как бы зловеще оно ни было!
Он умолк.
Сумерки меж тем давно уже спустились. Та, к кому он обращал свою речь, ничего не отвечала, и он будто был совсем один.
– Я видел бога, так же как и ты, – добавил он, помолчав. – Я встретил его на своем пути, и эта встреча наполнила мне душу ужасом.
Старуха сидела, скрытая от него густою тьмой. Но он услышал, как она тихо, почти беззвучно сказала:
– Встреча с богом радости не сулит.
И она поднялась, кутаясь плотнее в свои одежды, словно прозябла. Стало и вправду прохладно после захода солнца, и его тоже прохватила дрожь. Она пригласила его зайти в хижину, и он следом за нею ступил, пригнувшись, в низкую входную нишу, которая ничем не закрывалась. Такого крохотного человеческого жилья он еще не видывал. Ему приходилось все время наклонять голову, а рукою он мог дотянуться до любой стены – одна из них, образуемая склоном горы, на ощупь была сыра от сочащейся влаги.
Она развела огонь, запалив немного хворосту и древесных корней из кучи, наваленной на земляном полу. Очагом служил выступающий из земли камень, а дым выходил через дыру в крыше на стыке ее с горным склоном.
Когда огонь запылал, он огляделся по сторонам в этом необычном жилище. К своему удивлению, он обнаружил, что они там были не одни. В полутемном углу сидел ссутулившись седоголовый мужчина... то ли мужчина, то ли ребенок, он не мог разобрать, никак не мог понять, кто это был, и эта неопределенность вызывала у него ощущение какой-то пугающей таинственности, он сам не знал отчего, но так это на него действовало. Лицо было как у ребенка, и на нем застыла улыбка, которая в полумраке казалась загадочной – быть может, просто оттого, что для нее не было видимого повода. Улыбка была ни добрая, ни злая, в ее неизменяемом постоянстве чудилось полнейшее безучастие ко всему – быть может, оттого-то и казалась она загадочной, – хотя седая голова на слегка вытянутой шее была повернута к ним и глаза неотступно следили за их действиями. Все это было необычно и удивительно. В уме его мелькнуло вдруг смутное воспоминание – о чем? Воспоминание, пробужденное этой улыбкой? Нет, он не знал, откуда оно, не мог ничего припомнить. Но этот седоголовый ребенок, что сидел ссутулившись там, в полумраке, со своею неменяющейся улыбкой – в нем было что-то до крайности странное и даже пугающее. Он не мог оторвать от него взгляд. Что это за существо, что за тайна скрывается в этом домишке, который так мало походит на человеческое жилье?
– Это мой сын, – сказала старуха. – Можешь при нем говорить без стеснения, он ничего не понимает.
Пришелец, однако, не решался ничего сказать, не спросил о том, что в этот миг занимало его мысли: об этом сыне, который будет сидеть у себя в углу и слушать их разговор, ничего не понимая и лишь улыбаясь этой своею улыбкой...
Наконец молчание нарушила старуха, промолвив:
– Удивительный бог встретился тебе. И что же, его распяли?
– Да.
– Странно. Коли он вправду был сын бога... Для чего же его распяли?
– Я и сам не понимаю, какая была в том надобность. Я слышал, люди говорили, будто это для того, чтобы он пострадал. Будто отец хотел, чтобы он пострадал. Но это же чистое безумие, нет, я ничего не могу тебе объяснить и сам не могу этого уразуметь.
– Какой жестокий бог.
– Жестокий, что и говорить. Но это, конечно, если верить их толкам. Чтобы он пострадал! Какая в том надобность?
– Этот бог мне, кажется, знаком, – пробормотала она про себя. И, помедлив, продолжала с некоторой нерешительностью: – А та, что родила богу этого сына, о ней ты что-нибудь знаешь?
– Нет, о ней я никогда ничего не слыхал. Она-то была, думается мне, самая обыкновенная женщина.
– Ну да, наверное. Стало быть, о ней ты ничего не знаешь?
– Нет, единственное, о чем они толковали, – это, что, родив его, она стала матерью бога – так ведь это ясно само собою. Нет, о ней я ничего не знаю, а для чего ты о ней спрашиваешь?
– Просто хотела узнать, какая она была и каково ей жилось. Как бог с нею обходился, пока он ее любил, и потом, когда он, может, уже не любил ее. Словом сказать, была ль она счастлива, и радостно ль ей было оттого, что родила богу сына. Или, может, и ее он предал на распятие.
– Нет, нет, с нею он, конечно, этого не сделал! Разумеется, нет. И она ведь была женщина!
– Ну да, она ведь женщина.
Она немного помолчала. А потом спросила:
– Этот сын, ты как будто сказал, что он был бог любви?
– Можно, пожалуй, и так его назвать. Он проповедовал человеколюбие, любовь меж людьми – чтобы все люди любили друг друга. Кажется, в этом была суть, если я правильно понял.
– Какое удивительное учение... Должно быть, то был особенный бог.
– Что ж, может, и особенный.
– О таком боге я еще не слыхивала. А я ли не наслышана о разных богах, я думала, я уж обо всех о них слыхала. Какая она, верно, была счастливая... Жаль, что ты ничего о ней не знаешь, о той, которая его родила. Которая была для этого избрана.
– По мне, лучше бы он вовсе не родился. Тогда бы я прожил свою жизнь счастливо, как я и жил до встречи с ним.
– Да, да. Встреча с богом таит в себе опасность, всем нам это ведомо. Для чего ты, однако, не дал ему приклонить голову к твоему дому? Для чего отказал ему в этом? Поступив столь нелюбовно и жестокосердно, ты, должно быть, тяжко перед ним провинился.
– Нелюбовно, жестокосердно! Я таков, как я есть. И никогда не выдавал себя за иного. Таков же, как все другие люди, что в том дурного? А сам-то бог, неужто он в твоих глазах так уж полон любви? Неужто ты вправду так о нем думаешь? Или, может, с тобою обошелся он любовно? Отчего же тогда он проклял тебя...
Старуха сделала резкое движение, и он запнулся. Она помешала обгорелою палкой в огне, так что искры взметнулись под крышу.
Он немного подождал, а затем снова заговорил:
– Ведь ты тоже провинилась перед богом и была проклята им, как и я. За что ты предана проклятию? Что же, и с тобою поступил он справедливо? Неужто справедливость всегда на его стороне? Неужто она никогда не бывает на нашей стороне?
Он с надеждою смотрел в ее старое, морщинистое лицо и ждал, что она раскроет перед ним свою исстрадавшуюся, как и у него, душу, посвятит его в свои злоключения и тем поможет ему понять его собственную судьбу.
Но она лишь безмолвно смотрела в огонь, и движения ее души оставались от него скрыты.
– Слепой нищий в Дельфах рассказал мне о тебе, однако не довольно, чтобы я понял, что же с тобою произошло. Как случилось, что ты сделалась жрицею оракула? – спросил он после минутного молчания, не дождавшись ответа и надеясь, что, быть может, она хоть об этом захочет ему рассказать.
– Родители мои были известны своим богопочитанием, – ответила она наконец, – должно быть, поэтому так вышло. Да и жили мы в бедности.
– В бедности? Но не оттого же стала ты жрицею оракула?
– Может, и оттого. Только нерадостно мне об этом вспоминать.
– А жили вы здесь, в Дельфах?
– Нет, мы жили в глубине долины, не в городе. Семья у нас была крестьянская.
– Вот оно что.
– Будь сейчас день, ты бы увидел это место, оно не так уж далеко. Хоть глаза у меня не те, что прежде, я еще вижу отсюда дом и старую оливу возле него. Но что там за люди нынче живут, этого я не знаю.
– А родни у тебя не осталось?
– Родни? Нет, не думаю. Но откуда мне знать? Родня? Да нет, те, о ком я говорю, они ведь давно умерли...
– Ты ни о ком не говорила.
– Ах да... да, не говорила, и в самом деле...
– Но ты, верно, вспомнила кого-то?
– Да... Вспомнила своих родителей, отца с матерью. Но как же давно это было... подумать только, что память хранит такое давнее прошлое...
Отец мой был рачительный хозяин, но пахотной земли было мало, да и та плохо родила, как он ни надрывался, – все ведь руками делать приходилось, тягла никакого не было. И угодья эти, само собою, были не наши собственные, большую часть собранного мы отдавали храму: здесь все земли в его владении. Или, можно сказать, во владении бога, мы жили в полной зависимости от храма и от бога. После уплаты всех сборов для себя оставалось всего ничего. Но мы довольствовались малым, бедность была нам привычна. Теперь-то тогдашняя жизнь не кажется мне бедностью – после того, что я испытала. Помню, у нас росли прекрасные крупные маслины, особенно на старом дереве возле дома, оно и тогда уже было старое, а эти-то деревья часто и приносят лучшие плоды. Таких я с тех пор уж не пробовала. Да и когда я ела маслины... Тоже давным-давно.
– Стало быть, там ты и выросла?
– Да. Двое детей у них умерло, я единственная осталась в живых. Так что в детстве я не была обделена любовью. И все же я чувствовала себя одиноко – вот ведь как странно. Дети иногда чувствуют одиночество, даже когда они окружены любовью, но близкие об этом не догадываются. Должно быть, я была странным ребенком, хотя поначалу это не особо бросалось в глаза. Я проводила время одна, почти никогда не бывала вместе со сверстниками. Да мы и жили чуть на отшибе, хотя и не слишком далеко от других домов. Больше всего тянулась я к матери. Мы с нею, верно, во многом походили друг на друга, обе нрава степенного и строгого, вели между собою беседы так, словно были в одних летах и одинаково умудренные жизнью. На самом-то деле мы немного знали о жизни, что она, что я. Матери моей совсем не коснулось все то, что обычно зовут этим словом: низость, злоба и бестолковая суета, именуемые жизнью, знанием которой люди так любят хвастать. Она знала лишь самые простые вещи: как рожать детей, а потом терять их, как любить человека, который когда-то был молод и силен, а теперь, подобно ей самой, изможден тяжким трудом. Вот что она знала, и разве этого не довольно? Душа у нее была чистая и простая, точно дерево. Росту она была высокого и, к слову сказать, вправду походила на дерево, таким от нее веяло покоем и умиротворением. Как от того большого одинокого дерева, что росло средь полей, чуть дальше вглубь долины, – оно было священное, и отец ему поклонялся. Он всегда ходил к нему по утрам, до того как приняться за работу. Мы же с матерью ходили всякий день в лощину, где бил источник, которому мы поклонялись, – источник с прозрачной водою в окружении свежей, никогда не увядавшей зелени, он тоже был истинно священный. Стоило лишь заглянуть в воду, чтобы понять, что он божественный. В нем видна была каждая песчинка на дне, а в одном месте они плавно кружились, подгоняемые незримым перстом бога.
Родители мои поклонялись богу и чтили его, но для них бог – это были источники, и деревья, и священные рощи, а не тот, в храме: он казался им чересчур величествен и далек, тот, с кем они насилу могли расплатиться за свой земельный надел. Когда они бывали в Дельфах, а это случалось нечасто, они обычно посещали незатейливый храм богини земли Геи, деревянный домишко, простота которого была сродни их собственному скромному обиходу. Они ничего не знали о безмерном величии и бездонных глубинах божества, о его страшной власти над человеческой душою. Так же как не знали и обо всех бесстыдствах, которые творились вокруг него и его храма.
Они сообщались со своим богом сами, не нуждаясь в посредниках, и в роще неподалеку от дома у нас был собственный небольшой алтарь, сделанный отцом из дерна, где он совершал жертвоприношения в дни ежегодных празднеств в честь божества, которое покровительствует землепашеству. Но он и в будни частенько туда заходил, возвращаясь под вечер домой по окончании дневных трудов, и оставлял там несколько колосков, прихваченных с поля, либо какие-нибудь плоды и ягоды, смотря по времени года. И само собою, перед едой и после еды он, как и все другие, приносил жертвы очагу, но я хорошо помню, с каким благоговением совершал он этот обряд, который многие исполняют бездумно, не вникая в его суть и не вкладывая в него никакого смысла. Отец был человек замкнутый и молчаливый, мне особо запомнились его глаза, кроткие, но всегда чуть печальные, и еще его большие загрубелые руки, ладони которых были как кора старой пинии, – когда эти руки обнимали меня, я чувствовала себя покойно и безмятежно. Так же хорошо и покойно мне было, когда мы с ним вместе куда-нибудь шли и моя ручонка скрывалась в его широкой ладони. Но до разговоров он был не охотник. К старости он становился все мрачней и угрюмей, особенно после смерти матери. И то, что случилось со мною, тоже, конечно, прибавило ему горя. Он прожил так долго, что и этот удар его не миновал. Я часто думала, неужели и он проклял меня?
Умер он в полном одиночестве, его нашли под священным деревом, о котором я говорила, но те, кто его нашел, не знали, что оно священное, и потому не поняли, для чего он под ним лег умирать. На могиле его никто не совершает жертв по усопшему, но я надеюсь, что он не гневается на меня за это и душа его покоится в мире.
Я росла, и постепенно делалось все заметней, что я в чем-то не такая, как другие девушки моих лет. Я видела видения, слышала голоса, это было в ту пору, когда появились первые знаки того, что я становлюсь женщиной, а потом прошло. Но во мне осталась какая-то отрешенность, словно душа моя витала где-то далеко, я еще более стремилась к уединению и перестала поверять свои чувства даже матери. Все сильней ощущала я свое одиночество, свою несхожесть с другими, я не могла бы объяснить, чем я от них разнилась, но страдала от этого. И жила в постоянной тревоге, никогда больше не чувствовала себя покойно и уверенно, хотя у меня было все, что надобно для этого. Сама покойная, надежная жизнь, меня окружавшая, начала меня тревожить и тяготить. Это было так странно: мне было хорошо оттого, что она меня окружает, я не могла без нее обходиться и все же тяготилась ею. Незаметно для отца с матерью я становилась все более чужой их миру, хотя сама в нем жила и нигде более как в нем жить не могла. Какой у меня мог быть иной мир? Никакого. Родители мои были единственные люди, которые для меня существовали, я любила их бесконечно. И однако же была как чужая в собственном доме, ходила со смятенною душой, о чем они даже не догадывались, а узнай они об этом, все равно бы не поняли. Они по-прежнему жили, исполненные простодушного доверия ко всему вокруг и к богу, который был во всем, что их окружало.
К богу? А у меня самой, спрашивала я себя, есть ли, как прежде, бог? Пожалуй что есть, но где? Где-то очень, очень далеко, должно быть, он оставил меня. Или это я его оставила? Может, и правда, я его оставила? А иначе отчего я в такой тревоге, отчего утратила всякий покой? Бог – не есть ли он само успокоение, мир и успокоение? Все то, чего я больше не имею.
Я могла подолгу испытывать полное безучастие ко всему на свете. И в то же самое время душа моя страстно о чем-то тосковала – я не знала о чем. И бывало, что вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего меня затопляла жаркая волна – волна счастья, ликования, которая вначале наполняла душу блаженством, но затем становилась столь мощной и жгучей, что пугала меня, приводила в ужас, вселяла такой неистовый страх, что я невольно прижимала ладонь к глазам, крепко-крепко, ожидая, пока жар схлынет и я вновь стану самою собой. Самою собой? Но что это значит?
Кто я сама?
А между тем я была здоровая и сильная телом, рослая, как и мои родители. Вот что было удивительно. Во мне смешались совершенное здоровье – и какая-то особенная болезненность, самая обыкновенная крестьянская девушка – и чуждое окружающему чувствительное создание. Поэтому, верно, трудно было сразу разглядеть, какова я была в действительности.
Но со временем стало, конечно, известно, что за мною водятся странности, да кстати сказать, такая слава ходила про всю нашу семью. Скорей всего, это и заставило служителей храма вспомнить обо мне, когда им понадобилась новая пифия. Сейчас уж не припомню, но, думаю, мне было лет двадцать, когда это случилось. Тамошние власти, видно, рассудили, что такая вот бедная да с причудами крестьянская девушка, которая слывет простоватой и наивной и родители которой находятся в зависимости от храма и от бога, им как раз подойдет. Подходило им и то, что я выросла в семье, где глубоко и искренне чтили бога, о чем они, верно, узнали из расспросов.
Отец с матерью пришли в крайнюю растерянность, когда услышали такое предложение. Ни о чем подобном они не помышляли. Им было понятно, что это большая честь, да, должно быть, это для них большая честь, как же, конечно, и они ведь знали, что бог этот велик и могуществен и у него несравненное обиталище, куда какой роскошный храм, – сами-то они редко когда в него и заглядывали, смущаясь и робея среди всех сокровищ и множества незнакомых людей. Да и можно ли ответить отказом таким высоким особам, самым высокопоставленным в Дельфах, когда они о чем-то просят? Уж коли они что-то предлагают, верно, так тому и следует быть. Все это было слишком мало понятно, чтобы самим разобраться, какой лучше дать ответ. Но, по всей видимости, следовало ответить согласием. Положиться на бога, уповая на то, что так угодно ему самому. Хотя, конечно, страшно было отдавать меня во власть чего-то неведомого, непонятного.
Ну а я? Я сама?
Меня охватило волнение, смятение, когда я об этом услышала. Избранница бога? Я – избранница? Призываемая во храм? К богу?
Дабы стать его орудием, возвещать его слова, внушенные им откровения? Пророчествовать в священном восторге, исполнившись его духа?
Я? Я для этого избрана?
Это приводило в смятение всю мою душу, это пугало меня, ужасало и давило – и наполняло меня безграничным счастьем.
Возможно ли? Чтобы я была угодна богу? Но ведь они так сказали, они так думают. Богу – тому, который оставил меня. Тому, которого я оставила. Может ли быть такое? Неужели я избрана им, чтобы служить ему, стать его прорицательницей, неужели ему угодно вещать моими устами? Это было непостижимо, это было чудо. Чудо, которого я ждала?
Нет, бог не забыл меня, не оставил меня. И я его не оставила, ну конечно, нет. Он зовет меня, и я приду к нему, приду с сердцем, полным им одним!
Бог меня зовет!
Когда первое волнение улеглось, осталось чувство тихой радости, я ходила и без конца думала о том чудесном, что меня ожидало. Вот когда я обрету мир, снова обрету покой – возле него.
Было решено, что мы с матерью вдвоем отправимся в Дельфы, в храм. Так мы и сделали однажды утром, и после того, как мы объяснили цель своего прихода, нас препроводили» в одно из строений у храмовой площади пред лицо того, кто в ту пору занимал высшую жреческую должность. Это был пожилой человек, происходивший из знатнейшего дельфийского рода, с такими людьми нам прежде встречаться не доводилось. Держался он приветливо, и разговаривать с ним оказалось совсем не трудно. Мы рассказали ему немного о нашей жизни, а затем он коротко побеседовал со мною, расспросил меня о моем детстве и всяких других вещах, которые ему непонятно для чего нужно было знать, и остался как будто доволен моими, вероятно, наивными ответами. Под конец он сказал, что бог, обитающий в этом храме, это бог света, что он – величайший средь всех богов, а его оракул – славнейший средь всех оракулов мира. Быть жрицею этого храма, призванной и посвященной самим богом, это великая милость и великая ответственность перед ним. Я стояла, потупив глаза в землю от волнения и счастья.
Потом он позвал прислужника, и тот провел нас прямо через площадь в храм и там вручил попечению одного из жрецов.
Я никогда прежде не бывала в храме. И между тем как мать стояла с потерянным и неловким видом оробевшей деревенской женщины и почти не глядела по сторонам, я в восхищении осматривалась кругом, пораженная богатством и роскошью боговой обители. Такого я никогда не видывала и не могла даже вообразить, что такое возможно. Благоговение и радость охватили меня от сознания моей близости к божеству. Утреннее солнце ярко светило, заливая своим сиянием все святилище. Воистину это был храм бога света, обиталище самого бога, дом, в котором он живет.
Жрец, судя по всему, остался доволен моим восторгом и, кажется, даже тем, что, как это ни удивительно, я никогда прежде не бывала в храме. Он терпеливо ждал, не мешая мне предаваться благоговейному созерцанию. Но затем он повел нас дальше внутрь святилища, в самую его глубину. Там была в стене небольшая дверь, и он велел матери остаться и нас подождать. А мы с ним вошли в залу, не слишком просторную, где, как он мне объяснил, собирались пилигримы, те, что приходили с вопросами к оракулу, и затем мы спустились по узенькой лестнице вниз, в почти совсем темное помещение, освещенное лишь двумя тусклыми масляными светильнями. Там был тяжелый, затхлый, какой-то даже удушливый воздух, и мне показалось, что я вот-вот задохнусь. Пол под ногами был неровный и ослизлый, и я поняла, что это просто сырая поверхность скалы. Над расселиной в ней стоял высокий треножник, а по обе стороны от него – две высокие чаши, так мне почудилось, но ясно я ничего различить не могла, все сливалось. И стен я не видела, это была как будто бы пещера в земле. Странные запахи наполняли ее: удушающая смесь благовоний с тяжелыми испарениями, поднимавшимися, должно быть, из расселины в скале, и, что немало удивило меня, слабый, но довольно едкий козлиный дух. Я была потрясена, дышала тяжело и прерывисто, на какой-то миг мне даже показалось, что я того и гляди потеряю сознание.
Жрец, который, как я заметила, несмотря на темень, зорко за мною следил, объяснил, что здесь – самое сердце святилища, где бог вещает, внушая пифии, какие прорицания она в своем беспамятстве должна изрекать, что здесь-то мне и предстоит ему служить, исполняясь его духом. Я задыхалась и ничего не могла сказать в ответ. Он, по-видимому, остался доволен мною, тем действием, какое священная пещера оказала на мою чувствительную душу. И, предупредив меня, что я должна сохранить в тайне все, что уже узнала и, возможно, еще узнаю здесь, он повел меня обратно. Крепко прижав ладонь к глазам, как я всегда делала в минуты сильного волнения, поднялась я следом за ним по узенькой лестнице.
Мать ждала нас наверху, как мне показалось, с некоторым беспокойством и озабоченно всматривалась в меня, когда мы вновь оказались вместе. Я все еще тяжело дышала, но надеялась, что она этого не заметит. Пустым взглядом обвела я огромный светлый храм, залитый солнцем, совсем как прежде. Все в нем было как прежде. Но я больше не чувствовала радости. И на мгновение я закрыла глаза от яркого света, словно целиком поглощенная чем-то, переполнявшим меня изнутри. Мне будто впервые приоткрылась тогда тайная суть божества.
В предхрамии жрец покинул нас, сказав мне, когда я должна снова прийти. И мы рука об руку молча отправились домой. Мать спросила, куда он меня водил, но я ответила неопределенно, и после этого мы молча шли до самого дома.
Опять, как и прежде, я осталась одна – со своими новыми думами. О том, что бог недоступен пониманию, непостижим, что он обитает в пещере под землею, что он меня страшит! И что я все же тоскую о нем. Ибо я тосковала, все же тосковала о нем. Хотя он оказался вовсе не таков, как я воображала, и от него не приходилось ждать помощи, на которую я так надеялась. Хотя он всего лишь звал меня служить ему.
Но отчего он звал именно меня? Отчего меня он сделал своею избранницей?
У него есть храм и наверху, в ясном сиянии дня, это так. Прекрасный, великолепный храм. Но не там самое сердце святилища, сказали они мне, и не там я буду ему служить. Не там он меня ожидает, чтобы исполнить своим духом. Там он иной и во мне не нуждается. Ибо не светом своим угодно ему наполнять мне душу. Нет, внизу, в подземелье под храмом, будет он внушать мне свои откровения, в подземелье я буду одержима богом.
И все же – все же меня туда влекло! Несмотря на страх, ужас перед тем, что мне предстояло, меня влекло туда неудержимо! Я только о том и думала – ни о чем другом думать не могла, – только лишь о том, чтобы быть заточенною в душном подземелье, полном тяжелых, одуряющих запахов, и с широко отверстыми устами изрекать прорицания, с пеной на губах выкрикивать дикие, непонятные слова, исполнившись его духом, – служить, предаваться моему богу!
В таком вот волнении ожидала я, что же со мною будет. Но постепенно волнение мое улеглось и сменилось чем-то вроде забытья, оцепенением, в которое я впала, хотя беспокойство, не прорываясь наружу, все еще подспудно жило во мне. Не знаю, замечали ли это те, кто теперь меня опекал, видели ли они мое состояние. Я часто бывала в Дельфах, торжества, во время которых я должна была стать пифией, приближались, и служителям храма нужно было приготовить меня к моей службе, они хотели, чтобы я была у них на виду и подальше от своих родителей. Я мало что понимала в этих приготовлениях, а порою смысл их действий оставался мне вовсе неясен, помнится, лишь по прошествии лет я поняла, что одна отвратительная вещь, какую они надо мною проделали, нужна была им, чтобы удостовериться в моем целомудрии. Я жила в ином мире, нежели они, и, быть может, сам бог погрузил меня в мое тогдашнее оцепенение, желая меня оградить, чтобы я жила лишь в его мире, а не в их. Возможно, что так, хотя что я могу об этом знать.
Приближался седьмой день весеннего месяца, день празднества в честь бога, когда я должна была впервые вступить в свою службу при оракуле. Вся их надежда была лишь на меня, прежняя пифия внезапно умерла некоторое время тому назад при обстоятельствах, которые они не хотели разглашать. Множество пилигримов ожидалось на эти торжества, которые продолжаются несколько дней кряду, и они беспокоились, как пойдет дело у меня, ни разу еще не пробовавшей свои силы, пожелает ли бог вещать моими устами и выдержу ли я тяжесть каждодневной изнурительной службы. Они заботились и пеклись обо мне неустанно. Однако ж не ради меня самой, это я и тогда понимала, хотя была совсем как дитя, еще не успела повидать людей и почти ничего не знала об их нравах. Понимала я и то, что жили они не для бога, а для его храма, и любили они не бога, а храм, его влияние и известность во всем свете.
Не было сомнения, что пилигримы, как всегда, толпами будут стекаться на это главное в году празднество в честь бога и, стало быть, храм получит множество подношений, которые еще более увеличат его богатство и могущество. Можно было рассчитывать, что все постоялые дворы будут заполнены и всем в городе так или иначе перепадет своя доля дохода. Для здешних жителей эти торжества с гостями со всех концов света значили очень много, по сути дела, лишь этим все и кормились. И город усердно готовился к их приему.
Я тогда еще всего не понимала и мало что знала, зато впоследствии мне довелось познакомиться с этим, пожалуй, даже слишком хорошо. Познакомиться с тем, что окружало бога и его святилище, узнать, что означала слава оракула для людей во всех этих домах, облепивших гору вокруг храма, точно кишащий муравейник. Свободные благодаря своей причастности к богу от обычных земных трудов, они уверовали, что занимают особое положение, и смотрели свысока на бесчисленных чужеземцев, стремившихся в их замечательный горный город. Они были преисполнены гордости и почитали священными свои Дельфы, где все только богом жили и кормились.
Но от меня все это было еще сокрыто, я, понятно, не могла не замечать всеобщей суматохи, но не думала о ней, я словно ничего вокруг не видела и не слышала, быть может, волею самого бога погруженная в свое оцепенение, и окружающее как будто вовсе меня не затрагивало.
И вот день настал, день бога света, открывавший празднества в его честь, я до сих пор ясно помню то утро. Никогда прежде не всходило утреннее солнце из-за гор, как в тот день, – для меня оно так не всходило. Я три дня постилась и была легка, невесома, точно птица. И я совершила омовение в Кастальском источнике, вода в нем была такая свежая, и я чувствовала себя такой чистой, такой свободной от всего, что не относилось к этому богову утру. Меня нарядили невестою, его невестою, и я медленно пошла по священной дороге к храмовой площади. Толпы людей стояли, должно быть, вдоль дороги и на самой площади, но я не замечала их, никого и ничего не видела. Я вся была устремлена к богу. И я взошла по ступеням храма наверх, и один из его служителей окропил меня освященной водою, и я вступила в лучезарное святилище, в ту светлую обитель бога, где он меня не ждал, где мне не дано было ему служить. Я шла через нее, и слезы жгли мне глаза под опущенными веками, ибо я закрыла глаза, чтобы не видеть этого великолепия и не изменить моему богу, не изменить тому служению, какое он мне назначил, для какого он меня избрал. Между двух жрецов, ведомая ими, прошла я мимо алтаря, где горел его неугасаемый огонь, в залу для пилигримов и затем спустилась по узкой сумрачной лестнице вниз, в подземелье оракула.
Там было так же мало света, как и раньше, и прошло некоторое время, прежде чем я смогла что-то увидеть. Но тяжелые испарения, поднимавшиеся из трещины в скале, я почувствовала сразу, и они показались мне еще более удушливыми и одуряющими. Сразу же ощутила я и козлиный дух, только гораздо более сильный и едкий, чем в прошлый раз. Я не могла понять, откуда он берется. И еще там пахло дымом, будто что-то жгли. Немного погодя я различила в темноте жаровню, в которой что-то тлело, и сухонького человечка, который сидел, склонившись над нею, и вздувал уголья птичьим крылом, похожим на коршунье. Желто-серая змея проползла, извиваясь, у самой его ноги и мгновенно скрылась во мраке. Меня охватил страх, ведь я слышала толки, будто пифия, которая была до меня, умерла от укуса такой змеи, но я думала, это неправда, и в прошлый раз я не видела здесь никаких змей. Позже я узнала, что это была правда и что они постоянно жили здесь и были почитаемы как священные животные оракула, наделенные божественным разумением. Узнала я также, что в жаровне жгли древесину лавра, священного дерева бога, дым которого жрица должна вдыхать, чтобы исполниться божественного духа.
Но вот человечек поднялся, оставив свою жаровню и птичье крыло, и взглянул на меня так приветливо, что овладевший было мною страх немного отпустил меня. Его высохшее, сморщенное лицо было добродушно и ласково, и он даже улыбнулся мне. Тогда я еще не знала, что он – единственный из всех в святилище – станет мне другом, будет для меня утешением и опорой во все последующие годы, а в особенности когда судьба внезапно нанесет мне удар, как орел, налетевший из своего ущелья. В тогдашнем моем состоянии, близком к забытью, я не особо к нему присматривалась, но все же поняла, что он не походит на других, что он добр и мне желает лишь добра, хотя и должен делать положенную ему работу здесь, при оракуле. Он протянул мне чашу со свежими листьями лавра, только что сорванными в священной роще бога, чтобы я вкусила их вместе с пеплом из жаровни, ибо и это тоже должно было исполнить меня духом бога. Тогда-то старичок – прислужник оракула и улыбнулся, будто для того, чтобы мне было не так страшно, и средь всех этих ужасов улыбка его успокоила и поддержала меня. Сказать он мне, конечно, ничего не мог, никому не дозволено было говорить в священном подземелье.
Смесь, поданная мне им, была отвратительна на вкус, и то ли она на меня так подействовала, то ли сказалось измождение после поста, но я почувствовала дурноту и едва устояла на ногах. Двое жрецов оракула, которые все время за мною наблюдали, помогли мне усесться на треножник, такой высокий, что самой мне было туда не взобраться, а затем водрузили жаровню с раскаленными угольями на высокой подставке, так что она оказалась на одной высоте с моею головой и я с каждым вдохом вбирала в себя дурманящий дым. От него разъедало горло и как-то странно кружилась голова и мутилось сознание. Но сильнее всего действовали на меня испарения, поднимавшиеся из расселины, – теперь, когда я сидела прямо над нею, они просто душили меня, ядовитые и тошнотворные. Мне стало жутко, и в голове мелькнуло: ведь я от кого-то слышала, будто эта расселина простирается в глубь земли до самого царства мертвых и оттуда-то оракул и черпает свою силу, ибо лишь смерть в конечном счете знает все. Ужас объял меня, ужас перед тем, что находится подо мною и может поглотить меня, если я потеряю сознание и упаду, ужас перед царством смерти, смерти... Я чувствовала, что падаю, падаю... Но где же бог, где бог?! Его нет, он не пришел ко мне! Он не дал мне исполниться своим духом, как обещал! И вот я падаю, падаю...
С затуманенным рассудком, в полу беспамятстве, я смутно различила, как один из жрецов оракула вывел откуда-то из тьмы подземелья черного козла с диковинно огромными рогами и стал лить воду ему на голову, так мне показалось, и после этого я уже ничего не видела и не слышала...
Но вдруг все разом преобразилось. Я почувствовала удивительную легкость, свободу, не было больше ощущения смерти, была жизнь, жизнь, непередаваемое чувство радости, но столь бурной, столь огромной... Это был он! Он! Да, да, это он вселился в меня, я чувствовала это, я знала это! Он вселился в меня, он опустошил меня, обратил в ничто и наполнил всю до краев собою, своим счастьем, своим восторгом, своим ликованием. О, это было чудесно, чувствовать, как его дух, его вдохновение осеняет меня, принадлежать ему, целиком, безраздельно принадлежать богу, быть одержимой им. Проникнуться его восторгом, его счастьем, неистовым ликованием бога. Делить с богом его упоение жизнью – могло ли что быть чудесней!
Но это удивительное чувство во мне росло и росло, оно по-прежнему было радостным и ликующим, однако чересчур бурным, чересчур огромным, оно прорывало все границы, оно разрывало меня, причиняло мне боль, оно стало чудовищным, безумным – и я почувствовала, что тело мое начало извиваться в корчах, что оно корчится от боли, от муки, мечется из стороны в сторону, что мне сдавило горло и я вот-вот задохнусь, – но я не задохнулась, вместо этого из глотки у меня начали с шипением вырываться какие-то жуткие, мучительные, совершенно чужие мне звуки, губы шевелились помимо моей воли, это происходило без всякого моего участия, и я услышала крики, громкие крики, я их не понимала, понять их было просто невозможно, но испускала их я, они вылетали из моего широко раскрытого рта, хотя вовсе не были моими... это была совсем не я, я была уже совсем не я, не принадлежала себе, я принадлежала ему, только лишь ему, и это было так ужасно, о, как ужасно!
Долго ли это продолжалось, не знаю, я полностью утратила ощущение времени, пока это со мною происходило. И не помню, как я затем вышла из подземелья и что было дальше, кто мне помог, позаботился обо мне. Очнувшись в доме по соседству с храмом, где я жила все это время, я узнала, что сразу погрузилась в глубокий сон, в таком я была изнеможении. И еще, что жрецы были мною весьма довольны, что я превзошла все их ожидания как жрица оракула. Обо всем этом я услышала от старухи, у которой жила, после чего она оставила меня, чтобы я хорошенько отдыхала и набиралась сил.
Я лежала на постели в своем наряде невесты – боговой невесты. То был единственный свадебный наряд, какой довелось мне в жизни надевать. И помню, я гладила рукою непривычную мне дорогую ткань и чувствовала себя очень одиноко.
Бог? Кто он, этот бог? И где он теперь? Отчего он не здесь? Не со мною. Где же он, мой жених? Отчего он оставил меня?
Я не понимала его. Но я тосковала по нем. Нет, я совсем его не понимала, я совсем не знала, кто он, я даже еще меньше знала это теперь, после того как принадлежала ему, после того как он дал мне исполниться своим духом, своим блаженством, своим восторгом – заставив меня кричать от боли. Да, он исполнил меня страданием. И все же я тосковала по нем. По нем одном. Ведь без него не было ничего, была пустота.
Ах, если бы он пришел сюда, ко мне, из своего храма, где ему теперь, должно быть, возносят хвалы все его служители, все те, кто любит его там, любит за его блеск и великолепие. Если бы он пришел и заключил меня в объятия, просто обнял меня, как это, верно, бывает у любящих, после всего, когда все кончится. А не оставлял меня здесь совсем одну в моем наряде невесты, как будто он бросил меня, как будто мой любимый бросил меня, когда я стала ему не нужна. Когда я исполнила назначенное мне, исполнила так, что он остался мною доволен. Когда жар, и беспамятство, и одержимость были позади. Отчего он любил меня лишь тогда?! Отчего лишь тогда он был со мною?!
О, как бы я хотела тихонько отдохнуть у него на руках. Без всякого беспамятства, совсем без всякого волнения. Просто отдохнуть, покойно и счастливо.
Нет, я не хочу быть одержима богом, я хочу, чтобы он любил меня так, как любит других, чтобы он дал мне мир и покой. И больше ничего, лишь покой и мир у него в объятиях.
Или не этого я хочу? И не об этом я так тоскую?
Конечно, я тоскую об этом. Но дано ли мне будет когда-нибудь это испытать? В этом ли мое назначение, для этого ли я ему нужна?
Покой. Мир. Как могла я надеяться на это! Как могла я подумать, что найду это у него в объятиях! Как могла я искать покоя у бога!
Нет, бог, он, верно, не таков, каким он мне представлялся, каким я так горячо желала его видеть. Он, верно, и не может быть таким. Я думала, что бог – это безмятежность, отдохновение, покой. Нет, бог – это непокой, тревога, смятенность. Вот что такое бог.
Я лежала, глядя, как сгущаются сумерки в комнате. Он так надолго погрузил меня в сон, что был уже вечер, день уже кончился.
Завтра, рано поутру, едва только солнце встанет из-за гор, жених мой придет ко мне, чтобы вновь исполнить меня своим духом, своим жарким дыханием, своим блаженством, я вновь буду ему принадлежать!
Так стала я его жрицею, так началось мое долгое служение ему.
Жила я то у отца с матерью, то в этом доме при храме, у старухи, что приставлена была за мною ходить. Она всегда ухаживала за пифиями во время празднеств, частых и продолжительных, ведь служба при оракуле была столь изнурительна, что прорицательница нуждалась в уходе, чтобы как следует отдохнуть, а ночью спокойно выспаться и набраться новых сил. И старуха большую часть своей жизни по поручению жрецов несла на себе эти заботы. Она знала все обо всех пифиях, перебывавших здесь за долгие годы ее службы, и любила о них поговорить. Говорить она могла без конца. О жрецах она тоже знала все во всех подробностях: что они за люди, кто из них истинно почитает бога, а кто только притворяется, – тот, что первым водил меня в подземелье, только притворяется, сразу же узнала я от нее, однако он у них в большом почете, ибо, будучи казначеем, много сделал для святилища. Теперь его срок вскоре истекает: в этой должности они остаются лишь определенное время. Все они, жрецы, происходят из лучших дельфийских родов, а самые высокопоставленные – из знатнейших семейств, об этом она рассказывала часто и весьма обстоятельно. Похоже было, что это-то в ее глазах и делало храм достойным всеобщего уважения и славы. А о славе его она пеклась ревниво, святилище и все, что до него касалось, было дорого ее сердцу, и она, несомненно, весьма гордилась тем, что тоже, можно сказать, состояла в служении при храме. О боге она в разговоре со мною никогда не поминала.
При том, что она питала такое почтение к высокопоставленным особам и их благородному происхождению, она никогда не отзывалась о них хорошо, даже о них. Она вообще ни о ком не отзывалась с одобрением или похвалою, зато остро подмечала все человеческие недостатки. Представление, которое у меня, тогда молодой и неопытной, складывалось о мире по ее рассказам, было извращенным и ложным, я это чувствовала, но в ее словах, как я сама видела, было и много правды, и это запутывало меня, сбивало с толку. Я не раз думала, что эта женщина, к которой я впоследствии прониклась ненавистью и глубоким презрением, она, пожалуй, больше всех других повлияла на мое суждение о людях, внесла в него много горечи и несправедливости. Несмотря на мое отвращение к ней, несмотря на уверенность в том, что она судит превратно, ее влияние, конечно, сказалось на мне. А напоследок, раскрыв передо мною в полной мере собственную подлость, она еще более укрепила меня в убеждении, будто ее понятие о человеческой природе, в действительности превратное, было правильно. Вот так черпаем мы познания, принимаемые нами за истину, у тех, кому мы, по сути дела, менее всего доверяем, так мы, сами того не сознавая, руководимся в жизни тем, что нам более всего отвратительно.
Мне ведь и самой привелось узнать немало человеческой злобы – в добавление ко всему, о чем я наслышалась от нее. Но, сидя здесь столько лет в моем одиночестве и раздумывая о пережитом, я, несмотря на постигшую меня участь, часто задавала себе вопрос: а так ли уж люди злы? Не ввела ли меня в заблуждение собственная горькая судьба, определившая мой приговор им? Не знаю, я ведь не встречаю больше людей. Но такие мысли приходили мне в моем одиночестве.
Но главное, что заставило меня поддаться ее влиянию, – это, конечно, то, что в рассказах ее было так много правды. Правду говорила она обо всех бесстыдствах, которые творились в священном городе, о распущенности нравов, которая сопутствовала большим празднествам, когда в Дельфы прибывало столько мужчин со всех концов света – они искали случайных женщин, и девушки из бедных семей, да и не только из бедных, к слову сказать, выручали их при посредстве постоялых дворов; во всем городе, по словам старухи, не много нашлось бы целомудренных девушек – потому-то, верно, меня и взяли в пифии, добавила она совершенно неожиданно, без всякого перехода и без продолжения, заставив меня сильно покраснеть и смешаться. А что творили все эти проходимцы и мошенники, которых притягивали сюда оживленные торги по праздникам, и какие темные, бесчестные делишки обделывались, можно сказать, под сенью храма! Даже среди жрецов находились самые настоящие мошенники, которые за известную мзду давали тем, кто вопрошал оракул, желательный для них ответ, истолковывали изречения пифии в желательном для них смысле – хотя, признавала она, это все же был довольно редкий случай, – или же присваивали сборы на жертвоприношения, а то наживались на продаже шкур жертвенных животных и все такое прочее, каких только не было способов обмануть храм у тех, кто занимал в нем подходящую должность, и, насколько ей было известно, многие, а может, и большинство пользовались этим.
Надо сказать, это ее несносное злословие и вся та лживость и подлость, о которых она рассказывала и которым я сама, к несчастью, многажды была свидетельницей, рождали в душе моей высокие мысли о боге и любовь к нему. Окруженный такою гнилью, поднявшийся из такой трясины, он был еще более значителен, еще более достоин любви. И еще более мне необходим, я не могла не любить его. Ибо что же и любить в этом грязном мире, если не его. Ведь как сир и беззащитен человек, подобно мне, ввергнутый в этот мир, в этот отвратительный человеческий мир.
От ее злобной болтовни, от всего, что было вокруг, я искала прибежища у него, и я тосковала о нем, о моем боге, кого она никогда не поминала – я была благодарна ей за это. Тосковала о его близости, о его мрачном подземелье, где он заключит меня в объятия и исполнит своим божественным экстазом, своим неистовым блаженством, своим духом.
Своим духом? Но что это, его дух? Только ли возвышенность и величие? Высокость? Только ли это?
Если только это, если все так просто, тогда отчего мне так мучительно ему принадлежать, отчего я страдаю, кричу от боли? Отчего же тогда его любовь не есть сама доброта, само умиротворение, чего я так горячо желаю? Отчего не дарит он меня покоем, вожделенным покоем, о котором я его молю, все время молю в душе? Отчего он не только чудный, окрыляющий, но и страшный, грозный, жестокий, чудовищный, отчего в нем столько всего сразу, вместе, отчего он душит меня, сдавливая горло, и одновременно наполняет блаженством? И бросает меня, оставляя одну, когда он кажется мне особенно близок и когда я особенно в нем нуждаюсь?
Кто же он? Кто?
Я кидалась к нему в объятия, неистовая и распаленная, как и он сам, и кричала, прежде чем он приведет меня в беспамятство, опустошит меня своею чудовищной необузданностью: бог, кто ты, кто ты?! Но он никогда мне не отвечал.
Он наполнял меня собою, опустошал меня собою, но кто он – этого он мне не открывал.
И так никогда и не открыл. Я и ныне сижу и думаю о нем в моем одиночестве, думаю, кто он. Я спрашиваю и спрашиваю. Но он не дает ответа.
Да, я любила его. Любила всем сердцем. Но эта любовь не сделала меня счастливой. Это не была счастливая любовь.
Но я ведь рассказываю о старухе. Со мною она всегда была обходительна и приветлива и расточала мне неумеренные похвалы. Я – лучшая из всех пифий на памяти жрецов, будто бы говорили они ей, и среди всех, что жили у нее в доме, ни одна не идет со мною ни в какое сравнение. Она весьма презрительно отзывалась обо всех моих предшественницах, мне было мучительно и тягостно слушать, как она говорила об этих женщинах, к которым я не могла не чувствовать сострадания и близости. Кое-кого из них я иногда встречала на улицах города, особенно часто одну – тощую, странного вида женщину, которая, озираясь, кралась вдоль домов, непрестанно бормоча что-то про себя. Над нею старуха потешалась от души, со смехом говоря, что та лишилась последних остатков своего умишка, если он у нее когда-нибудь был, но я-то содрогалась от ее слов, невольно думая, что, быть может, и сама так же кончу.
Прошло немало времени, пока я поняла, что она презирала их именно за то, что они были жрицами оракула. И за многое другое, разумеется, тоже, но прежде всего за то, что они были пифиями, это уже само по себе было в ее глазах достойно презрения.
Я была поражена. Возможно ли, чтобы она так на это смотрела? Да, сомнения не было. Прямо она, конечно, ничего не говорила, но это ясно вытекало из ее слов. Я просто сказать не могу, до чего я была поражена, поняв, как она смотрит на пифий.
И когда у меня наконец открылись глаза, я увидела и другое: не она одна так об этом судит. Я начала приглядываться к окружающим, примечать, как они ко мне относятся, как ведут себя со мною, и чем дальше, тем мне становилось ясней, что догадка, на которую навели меня старухины речи, верна, что я занимаю всеми презираемое положение среди людей. Меня сторонятся, это я давно уже видела и понимала, что причина этого – робость, страх перед человеком, находящимся в столь тесных сношениях с божеством, которое, как всякому ведомо, таит в себе опасность, – страх перед человеком, который бывает одержим богом и чьи крики из потаенного подземного святилища можно иногда услышать наверху, в храме. Меня остерегаются, и этому я не удивлялась, но на меня еще и смотрят свысока, как я теперь поняла, относятся ко мне как к отверженной, стараются меня не замечать! Я всегда держалась одна, искала уединения, привычного мне с младых лет, но теперь, когда я начала приглядываться, то поняла, что никто, оказывается, и не хочет водить со мною знакомство, вообще иметь со мною дело, что я одинока поневоле, действительно, по-настоящему одинока.
Просто удивительно, до чего я была опечалена и удручена своим открытием. Хотя я сама не стремилась к знакомствам, вовсе не хотела их заводить, хотя я была словно создана для одиночества – все же это удручало меня. И когда парни на улице, завидев меня, подталкивали друг друга и шушукались, сердце мое сжималось от боли – хоть и непонятно было, чего мне так из-за этого страдать.
Что же, и они меня презирают? Едва ли они об этом думают, просто им, верно, кажется, что я не такая, как они.
Но ведь это правда. Я не такая, как они. И не такая молодая, как они.
Не такая молодая? На самом деле я была ненамного старше их. Но молодая? Я – молодая?
Они никогда со мною не заговаривали. И никто не заговаривал. Только если уж без этого было никак не обойтись.
Даже жрецы, которые не могли мною нахвалиться – а они расхваливали меня и в глаза и за глаза, – которые понимали мою ценность для оракула; и те никогда не говорили со мною ни о чем, кроме как о делах, связанных с отправлением моей службы. Я нужна была им только как пифия, служительница святилища, в остальном же я для них не существовала, и они, ни разу не сказав мне недоброго слова, а вернее, именно своим постоянным снисходительно-добрым обхождением со мною, давали понять, какая пропасть лежит между ними и этой несчастной темной девушкой, выросшей в бедной семье где-то там в долине. Меня ценили, это бесспорно, дорожили тем, что нашли хорошую пифию, чьими устами бог вещает с очевидною охотой, без промедления исполняя ее своим могучим духом, и однако же, хотя им была от меня несомненная польза и хотя я была избранница бога, они смотрели на меня, как принято было смотреть на ту, кого они используют внизу, в подземном святилище. Несчастная, впадающая в беспамятство и в бред женщина, что сидит у них на треножнике в душном боговом подземелье, вызывала лишь что-то вроде сочувственного презрения к себе – и только. Она возвещает божественные откровения, в этом сомнения нет, но истолковывают их они, лишь они умеют придавать смысл ее непонятным для всех непосвященных, путаным речам. Глубокие мысли, высшая премудрость мира, привносимые ими в ответы оракула, знаменитые ответы, которыми оракул снискал могущество и всесветную славу, не имеют ничего общего с дикими выкриками этой неученой женщины – или почти ничего. Она одержима богом, это верно, бог вещает через нее, но лишь они одни знают, какой смысл вкладывает бог в ее слова, что он хочет ими сказать, лишь они умеют проникнуть в сокровенную суть божества и раскрыть ее.
Что правда, то правда. Я была непричастна к этому, к их мудрым истолкованиям божественных откровений, мне это было непосильно, недоступно. Я не знала, что я говорила, что выкрикивала в своем беспамятстве, одержимая богом, и к тому, как они толкуют, как используют меня, я не имела никакого касательства. Я лишь предавалась богу.
Я не знала, что он мне внушал, ничего не знала о его мудрости, по сути дела, я не имела о нем никакого понятия, не знала даже, кто он. Я лишь предавалась ему. Лишь чувствовала его внутри себя. Принадлежала ему. И ничего более.
Но чтобы это было достойно презрения? То, что я предаюсь богу, исполняясь его духом? Просто непостижимо, как могло это вызывать у них такое глубокое презрение. Я ничего не понимала.
То, в чем я видела божественную милость – ведь бог выделил меня средь прочих, позвал меня, пожелал сделать своею избранницей, своею жрицей, чьими устами ему угодно вещать, – все это в их глазах было почему-то унизительно. Унизительно быть избранницей бога!
Оракул, как говорили, славится на весь мир, но та, кому бог внушает свои откровения, в кого он вселяет свой дух, – отверженная, с которой зазорно знаться, с которой никто даже слова молвить не хочет.
Это не укладывалось у меня в голове.
Старуха, у которой я жила и которая была искренна со мною, хотя и на свой особый манер, сказала мне как-то раз, мол, это для них большая удача, что они сумели залучить меня в пифии, нынче ведь очень трудно найти девушку, которая захотела бы стать пифией, самые бедные и те на это больше не соглашаются. И она дала мне понять, что, пожалуй, только таких, как мои родители, несчастных простаков, живущих отшельниками где-то там в долине, да к тому же, должно быть, людей со странностями, только их и можно было к этому склонить.
Меня охватило ужасное смятение. Нетрудно понять, как я была встревожена и подавлена и какие страшные, пугающие мысли рождались у меня в голове.
Избранница бога? А что, если я вовсе не избранница? Если я избрана не богом, а всего лишь жрецами, людьми, которые, быть может, и не верят в него? Что, если старуха говорит правду и они просто хитростью выманили меня у моих бедных темных родителей, ибо больше никого не могли к себе залучить? Что, если я вовсе не была призвана богом, выделена и избрана им?
Я-то в это поверила, и я ведь чувствовала, что дух его осеняет меня, что бог наполняет меня собою, – так мне казалось. Но так ли это было? Действительно ли, точно ли так было? Откуда мне знать. Я в самом деле чувствовала, что сливаюсь с ним в одно, чувствовала в себе его дивное великолепие, но ведь после этого я вдруг сразу оказывалась одинока, его уже не было со мною. Ведь почти все время его со мною нет, он меня бросает, и лишь безмерная пустота наполняет меня. Я тоскую по нем, но его это не трогает, я зову его, но он не отвечает. Я вопрошаю: кто ты? Но он не говорит. Ты, кого я люблю превыше всего! Но он не дает мне ответа. Он никогда не давал мне ответа.
И так было всегда, пока он опять ко мне не приходил, чтобы вновь обрушиться на меня бурею неистового жара, восторга, блаженства. Тогда я счастлива, счастливей всех на свете, тогда все обретает ясность, приходит в согласие – на короткий миг. А затем я опять низвергаюсь в пустоту. В пустоту, какой не знает никто другой, какой никто не чувствует, как я, – я, которая ему принадлежала, которая делила с богом его ликующее упоение жизнью.
Вот что происходит со мною. Вот какова моя любовь к богу. К тому, о ком я даже не знаю, кто он.
Она не приносит мне покоя, не дает уверенности ни в чем. Я никогда не могу тихо отдохнуть у него в объятиях. Жаркий восторг мне дано было вкусить, но мир, тишину – никогда. Я молю о них, но он мне их не дает.
Может ли так быть, если я избрана богом?
Я ходила и думала об этом наедине с собою, как всегда. И кому мне было поверить свои мысли, с кем разделить свою тревогу? Единственный, кто мог мне помочь, кто мог бы ответить на мои вопросы, был так далеко от меня, как никогда прежде, никогда еще не казался он мне так далек, как в те дни. Я тосковала по нем, я жаждала лишь одного – предаться моему богу, но вместе с тем я и боялась этого, впервые испытывала страх перед тем днем, когда меня вновь нарядят его невестою и поведут в его пещеру, в подземное святилище, на свидание с ним.
До этого оставалось еще довольно много времени, праздников пока не было. Но потом назначили день в промежутке между праздниками, когда оракул должен был вещать, как это иногда делалось, если ожидали откуда-нибудь пилигримов. И настало то утро, и я омылась в прозрачной воде Кастальского источника, и облачилась в наряд невесты, и поднялась вверх по священной дороге, и прошла через храм, и спустилась вниз по сумрачной лестнице, как всегда. В подземелье все было как обычно, и я с жадностью вбирала в себя тяжелый воздух, дым тлеющих лавровых угольев, едкий козлиный смрад, тошнотворные испарения из расселины под треножником – все, что могло одурманить меня, привести в исступление, бросить в его объятия. Сгорая от тоски по нем, я сидела с закрытыми глазами, ощущая во рту вкус листьев его священного дерева, и ждала, чтобы он вновь наполнил меня собою, своим живым духом, своею мучительной радостью и блаженством, чтобы он опустошил меня, не оставив ничего от моих страхов и сомнений, и все опять пришло в согласие.
Но его не было. Он не приходил. Глубоко дыша, я с силой втягивала в себя пары, и я чувствовала, что они действуют на меня, что я задыхаюсь и вот-вот потеряю сознание. Но иного действия они на меня не оказывали. Бог не осенял меня своим духом, близости его я не ощущала.
Они вывели козла, его священное животное, и оросили водою его голову – божественное вдохновение должно было сойти на меня в этот миг, именно в этот миг. Но козел лишь понурил голову к земле и, как-то странно взвизгнув, медленно побрел обратно к себе во тьму. И тогда жрец оракула решил кончить на этом, оставив надежду добиться от меня толку.
Я сидела с выкаченными глазами, с пересохшими дрожащими губами, отверстыми для крика, который так и не родился. Внутри у меня было пусто, не было ничего, такая страшная пустота, какой я никогда еще не чувствовала, хотя это чувство было мне слишком хорошо знакомо. И вокруг меня тоже было пусто, словно вообще ничего не было; когда я вытянула руку вперед, то она словно простерлась в совершенную пустоту, в бесконечное ничто. Лишь испарения из царства мертвых курились вокруг, обволакивая меня своим леденящим дыханием.
Мне помогли слезть с треножника, но, когда меня отпустили, я пошатнулась и чуть не упала. Единственный, кто заметил это, был старичок-прислужник, он бросился ко мне и успел меня поддержать. Я оперлась о притолоку и стояла, пока не оправилась от головокружения, втуне, понапрасну одолевшего меня.
Жрец оракула – тот самый, что первым водил меня в святилище, – был весьма недоволен мною, ведь теперь собравшиеся в зале для пилигримов должны были уйти ни с чем. Правда, на этот раз там собрались простые крестьяне, пришедшие за советом к оракулу со своими будничными заботами и печалями, но все же он, как служитель храма, был раздосадован тем, что я не сделала своего дела, не сумела внять внушениям бога. Резких слов он мне не говорил, но это и так было видно. Сам он в бога не верил, однако его рассердило, что я не исполнилась божественным духом, как мне положено.
Что значило его неудовольствие в сравнении с моим собственным отчаянием после случившегося, в сравнении с тою бездной, в которую я низверглась! Теперь-то я знала, что бог меня оставил. Бросил меня. Теперь я не просто сомневалась и тревожилась, я знала наверное. Я ему не угодна, он меня отвергает. И была ли я когда угодна ему? Была ли выделена им из всех, избрана им, как я воображала, – я, поверившая, что он меня зовет! Желал ли он когда сделать меня своим орудием, своею избранницей, своею жрицей?
Жрецы этого желали, да. Им нужна была бедная простодушная женщина, которую можно заставить ему служить. Сам же бог вовсе этого не желал. А когда они все же навязали ее ему, он изнасиловал ее, а потом вышвырнул вон за ненадобностью. Выказал свое презрение к этой крестьянской девушке, которую они ему подсунули и думали, что он примет ее и станет осенять своим священным духом, любить так же, как она его любит... Изнасилована и брошена, вот и все. Вот для чего я была избрана.
Призвана богом! Не звал он меня, как я только могла такое вообразить! Это я, я сама в моем тоскливом одиночестве, в моей заброшенности звала его.
Так я, охваченная отчаянием, терзала себя горькими, безнадежными раздумьями. И я бы, верно, совсем сломилась под их тяжестью, не будь старичка-прислужника. Он утешал меня и наставлял на ум, он смотрел на происшедшее более здраво, чем я. Такое иной раз случается, это неминуемо, ведь он по собственному многолетнему опыту знает, как идет служба в подземелье оракула. Со всеми пифиями это бывало, и довольно часто. И со мною тоже может иногда такое приключиться. Это отнюдь не значит, что бог оставил свою избранницу, конечно, нет. А жрец всегда при этом сердится, он ведь печется о славе оракула, что ж на это скажешь, и вдобавок ему, верно, было досадно, что такое выпало как раз на его день, когда он отправляет службу. А бог – он на меня не сердится, вовсе нет, причина была не в этом. В чем тут дело, никто объяснить не умеет, никто еще покамест не смог доискаться причины. Это тайна подземелья, которую оракул никому не раскрывает.
В тот день у него с самого начала было такое чувство, что все идет не совсем обычно, не так, как нужно. Отчего – он не мог бы сказать, но ведь он уж на это насмотрелся и всегда чутьем угадывает, если что не так. Едва он спустился тогда в подземелье, задолго до моего прихода, он тотчас это почувствовал. Будто нюхом загодя уловил. И желто-серые змейки никак не показывались, не выползали из своих потайных убежищ, это был дурной знак, заведомо дурной знак. И козел, священное животное бога, за которым он присматривает, ухаживает за ним, пока оракул не вещает, был какой-то чудной с самого утра, когда он взял его из загона и повел в подземелье: артачился, упирался, будто не хотел туда идти. Вот так, одно к одному, он и почувствовал, что на этот раз хорошего ждать нечего, скорей всего, оракул в этот день не заговорит.
Конечно же, причина была не во мне, совсем не во мне. Я в этом неповинна, нисколько. Я прекрасная пифия и, бесспорно, горячо любима богом. Сразу заметно, что он охотно вещает через меня, он всегда так скоро ко мне нисходит, и я с такою легкостью впадаю в потребное для внушения беспамятство. А когда я в экстазе, по лицу моему прекрасно видно, что бог вселился в меня. Такое не может укрыться от человека, столько лет прослужившего оракулу.
Вот так он меня уговаривал, и постепенно я начала смотреть на происшедшее более трезво и спокойно. Его слова и сам его облик, сухонькое лицо его со множеством добрых морщинок – все это действовало на меня благотворно и успокоительно. И я бы, конечно, еще более успокоилась, знай я наперед, что во время следующего празднества все опять пойдет у меня хорошо, совсем как обычно.
Сама я со временем стала думать, что причиною, вероятней всего, была моя робость, неуверенность, мои сомнения перед встречей с богом. То, что я страшилась ее. А этого, верно, быть не должно. Не должно быть в душе тревоги, колебаний, сомнений. Иначе бог не раскроет свои объятия.
Но как не испытывать робости? И сомнений? Когда приближаешься к божеству?
Этих мыслей я не поверяла своему другу. Я вообще никогда не была с ним до конца откровенна. Это бы, пожалуй, лишь огорчило его, думала я.
Мы с ним очень близко сдружились в ту пору и остались друзьями на все время, пока я служила при оракуле.
И то сказать, мы вполне подходили друг для друга, его ведь тоже презирали. Хотя он-то, я думаю, не тужил, даже не знал об этом, между тем как во мне все против этого возмущалось. Отчего так было со мною? Никто из служителей святилища не занимал такого незаметного положения, как он, но он был вполне доволен, не было человека довольней его. Он подметал полы в храме и наружную лестницу, прыскал водою и потом выметал своей метлой всю грязь, наношенную людьми. Он наводил для бога чистоту, только и всего. И делал он это с превеликим тщанием, везде у него было опрятно и красиво. Приборка была его главной обязанностью, но, помимо этого, он имел немало других. Он ухаживал за лавровыми деревьями в священной роще бога, он наполнял водою чаши для освященной воды при входе в храм, он кормил ядовитых змеек оракула птичьими яйцами и мышами, он приносил дрова для неугасаемого огня на алтаре бога в святилище и следил за тем, чтобы он никогда не затухал, – хотя с него не спрашивали этой работы, но делал ее он. И он же содержал в порядке подземное святилище, а в дни, когда оракул вещал, он прислуживал и помогал жрецам, как я уже рассказывала. Он у всех был на побегушках. Благодарности же видел немного. Жрецы держались с ним высокомерно и частенько на него прикрикивали – все, кроме жрецов высшего сана, которые никогда к нему не обращались. С ним обходились как с ничтожным, ни на что не годным человеком, тогда как в действительности он делал все умело и добросовестно, и я не сомневаюсь, что бог был им очень доволен. Он любил и чтил храм, как никто другой, берег его как самое драгоценное сокровище, но он любил и бога тоже. Только любил без всякого шума, без многоречивых славословий, а так же, как любил свои немудреные занятия, свою службу, свои хлопоты уборщика, важность которых он прекрасно понимал. Он смотрел за боговой обителью, постоянно делал для бога то одну, то другую работу, все время был при боге, но между ними не было никаких недоразумений или трудных вопросов – лишь взаимное доверие и дружелюбие, и они не были разделены большим расстоянием: он был простой прислужник, однако не испытывал перед богом робости и неуверенности, чувствовал себя как близкий ему человек, словно бы добрый друг бога. Он относился к богу удивительно просто, между ними двоими все было буднично и естественно.
Мне так отрадно было видеть это, ощущать спокойствие, которое от него исходило и частица которого передавалась мне. Он был, пожалуй, самый счастливый человек из всех, кого мне довелось встретить. Он знал, что во всех его делах есть польза и смысл, и был в дружбе с богом.
Так что, пожалуй, неудивительно, что для него мало значили мнения таких бренных созданий, как люди, и их обхождение с ним, в котором он, впрочем, как я уже говорила, наверное, не замечал ничего дурного. Он был настолько доверчив, настолько лишен всякой подозрительности и даже обычной наблюдательности в отношениях с людьми, что приводил меня в умиление, а подчас, глядя на него, трудно было удержаться от смеха. Всегда одинаково дружелюбен и улыбчив был он со всеми, и с теми тоже, кто не отвечал ему дружелюбием. Он жил своими простыми, незаметными трудами в простом, будничном смирении, которого сам вовсе не сознавал. В нем было столько смирения, что сам он даже не знал, что оно в нем есть.
Как же я хорошо его помню, хотя с тех пор прошло столько лет. Помню, какие у него были черные как уголь подошвы на ногах, ведь переступать порог святилища дозволялось лишь босыми ногами, а он находился там почти неотлучно, и эта чернота въелась навечно и уже не сходила. Всегда, бывало, видишь его черные ступни, глядя, как он снует туда-сюда на своих проворных ногах.
Он – единственный из всех в храме, кого я вспоминаю с радостью, вот и сейчас стало хорошо на душе от одного того, что я сижу, думаю о нем. Теперь-то он, верно, давным-давно умер.
Во время наступившего вскоре торжества, как я уже сказала, все у меня шло хорошо с самого первого дня, и за это я прежде всего должна быть благодарна ему. Накануне вечером он долго со мною говорил, успокаивал и ободрял, а наутро, когда пробил мой час и меня, конечно, опять сковала робость, он сумел сделать так, чтобы я забыла свои страхи. Протягивая чашу с листьями, которые мне надо было жевать, он тихонько шепнул, что змейки оракула уже выползли из своих щелей, – и при этом все морщинки на его лице сложились в довольную улыбку, а затем он словно бы увлек, заманил меня в забытье, перешедшее в тот восторг, в ту одержимость, по которым я так тосковала. С тех пор редко случалось, чтобы меня не осеняло божественное вдохновение, но когда это случалось, то всегда было так же ужасно, как и в первый раз.
Жрецы чем дальше, тем больше были мною довольны, и по мере того, как годы шли, все шире разносилась обо мне молва – как ты уже слышал от слепого нищего, – будто я лучшая пифия из всех, какие здесь были, хотя это, конечно, не могло быть правдой, и будто бог не хочет вещать ничьими устами, как только моими. Так стали говорить после того, как испробовали однажды другую женщину, желая облегчить тяжелое бремя, лежавшее на мне во время многодневных празднеств, но попытка окончилась неудачей, и мне пришлось и дальше одной нести все на своих плечах.
Известность моя была причиною, что я так долго оставалась жрицей оракула, а не ушла по прошествии немногих лет, как это обычно бывало с пифиями хотя бы уже потому, что они дольше не выдерживали. Про меня же рассудили, что хорошо иметь пифию, о которой идет такая молва, им было жаль меня потерять. Но я и сама не хотела оставлять храм и свою службу. Подземелье оракула и все, что было с ним связано, завладело моею душой, совершавшееся там таинство, мое преобращение во что-то иное, чем я сама, неистовство, одержимость, выход за пределы всего и вся – я уже не могла без этого обходиться. Я не могла больше жить без этого.
Пожалуй, отношение ко мне стало уважительней, когда я так прославилась как пифия и все узнали, что оракулу, а стало быть, и городу от меня большая польза и что я – особо любезная богу избранница. Но это же самое заставляло людей еще сильней робеть передо мною, я чуть ли не внушала им страх. Меня еще больше чуждались, я оказалась в полном одиночестве, как бы вне всякого человеческого сообщества. Всем было известно, в какие опасные сношения с богом я вступаю и как ужасно преображается мое лицо, когда он в меня вселяется. И это делало меня самой одинокой из всех людей, живших в священном городе.
Во мне видели лишь жрицу оракула – и ничего более, да и сама я не так же ль на себя смотрела? Я была нераздельна с оракулом, у меня не было собственной жизни, я не знала иного существования, как только лишь в нем и через него. Я и вправду была только пифия и как бы перестала быть человеком в обычном понимании.
Жила я почти все время в Дельфах, где меня содержали на счет храма, – у своих родителей, у себя дома в долине я бывала все реже. Я стала им совсем чужая и чувствовала, что они робеют передо мною, как все другие. Когда я к ним приходила и мы начинали разговаривать, то как-то даже не знали, о чем говорить. Моей жизни в Дельфах лучше было не касаться: они этого всего не понимали и лишь понапрасну тревожились, слыша об этом, – а о собственном их житье-бытье рассказывать было нечего, думалось и им и мне, оно протекало, как раньше, в нем ничего не менялось, я и сама его знала вдоль и поперек. Впрочем, знала ли я его? Или, может, уже не знала?
Их мир сделался мне слишком чужд, я слишком от него отдалилась. Я видела, что он остался в точности такой, как раньше, он был мне по-прежнему хорошо знаком, но, несмотря на это, я чувствовала себя в нем чужой. Ничто не становится так чуждо человеку, как мир его детства, оставленный им насовсем.
Оба они были уже старые, это сразу бросалось в глаза. Двигались они теперь медленней, а мать сильно отощала. Она, точно старая птица, крутила головою, глядя по сторонам, глаза у нее ввалились. То и дело она присаживалась отдохнуть, сидела и молчала. У нас с нею почти не находилось о чем поговорить.
Сама я была уже немолода, сколько же мне было лет, когда мать умерла? Я думаю, пожалуй, далеко за тридцать.
В храме получили известие, что моя мать лежит при смерти, но сразу мне не сказали, я была как раз на пути в подземелье и, узнай я об этом, конечно, не смогла бы служить свою службу и внять откровениям бога. Я, разумеется, должна была прежде исполнить свой долг перед святилищем и перед богом. А в тот день собралось особенно много пилигримов – то был последний день великого весеннего торжества, и служба оракула тянулась необычно долго. Старичок-прислужник шепотом передал мне весть, как только увидел, что я начинаю приходить в себя, но я все еще была в полубеспамятстве, охмеление мое еще не прошло, и я поначалу ничего не могла понять, мне показалось, он говорит о чем-то далеком, не имеющем ко мне прямого касательства. Потом, однако, до меня дошел смысл его слов, и я в волнении поспешила туда, к ним.
Я все еще была немного одурманенная, когда, раскрасневшись и тяжело дыша, вошла в дом, где царила невыразимая тишина. Здесь всегда была тишина, но сейчас было еще тише обычного. И я почувствовала, что своим приходом нарушила мир несказанный.
На мне было надето платье невесты – то, что я носила как богова невеста в подземелье оракула. И я заметила, что отец взглянул на него с удивлением, хотя ничего и не сказал.
Мать лежала с бледным, совсем белым лицом и с закрытыми глазами, я думала, она уже умерла. Но когда я присела возле нее и заплакала, она открыла глаза и обратила на меня свой взгляд, которого мне никогда не забыть. Он шел из такой дальней дали, что просто непостижимо, как он достиг меня – уперся во что-то чужое, неведомо как очутившееся рядом с нею. Кто эта незнакомая женщина, которая пришла и села к ней на постель? И которая так странно одета – наряд вроде знакомый, но теперь уж не припомнить, для чего такой надевают.
Потом она, однако, как будто разглядела, кто я, признала меня и поняла, что я наконец-то пришла, она ведь сама, как я потом узнала, попросила отца послать за мною, чтобы повидать меня перед смертью. Но как я одета? До чего же странно я одета.
Медленно протянула она свою исхудалую руку и притронулась к моему платью, пощупала ткань, ничего не понимая. Ей, верно, казалось, что вид у меня как у ряженой. И так ведь оно и было. Так и должно было казаться ей, которая взаправду была невестою, и рожала мужу детей, и любила его и их. Она лежала и все трогала рукою мой дорогой наряд и ничего не могла понять. С выражением усталости и муки она закрыла глаза, и рука ее бессильно упала, исхудалая и пустая.
Я поднялась с ее постели, и отец сел возле нее на мое место. И с его рукою в своей она тихо упокоилась.
К своему ужасу и отчаянию, я все еще чувствовала в себе остатки моей горячки, моего хмеля, когда она умирала.
Отец провел своей большой грубой рукой по ее лицу, которое он ласкал, когда оно было молодым, и ему, верно, вспомнилось многое такое, чего я в своей жизни не испытала и никогда не узнаю, такое, что принадлежит жизни человеческой.
Он не заметил, как я вышла. Сбросив с себя наряд невесты, я надела старенькое платье, которое отыскала, платье, пролежавшее здесь, у них, со времен моей молодости.
Когда я воротилась, отец все так же сидел и смотрел на нее, он и на этот раз меня не заметил. Он видел лишь ее изможденное лицо, которое он любил живым, любил и сейчас, – оно было такое же чистое и простое, какою была всегда ее душа. Теперь душа отлетела, но лицо еще хранило память о ней.
Я тоже подошла и стала смотреть на ее лицо, красивое и просветленное. Но когда я увидела, какого невыразимого мира оно исполнено, я разрыдалась.
Ведь мы с нею когда-то так походили друг на друга.
Руки ее он сложил ей на груди, и они лежали удивительно белые и тонкие, почти прозрачные, эти руки, столько всякой работы переделавшие за долгий свой век. Теперь они были такие белые, точно все земное уже стиралось и исчезало.
Мы вместе, пособляя друг другу, обмыли мертвое тело и натерли его маслом. А потом перенесли на погребальные носилки, сделанные отцом, и уложили на подстилку из тимьяна и оливковых ветвей, как велит старинный обычай – чтобы вновь принести ее тело в дар жизни. И отец сам, отказавшись от моей помощи, негнущимися пальцами сплел миртовый венец и укрепил его у нее на голове в знак того, что она причастилась божественного. Он ревниво следил за соблюдением обряда, и мы ничего не упустили.
Напоследок он положил на ее впалую грудь несколько колосков и затем набросил плат ей на лицо, дабы ничто не мешало ей пребывать в мире.
На другой день отец выкопал могилу в ближней роще, неподалеку от дернового алтаря, где он почти всякий день оставлял какое-нибудь приношение. Мы вместе отнесли туда носилки, которые были для меня довольно тяжелы – мать была крупная женщина, – и опустили их в землю.
Там она лежала на своей подстилке из свежих листьев, отданная назад земле, возвращенная в материнское лоно. Мы взглянули в последний раз на ее исполненное мира лицо, и потом отец забросал ее землею, а после этого посеял на могиле хлеб, согласно обычаю. Ибо она принадлежала не смерти, а жизни.
Я осталась на время у отца, чтобы помочь ему на первых порах, тогда я могла это сделать: великое торжество было позади. Он ведь привык, чтобы в доме была женщина, которая смотрит за хозяйством. А мне и самой хотелось остаться хотя бы ненадолго, пожить здесь среди тишины и покоя, в которых я так нуждалась. Ибо я была тяжело потрясена всем происшедшим – и тем, что она щупала мое дорогое платье и едва признала меня в нем, и тем, что я пришла слишком поздно и не успела попросить у нее прощения за то, что стала не такая, как она, и тем, что я нарушила тишину в час ее смерти, и тем, что ее рука упала с моих колен пустая... Так тяжело потрясена этим всем...
Казалось бы, удивительно, что мир на лице человека можно ощутить как укор себе, и однако же, на меня он подействовал так. Я укоряла себя за то, что сама его не ощущаю, не чувствую мира в своей душе. Укоряла себя за все, что стало со мною, с моею душой, с моею жизнью, – за то, каким стало мое существование. Отчего я не такая, как она? Отчего моя жизнь не такая, как у нее? Отчего вся жизнь, весь мир не такие, как она? Отчего все не так, как в моем детстве? Когда мы с нею ходили вместе к священному источнику в лощине, к тому источнику с прозрачной водою в окружении свежей, никогда не увядающей зелени, где песчинки плавно кружатся, подгоняемые незримым перстом бога. Отчего мы не можем больше ходить туда рука об руку, как когда-то? Мне так о многом нужно было бы с нею поговорить.
Она лежала здесь и ждала меня, а я не шла, я пришла, когда было уже поздно. Я была слишком поглощена великим торжеством, чтобы думать о ней, чтобы наведаться сюда, к ним, и узнать, что она больна, что она вот-вот умрет. Слишком поглощена тем, чего она не понимала, что невозможно было ей объяснить, что лежало за пределами ее разумения. Но что завладело моею душой, без чего я не могу жить.
Не могу жить? А то, чем жила она, – без этого я жить могу? В самом деле могу?
Великое торжество, которым я так была поглощена, от которого не могла оторваться, неистовство, восторг, одержимость – что это все против такого вот мира на лице человека, мира, который есть у него в душе!
А что есть у меня? И чего я лишилась? Моя жизнь – что она против ее жизни? Той, которую я потеряла, когда оставила, бросила мать.
Мне надо было сидеть здесь, подле нее, в этой тишине, и держать ее руку в своей. Здесь было мое место.
Теперь лишь я поняла, что великое торжество совершалось здесь, когда мать лежала и умирала.
И мне хотелось остаться на некоторое время и пожить этой покойной, надежной жизнью. Ее жизнью. Хотя бы недолго.
Я часто сидела на том же месте возле очага, где обыкновенно сидела она, и я замечала, что мне приятно ощущать запах нашего старого дома – это было удивительно, ведь раньше, когда я их навещала, так не было. Тогда он был отчего-то неприятен мне, должно быть, оттого, что я слишком хорошо его помнила. А тишина, покой лишь угнетали меня. Теперь же я окунулась в них и чувствовала, как они обволакивают, ласково обнимают меня. И до чего же отрадно было это чувствовать.
Так я заново открывала для себя дом своего детства. Заново открывала поля, окрестные земли, старую оливу возле дома, и рощу с алтарем из дерна, где теперь покоилась мать, и извилистую тропку, что вела в лощину к источнику. И все знакомое и памятное стало мне снова дорого и снова преданно сомкнулось вокруг меня, и я словно никогда с ним не расставалась. Мне еще не верилось, что все это в действительности со мною происходит, и порою другие мысли тревожили меня, но все же я как будто понемногу возвращалась к обычной, к настоящей жизни.
Отец по-прежнему работал в поле, а я, как умела, смотрела за домом. Я отошла от домашней работы, успела все перезабыть, но довольно скоро опять освоилась. Нам хорошо жилось вдвоем.
Как ни странно, мы редко говорили о матери, хотя оба непрестанно думали о ней. Отец поставил камень у нее на могиле и часто совершал жертвоприношения. То были простые жертвы, к каким они оба привыкли. Я видела, как он останавливался там ненадолго, а когда он затем подходил к дому, то смотрел невидящим взглядом, точно все еще был где-то далеко. Этот кроткий, печальный взгляд странно не вязался с его могучим обличьем. Глаза были ясные, как у ребенка, хотя выражение в них было совсем не детское. Он чем дальше, тем больше уходил в себя, но угрюмость его была полна доброты.
Я хорошо помню его, каким он был в эти последние месяцы, проведенные мною с ним. Медленным шагом входил он по вечерам в дом, а когда он кончал есть, его большие старые руки оставались лежать на столе, корявые и натруженные, непривычные к праздности. Глядя на них, я не могла не вспоминать, как хорошо и покойно бывало мне в детстве, когда он держал мою ручонку в своей ладони. Но теперь они сильно переменились, стали совсем старые и сморщенные.
Всякое утро он первым делом шел, как и прежде, к тому одинокому дереву, которому он поклонялся, а затем приступал к своим обычным трудам. Выходил он с первыми рассветными лучами, еще до того, как встанет солнце – здесь, меж высоких гор, оно ведь показывается не так скоро, но небо светлеет задолго до его восхода.
Чуть позже и я отправлялась по тропинке к источнику в лощине, к тому, что был священным. Постоять возле него, глядя в воду, – какой это был отдых и мир для души, благоговение охватывало меня, и я возвращалась домой успокоенная, ободренная и по-своему счастливая.
Так протекала наша жизнь. Весна набирала силу, и кругом была дивная красота, и у нас, и во всей огромной изобильной долине.
Однажды утром, когда я, как обычно, спускалась по тропинке к источнику, я увидела человека, который, склонившись над ним, пил воду из пригоршни. Помню, мне еще издали бросилось в глаза, что пил он почему-то левой рукой. Хотя я видела его со спины, я поняла, что это кто-то незнакомый, и замедлила шаги, думая немного обождать. Но он уже услышал, что я иду, и оборотился. Был он совсем молод, пожалуй, лет на десять моложе меня, лицо открытое и свежее, обожженное солнцем. Приглядевшись, я заметила в нем как будто что-то знакомое. И он тоже смотрел на меня так, словно признал. Он поднялся, и тогда я, подойдя ближе, поняла, что он здешний, из нашей долины, и я иногда встречала его, когда он еще был ребенком, давным-давно. Теперь это был мужчина лет двадцати пяти – тридцати, не слишком высокий, но крепкий и ширококостый, пышущий здоровьем. Но одной руки у него не было.
И он тоже меня вспомнил, хотя прошло столько лет. Наши дома стояли не так далеко друг от друга. Родители его тоже имели небольшой надел от храма, они были бедные люди, пожалуй, еще бедней нас: семья у них была многодетная.
Мы с ним разговорились. Он рассказал, что много лет не был дома, чуть ли не мальчишкой ушел и нанялся в солдаты, слишком много было ртов в семье. Но потом на войне потерял руку, оттого и воротился. Негоден стал для войны, усмехнулся он, да тужить-то не о чем. Ему война была не по нраву, просто надо же чем-то кормиться. Самое-то лучшее – работать на земле, коли она есть. Хотя для этого тоже неплохо иметь две руки.
Потом он спросил про мою жизнь, и я рассказала ему о смерти матери и что я теперь у отца в доме за хозяйку.
– Ты что же, незамужняя? – спросил он.
– Да, – ответила я, чуть замешкавшись.
Потом мы заговорили об источнике. Я сказала, что всегда хожу сюда по утрам, мать меня приучила, и что этот источник истинно священный. Да, он тоже это знал, и вода в нем уж очень хороша, сказал он. Даже в Касталии вода не такая, а там ведь всегда народ толпится – не подступишься. Он об этом нашем источнике все годы тосковал, пока был на чужбине. А вчера вечером воротился и сегодня с утра пораньше пришел сюда, чтобы поскорее отведать воды.
И он опять склонился и начал пить, словно ему все было мало.
– А ты разве не будешь пить? – спросил он.
Я помедлила в нерешительности, но потом опустилась на колени рядом с ним, и мы стали оба пригоршнями пить чистую, студеную воду. Ничего особенного в этом, конечно, не было, но мне почему-то чудилось, будто мы вместе совершаем какой-то необыкновенный обряд. Когда мы кончили пить, наши лица отразились рядом в источнике – вода в нем тотчас вновь успокоилась. Не знаю, видел ли он, как песчинки на дне в одном месте плавно кружились. Может, он этого и не видел, однако же сказал:
– Такой прекрасной воды во всем свете не сыщешь. Воистину это священный источник.
Мы поднялись и распрощались. Он хотел побродить, осмотреться в родных местах, сказал он мне, поглядеть, все ли он помнит. И с легкой улыбкой на своем загорелом лице он оставил меня и зашагал прочь.
Я побрела по тропинке обратно к дому, медленно и не оборачиваясь, хоть мне и хотелось посмотреть, в какую сторону он пошел.
Он что же, не знает, что я пифия? Выходит, он этого не знает?
На другое утро я, как всегда, спустилась к источнику. И какое-то время там побыла, быть может, немного дольше обычного. В конце концов он тоже пришел, и я заметила, что обрадовалась его приходу. Странно было заметить в себе это чувство.
Мы с ним опять разговорились. Он сказал, что вчера спускался на дно ущелья, к самой реке, приятно было снова на нее поглядеть. Услышав, что я никогда там не была, он очень удивился. Мне непременно нужно туда сходить, это недалеко и спуск не такой уж крутой, если только знаешь места. Мы могли бы как-нибудь вместе туда прогуляться, предложил он, будто речь шла о чем-то привычном и вполне естественном.
Когда он напился из источника, мы расположились на берегу, и он стал рассказывать о своей солдатской жизни в чужом, незнакомом мне краю. И как это прекрасно – вновь очутиться в родных местах, но только Дельфы ему не по нраву. Это не город, а притон для мошенников, а женщины там все продажные.
– Но там такой великолепный храм, – сказала я.
– Ну это-то конечно, – ответил он.
И больше ничего не прибавил. Я так и не поняла, знает ли он, что я пифия, или не знает. Да и какое это имело значение, отчего это так заботило меня?
Не знает, так скоро узнает, не все ли равно.
Мы сидели и разговаривали с ним, как старые друзья, словно век были знакомы. Но время от времени мы взглядывали друг на друга и не знали, что сказать, забывали, о чем только что говорили.
Солнце стояло уже довольно высоко над горою, когда мы расстались и я воротилась домой.
На третье утро – я помню, что вела про себя счет, хотя едва ли это сознавала, – на третье утро я живо собралась, как только отец ушел в поле, и помню, мне было удивительно слышать, как билось у меня сердце, пока я занималась приготовлениями. Спускаясь в лощину, я почти сразу увидела, что он уже сидит внизу, на том же месте, и я вдруг почувствовала себя необыкновенно счастливой, шагая по тропинке в брезжущих лучах утреннего света – еще ненастоящего, неполного света, но уже готового вот-вот вспыхнуть, разлиться ярким солнечным сиянием по всей долине. Он еще издали заслышал мои шаги и обернулся, и потом сидел и улыбался мне, ожидая, пока я подойду. А когда я склонилась над источником и начала пить, он стал на колени рядом со мною, хотя уже раньше напился, и опять принялся зачерпывать воду своею рукой – коричневой от загара, широкой и сверху густо поросшей волосами. Кончив пить, мы, не поднимаясь с колен, взглянули друг на друга, и вдруг он, не говоря ни слова, обхватил рукою мою голову, притянул к себе и поцеловал меня. Губы у нас были ледяные от студеной воды, но понемногу стали разогреваться, делались все горячей и горячей и напоследок пылали жаром. Я чувствовала у себя на затылке его широкую влажную ладонь и слышала, как участилось мое дыхание и как сильно колотится у меня сердце. А когда его губы наконец оторвались от моих, я услышала – но словно бы откуда-то издалека, – как он своим спокойным голосом сказал:
– Для чего ты закрываешь глаза?
Я и не знала, что глаза у меня закрыты. И я открыла их, и увидела его улыбающееся загорелое лицо прямо против моего, и оно опять стало приближаться, а потом я уже не видела его и лишь почувствовала, как его сильные губы прижались к моим, полуоткрытым в ожидании.
После этого мы больше ничего друг другу не говорили, только молча держались за руки. Я тогда впервые держала его единственную руку в своей. Его дорогую, любимую руку, которую я так хорошо помню.
Мы оба часто и неровно дышали, поднявшись с земли и стоя друг возле друга.
– сходим вместе к реке? – предложил он без улыбки. – Ты ведь никогда там не была.
И я в ответ лишь подняла на него глаза и сжала его руку. Мне уже ничуть не казалось странно, что он мне это предлагает и что мы пойдем туда вдвоем.
Мы торопливо зашагали под гору, а когда склон через какое-то время стал круто обрываться вниз, он старался находить такие места, где я легче могла пройти, хотя мне все равно было трудно без привычки и при той стремительности, с какою мы спускались. Но он помогал мне там, где было тяжелей всего, стоя внизу, подхватывал меня и поддерживал, пока я опять не найду прочной опоры на каменистом обрыве с выступающими повсюду корнями пиний. Чем дальше, тем круче и непроходимей делался спуск, а снизу все громче и громче слышался шум реки, она все сильней и сильней бурлила, грохотала. Ущелье сужалось, становясь тесным, точно пропасть, а дневной свет мерк, исчезал и в конце концов обратился в полумрак, наполненный оглушительным грохотом реки. Ее пока не было видно за пиниями, но скоро она должна была, верно, показаться.
Однако когда мы, запыхавшиеся и разгоряченные трудным спуском, очутились наконец на дне ущелья, то даже не вспомнили про эту реку, на которую пришли посмотреть, даже не взглянули в ее сторону, мы видели лишь друг друга, забыли обо всем, кроме самих себя, думали только о том, чтобы поскорее броситься друг к другу в объятия в этой полутьме, где никто нас не увидит, где все, что произойдет, останется тайной. И мы упали на землю, и, закрыв глаза, я почувствовала, как он сорвал с меня одежду и овладел мною.
Впервые в жизни узнала я любовь, узнала чудо избавления от одиночества, когда другой человек был нераздельно слит со мною. Когда мы двое сплелись, объяв друг друга, и жгучее, неистовое наслаждение пронизало мое сильное тело, всегда безотчетно тосковавшее об этом, жаждавшее этого.
Все время, пока это со мною происходило, я слышала вокруг грохот реки и ощущала аромат мягкого ложа из хвои пиний под собою, ложа, которое эти добрые деревья невесть сколько лет устилали и готовили для меня. Навсегда соединились в моем сознании аромат хвои и этот гулкий грохот с любовью, какою я узнала ее.
Я не открывала глаза, не хотела, мне это было ни к чему, я и так знала, что мой любимый здесь, со мною, что мое счастливое тело в истоме лежит у него в объятиях, на его руке, на его сильной, твердой руке, на которой мне так покойно, так прекрасно отдыхать. И я чувствовала, как его пальцы, пальцы его левой руки, ласкают мое лицо, мне так непривычно было это чувствовать, но вместе и так радостно, никогда прежде не ласкали меня ничьи руки, и никогда потом не ласкала меня ни одна рука, кроме этой, кроме его руки.
Это было человеческое счастье – вот какое оно, вот каково быть человеком. Я была счастлива, как бывают счастливы эти создания. Я была совсем как одно из них.
Когда мы наконец вдосталь насладились друг другом, мы снова поднялись наверх, к дневному свету, к свету солнца, к ослепительно яркому солнечному сиянию, которое заливало теперь всю долину. У источника, который был все так же тих, будто ничего и не произошло, мы расстались, и я, счастливая, пошла домой.
Дойдя до дверей дома, я обхватила притолоку своей все еще жаркой рукою и замерла, прислонившись к ней, переполненная своим счастьем.
Пока я готовила еду, ожидая, когда отец воротится с поля, я начала думать о реке, что мы, должно быть, дурно поступили, позабыв о ней, даже не взглянув на нее. Быть может, она гневается на нас за то, что мы не совершили моления возле нее и не очистились в ней, прежде чем предаться нашей любви. За то, что мы думали лишь о себе. Быть может, то был проступок, за который нас ждет наказание. Нет такой реки, в которой не сокрыто божество, и оглушительный грохот ее – ведь это несомненный знак божества, которое, должно быть, гневалось на нас. Мне казалось, я все еще слышу этот грозный грохот, и теперь, когда я была одна, он вселял в меня страх.
Река злопамятлива, это всякому ведомо. И бог...
Бог? А как же бог?.. Простит ли он мне то, что я сделала?
Ведь я принадлежу ему, я же его невеста.
Да, конечно. Но я ведь еще и человек. Я человек, такая же женщина, как все другие. Ведь это-то я и почувствовала, это-то и познала совсем недавно, изведав радость несказанную. Такую радость и такое счастье, каких я прежде не могла вообразить. Какие были отняты у меня. Отняты? Кем?
Я избрана богом, я его избранница. Но я избрана и земною жизнью, обыкновенной человеческой жизнью, чтобы жить ею. Я избрана любовью, человеком, который меня полюбил, который хочет обладать мною и которым я хочу обладать. Я его невеста. Невеста бога – и его.
Нет, лучше об этом не думать. Лучше думать о том, как я счастлива. Только об этом. И больше ни о чем.
Но это бог, сам бог внушал мне тревожные мысли, которые я отгоняла от себя. И он потом не раз возвращал меня к ним, они никогда не оставляли меня в покое. Тогда я этого не знала. Я даже не догадывалась, как я должна тревожиться за себя и за своего любимого, не могла себе представить, что нас ожидало, что нам грозило.
Мы не знали, что мы делаем, когда устремились в эту пропасть, к шумно бурлившей реке.
Я старалась уйти целиком в свои домашние хлопоты, ни о чем, кроме них, не думать. Но занять ими мысли было невозможно, мои руки управлялись с ними без всяких раздумий. Мои руки, которые совсем недавно ласкали...
Обхватить руками его голову – как это было чудесно... Обнимать такое сокровище – голову своего любимого, и согревать, жечь поцелуями его губы, и видеть, как его взгляд тонет в моем...
Какой же взгляд был в тот миг у меня самой... должно быть как у утопающей...
А если об этом проведают, что тогда? Какие ужасы ожидают тогда нас обоих? Но ведь это произошло тайно от всех, никто об этом не знает. Нет, как же, река знает. И бог. Бог об этом знает!
И ведь это будет опять. Это будет у нас снова и снова, тело мое взывает об этом, и ничто не может заглушить его зов, я готова кричать об этом громко, пусть все горы слышат меня... Что бы ни случилось! Я ничего не боюсь! Любовь не боится ничего! Единственное, чего я боюсь, – это что мой любимый... мой любимый может...
Знает ли он об этом? Знает ли, что я пифия, богова жрица и невеста? А если он узнает об этом, неужели он, как все другие... неужели он тогда...
Нет, лучше ни о чем не думать – только лишь о том, как я счастлива. Как я счастлива сейчас. Теперь. Сегодня. О том, как я лежала с ним под сенью добрых деревьев, на ложе из их ароматной хвои, как я отдыхала под их сенью у него на руке, на его сильной, твердой руке, на которой мне так хорошо и покойно было отдыхать... Да, у него я нашла покой, наконец-то нашла... Только бы бог оставил мне этот покой, позволил мне его сохранить... Он, в ком я не нашла покоя... В ком и не может его быть, конечно, ведь это понятно, я прекрасно это понимаю... Но человеку – слабому созданию, которое всего лишь человек, – должно же быть дано изведать покой, двоим любящим должно же быть дано изведать покой друг у друга в объятиях... Мне-то можно же наконец покойно отдохнуть в объятиях моего любимого, мне, так долго тосковавшей об этом...
Я вспоминаю, как я воссылала богу мольбы, молила его дать мне вкусить счастье, дать мне вкусить мир в любви, в этой земной любви, которая теперь переполняла меня.
Я не знала, я не догадывалась, что в простоте душевной молю его о том, чего он никогда не мог бы сделать для меня, о чем просто нелепо его молить. Молю, чтобы сам он меня оставил.
Для нашего счастья было только лучше, что я тогда не понимала, как нелепы мои мольбы и как трудно, невозможно ждать от бога, чтобы он им внял. Мы жили своею любовью, отдаваясь ей безраздельно, ничего не подозревая и ни о чем особенно не тревожась, – если кто изредка и чувствовал тревогу, то только я, а мой любимый – никогда. Это было вовсе чуждо ему. Он весь принадлежал действительному, земному миру, настоящей жизни и не страшился ничего, что было за их пределами. О том, что ему, как и мне, было чего страшиться, он не знал, не мог знать.
Да, это было благо, что мы ничего, совсем ничего не знали.
Мы любили друг друга, искали близости, когда только было можно, как только представлялся для этого случай. Тайком – ведь иначе нам было нельзя, но это лишь сильней разжигало нас. Мы любили друг друга где придется, но всегда на вольном воздухе, как животная тварь, как вся природа. Мы были вынуждены к этому, но мы и сами так хотели, это больше всего подходило нам, какие мы были, с нашей любовью, какою она была, бесприютной и счастливой. Не под кровлею, как это принято у людей, – на ветру, под дождем и солнцем. Когда желание охватывало нас, помню, мы могли отдаться друг другу где-нибудь посреди ячменного поля, лежали там, спрятавшись от всех, одни со своею любовью. Лишь орлы, паря в поднебесье, видели нас. Я помню, однажды, в разгар лета, хлеба цвели и пыльца кружилась над нами, когда мы слились друг с другом в сиянии солнца, я помню, как пах ячмень и как воздух вокруг дрожал от летнего зноя.
Но спускаться к реке я больше ни за что не соглашалась. Он иногда звал меня туда, там мы можем надежней всего укрыться, говорил он. И спрашивал, отчего я туда не хочу. Но я ему так и не сказала.
С меня довольно было того гула, того отдаленного, но грозного гула, который стал неотделим от моей любви. Всегда, всегда я слышала его, предаваясь любви. При свете дня, даже в миг счастья на солнечном хлебном поле, чудилось мне, я слышу вокруг глухое грохотание реки. Или, быть может, оно раздавалось внутри меня?
Свои беспокойные мысли я держала при себе, он ничего о них не знал. Чаще всего они одолевали меня, когда я оставалась одна, хлопоча по дому, и у меня было довольно времени для всяких раздумий. Тогда меня подчас охватывало смутное беспокойство, неясный страх перед будущим. Чем оно чревато? Что оно мне принесет? Принесет во чреве?.. Вспоминаю, как я однажды наткнулась на свой наряд невесты, роясь в поисках какой-то совсем другой вещи. Я поспешно упрятала его подальше. И в смятении ходила по пустому дому, преследуемая тревожными мыслями.
Если б я могла поговорить с ним, с моим любимым, о том, что меня гнетет. Насколько бы легче мне стало. Если б я могла поделиться с ним. Я не раз собиралась это сделать, открыться ему. Спросить его, знает ли он... знает ли, кто я? Но не решалась. Слишком дорого было мне мое счастье, я не хотела лишиться его. Ведь оно у меня было, счастье, а раскрой я душу перед моим любимым, я могла его потерять. Такое сплошь да рядом бывает. Расскажи я ему, кто я...
Но ведь он, скорей всего, знает об этом, не может быть, чтобы он не знал. Тогда почему бы мне не...
В конце концов я решилась.
И оказалось, он знал, что я была жрицею оракула в ту пору, когда еще был мальчишкой, а возможно, и позже, когда оставил отцовский дом, но он думал, что я давно с этим кончила, пробыв пифией несколько лет, как другие. Он немало у дивился, услышав, что я все еще служу оракулу, что я и сейчас пифия. По возвращении с чужбины он ни с кем обо мне не говорил, чтобы не выдать нашей тайны, поэтому он ничего и не знал. Кроме лишь того, о чем я сама ему рассказала: что я живу с отцом и смотрю за хозяйством. Я поняла из его слов, что он, кажется, не слишком ясно себе представляет, что это такое – быть жрицей при оракуле, что это в действительности означает. Он ведь долго пробыл вдали от Дельф, и к тому же все, что там делается, вообще никогда его не привлекало, нет, это все не для него, сказал он мне. Но он не мог скрыть своего удивления, услышав, что я все еще пифия, что я так тесно связана с божеством. Он не сказал мне об этом прямо, но я видела, что это его озадачило.
Я почувствовала большое облегчение оттого, что он так принял мой рассказ. Нет, я не потеряю его, я поняла, что, конечно, его не потеряю. Для него не так уж важно, пифия я или нет, он первый человек, который не смотрит на меня из-за этого как на какую-то диковину и не чуждается меня. Он ведь все время об этом знал – правда, не о том, что я и сейчас пифия. Знал – и так меня любил! Нужны ли еще доказательства того, как мало это для него значит!
Благодарность и счастье переполняли меня. Я рассказала ему обо всем, и он понял меня, понял мою тревогу. Хотя, правда, о своей тревоге – нет, о ней я ему ничего не сказала, прямо не сказала. Да ведь я больше и не буду тревожиться. Он понял все, как может понять лишь любящий человек.
Я сидела и гладила его руку, такую дорогую и милую мне, а потом, помню, поцеловала ее. Расстались мы с поцелуями и улыбками, как обычно.
В наше следующее после этого разговора любовное свидание все у нас было как прежде. Никогда еще, кажется, со времени самой первой нашей близости не ласкала я его с такою страстью, любовь моя к нему стала еще горячей, еще благодарней, и я хотела показать ему это, принести ему в дар свою любовь, принести ему в дар себя, всю себя, все, что может дать любящая женщина: свое тело, свою нежность, свое вожделение. И он принял мой дар и сам отдался страсти. Но был как будто немного удивлен моею необузданностью. Я помню, он ласкал меня после этого так тихо, словно хотел успокоить.
Мы не возвращались в этот раз к прошлому разговору, оба этого избегали. И вообще почти никогда больше об этом не говорили. Я заметила, что он смущается и робеет, когда мы касаемся этих вещей, да мне и самой не хотелось говорить о них теперь, когда я открылась ему и все у нас было хорошо.
Да, все у нас было как прежде. Только любовь моя стала еще жарче и значила теперь для меня еще больше. И я не могла скрывать, как бесконечно много она для меня значит и как я дорожу ею, цепляюсь за нее. Как она мне необходима. Быть может, это было слишком хорошо по мне видно.
Его чувство было спокойней, ровней, как и все в нем, – за это я так его и любила. Он любил меня на собственный манер – любовью спокойного, сильного человека, который, конечно, никогда бы Мне не изменил. Но моя бурная страсть, кажется, отнюдь не усиливала его чувство ко мне и его влечение. Порою она словно бы заставляла его даже немного робеть передо мною – так же как он, видимо, не мог без смущения и робости думать о том, что я рассказала ему о себе: что я пифия и, стало быть, принадлежу богу. Он чуть ли не начал немного чуждаться меня. И оттого, что я, казалось мне, видела это, он делался лишь еще более мне необходим. Я цеплялась за него, льнула к нему еще жарче, еще безудержней, я так бы и висела все время у него на шее! Хотя я теперь больше не боялась его потерять, конечно, не боялась, нисколько, однако я цеплялась за него так, будто думала, что того и гляди потеряю его, будто мне было чего страшиться; мне вовсе нечего было страшиться, и однако, мне было страшно; я умащала лицо свое маслом, хотя в этом не было никакой нужды, я делала это, чтобы смягчить кожу и разгладить морщины, хотя на моем свежем лице не было еще никаких морщин и мне нельзя было дать моих лет, на вид я была не старше его, – и однако, я все это проделывала. А когда я однажды утром не застала его у источника, то пришла в совершенное отчаяние и совсем потеряла рассудок. Забыв всякий стыд, я давала ему почувствовать, как неутолимо мое вожделение, как откровенно сладострастна моя любовь к нему, и я знала, что взгляд у меня как у утопающей, но это уже не смущало меня, я не прятала от него своих глаз, я ничего не скрывала! Не хотела ничего скрывать!
Моя страсть была подобна дикой бездне, готовой его поглотить. И я видела, что она пугает его.
Да, моя любовь была непомерно велика. Чересчур сильная любовь тягостна для того, на кого она обращена, я не понимала этого, ничего об этом не знала. Да если бы и знала, это все равно не помогло бы. Ибо кто может назначить точную меру любви!
Его не могла не отпугнуть эта необузданность, этот дикий пожар, чуждые ему и его миру, тому надежному и покойному земному миру, в котором он жил. Ведь я и любила-то этот покой и эту надежность – и вот, стало быть, любила так пылко, что потеряла их, не могла не потерять. Потеряла из-за самой непомерности своей любви к ним. Нет, не годилась моя любовь для этой жизни, не вмещалась она в нее. Видно, я все же не подходила для этого мира, для настоящего человеческого мира, не была для него создана.
Объятия моего любимого были сам покой, желанный и сладостный. Но я не была создана для покоя, я осталась чужой покою, ибо чересчур сильно его любила.
Но мой любимый меня не оттолкнул. Он был так же добр со мною, как прежде, и мы могли подолгу сидеть и разговаривать, держась за руки. Когда я приникала к нему и он понимал, что я по нем томлюсь, я видела, что сам он к этому не расположен, что я не возбуждаю в нем ответной страсти, но нередко он все же уступал моему желанию и терпел мою необузданность и мой пыл, которого сам больше не разделял. То, что он уступал мне как бы просто по доброте, было для меня горше всего. И горько было в глубине души против своей воли сознавать, как мало общего доброта имеет с любовью.
Да, он был очень добр со мною, и странно было чувствовать, как тихо ласкает меня его обычно такая сильная рука и как любовь гаснет, умирает в ней, пока она меня ласкает.
Вот так было у нас с ним вплоть до того рокового дня, когда из храма прислали сказать, что я должна туда явиться. Оракул вновь открывал свою службу, и меня ожидали многодневные празднества и огромные толпы пилигримов.
В последний вечер я была в отчаянии и не умела этого скрыть. Он все время спрашивал, отчего я такая, но я не хотела говорить ему, не могла себя заставить. Я рассталась с ним в слезах, в совершенном душевном расстройстве.
На другое утро я достала свой наряд невесты и, не сказавшись отцу, потихоньку вышла из дому и отправилась в Дельфы. Было еще темно, и я зябла под ледяными лучами звезд. Я не любила бога. Я любила другого. Но ему я была не нужна. Я была бесконечно одинока.
Спустившись в подземное святилище, я тотчас почувствовала, что он уже здесь – тот, кому я изменила. Его дыхание пахнуло мне в лицо, бурное и дурманящее, он будто тотчас вцепился в меня. Все подземелье было заполнено им, его духом, воздух тяжелый и удушающий. Ядовитые змейки оракула уже выползли и тянулись ко мне своими раздвоенными язычками, а из бездны, что вела в царство мертвых, извергались на меня тошнотворные ядовитые испарения, и, еще не усевшись на треножник, я уже чувствовала себя почти одурманенной ими. Никогда еще не бывало, чтобы я с такою быстротой подпала под его власть, была опустошена, обращена в ничто и наполнилась им, он будто только и ждал минуты, когда сможет наконец обрушиться на меня. Он стиснул мне горло с такою силой, точно хотел меня удушить, дыхание у меня почти остановилось, и из глотки стало вырываться какое-то жуткое шипение. Лишь ужас и страх чувствовала я – никакой легкости, никакой радости, ни на миг. Никогда не испытывала я такой муки, никогда не обходился он со мною так злобно, с такою свирепой яростью, но никогда и не приводил меня напоследок в такой безумный экстаз. Мне потом говорили, что тело мое в исступлении кидалось из стороны в сторону и что мои неистовые крики были слышны даже наверху, в храме. Это было жутко. Но что особенно напугало, ужаснуло меня – это что я в разгар всего происходящего, сквозь все происходящее, слышала, чудилось мне, доносившееся откуда-то издалека глухое грохотание реки. Неужели это могло быть? Неужели я правда его слышала? И отчего именно это вселяло в меня такой страх?
Когда я потом лежала и отдыхала в доме у старухи, ухаживавшей за мною, постепенно приходя в себя после своего ужасного изнеможения, ко мне наведался старичок-прислужник и посидел немного у моей постели. Он тревожился за меня и хотел узнать, как мое самочувствие. Он сказал, что никогда не видел, чтобы лицо мое было так пугающе-страшно, как в этот раз. Это и жрецы тоже заметили и говорили об этом промеж собой. Они были весьма довольны мною, силою моей божественной одержимости. Но от себя он осторожно добавил, что, быть может, мне не следует с таким самоотречением предаваться богу, что бог, конечно же, этого и не требует. Вероятно, на усталом лице моем мелькнула слабая усмешка, когда я, прикрыв глаза, внимала его заботливым словам, хоть он и не заметил этого.
Он говорил о боге. О своем боге. Чему же я усмехалась?
Затем он принялся рассказывать что-то такое про неизвестного человека, который сбежал вниз по лестнице из залы для пилигримов, ворвался в священное подземелье и уставился на меня полными ужаса глазами. Он был, конечно, нездешний, в Дельфах никто бы не решился на такое безумство, зная, что это строжайше запрещено. Жрецы оракула были вне себя, и он, понятно, был тотчас выдворен, выведен за руку храмовым стражем, и никто не знает, какое его теперь ждет наказание, но, возможно, они его и так отпустили.
Случай был довольно необычный, но я слушала рассеянно, пока он не сказал, что, кажется, у этого человека была только одна рука.
Я привскочила на постели, и, вероятно, вид у меня был до крайности странный. Старичок-прислужник смотрел на меня с изумлением. Он, разумеется, не понимал, отчего я вдруг так переменилась. Но зато он понял, что я, очевидно, не собираюсь больше отдыхать, а стало быть, со мною все хорошо. Он мог больше за меня не опасаться. И, вполне довольный, улыбаясь всем своим добродушным лицом, он покинул меня.
Оставшись одна, я долго сидела, и в голове моей теснились противоречивые мысли. Для чего он приходил? Как это понять? Что его на это толкнуло? Быть может, это означает, что он... что он все же не совсем ко мне равнодушен?
Что-то похожее на слабую надежду затеплилось у меня в душе, хотя для этого и не было причины.
Медленно стянула я с себя наряд невесты, надела вместо него обычное платье и отправилась к себе в долину.
В доме у нас я никого не застала, вышла и наугад побрела по полям. Завидев его – он работал на клочке, засеянном его отцом, – я пошла к нему. Он слегка вздрогнул при виде меня, и я заметила робкое, опасливое выражение в его взгляде, обычно на редкость прямом и открытом. Он не поднял на меня глаза, когда я приблизилась. Мы оба стояли и молчали.
Я все поняла. Он видел меня, видел мое ужасающе-страшное лицо, когда я принадлежала богу, видел то, чего никто не может выдержать и чего никто из узревших вблизи не может забыть до конца своих дней. Теперь я была для него пифия, одержимая, – для него, как и для всех других. Теперь он был как все другие. Теперь все было кончено.
Я спросила его, и он ответил мне без утайки, что это так. Ему вовек от этого не оправиться. И я поняла, о чем он говорил: ни один мужчина не способен любить женщину, если он видел ее такой, видел ее одержимой богом.
Потом он рассказал, что утром пришел к источнику и ждал, что я тоже приду. Но я не приходила, и он все больше беспокоился, вспоминая, в каком странном душевном расстройстве была я накануне вечером, и ему вдруг подумалось, не случилось ли чего со мною. Он поднялся к нашему дому и никого там не нашел, и тогда он, еще более встревожившись, разыскал в поле моего отца, но тот тоже не знал, где я, и удивился, что меня не оказалось дома. Помявшись, он добавил нехотя, словно с трудом заставляя себя об этом говорить, что, кто его знает, может статься, я отправилась в Дельфы, в храм оракула. Он поспешил туда и уже в предхрамии услышал мои неистовые крики, будто кто-то мучил меня, и бросился через весь храм в залу для пилигримов, откуда, казалось ему, доносились крики, а потом вниз по лестнице...
И тут он оборвал свой рассказ.
Я взяла его руку в свою:
– Ты так за меня испугался?
– Да.
– Больше тебе не придется за меня бояться, никогда. Я так тебя люблю, что все могу для тебя сделать.
Он понял, какой смысл вложила я в свои слова – что ради него я сделаю самое трудное, самое последнее, на что способна любящая женщина: освобожу его от себя, и он больше никогда меня не увидит. С этого дня мы с ним разлучимся, он станет по-прежнему жить в своем мире, а я в своем, как и должно было быть всегда.
Мы долго стояли, опустив глаза в землю, избегая встречаться взглядами. И я сжимала его руку, но не настолько сильно, чтобы это напоминало ему, как горячо я его люблю и как тяжело мне в эту минуту. И затем мы расстались навсегда.
Хотя мы жили совсем близко друг от друга, мы никогда больше не встречались, было очевидно, что он меня избегает, думая, что так будет лучше для нас обоих. Я и сама так же думала, я была благодарна ему за это.
Когда мне не надо было находиться в Дельфах, я, как и прежде, жила с отцом, средь той же природы, в той же долине, что и тот, с кем я разлучилась. Был уже конец лета, и все кругом выгорело, всю нашу огромную долину точно выжгло огнем: поля, леса, все-все. Лишь источник ничуть не переменился и был все так же полон чистой, прозрачной воды, ибо он был божественный. И песчинки в одном месте, как и прежде, плавно кружились, подгоняемые незримым перстом. Я продолжала ходить туда по утрам, как и раньше, и оставалась там ненадолго посидеть, одна со своими мыслями. Но я никогда не смотрелась в него. Я тоже не могла, не хотела больше видеть свое лицо. Просто сидела, глядя в пустое пространство, которое день ото дня становилось все более осенним и блеклым. А потом, выпив с закрытыми глазами несколько пригоршней воды, возвращалась домой.
Конечно, и он тоже бывал там каждый день, ведь он любил эту свежую воду не меньше меня, не мог без нее обходиться. Но он приходил туда в другое время, когда меня не было. Он мог на меня положиться, знал, что не застанет меня там.
Однажды я все же видела его издалека, когда он собирал маслины в рощице, которая входила в угодья его отца. Узнала я его по тому, как трудно ему было держать ветку и одновременно срывать маслины. Я долго стояла и смотрела на него, оставаясь незамеченной, смотрела, как он тянулся вверх своей единственной рукою, обирая старое дерево. Лица его я не видела, но я знала, что это он. Не выдержав, я упала на землю, лежала и плакала, плакала.
Воротившись домой, я села, закрыв лицо руками, и все думала о нем. Я была одна, отец еще не пришел.
Если бы я могла помогать ему, держать для него ветку, пока он обрывает маслины. Если бы я могла вместе с ним прожить на земле, в этой долине, долгую и счастливую человеческую жизнь. Такую, какую прожила моя мать, какую дано прожить многим, многим людям. Отчего мне этого не дано? Не дано быть такою, как другие?
То был последний раз, когда я его видела. Но я-то тогда об этом не знала.
Спустя недолгое время случилось, что меня вынесли из подземелья оракула без чувств – изнасилованную богом. Об этом никто, конечно, не знал, все лишь видели, что я была одержима им, как никогда прежде, что мой экстаз, мое исступление достигли чудовищной силы и я бы упала с треножника, не подоспей мне на помощь старичок-прислужник, который подхватил меня на руки.
А было так, что, как раз когда я начала терять сознание, я почувствовала едкий козлиный смрад и бог в обличье черного козла, своего священного животного в подземелье оракула, яростно и жадно набросился на меня... С болью и отвращением чувствовала я, что кто-то обладает мною, властно подчиняя меня себе, – какая-то неистовая и грозная сила, оглушившая меня своею нечеловеческой огромностью. Некая всемогущая сила, одновременно непонятным образом принявшая плоть козла из подземелья оракула, с его гадким зловонием. Все время, пока это происходило, я слышала ясно, как никогда, гулкий грохот реки, который все нарастал и нарастал, делался все громоподобной и наполнил меня в миг сладострастия ни с чем не сравнимым страданием и ужасом.
Потом я будто куда-то провалилась и не знаю, что было со мною дальше, покуда я не очнулась в доме у старухи, которая сновала вокруг, с умильно-ехидным выражением сверля меня острым, любопытным взглядом. Я попросила ее оставить меня одну, и в конце концов она нехотя, с подозрительной миною покорилась, так что я могла без помех, в одиночестве, терзаться своими мыслями. Я долго лежала, не в силах подняться, и отправилась домой лишь под вечер.
Когда это произошло? В одно время? Этого никто никогда не узнает. Его покалеченное тело нашли на другой день в реке, но случилось это с ним, должно быть, накануне, когда он утром ушел из дому и не вернулся, – в то же утро, когда со мною случилось все, о чем я сейчас рассказала. Как это вышло и для чего он туда отправился, никто понять не мог: ведь не было ему никакой надобности лезть в эту дикую пропасть. Откуда им было знать, что это не так. Что он внял зову оттуда, был призван туда, чтобы встретить там свою смерть, что его, без сомнения, влекла туда неодолимая сила, желавшая его погибели, желавшая его поглотить. Утонул ли он или разбился при падении, сорвавшись вниз, и умер от полученных ушибов и ран? Или, быть может, потерял сознание от боли и захлебнулся в реке, хотя воды в ней в ту пору было не так уж много? Лежал без чувств, подобно мне, отданный в ее власть? Кто может это знать! Он лежал вытянувшись, на спине, едва покрытый водою, и его сразу увидели, когда догадались искать его там.
Что он сорвался вниз, казалось всем вполне очевидным, ибо в единственной руке его была судорожно зажата ветка, за которую он, как полагали, ухватился, чтобы удержаться от падения. Удивительно, однако, было то, что ветка была лавровая, хотя священное дерево бога не росло в тесном ущелье. Это показалось странным, но потом об этом просто перестали думать, никто ведь не знал, что с ним в действительности произошло, что в действительности скрывалось за этим. Никто не мог знать, что это была месть бога за человеческое счастье, месть за то, что его избранница ему изменила, не захотела жить для него одного.
Люди, которые его нашли, говорили, что вид у него был совсем как у спящего, но он словно лишился всех красок, выцвел и поблек, – он, в ком играли все свежие краски здоровья. Тело его было сплошь в ранах – без крови. Всю кровь унесла река. Это река взяла его себе. Она взяла себе все.
Сама я его не видела, как мне было решиться на это! Многие другие видели его – необычная смерть его наделала шуму, – видели люди, которые никогда бы и не вспомнили о нем, не умри он такою смертью. А я не могла. Моя любовь мешала мне пойти на него взглянуть, она бы непременно выдала себя, стала известна всем. Я не могла пойти к нему домой, куда его отнесли, это удивило бы его родителей, а то и навело бы на подозрения, я ведь была почти незнакома с ними. Я не могла ничего. Ничего, только лишь плакать в одиночестве, когда отец этого не видит. Он ни разу не заметил, что я плакала, ни разу ничего не заподозрил за все время, пока длилась наша любовь. Но узнала я обо всем от него, узнала о смерти моего любимого и как его нашли, узнала то, что знали все другие, все у нас в долине какое-то время говорили об этом.
Потом это скоро забылось. Он ведь мало кому был знаком в своих родных местах: его столько лет не было дома. Он не крестьянствовал здесь вместе с другими, не успел стать среди них своим. И вот умер. Так и не пришлось ему в жизни обзавестись клочком земли и возделывать его своей единственной рукою, чего он так горячо желал.
Но я его не забыла. Я так о нем горевала, что у меня сердце разрывалось, его смерть будто и меня жизни лишила, хотя он ведь тогда уже не был моим, я ведь потеряла его еще раньше и жизнь свою потеряла еще тогда, когда умерла его любовь. Теперь я ничего не лишилась. Но могла ли я не думать о нем – о нем, кто дал мне все и кто потом все у меня отнял, кто в своей безмерной доброте дал мне вкусить жизнь!
Я никогда его не забывала. И никогда не забуду его, хотя прошло столько долгих лет, хотя все отодвинулось в такую даль, что должно, казалось бы, видеться мне как в тумане. Но он стоит у меня перед глазами как живой, точно он и не умирал.
До чего же странно сидеть вот так и снова вспоминать его, вспоминать ту единственную пору, когда я жила настоящей жизнью.
Для меня настало тяжелое время. А как трудно мне было прятать свое горе от всех, с кем мне приходилось сталкиваться. Ведь никто не должен был догадаться, что меня постигло несчастье, от которого я в отчаянии. Но, имея с малых лет привычку таиться, замыкаться в себе, я, кажется, справилась с этим, и никто ничего не заметил. Никто, кроме старухи в Дельфах. Наверное я знать не могла, но похоже было, что она что-то заподозрила. Она хорошо разбиралась в людях, ведь она любила выискивать у всех недостатки, а от этого взгляд делается зорче, от нее ничто не могло укрыться.
Как-то в конце осени случилось, что у меня не пришли месячные, и с тех пор меня не оставляла мысль, что, быть может, я забеременела. Это наполняло меня страхом и какой-то удивительной, еще не вполне прояснившейся радостью. Как это может повернуть мою жизнь – если только я останусь жива, – я не знала, не могла себе вообразить. Но независимо ни от чего где-то глубоко внутри меня жила радость. Внутри меня затаилось ликование – такое тихое, что ничье ухо не способно было его расслышать, никто вне меня самой никогда бы его не расслышал, но оно шептало мне о чем-то необыкновенном, шептало тихо, но упорно, неотступно, о чем-то вовсе небывалом – о победе над самой смертью. Над смертью любви и над смертью вообще. Даже и мне надо было сидеть не шелохнувшись и лучше всего с закрытыми глазами, чтобы уловить его, уловить тихое ликование моей плоти – ликование победы. Но я его слышала – сидя так, я слышала его совсем ясно! Моя любовь не умерла, она живет внутри меня, живет во мне! Мой любимый не умер, он снова существует, живет во мне! Он не оставил меня, он никогда не оставит меня, теперь он уже никогда меня не оставит.
Моя любовь в конце концов победила. И я вернула его себе.
Это было счастье, такое огромное, что мне казалось непостижимым, как могут окружающие меня люди ничего о нем не знать, как может такое остаться в тайне. Но оттого, что это была не доступная никому, кроме меня, тайна, нечто совершавшееся внутри меня незаметно для всех других, от этого счастье мое становилось лишь еще огромней и удивительней, чудо, совершавшееся со мною, становилось еще невероятней.
Конечно, мне было неспокойно. Конечно, я подчас с тревогою, даже с трепетом, думала о том, что меня ожидает. Но я не знала, что со мною будет, плохо себе это представляла, это было нечто призрачное, ведь у меня как бы не было больше будущего, я осталась без будущего и оттого была на удивление свободна и избавлена от всякого страха. И могла ли я чего-то страшиться теперь, будучи в таком состоянии? В моем новом благословенном состоянии. Тихое ликование внутри меня заглушало все: все тревоги, все опасения, все страхи – и оттесняло нависшую надо мною опасность куда-то за пределы действительного. Я жила лишь в той действительности, какую носила внутри себя. Она теперь единственная для меня существовала.
Настала зима, а беременность моя средь зимы расцветала, точно весна, точно преддверие лета, не смущаясь тем, что вся природа казалась мертвой, не смущаясь ничем на свете. Никто ничего не замечал, по мне ничего еще не было видно. Хотя сотворилось такое великое чудо, ни один человек не мог видеть, что со мною происходит.
Однако, что касалось до старухи, тут у меня закралось сомнение, и оно не рассеивалось, а все больше росло. Правда, она была приветлива со мною, как всегда – и как она всегда бывала приветлива с тем человеком, с которым говорила. Но иногда она так странно на меня поглядывала, наблюдала за мною, как умеют наблюдать друг за другом одни лишь женщины. Это было неприятно и не могло меня не беспокоить. Но мне ведь и раньше всегда было неприятно, когда она на меня смотрела, успокаивала я себя. И она ничего мне не говорит, не делает никаких намеков, которые бы свидетельствовали, что она о чем-то знает или догадывается. Если б только не эти ее взгляды...
Недолго уже было ждать того времени, когда я поняла, отчего ее взгляды всегда вызывали у меня такое чувство, когда я узнала, что она постоянно за мною следила и это даже было ее обязанностью, хотя она и по собственной доброй воле с охотою этим занималась. Узнала, что на нее, можно сказать, возлагалась ответственность за пифию, она должна была надзирать и шпионить за этой избранницей бога, которая благодаря своим тесным сношениям с божеством была столь значительной фигурою для храма и для всего города, – наблюдать за ее поведением и обо всем, даже о малейших пустяках, докладывать жрецам. И она это делала с превеликим удовольствием.
Редко когда находилось у нее что сообщить о пифии, кроме самых обычных сплетен, которые могли быть любопытны разве что ей самой, а тут вдруг появилось о чем порассказать, да о таком, чего прежде, насколько ей известно, никогда не бывало, к чему они наконец-то прислушаются, и притом с изумлением и ужасом. Вдобавок это касалось меня, той из пифий, о которой она, к собственной досаде, вообще никогда не имела что сообщить.
Когда она в конце концов удостоверилась, что я беременна, ей, должно быть, пришлось поломать голову над тем, как это могло со мною приключиться при моем полнейшем одиночестве, ведь я ни с кем не водила знакомства, ни с мужчинами, ни с женщинами, бывала лишь у своего старика отца. Как она все же ухитрилась выведать тайну нашей любви, сокрытой от всех в глубине долины, любви, которая, казалось мне, принадлежит лишь нам двоим и которой не могут коснуться нечистые мысли и речи других людей, этого я и поныне не понимаю. Но как бы там ни было, а настал день, когда и жрецы, и весь город через нее узнали все о моем неслыханном преступлении против бога, против храма, против священного города, узнали, что я беременна и что отцом был человек, которого нашли мертвым в реке, который уже понес заслуженное наказание, и что это был тот самый однорукий, который однажды попытался проникнуть в подземное святилище и осквернить его, быть может, затем, чтобы похитить у бога его достояние, его жрицу, когда она была одержима им, исполнена его духом.
Этого человека бог, стало быть, уже покарал. Но осталась я. Остался самый злокозненный преступник. Ибо тот человек был простой смертный, я же была избрана божеством, дабы служить ему, его целям, служить преданно, верно и самоотречение. А то, что я так и делала, что я всю свою жизнь, с молодых лет, став пифией, жила лишь для храма и для бога и в глазах всех была чуть ли не одно с оракулом, была, по их же словам, столь любима богом, что он соглашался вещать лишь моими устами и больше ничьими, и известность моя шла на пользу святилищу, а значит, и всему городу, – все это теперь особо ставилось мне в вину, все это делало мое падение еще более ужасающим, а внезапно вспыхнувшую ненависть ко мне – еще более яростной. То, что именно я оскорбила и обманула бога, изменила ему, оставила его ради земного мужчины, это было неимоверно тяжкое преступление, ни с чем не сравнимый позор.
Я предстала перед советом высших жрецов, и меня спросили, возможно ли, чтобы утверждения старухи были правдой. Им это казалось невероятным, несообразным с тем, что они сами обо мне знали, с их выгодным мнением обо мне как жрице оракула в продолжение всех лет моего служения храму. Они, очевидно, очень хотели, чтобы это оказалось неправдой. Но я не обинуясь во всем призналась, и, мало того, по мне, должно быть, хорошо было видно, что я счастлива своею беременностью, и это, конечно, еще более поразило и разгневало их. Они наперерыв заговорили промеж собою, что мое поведение, все происшедшее неслыханно, непостижимо, и какой это позор для святилища, какой ущерб это нанесет доброй славе оракула, и что меня бы по справедливости следовало сбросить со скалы, откуда обычно низвергают осквернителей храма, – хотя я понимала, что на самом деле они не собирались присуждать меня к этому. А затем они снова обратились ко мне и принялись говорить о боге, как ужасно я перед ним провинилась, и потом снова о позоре, который я навлекла на храм, на оракул и на весь город. Напоследок они сказали, что бог требует за это самой суровой кары и она будет установлена ими в течение дня.
Однако не они свершили суд надо мною: отложив вынесение приговора, они тем самым предоставили другим решить мою судьбу.
С быстротою молнии разнесся по городу слух, что я созналась, что все правда, и толпы разъяренных людей устремились к дому старухи, где, как им было известно, я ожидала своего приговора. Они были вооружены кольями и каменьями и громко кричали, требуя моей смерти. Я видела их через окошко, видела, что это люди, способные не колеблясь привести в исполнение свои угрозы. Лица их, искаженные бешеной ненавистью, схожие между собою в своей злобности, были отвратительны. А по дому бесшумно сновала старая карга с плохо скрываемой плотоядной радостью на сером крысином лице и притворялась, будто ей за меня страшно, в то же время без конца повторяя, что она более за меня не в ответе, что мне лучше отсюда уйти, иными словами, отдать себя на растерзание толпе, чтобы они меня убили. Она, разумеется, и виду не показывала, что сама на меня донесла, а у меня не было охоты говорить, что я об этом знаю, она, верно, думала, что мне ничего не известно, да с нее вполне могло статься, что она почитала себя неповинной в постигшей меня участи, в ударе, который обрушился на меня, она ведь всегда казалась самой себе не только справедливой, но и доброй, кроткой женщиной, которая в жизни ни о ком худого слова не молвила, хоть и была окружена сплошь подлыми, лживыми и во всех отношениях дурными людьми.
Крики и угрозы делались все яростней, а жрецы ничего не предпринимали, не пытались вступиться и, по-видимому, охотно предоставляли черни самой вынести мне приговор, чтобы избавить себя от лишних хлопот со мною. Положение мое в этом доме, с разъяренной, жаждущей крови толпою снаружи и с этой серой ползучей гадюкой у меня за спиною в комнате, было жуткое, отчаянное, и я утратила всякую надежду выбраться оттуда живой.
Вот тогда-то появился мой единственный друг, старичок – прислужник оракула. Он вбежал, громко стуча своими сандалиями, и, с трудом переводя дух, выговорил, что я должна спасаться в храме, должна в нем укрыться, ибо стены его священны и там никто не посмеет меня тронуть, там я буду под охраною самого бога. Старая карга пришла в бешенство от его непрошеного вмешательства, от одной мысли о том, что святилище будет служить такому делу, что богу придется взять под свою защиту такую распутную женщину, как я, ту, что его обманула. И, пожалуй, неудивительно, что она так из-за этого негодовала, она ведь пеклась о славе оракула, которая всегда была дорога ее сердцу, пеклась о храме – своем сокровище, которое она полагала себя призванной оберегать, хотя нога ее почти никогда не ступала туда. Можно ли было допустить, чтобы святилище послужило для такой цели и, чего доброго, избавило меня от заслуженного наказания! Прежде никогда нельзя было увидеть злобы на ее лице, на этом сером, мертвом лице, на которое я смотрела в последний раз, но теперь она больше не в силах была таиться.
Между тем старичок-прислужник, ничего не замечая, тянул меня за собою, чтобы попытаться спасти мою жизнь. Старухин дом стоял возле самого храма, так что была надежда, что мы успеем туда перебежать до того, как в толпе заметят мое бегство. Народ сгрудился перед самым домом, но сбоку была дверь, о которой едва ли кто знал. Мы выскользнули через нее так стремительно, что никто нас не увидел. Но когда мы затем побежали вверх по храмовой лестнице и дальше, ко входу в храм, нас, конечно, увидели, и бешеный крик поднялся у нас за спиною. Толпа ринулась за нами вдогонку и в мгновение ока заполнила всю лестницу. Мы тем временем успели миновать колоннаду и вступить в самый храм, и я как сейчас помню: несмотря на опасность и волнение, первое, о чем подумал тогда мой друг, было сбросить с себя сандалии и посмотреть, чтобы я, которая, конечно, обо всем забыла, тоже непременно это сделала. Как это было похоже на него, моего и богова доброго друга – прежде всего подумать о том, что мы вступаем в священные стены храма. Ведь потому-то мы и были здесь в безопасности. Если только нам и вправду больше не грозила опасность. В толпе что-то незаметно было почтения к священным стенам – она с криками вторглась внутрь, и я насилу успела скрыться в глубине храма. Точно безумные вопили они, что избавят бога от этой сквернавки, от этой блудливой жрицы, опозорившей его и весь их город.
Но тут кроткий и добродушный старичок-прислужник разом преобразился так, что я глазам своим не поверила. Твердым и решительным голосом, какого я у него никогда раньше не слышала, он громко возгласил, что здесь – богово святилище и тот, кто посмеет вторгнуться в него, чтобы совершить насилие, примет смерть от карающей руки самого бога. Всякого, кто укрылся в храме, бог берет под свою могущественную защиту.
– Или вы не знаете этого? – рявкнул он вдруг в совершенной ярости.
И все это скопище черни с омерзительными багровыми лицами отхлынуло назад, устрашенное его словами, истинность которых ни у кого не вызывала ни малейшего сомнения, ведь это и без него всем было хорошо известно. Они попятились обратно к колоннаде, но ему показалось, что кое-кто мешкает отходить, и тогда он в сердцах схватил свою метлу, которую всегда оставлял у входа, и вымел их ею, точно сор, который ему и положено было выметать, – ему, кто приставлен богом содержать в чистоте святилище.
Выдворив таким манером их всех, он остался в колоннаде, чтобы сдерживать их и преградить путь тому, кто вздумает вновь попытаться проникнуть внутрь. Должно быть, это ему удалось, в храме никто не показывался, толпа даже заметно поутихла, я слышала лишь непрерывный гул и время от времени одиночные выкрики.
Я была одна в святилище. Одна под охраною бога. Он не отказал мне в этом, он еще не совсем забыл, что я ему принадлежала. Он раскрыл мне свои объятия. Раскрыл мне свои светлые объятия, принял меня в своем храме, озаренном светом дня. В храме своего великолепия, где мне не довелось ему служить. Наконец-то он принял меня здесь.
До чего же удивительно. В эту тяжкую минуту, когда за стенами святилища меня ожидала толпа, чтобы расправиться со мною, быть может, лишить меня жизни, в эту минуту я исполнилась вдруг торжественной тишиною – он исполнил меня наконец всею своей тишиною, о которой я столько раз просила его, но которой он никогда мне прежде не давал. Наконец-то почувствовала я тот мир и покой, о которых я так его молила, наконец-то он дал мне покойно отдохнуть у себя в объятиях. Я понимала, что это всего лишь на миг, не долее, ведь участь моя была решена. И все же я была бесконечно счастлива.
Я оглядывала все вокруг с тем же благоговением, с тою же радостью, что и в тот день, когда я пришла сюда с матерью и увидела его обитель в самый первый раз, когда я думала, что здесь я буду ему служить. Этому не суждено было сбыться. Но теперь он принял меня здесь, в своем истинном святилище, и здесь дал мне приют и покой, – теперь, в минуту смертельной опасности. И я чувствовала его близость, чувствовала, быть может, сильней, чем когда-либо прежде, но теперь он был для меня не жар, не пламень, но свет. Я чувствовала, как его свет струится по моему лицу, и слезы жгли мне глаза, которые я закрыла от счастья.
Этот жестокий, неисповедимый бог – теперь он щедро изливал на меня весь свой свет и весь свой мир. Теперь, когда все было кончено, когда я должна была навеки покинуть его храм. Теперь он на миг одарил меня своим покоем. Всего лишь на миг, между тем как хриплые голоса там, за стенами, звали, требовали меня, прорываясь сквозь тишину его храма, сквозь мир, которым он наконец-то меня одарил.
Я никогда не забуду те минуты. Никогда не перестану испытывать благодарность за то, что мне дано было их пережить. Но и никогда не пойму, как он может быть таким. Для чего так должно быть.
Не это ли помогло мне, собравшись с духом, собрав все свои силы, покинуть храм, хотя толпа по-прежнему стояла возле него, карауля меня, и только и ждала, чтобы я вышла из своего убежища. Не знаю, что меня заставило так поступить, – быть может, то было внушение бога, быть может, наоборот, затаенное непокорство, бунт против него, стремление утвердить себя, вызов этому загадочному бессердечному богу. Или просто-напросто гордость, презрение к смерти, презрение к ополчившемуся на меня сброду. Как бы там ни было, я решилась покинуть безопасное пристанище и выйти навстречу своей судьбе, навстречу жизни или смерти. Да и невозможно ведь было оставаться в храме бесконечно, рано или поздно мне все равно пришлось бы уйти.
Когда старичок – прислужник оракула увидел, что я надеваю сандалии, он понял мои намерения и перепугался. Шепотом он стал уговаривать меня отказаться от такого безумства. Но я уже приняла решение и не изменила его, несмотря на его мольбы.
К всеобщему изумлению, я вышла в колоннаду, а затем на лестницу. Они были так поражены, что не могли опомниться и даже не накинулись на меня с бранью, они лишь глазели на меня и молча расступались. Похоже было, что теперь, когда я наконец вышла к ним, когда они увидели меня перед собою, я внушала им страх, как внушала я им страх все время, пока была пифией, причем более, чем другие жрицы оракула, – ведь я была особо любезная богу избранница, как никто исполненная его духа, одержимая им. И они, верно, думали, что, хотя теперь он проклял меня, божественная сила по-прежнему должна во мне жить, пусть даже как грозное проклятие. Это пугало их, держало на расстоянии, никто не отваживался приблизиться ко мне. Напугал их, я думаю, и сам по себе мой поступок, то, что я осмелилась выйти из храма, появиться среди них, и сделала это без всякого принуждения. Это было непонятно, человек так не поступает, в этом было что-то не от человека.
Они готовы были меня растерзать, только об этом и помышляли, но, хотя глаза их горели ненавистью, они с осторожностью держались на достаточном от меня расстоянии.
И пока я спускалась по лестнице и пересекала храмовую площадь, чтобы выйти на священную дорогу, они передо мною расступались – я шла между двумя рядами взбешенных, вооруженных кольями и каменьями людей, которые не осмеливались меня тронуть. Но те, что стояли дальше, мало-помалу зашумели, заорали, и вскоре на меня со всех сторон посыпался град оскорблений, самые грубые слова, какими только можно обозвать женщину, и даже злые насмешки над моим мало подходящим для беременности возрастом. Они ни перед чем не останавливались в своем добродетельном негодовании, в своей праведной ненависти ко мне, осрамившей их город, храм, бога – все то, чем они жили, навлекшей неслыханный позор на Дельфы и оракул, что могло уменьшить поток прибывающих пилигримов, а вместе и их доходы. Лица их густо налились кровью от неестественного возбуждения, и мне было отвратительно узнавать многих из них, ведь все они были здешние, чужих в эту пору года в Дельфах не бывало. Мужчины и женщины теснились вперемешку в этой толпе отребья всех званий, из всех сословий, и притом женщин было много, хотя, казалось бы, кому как не им, моим же сестрам, понять меня и простить содеянное мною ради любви. Ведь в чем было мое преступление, как не в том, что и на их языке зовется любовью!
Эти омерзительные лица могли навсегда внушить мне презрение к человеку, к прозываемому этим именем отталкивающему существу, если бы здравый смысл не подсказывал мне, что это не все, не вся правда о нем. Но тогда-то это была как раз вся правда, и правда опасная и грозная.
Они следовали за мною по пятам, подступали ко мне, забегая сбоку, с беспрестанными криками, руганью и угрозами. Но тронуть меня они не смели: боялись. Быть может, причина была еще и в том, что я шла по священной дороге. Ведь она, как и храм, – место, где не должен нарушаться мир, не должно совершаться насилие. И в них еще, верно, не выветрился страх, который нагнал на них своими речами старичок-прислужник.
Там, где дорога сворачивает в сторону, я оглянулась, чтобы в последний раз увидеть его, моего друга, единственного, кто желал мне добра, – он все еще стоял на лестнице храма и смотрел мне вслед, стоял там со своею метлой и плакал. Мне стало ужасно горько и тоже трудно было удержаться от слез. В следующее мгновение он уже скрылся из виду, и я сразу почувствовала себя бесконечно одиноко и сиротливо.
Так шла я теперь по священной дороге, по которой я когда-то, в пору моей юности, в одно осиянное божественным великолепием утро, всходила ко храму, объятая восторгом, наряженная невестою бога и преисполненная всей моей любви к нему. Теперь я шла по ней в последний раз, и какой это был несхожий путь! Угрозы и оскорбления сыпались на мою голову, и я не знала, какие еще ужасы мне предстоит пережить, но, как ни странно, я была вполне спокойна. Так же спокойна, как и в храме. Только теперь это было, пожалуй, спокойствие, добытое мною самой, моими собственными усилиями. Или нет?
Это спокойствие в моем положении тоже, должно быть, казалось им противоестественным и пугало их, мешая поднять на меня руку, я думаю, они и поэтому тоже не решались пустить в ход колья против меня, своей прежней пифии, а еще потому, что они страшились даже такого прикосновения ко мне и к той силе, которая, как они полагали, по-прежнему могла во мне таиться. Но когда священная дорога кончилась, когда мне пришлось с нее сойти и я начала взбираться вверх по горному склону, тогда поднялся невообразимый крик и град камней полетел мне вслед. Иные из них настигали меня, однако удары их не были смертельно опасны, да мои преследователи, кажется, уже и не покушались на мою жизнь, не осмеливались меня умертвить, а готовы были удовольствоваться моим изгнанием из города. Но один камень угодил мне прямо в затылок, и от сильного удара я рухнула наземь и сперва никак не могла встать. Немного погодя я все же поднялась и продолжала карабкаться в гору. А они не пошли за мною, стояли внизу и выкрикивали свои проклятия, орали, мол, пусть я только попробую показаться в Дельфах, чтоб ноги моей там никогда не было.
Отойдя от них подальше, туда, где они не могли меня видеть, я села отдышаться. Я была спасена. Несколько ран у меня кровоточили, особенно сильно та, что была в затылке: когда я ее зажимала, вся рука у меня наполнялась кровью, – и тело мое было сплошь в синяках. Но в остальном я осталась невредима, в остальном я отделалась неожиданно легко, если вспомнить, какой опасности подвергалась моя жизнь.
Чего я больше всего боялась – это что они покалечат меня так, что я не смогу доносить и родить на свет свое дитя, что я получу телесные либо душевные увечья, которые могут оказаться роковыми для женщины, вынашивающей ребенка. Но об этом я уж точно могла не тревожиться, ничего такого со мною не случилось. Мое сильное тело выдержало это жестокое испытание, которое, верно, многих бы сломило, а душа моя в полной мере сохранила спокойствие. Если бог был причастен к этому моему спокойствию, если оно не было целиком моею собственной заслугой, то я была благодарна ему за это. Оно, должно быть, тоже немало помогло моему спасению, а значит, и спасению ребенка. Только возможно ли, чтобы бог желал его спасения?
Спасителем моим был, конечно, прежде всего старичок – прислужник оракула. Не будь его, мне бы не пережить этот кошмарный день, думала я в тот вечер, оглядываясь на все происшедшее и готовясь провести свою первую ночь под открытым небом. Я продолжала думать о нем и тогда, когда уже лежала, устроившись на ночлег прямо на земле, на сгребенных в кучу листьях, в горной впадине, откуда не было видно никакого человеческого жилья, лишь крутые склоны гор да звезды меж ними. В своем одиночестве я думала о нем, моем единственном друге, это ободряло и поддерживало меня.
Как же он смотрит на мое преступление, на то, что я сделала? Я ведь ничего об этом не знала. Он мне помог, он спас мою жизнь, он стал полностью на мою сторону. Но как он судит о том, в чем я провинилась и что взбудоражило весь город, я так от него и не услышала. Мы ни словом об этом не перемолвились, у нас и случая для этого не было.
Скорей всего, до его сознания просто не дошло, что я совершила какое-то преступление. При своей неспособности видеть в человеке дурное он никого не судит, и меня тоже. Ему это вовсе чуждо – кого-то осуждать.
Но что же будет теперь, что станется с его верою в человеческую доброту, как подействуют события, которым он, сегодня стал свидетелем и которые вызвали у него взрыв негодования, на его доверие ко всему и вся вокруг, к богу и ко всем людям? Не перевернет, не разрушит ли это его представление о мире?
Нет, я надеялась, что он скоро забудет об этом, забудет взбаламутившее его жизнь происшествие, которому я была виною, и опять станет прежним, опять будет видеть во всех людях только хорошее, как это свойственно его природе. Таким он и должен быть, добрый друг бога и всех людей, таким хотелось мне сохранить его в памяти.
И с этой надеждою в сердце я покойно уснула.
Ночью я несколько раз просыпалась оттого, что зябла, и обрадовалась, когда солнце наконец взошло и начало немного пригревать. Была середина зимы, и ночи стояли очень холодные.
Вообще же зима в тот год выдалась, помнится, довольно мягкая, и это было хорошо, иначе мне бы не выдержать. И так-то трудно приходилось. Трудно было поддерживать свое существование, попросту не умереть с голоду, трудно терпеть ночные холода. Я искала убежища в пещерах, а иной раз в какой-нибудь брошенной пастухами убогой лачуге, и кормилась первое время только старыми, засохшими и подгнившими ягодами, которые находила в горах, семенами из шишек пиний, чем придется, лишь бы это подкрепляло силы или хотя бы давало чувство насыщения. Немалые пространства исхаживала я в поисках этих ягод, которым и имен-то не знала. Но со временем я осмелела, стала изворотливей, побуждаемая голодом и заботою о ребенке, о том, чтобы он остался жить и не пострадал от моего постоянного недоедания. Я начала доить чужих коз, которых подманивала к себе, когда они попадались мне в горах, собирала молоко в чашку, найденную в одной из пастушьих хижин, и пила его с безудержной жадностью. Чем дальше, тем смелей и проворней управлялась я таким манером с чужими козами, ведь более здоровой и прекрасной пищи для меня и для ребенка было не сыскать. Я отваживалась даже красть у пастухов сыр и хлеб: спрячусь неподалеку в кустах или за большими камнями и дожидаюсь, пока они уйдут, чтобы забраться к ним в хижину. Тем же путем раздобыла я и козью шкуру, которой укрывалась по ночам. Я крала, что попадалось под руку, и без зазрения совести пошла бы на что угодно ради ребенка, его и моего ребенка, – ведь это было дитя нашей любви, свидетельство того, что его любовь не умерла, что она продолжает жить внутри меня, что мой любимый по-прежнему существует – во мне.
Я жила, как какое-то одичалое существо, как дикое животное средь гор – изгнанная людьми, изринутая из их жизни, я была принуждена к этому, – и как затравленное и ожидающее приплода животное, я не гнушалась никакими средствами, чтобы поддерживать жизнь в себе и в ребенке, которого носила. Я старательно обходила стороною места, где жили люди, избегала любых встреч с ними, от них мне не приходилось ждать добра. И я все время очень боялась, как бы пастухи не заметили меня. Они бы, конечно, тоже не упустили случая причинить мне зло, они ведь тоже были люди.
Вопреки всему я была счастлива тогда. Счастлива своею свободой, ощущением здоровья в своем теле, которое справлялось с такою жизнью без всякого ущерба для себя, которое от тягостей и лишений, кажется, становилось только еще сильней, выносливей и готово было выдержать все. И счастлива сознанием того, что дитя, которое я должна родить, которое я ношу под сердцем, зачато моим любимым. Я постоянно чувствовала, как оно шевелится внутри меня, живет во мне, и это наполняло меня несказанным счастьем. Одинокая и всеми отверженная, несмотря на все напасти, все волнения, голод и холод, я в полной мере испытала несравненное счастье материнства.
А когда наконец пришла весна, все стало намного легче, и, во всяком случае, легче стало на душе. Мне не приходилось больше зябнуть, и скоро должно было появиться больше пищи для меня, как и для других диких животных. Я уже находила свежие, сочные травы, от которых была несомненная польза здоровью, хоть ими и трудно было насытиться, а козье молоко сделалось заметно гуще. Подманить к себе коз не составляло труда, они сами подходили и давали себя доить, может, потому, что уже знали меня, а может, им нравилось, что их доит женщина. Нередко они ходили за мною по пятам, так что мне приходилось их шугать, гнать их прочь от себя – я все время боялась, как бы пастухи меня не увидели. Даже и те козы, которые никогда мне раньше не встречались, тоже иной раз увязывались за мною.
Я тогда впервые заметила, что как будто чем-то притягиваю их, хотя сперва это ничуть не казалось мне странно, а наоборот, вполне естественно.
Горы запестрели всевозможными цветами, и по ночам я лежала, вдыхая их пряный аромат, и сердце у меня сжималось от тоски по нем, кто когда-то меня любил, с кем изведала я чудо весны. Единственную в жизни весну моей плоти.
Где бы он был, будь он сейчас жив? Воротился бы он ко мне теперь, когда я перестала быть пифией, когда я ношу в себе его ребенка? Смогли бы мы вместе жить такою жизнью и быть счастливыми вдвоем?
Никчемные мысли! Он мертв. Его больше нет на свете и никогда уже не будет. Они нашли его в реке, бледного и обескровленного, лишенного всех красок жизни, с зажатою в единственной руке веткой священного дерева бога. Вот и все. И так останется навек.
Судьба у человека всего одна. Когда она пройдена до конца, не остается ничего.
Лишь боги имеют много судеб и не знают смерти. Они могут все перечувствовать и все испытать. Все – кроме человеческого счастья. Его им изведать не дано, оттого-то они и людей хотели бы его лишить. Ничто не пробуждает в них такой злобы и жестокости, как люди, у которых достало дерзости быть счастливыми, которые забыли их ради своего земного счастья. И тогда они мстят. И вкладывают ветку своего священного дерева в единственную руку жертвы.
Иногда, в совсем тихие ночи, мне казалось, будто я слышу, как течет в ущелье река, слышу даже здесь, в горах. Река, которая своим мощным гулом неотступно преследовала нашу любовь и потом нанесла нам роковой удар, так жестоко нам отомстила. Теперь опять настала весна, вода на дне дикой пропасти, наверное, сильно прибыла, и не было ничего невероятного в том, что грохот ее мог доноситься даже сюда.
Не могло же быть, чтобы я лишь слышала его внутри себя?
Нет, я явственно различала, что он шел оттуда, со дна пропасти. Я лежала средь цветов, одна-одинешенька, и слышала эту реку, жестокую реку, которая унесла кровь моего любимого.
Да, та весна была для меня радостной и вместе трудной порою, какой бывает она для всех одиноких любящих. Одиноких? Но я-то вовсе не была одинока, как я могла такое сказать! Ведь у меня внутри, в лоне моем, остался жить мой любимый, продолжала жить наша любовь, торжествуя над смертью и над собственным концом. Торжествуя над самим богом! Как ни дерзко это утверждение, но ведь так и было на самом деле. Напрасно лишил его бог жизни, напрасно унес с рекою его кровь. Он снова жил – во мне, я дала ему новую кровь, ту горячую кровь моего сердца, что будила мою любовь к нему, кровь человеческой любви, о которой боги ничего не знают.
Вот как вышло. Вот как окончилась борьба между нами и богом.
И настало лето, доброе и покойное, пора расцвета, пора созревания, когда все лоно земное ликует. Вся долина меж горных громад была точно пышное лоно, полное зреющей жизни, и здесь, наверху, тоже обильно и буйно разрасталось все, что может жить на этих диких кручах. Все вокруг было свет и отрада, покой и надежда, и я тоже была исполнена мира и светлых надежд, хотя мне ведь было о чем тревожиться – и о том, как пройдут роды, и как я потом со всем управлюсь, прокормлю себя и свое дитя, и о многом другом. Если у кого были причины беспокоиться о будущем, так это у меня, но я не беспокоилась. Стоило ли мне отягощать себя еще и этим! Я надеялась на лучшее и ни о чем не тревожилась, как и должно женщине, когда она носит ребенка. Мое и прежде могучее тело стало огромным и бесформенным, но двигалась я, несмотря на это, почти так же легко, ведь я все время жила подвижной и естественной жизнью. Самка животного, которой в ожидании приплода приходится самой, как всегда, добывать пропитание, легко разрешается от бремени, думала я. И верила, что так будет и со мною. Что я могла об этом знать?!
Становилось все жарче, лето было в самом разгаре, и мне казалось, должен уже вот-вот наступить мой срок рожать. Но он никак не наступал. Я все ждала и ждала – но роды не начинались. Я терялась в догадках, как это может быть. Выходило, что я уже перенашиваю, но насколько – этого я не знала. Я, конечно, знала, когда мы были вместе последний раз, самый последний раз... Но нет, об этом лучше не думать, это слишком тяжело... Лучше думать о том, что скоро во мне созреет плод нашей любви, лучше жить воспоминаниями о самой прекрасной ее поре, когда мы оба одинаково горячо любили друг друга, любили так, что одолели все. И теперь у меня родится наше дитя, дитя нашей любви и дитя умершего, принесенного в жертву, – наш триумф, победа над смертью, победа над всем. Над самим богом.
Но я все не рожала. Я ждала и ждала – но роды никак не начинались.
Лето продолжалось, и жара продолжалась, она делалась все ужасней, все тягостней и изнурительней, лишь ночи иногда несли с собою свежесть, когда прохлада спускалась с гор, покрытых вечными снегами.
Я не запомню такого знойного лета, какое выдалось тогда. И конечно, я при моем состоянии особенно страдала от жары, мне было трудно с моим огромным, отяжелевшим телом, которое прежде нисколько меня не обременяло. Я еще больше раздулась, и мне казалось, что дальше уже просто некуда, что все готово для моего разрешения. Но я не разрешалась. Похоже было, что я никогда не рожу этого ребенка.
Как могут роды так надолго задержаться? Я ничего не понимала. Неужели действительно можно так долго перенашивать?
Но однажды, когда я лежала, изнемогая от зноя, я наконец-то почувствовала, что начались схватки. Сперва совсем слабые, но затем сразу намного сильней, они очень быстро стали учащаться и делались все болезненней. Солнце палило нещадно, прожигало меня насквозь раскаленными лучами, а духота стояла такая, что совсем нечем было дышать, хотя, быть может, это лишь мне так казалось. Но вдруг большие ядовито-желтые тучи показались на южном краю неба и стали быстро приближаться. Впервые за все лето, кажется, надвигалась гроза. Долина помрачнела, зловещая тень от туч ползла по земле, и ее резко очерченный край подходил все ближе. Внезапно молния прорезала небо, она была видна, хотя солнце ярко светило, и чуть погодя послышались глухие раскаты грома.
К этому я не была готова, совсем этого не ожидала. Я думала, что буду рожать под открытым небом, где придется, и не предполагала, что мне может понадобиться укрытие. Куда же мне деться? Нельзя же рожать под проливным дождем, который может начаться с минуты на минуту, да еще подставлять себя под молнии – они так часто ударяют в землю здесь, в горах.
Я поднялась и огляделась вокруг. Но я не увидела места, где можно укрыться, дерева и то не было поблизости. Озираясь по сторонам, я побрела наугад по откосу горы. Схватки стали еще сильней, и меня всю крючило, из-за боли мне приходилось идти, согнувшись чуть не до земли и крепко обхватив живот. Чем все это кончится, думала я. Куда мне деться, где родить свое дитя?
И вот тут-то появились козы. Козы, которых я прежде никогда не видела и которые определенно не могли меня знать, мне думается, то были дикие козы. Но они словно понимали, что со мною происходит, и, когда я стонала, они тоже издавали жалобные сочувственные звуки, такие странные и необычные, чуть ли не человеческие. Несколько коз резво побежали вверх по склону в одном определенном направлении, а затем снова воротились ко мне, будто манили меня за собою. Идти надо было в гору, и мне нелегко было следовать за ними, но я все же пошла, нетвердым шагом и слегка пошатываясь, меня будто что-то понуждало к этому. Иногда мне приходилось останавливаться на минуту, если схватки были особенно болезненны, и животные, казалось, понимали меня, они тоже останавливались и ждали, когда я смогу продолжать путь. Склон делался все круче и стал почти отвесный, я было подумала, что дальше мне не осилить подъем. Но, заметив мои колебания, они начали так жалобно повизгивать, что у меня духу не хватило их обидеть, и я, превозмогая слабость, начала карабкаться следом за ними вверх по обрыву. Они приняли это с очевидным одобрением и наперебой заблеяли, выражая свою радость.
Позади себя я все время слышала, как разыгрывается гроза, страшный ливень поднимался от долины и подступал все ближе, гром прокатывался над всеми окрестными горами, и отвесная стена, по которой я карабкалась вверх, цепляясь руками и ногами, беспрерывно вспыхивала вокруг меня от все более часто сверкавших молний.
В полном изнеможении взобралась я наконец вместе с козами на небольшой уступ, небольшую довольно ровную площадку, и в то самое мгновение, когда меня настиг дождь, я увидела прямо перед собою вход в пещеру, которая уходила в глубь горы. Козы уже резво протискивались внутрь, и я, пошатываясь и будто в тумане, последовала за ними.
Внутри было почти совсем темно, по крайней мере пока глаза не привыкли, да и после этого было так сумрачно, что я не могла даже толком разобрать, велика ли пещера. Но мне показалось, что она огромная, дальний конец ее терялся где-то во тьме. Едкий козлиный дух ударил мне в нос – и потом я уже больше ничего не видела и не слышала, повалившись без сил на землю, покрытую толстым слоем старого, засохшего козьего помета. Лежать на нем было необыкновенно мягко, и ложе мое показалось мне бесконечно прекрасным.
Я, должно быть, на какое-то время впала в беспамятство. Когда я пришла в себя, все козы стояли, окружив меня тесным кольцом, и смотрели на меня боязливо и участливо. Увидев, что я очнулась, они оживленно заблеяли. А когда у меня сразу же вслед за тем начались ужаснейшие схватки, какие-то не такие, показалось мне, как прежде, и я закричала диким голосом, они умолкли и испуганно попятились назад, но потом снова подошли и тоже принялись стонать, издавать какие-то странные, протяжные, заунывные звуки, конечно далеко не такие громкие, как мой крик, однако еще более горестно-заунывные, как жалоба бессловесной животной твари, но благодаря им я не чувствовала себя такой одинокой в своем страдании. Они разделяли мою боль, хотя и не могли выразить это иным способом, по-человечески, чего и я, кстати сказать, тоже уже не могла, мы говорили на одном языке и хорошо понимали друг друга.
Схватки сделались теперь так часты, что между ними не было, кажется, никакого промежутка, я едва успевала перевести дух, а боли стали так нестерпимы, что пещера содрогалась от моих криков. Я не могла удержаться, чтобы не кричать, и, пожалуй, от крика мне все же становилось чуточку легче. Некоторые козы начинали при этом беспокойно метаться по пещере, между тем как другие продолжали стоять вокруг меня, как и прежде, вытянув головы и издавая стоны, хотя чаще всего их было не слышно, мои громкие стенания полностью их заглушали. Но я видела, как дрожали их морды от испуганного блеяния и как верхняя губа у них все время подпрыгивала, обнажая влажные желтоватые зубы.
О том, что в поведении животных и в их чрезмерном внимании ко мне было что-то необычное, я не думала, я тогда вообще ни о чем не думала. Я просто была благодарна за то, что они меня окружали, что я не осталась совсем одна в этот трудный час, хотя была отвержена и проклята богом и всеми людьми. Эти животные единственные выказали участие ко мне и к тому, что я в муках рожаю свое дитя.
Снаружи по-прежнему бушевала гроза, теперь она была прямо над нами. Почти непрерывно слышались громовые раскаты, и дождь лил потоками у входа в пещеру, которая то и дело озарялась вспышками молний. Все небо будто полыхало пожаром и тянулось к нам колеблющимися огненными языками.
По силе схваток я поняла, что вот-вот должна разродиться, и, хотя у меня от боли мутилось сознание, я чувствовала, что ребенок уже качал продвигаться наружу. У меня смутно промелькнула мысль, что, кажется, трудней всего в самом начале, когда проходит головка, вообще же я ни о чем не думала, мне было не до того. Я изо всех сил помогала родам, вернее сказать, тело мое помогало: не согласуясь со мною, с моими желаниями, оно трудилось с таким напором, какого я от него не ожидала и сама едва ли пожелала бы. У меня было такое чувство, что я того и гляди разорвусь, боль доводила меня до исступления, а по временам, должно быть, до полубеспамятства – я слышала собственные крики как бы со стороны. Долго ли это продолжалось, не знаю, я совсем не ощущала течения времени, пока это происходило.
Но вот наконец я почувствовала вдруг удивительную легкость, свободу. Конечно, мне все еще было больно, но совсем не так, как раньше, дыхание мое стало спокойней, и я могла уже больше не кричать, я только тихо стонала, а телу моему не нужно было больше напрягаться, оно расслабло, все во мне расслабло, и это было так дивно-прекрасно, я будто снова вернулась к жизни.
Открыв глаза – я, верно, закрыла их, когда начались самые страшные боли, – я увидела, что у меня меж ногами лежит какой-то комок и козы ретиво облизывают его своими длинными розовыми языками. Так же ретиво лизали они и меня, тщательно выбирая кровь отовсюду, куда они только могли достать, и было очевидно, что они это делают не ради меня, не для того, чтобы очистить меня после моего разрешения, но сама кровь притягивает их, вызывая алчность, будто в ней есть что-то особо для них ценное. Мне пришлось отталкивать их от себя, насколько позволяли силы – я была еще очень слаба, – бить их по влажным мордам.
Оправившись наконец довольно для того, чтобы взять ребенка, я подняла его и увидела, что это мальчик. Я попробовала перервать пуповину, но не смогла, и тогда я перекусила ее и положила ребенка к себе на руку, чтобы козы больше его не облизывали. Он был уже совсем чистенький и приятный на вид, но они никак от него не отставали, мне без конца приходилось их шугать, отгонять прочь от него.
Их поведение было мне непонятно, и меня от него коробило. Оно казалось мне столь же странным, как и отталкивающим. В конце концов меня охватило такое отвращение, что я, пошатываясь, поднялась на ноги, которые еще плохо держали меня, чтобы уйти прочь. Быть может, это было неблагодарно по отношению к ним, но я ничего не могла поделать: вся эта пещера с ее едким козлиным смрадом и запахом крови после родов вызывала у меня тошноту, и я чувствовала, что должна поскорее выйти, а не то задохнусь. Гроза тем временем утихла, и мне не было нужды там оставаться, если достанет сил выбраться на волю. Прижав к груди новорожденного младенца, я, шатаясь, побрела к выходу из пещеры и вышла на воздух, посвежевший после дождя, чувствуя, что еще немного и я упаду без сознания. Лишь свежесть, пахнувшая мне в лицо, спасла меня от этого.
Вот так прошли мои роды, столь долгожданные и желанные. Так разрешилась я от бремени.
Здесь старуха оборвала свою повесть. Она распрямила плечи, потом наклонилась вперед и резким движением помешала в огне, который она поддерживала, время от времени подбрасывая в него корявый сучок.
– И кого же я родила! – продолжала она в волнении. – Вот этого, что сидит в углу! Таков оказался плод моей пылкой любви. Высшего человеческого счастья. Нашей горячей любви друг к Кругу, любви, начавшейся возле священного источника, – вот как она завершилась! Жаркая летняя любовь средь цветущего хлебного поля, которой свидетели были орлы.
Это и есть наше с ним дитя.
Я не могла этого понять. Это было непостижимо. По мере того как ребенок подрастал и становилось ясно, каков он есть, я все более неотступно, но тщетно раздумывала над этой непостижимою загадкой – что наша любовь принесла такой плод. Конечно, ребенок был зачат, когда наша любовь не была уже такой счастливой, как раньше. И тот, кто зачал его, пожалуй, уже и не любил тогда. Не в этом ли причина, не за это ли мы так поплатились? Так жестоко поплатились.
Но прежде-то он меня любил, отчего же дитя не зародилось во мне тогда? Коли нам двоим назначено было родить ребенка, отчего же это не случилось раньше, в жаркий полдень нашей любви? Отчего я понесла лишь под самый конец, когда мой любимый уже не любил меня по-настоящему, когда он ласкал меня без всякой страсти и оттого его жизненный сок был лишен подлинной силы? Отчего так случилось? Отчего мое несчастное чрево лишь тогда дало себя оплодотворить?
Разве не удивительно, что я не забеременела намного раньше?
Быть может, это произошло лишь в самый последний раз, в те тягостные минуты последней нашей близости, которые были не в радость ни ему, ни мне?
В последний раз... Ну конечно, только тогда это и могло произойти, иначе до родов прошел бы уж слишком долгий срок. И так-то он был чересчур долгий...
Нет, об этом лучше не думать! Только не об этом!
Ведь часто бывает, что женщина носит дольше положенного срока. Во всяком случае, иногда такое случается. Да и никто ведь толком не знает, как считать, об этом не раз приходилось слышать, нет, тут ничего не поймешь, не стоит и голову зря ломать. Лучше просто не думать об этом. Совсем не думать. Все равно никакого проку. Так уж лучше выбросить это из головы... Занять свои мысли чем-нибудь другим, чем угодно. Только не этими никчемными, бессмысленными расчетами...
Так говорила я сама себе, уговаривала себя...
Мысли же, которые я старалась прогнать, были о том, что, если посчитать, как обычно считают женщины, выходил как раз тот день, когда мой любимый погиб в реке, день, когда я была изнасилована богом. Вскоре после этого и случилось, что у меня впервые в жизни не пришли месячные. А мой любимый ко времени своей смерти давно уже меня не знал.
Нет, что за вздор! Это же безумие! И ведь это невероятно, еще более невероятно, чем...
Зачат богом? Сын бога... Дурачок, которого и человеком-то не назовешь. Ребенок, который, оставшись жить, может превратиться лишь в несчастного безумца, не имеющего понятия ни о чем, даже о собственном существовании, – безумца с бессмысленной ухмылкою на лице и с душою новорожденного дитяти.
Что за мысль! Придет же такое в голову!
Чтобы это гадкое, жестокое – тогда, в подземелье оракула, – это дикое, нечеловеческое и омерзительное могло дать жизнь ребенку? Чтобы это сделало меня матерью? Не любовь – моя горячая, живая, земная любовь, – но эта скверность, о которой я не могу вспоминать без глубочайшего отвращения?
Да нет, это действительно невероятно. Безумная выдумка, просто нелепый домысел. Даже странно, как может такое взбрести на ум...
И не так уж немыслимо много времени прошло с тех пор, как я принадлежала моему любимому, моему дорогому возлюбленному в последний раз. Он тоже вполне мог быть отцом ребенка. Этого ребенка. Ну конечно, мог. Если я так хочу...
Хочу ли я этого? Хочу ли, чтобы...
Нет, мне было невмоготу обо всем этом думать. Это приводило меня в совершенное отчаяние – я отчаивалась в жизни, в любви, в боге, во всем.
Бог – он чужд милосердия. Тот, кто говорит, будто он добр, тот просто его не знает. Нет ничего бесчеловечней бога. И он неистов и коварен, точно молния. Точно молния из тучи, из которой вовсе не ждешь молнии. И вдруг, внезапно, она ударяет – вдруг, внезапно, он обрушивает на человека удар и являет всю свою жестокость. Или свою любовь. Или же свою жестокую любовь. От него можно ждать чего угодно. Он может явить себя когда угодно и в чем угодно. Гроза, загнавшая меня в пещеру, козы, посланные присмотреть за мною, жаркое солнечное лето, накаленное зноем до последнего предела, роды в козьей пещере в час, когда небо метало в землю свои молнии, странное поведение коз, их ретивое внимание к течению родов и к ребенку, явственный привкус чего-то гадкого, отталкивающего, нечеловеческого в этой козьей пещере – что скрывалось за этим всем? Не скрывался ли за этим божественный произвол? Жестокий и неистовый божественный произвол? Не стояло ли за этим могущественное божество?
В божественном напрасно искать человеческое, оно иное по своей сути. И напрасно искать в нем благородное, возвышенное, одухотворенное, как нам того хотелось бы. Божественное – это нечто чуждое, отталкивающее, а иногда это безумие. Нечто злое, опасное, роковое. Таким по крайней мере предстало оно мне. И едкий козлиный смрад его мне очень хорошо знаком, кому как не мне его знать! Я тотчас узнала его, едва лишь вошла в их пещеру. В пещеру, где я, может быть, родила сына, отцом которого был бог, сына, зачатого богом-козлом в подземном святилище, в пещере под его великолепным храмом, воздвигнутым ему как богу солнца и света, под тем храмом, в котором мне не дано было ему служить. Зато мне дано было родить его слабоумного сына, когда ему для чего-то понадобилось произвести его на свет, этого дурачка с неизменною ухмылкой на лице, который камнем висит у меня на шее всю мою жизнь...
Нет, нет, что это я говорю... Ведь я ничего не знаю, совсем, совсем ничего... Не знаю, кто отец этого ребенка. Не знала тогда, не знаю и поныне. Ведь не может он быть сыном бога и не может быть сыном моего любимого, он ничуть на него не походит, да и на меня тоже, ни на одного из нас двоих, он вообще мало походит на человека. И еще менее на бога. Нет, я ничего не знаю.
Но руки мои сжимаются в кулаки, когда я думаю о том, кто так со мною обошелся, кто помыкал мною, заставляя служить себе в подземелье, в своей пещере оракула, кто сделал из меня свое послушное орудие, кто изнасиловал мне тело и душу, кто вселял в меня свой зловещий дух, ввергая в беспамятство, внушая мне то, что зовется его откровениями, кто наполнял меня своим жарким дыханием, своим нездешним огнем, кто обрек меня произвести на свет этого слабоумного сына, который есть злая насмешка над человеком, над разумом и над человеком, и надо мною, родившей его. Кто избрал меня для того лишь, чтобы сделать своею жертвой, для того, чтобы я была одержима им, в исступлении захлебывалась для него пеною и родила безумца. Кто помыкал мною всю мою жизнь! И лишил меня настоящего счастья, лишил меня всякого человеческого счастья, всего, что приносит радость другим людям и дарит им мир и покой. Кто отнял у меня мою любовь, моего любимого, все, все – и ничего не дал мне взамен, ничего, кроме самого себя. Самого себя... Подумать только, что он по-прежнему живет во мне, наполняет меня собою, своим непокоем, что он никогда не дает мне мира, ибо в нем самом мира нет, что он никогда не оставляет меня! Никогда меня не оставляет!
Мои руки сжимаются в кулаки, когда я думаю о нем! Мои бессильные руки!
Ее била дрожь, казалось, все существо ее пришло в сильнейшее возмущение. Она помешала в огне и, заметив, что он погас, швырнула обгорелую палку, которой мешала, в дымящиеся головешки.
Постепенно она, однако, немного успокоилась, овладела собою. И голос снова стал прежний, понизился до своего естественного звучания, когда она чуть погодя продолжала:
– Не пойму, с какой стати я рассказываю это все. Да тебе, чужому человеку. Но в этом доме кто не чужой?
Ты спросил о чем-то – и, когда я начала вспоминать, вся моя жизнь, моя судьба вновь встали передо мною, ожили в памяти и захватили меня. Да и когда я последний раз говорила с человеком? Когда это было? Так давно, что я и сказать не могу.
Я сидела здесь в одиночестве и все раздумывала о своей судьбе. Времени для этого было у меня довольно, слишком довольно. Но поговорить мне было не с кем.
Да, жизнь моя с тех пор, как я покинула человеческий мир, к которому я, к слову сказать, никогда по-настоящему не принадлежала, – жизнь моя была сплошное одиночество. Одна проводила я дни с этим ребенком, с этим сыном, с этим теперь уже седым человеком, о котором я так и не знаю, кто он, откуда он взялся. Одни жили мы с ним в горах, в этой ветхой лачуге, которую я приспособила нам под жилье уж не помню сколько лет назад. Единственными нашими спутниками были те козы, которые все время держатся с нами, дикие козы, которые всегда к нам прибивались, где бы мы ни жили, и которые помогают нам прокормиться. Это единственные живые существа, которых он знает, и единственные, которые его притягивают. Люди ему незнакомы вовсе, и они его нимало не привлекают. К козам же он всегда тянулся, и они к нему тоже, они следуют за ним по пятам, куда бы он ни шел, трутся о него, их друг от друга не оторвать.
Это тоже приходит мне на ум, когда я пытаюсь понять, кто он. И еще, что лицо его осталось нетронуто всем, что люди зовут жизнью, оно осталось лицом младенца, теперь уже седого младенца, но все с той же неизменной младенческой улыбкой. С бессмысленной улыбкой, которая всегда так мучила, терзала меня, из-за которой я думаю, что живу здесь вдвоем с безумцем. Но иногда я спрашиваю себя, а не бог ли это сидит у меня под боком со своею вечной улыбкой, сидит и смотрит вниз: на свой храм, на свои Дельфы, на весь человеческий мир – и лишь посмеивается над всем вместе.
Не знаю. Я ничего не знаю. Но иногда я думаю об этом, иногда и такие мысли приходят мне в голову.
Она кончила говорить и минуту сидела молча. Потом она встала и пошла к выходу, в котором слабым просветом виднелась ночь.
Вдруг она остановилась и вскрикнула:
– Его нет! Его здесь нет!
И в самом деле. Его здесь больше не было. Он исчез.
По-видимому, во время ее долгого повествования он в какой-то миг вышел и исчез в ночи. Сделать это незаметно было легко в такой темноте и при том, что выходом служила простая ниша без двери.
Она совсем обезумела. Лицо ее было невозможно различить, но, должно быть, оно выражало страшное смятение, это было слышно по голосу.
– Где же он, где он?! – восклицала она. – Куда он делся?!
Для чего он ушел из дому ночью, в эту темень, ведь он так беспомощен, он же погибнет! Сорвется с кручи!.. Для чего он это сделал? Как же так? Для чего? Для чего он покинул меня?
А что, если он... если он понял все то злое, что я о нем говорила, все то ужасное, что я... Если он понял! Но нет, этого не может быть... Ведь он никогда не понимал человеческую речь и сам никогда не мог ничего сказать. Но... но, может, он просто не показывал, что понимает, не хотел? Не хотел иметь никакого дела с людьми? Ведь иногда мне мерещилось... иногда у меня мелькало сомнение, а не понимает ли он на самом деле, что я говорю ему в сердцах, когда выхожу из себя и напускаюсь на него... на мое несчастное дитя... мое дитя... О, так бывало не раз, я была несправедлива к нему, несправедлива... Как я только могла... как я могла говорить такое... делать ему больно... Так больно, что ему пришлось покинуть меня! Покинуть меня!
Она разговаривала сама с собою, а не с пришельцем, хотя все время с горячностью обращала свою речь к нему.
– Конечно, он понял, конечно, поэтому он ушел... О, что я сделала, что я сделала!..
– Нам надо идти его искать! – воскликнула она вдруг в совершенном отчаянии и, пригнувшись, ступила в низкую нишу, исчезла в ней.
Он вышел за нею следом.
Ночь была лунная и звездная, но холодная мгла, окутавшая горы, мешала далеко видеть.
Она сначала торопливо поискала глазами вокруг дома, нет ли сына где-нибудь здесь, а потом, не раздумывая, зашагала по тропинке – вероятно, там была какая-то тропинка, хотя увидеть ее было невозможно, – которая вела наверх, дальше в горы. Шла она так стремительно, что он едва за нею поспевал, непривычный к ходьбе по таким местам. Трудно было поверить, что в ее возрасте можно двигаться с такою живостью. Но она прожила в этих горах большую часть жизни и стала как бы одно с ними. На своих старых ногах, обмотанных кусками истертой козьей шкуры, она скользила по горному склону без всяких видимых усилий и так, словно сама была неотъемлема от него, – точно серый зверек, почти незаметный в мутноватом свете луны. Она передвигалась, как дикие животные передвигаются среди привычной им природы.
Он шел следом за нею, пораженный тем, что она рассказала ему о себе и об этом сыне, которого они отправились искать в горах, средь туманов...
Сын бога?..
Определенно, это звериная тропка, люди здесь не ходят. Их тропа должна пролегать где-то ниже, но во мгле ее невозможно различить. Отчего она выбрала именно этот путь? У нее, верно, есть какая-то причина подозревать, что сын направился сюда. Что он не пошел вниз, в Дельфы, это ей, разумеется, ясно, там он, конечно, никогда не бывал. А может, она нашла его следы? Это тоже вполне вероятно, судя по тому, с какою уверенностью она идет именно в эту сторону.
Подъем был вначале довольно пологий, но тем круче он сделался потом. Они были уже довольно высоко средь диких гор, и тропинка, которой сам он совсем не видел, все круче уходила вверх. Но потом они поднялись на более ровное место – что-то вроде высокогорной равнины, – и старуха, пройдя несколько шагов, остановилась. Должно быть, невидимая тропка здесь разветвлялась, либо она потеряла след, по которому шла, – она стояла и в сомнении оглядывала голые окрестные горы. Лунный свет, просеиваясь сквозь редкую дымку холодного тумана, придавал всему вокруг вид странный и таинственный, и ему подумалось, что здесь, в этом полупризрачном мире, можно усомниться во всем. Вскоре она, однако же, заторопилась дальше, по-видимому не колеблясь больше в выборе направления. Ему невольно почудилось, что она, хотя и человек, идет, повинуясь инстинкту, как животное, либо руководясь каким-то особенным чувством, какого нет у простых смертных. Они все более углублялись в призрачный, недействительный мир. Ровное место кончилось, путь их опять пошел вверх.
Вдруг туман разом растаял, и в ярком лунном сиянии прямо перед ними возникла громадная гора, покрытая вечными снегами, белая, и сумрачная, и таинственная под сверкающими звездами. Отлогий подъем вел к снеговой кромке, и узкая, но отчетливо видная звериная тропка вилась по нему – и исчезала под снегом. Для чего она шла туда, было неведомо, там она просто кончалась, пропадала и все, – это было необычное, странное зрелище, эта тропка, которая исчезала под вечными снегами. Старуха пустилась по ней наверх.
Пройдя совсем немного, она нагнулась и подняла что-то с земли. Это был пояс из козьей шкуры. Она осмотрела его с жадным вниманием, потом, судорожно глотнув воздух, уронила сжимавшую его руку. И двинулась дальше. Вскоре после того она нашла одежину, брошенную сбоку от тропинки, тоже из козьих шкур. Она подобрала и ее тоже, повесила себе на руку, ничего не говоря. Еще чуть выше она нашла одну сандалию, а вслед за тем и еще одну, обе одинаково просто сделанные из куска шкуры и ремня. Вторая сандалия лежала почти у самой кромки снега. Здесь они остановились и подняли взгляд на загадочную гору.
Тонкий слой свежего снега нападал за ночь, и на нем они увидели отчетливый след босой ступни. Они стали подниматься дальше и находили один за другим следы – кто-то прошел босыми ногами вверх по вечным снегам. То были легкие, но отчетливые отпечатки очень маленькой красивой ноги. Постепенно они делались все легче, все слабей, под конец это были лишь намеки на следы, еле приметные прикосновения к снегу. А потом они совсем пропали. Обратно никакие следы не вели.
Старуха стояла и смотрела на эти исчезающие знаки, оставленные ногою, которая перестала касаться земли, оставленные созданием, утратившим свою тяжесть и воспарившим вверх. В ту высь, которая здесь, над боговой горою, была так прозрачно-ясна, что казалось, можно потрогать звезды руками.
– Он воротился назад, – тихо сказала она про себя. – Так я и думала.
– Сюда он всегда устремлялся, когда ему случалось выйти из нашей хижины, – добавила она немного погодя, – сюда его влекло. Теперь он сбросил с себя покров, под которым скрывался, сбросил свою земную оболочку и снова стал тем, кто он в действительности есть. Отец взял его к себе обратно.
Она стояла молча, ничем не выдавая скрытых движений своей души, потаенных мыслей и чувств. И держала в охапке то, от чего он освободился, что он получил от нее, что она сделала для него своими руками, – быть может, она чувствовала укол в своем земном материнском сердце оттого, что он просто снял все с себя и швырнул прочь, но, если и так, по ней нельзя было этого увидеть. На ее старом, морщинистом лице нельзя было прочесть ничего, и от сильного душевного волнения, какое было заметно в ней прежде, не осталось и следа теперь, когда она поняла, что произошло. Когда она поняла все. Но вероятно, многое из долгой ее жизни прошло перед ее мысленным взором в эту минуту, когда все казалось завершенным и темная загадка наконец разрешилась, разъяснилась благодаря этим отпечаткам на вечных снегах. На мгновение она закрыла глаза, и пришелец вспомнил из ее рассказа, что она имела обыкновение так делать, когда душа ее бывала полна чем-либо до краев. Затем она вновь открыла их, свои древние глаза, которые, казалось, все перевидали. И еще раз взглянула на оставленные им знаки – знаки того, что он ее покинул, на легкие отпечатки ступни, необыкновенно маленькой и изящной для взрослого мужчины.
– У него были такие красивые ноги, – тихо сказала она, словно укоряя себя за то, что не довольно думала об этом прежде. – Руки и ноги были у него такие красивые.
Она постояла еще немного, а затем начала медленно спускаться по снежному покрову вниз, к серому подножию горы, назад к земле. Пустилась в обратный путь, к себе домой.
Она шла теперь медленней, хотя и под гору: ей некуда было больше торопиться. Или, возможно, она была погружена в свои мысли и оттого шла медленней обычного. Если так, то думала она, верно, об этом своем сыне, чьи ничтожные земные пожитки она несла обратно, в свою хижину, в свое одиночество. И, быть может, также о его могущественном отце, зачавшем его когда-то у нее во чреве.
Пришелец, который следовал за нею на некотором отдалении, тоже шел и думал о сыне бога, что вознесся ввысь с этой странной, таинственной горы, сбросив с себя одежды из козьих шкур – покров, скрывавший его как сына некоего бога, который, по всей видимости, был также и козий бог, однако воистину больше, чем просто козий бог. Оставался ли он все так же сед, когда, ступив последний раз на снег легкою стопой, вознесся ввысь, воспарил к звездам, или в тот миг к нему уже вернулась молодость? Вероятно, он уже был тогда вечно молод. И, конечно, лицо его было уже совсем иным, чем прежде, более походило на лик бога.
Потом он подумал, что другой сын бога, тот, который повинен в его ужасной судьбе, который обрушил на его голову свое зловещее проклятие, – он ведь тоже как будто вознесся на небо с горы, был поднят туда своим богом-отцом на облаке, если верить россказням людей, которые чтят и любят его. Но только перед этим он был распят, что, по их понятиям, сделало его необыкновенно замечательным, а жизнь его – исполненной глубокого смысла и значения для всех и на все времена. Между тем как этот сын бога рожден был, кажется, лишь затем, чтобы сидеть в полутьме на пороге ветхой пастушьей лачуги да смотреть на мир, на суетню и хитроумные затеи людей, на свой собственный роскошный храм – и лишь смеяться над всем вместе.
Внезапно его осенило, он понял, что ему напомнила эта вечная улыбка. Ну конечно, одно из изображений бога, которое он видел вчера в Дельфийском храме, старинную фигуру, что стоит где-то в дальнем углу, словно уступая место более новым и красивым изображениям. Там была точно такая же улыбка, необъяснимая и непроницаемая, бессмысленная и полная неисповедимого смысла. Ни добрая, ни злая, и этим отчего-то наводящая ужас. Фигура эта представляет, верно, того же бога, что и другие изображения, – старухиного бога, которому воздвигнут этот храм, но видно, что она очень древняя, так же как и загадка ее каменной улыбки.
Да, бог непостижим, жесток и грозен. Это и она на себе испытала, эта сивилла, которая узнала его близко, как никто другой, была одержима им, любима и проклята им, которая всю свою жизнь прожила для него, да еще и родила ему сына. Сына, который появился на свет, пожалуй, лишь для того, чтобы показать, что полное бессмыслие тоже божественно. Либо для того, чтобы отомстить ей за ее любовь к этому однорукому, за ее недолгое летнее блаженство в его объятиях – на его единственной руке. За то, что она, кроме бога, познала что-то иное. Кроме любви к богу, познала иную любовь.
Да, бог зол, в этом она права. Бессердечен и злобен. Бог мстителен и не спускает тому, кто посмеет любить кого-то, кроме него. И тому, кто посмеет не позволить ему приклонить голову к своему дому. Он жесток и чужд милосердия. Ему нет дела до людей, он думает лишь о самом себе. И он никогда не прощает, никогда ничего не забывает.
Но мне тоже нет дела ни до кого, кроме себя! И я ненавижу его, как он ненавидит меня. Он проклял меня – что ж, и я его проклинаю!
Я не склоню перед ним головы. И я бессмертен, как он! Он сам сделал меня таким – хотя и по злобе, отнюдь не для того, чтобы я радовался этому. Это входит в его проклятие, это самое жестокое, что в нем есть. И однако, я бессмертен! Хотя мое бессмертие иное, чем у него.
Он восседает на престоле, наслаждаясь вечною молодостью на небесах, куда он вознесся, провисев несколько часов на кресте, я же обречен мучиться на земле во веки веков. Я блуждаю по свету, гонимый непокоем, какой он во мне поселил, и моей злосчастной душе никогда не узнать блаженства. Я буду вечно жить в этом мире, который сам он давно покинул, и мне не увидеть иного мира, кроме этого. Изо дня в день, из года в год, века, тысячелетия осужден я смотреть на него своими старыми глазами, которые все проницают, которые вновь и вновь зрят ничтожность всего. Смотреть на этот покрытый пеплом мир. Вот для чего он меня избрал. На что меня осудил. Но я не склоню перед ним головы! И моя ненависть бессмертна, как его!
Так он думал о своей судьбе, и все в нем возмущалось, пока он шел следом за старухою, видя ее серую фигуру немного впереди себя.
Напоследок им пришлось идти при свете одних лишь звезд, луна зашла, но здесь тропка была ей особенно хорошо знакома. Туман совсем рассеялся. Когда они наконец пришли, занималось уже утро нового дня, и они, не заходя в хижину, сели на грубую каменную скамью возле нее. Солнце пока не светило над открывавшимся взору пространством, но слегка побледневшее небо обещало его скорый восход.
Возмущение еще не улеглось в его душе, и он вдруг воскликнул с такою запальчивостью, будто продолжал начатый ранее жаркий спор с нею:
– Ведь ты же должна ненавидеть этого бога за то, как он с тобою обошелся, что он с тобою сделал! Ты же должна ненавидеть бога, исполненного такой бессмысленной злобы!
Старуха немного помедлила с ответом, должно быть, задумалась. Потом сказала:
– Я не знаю, кто он, бог. Как же мне ненавидеть его? Или любить? Нет, я, пожалуй, не могу сказать ни что я ненавижу его, ни что люблю.
Если подумать, такие слова, кажется мне, лишены смысла, когда говоришь о нем. Он не таков, как мы, и мы никогда его не поймем. Он непостижим, неисповедим. Он бог.
И насколько я разумею, он и зол и вместе добр, он и свет и тьма, и полное бессмыслие и глубокий смысл, которого мы не можем доискаться, но и никогда не перестанем искать. Загадка, существующая не для того, чтобы быть разгаданной, но для того, чтобы существовать. Всегда для нас существовать. Всегда нас тревожить.
А самое непонятное, что он бывает и небольшим алтарем из дерна, куда можно положить несколько колосков и, сделав это, обрести мир и душевный покой. Или источником, в котором мы можем увидеть свое отражение, с чудесной водою, которую пьют из пригоршни. Это все тоже он, я знаю, он и таким бывает. Хотя для меня он был не такой, не мог, верно, быть таким.
Для меня он был дикая бездна, поглотившая меня самое и все, что было мне дорого. Для меня он был обжигающее дыхание, он был объятия без мира, без покоя, но все же объятия, по которым я тосковала. Неистовая и чуждая мне сила, которая всецело повелевала мною.
Он сделал меня очень несчастной. Но он же дал мне изведать счастье, такое огромное, что его невозможно охватить умом. Да, так было, об этом мне тоже нельзя забывать.
Что была бы моя жизнь без него? Если бы мне никогда не дано было исполниться им, его духом? Не дано было почувствовать то блаженство, которое исходит от него, и ту муку и боль, которые – тоже от него. Не дано было испытать в его жгучих объятиях чудо преобращения меня самой в ничто, когда я безраздельно принадлежала ему. Почувствовать его восторг, его блаженство без конца и края, разделить с богом его безмерное упоение счастьем бытия.
Что была бы я без этого! Если бы мне не дано было узнать ничего, кроме лишь самой себя.
Но я не забуду и всего зла, какое он мне причинил, всех ужасных страданий. Не забуду, как он завладел всей моей жизнью, лишил меня чуть ли не всех земных радостей. И как он раскрыл передо мною свои бездны, глубины своего зла. Я не забуду этого и не прощу!
Однако, сидя здесь на склоне лет в своем одиночестве и оглядываясь на прошлое, на прожитую мною жизнь, я возвращаюсь мыслью к тебе, мой бог! Ибо жизнь моя – это был ты, ты, пожирающий и испепеляющий все на своем пути, как огонь. Ты, не оставляющий после себя ничего там, где пройдешь. Моя жизнь – это жизнь, прожитая в тебе. Жестокая, горькая и богатая жизнь, которую дал мне ты. Будь проклят ты и будь благословен!
Он смотрел на нее в молчании. Смотрел на ее черное лицо, точно и вправду опаленное огнем, в ее старые, бездонные, неисповедимые глаза – глаза, видевшие бога.
Его глаза тоже видели бога. Но они сделались пусты от этого. Точно пересохший колодец, точно глубь, в которой нет ничего. Они не такие, как у нее. Отчего это так? Отчего он так нищ, а она так богата?
– Ну а моя судьба, что скажешь ты о ней? – спросил он в волнении. – Что скажешь ты мне, пришедшему сюда в надежде найти ей объяснение, найти объяснение этому непокою в моей душе, проклятию, которое надо мною тяготеет. Чем можешь ты утешить меня? Ведь то, в чем есть утешение и смысл для тебя, мне не проясняет ничего.
Старуха взглянула на него, встретилась с ним глазами. Взгляд его был воистину нищ, пожалуй, такого нищего взгляда она никогда не встречала у человека. Это поразило ее еще тогда, когда он только пришел, – простой его плащ был точно королевская мантия в сравнении с его взглядом.
Но она увидела также, что неверно сказанное им о своих глазах, будто они – пересохший колодец, глубь, в которой нет ничего. Это не так. Они не пусты. Они полны отчаяния. Если проклятие, павшее на него, сделало его бедным и сирым, отняло у него все, то оно же породило в нем это отчаяние. И должно быть, оттого, что она и это увидела в нем, она дала ему такой ответ:
– Я вижу по тебе, что ты проклят богом, что все так и есть, как ты говоришь. По тебе заметно, что ты несвободен, что ты прикован к нему и он не думает отпускать тебя от себя. Ты прикован к богу его проклятием точно так же, как был бы прикован, если бы он тебя благословил. Он – твоя судьба. Душа твоя полна богом, жизнь твоя неразъединима с богом благодаря его проклятию. Ты ненавидишь его, ты глумишься над ним и хулишь его. Но все твои негодующие речи только показывают, что ни до чего на свете тебе нет дела, кроме как до него, что ты полон лишь им одним. Полон тем, что ты зовешь своею ненавистью к нему. Но эта-то жгучая ненависть, возможно, и есть твое чувствование бога.
Быть может, придет день, когда он пошлет тебе свое благословение вместо проклятия. Откуда мне это знать! Быть может, придет день, когда ты дашь ему приклонить голову к твоему дому. Быть может, так не будет никогда. Об этом ничего нельзя знать. Но что бы с тобою ни было, судьба твоя будет всегда нераздельна с богом, душа твоя – всегда полна богом.
Ты хочешь, чтобы я заглянула в будущее. Этого я не могу. Но настолько-то я знаю жизнь человеческую и настолько-то могу провидеть грядущий путь людей, чтобы сказать, что им никогда не жить без того проклятия и того благословения, какие несет им бог. Во что бы они ни верили, что бы они ни думали и что бы ни делали, судьба их будет всегда нераздельна с богом.
Она кончила говорить и отворотилась от него. Сидела и смотрела куда-то, он не знал куда. То ли на дальние горы, которые были уже освещены солнцем, между тем как здесь все еще лежала глубокая тень. То ли в этот миг земные виды были заслонены от нее иною картиной, которая стояла перед ее глазами. Во всяком случае, была она, казалось, где-то очень далеко от него – она словно вовсе забыла о нем, не замечала его присутствия.
Он же сидел и смотрел на нее, и в ушах его звучали ее слова. Ему казалось, они заставили его по-новому осмыслить свою судьбу, глубже в нее заглянуть. Они помогли ему разглядеть в ней такое, о чем он раньше не задумывался, и, возможно, теперь ему будет легче нести ее бремя. Возможно, она все же не столь бессмысленна и безысходна, как ему раньше представлялось. И даже не столь непреложно неизменна, как он думал. Однако ответ на это может, верно, дать лишь его бесконечное странствование, лежащий перед ним бесконечный путь. Ибо истинно сказанное ею: об этом ничего нельзя знать.
Они долго сидели молча.
Наконец он поднялся со скамьи. Надо было продолжать свое странствование, снова отправляться в путь. Когда он простился, она лишь слегка качнула головою, ничего не сказала. Они расстались в молчании, без слов. Он пошел вниз по крутому откосу к Дельфам, а она осталась сидеть наверху и смотрела ему вслед, смотрела на древнюю долину с городом и храмом, на все, что было ей так хорошо знакомо. Солнце пришло уже и туда, и люди принялись хлопотать возле домов, засновали по улицам. Храмовая площадь еще безлюдна, но юноша-прислужник уже подметает перед храмом и убирает вход свежими лавровыми ветками из боговой рощи. А по священной дороге, неспешно ступая, идет к святилищу молодая женщина, наряженная невестою и сопровождаемая охваченными благоговением людьми, а также, верно, и людьми, которые не испытывают особого благоговения. Взор ее устремлен к святилищу перед нею, и, конечно, лицо ее уже сейчас исполнено того восторга, какой ей вскоре предстоит пережить, но, быть может, также и страха перед тем, что ее ожидает. Исполнено тревоги перед встречею с богом и тоски по нем. Утреннее солнце струит свой свет на толпу людей, шествующих к храму, и на всю долину и горы окрест, на все необъятное пространство, которое сверху открывается взору.
Она сидела и озирала все своими старыми глазами.
Мариамна
MARIAMNE
Перевод Е. Суриц
Редактор Н. Федорова
Во дни земной жизни великого царя Ирода равного ему могуществом не было в целом свете. Так думал он сам. И, быть может, не ошибался. Но был он всего-навсего человек, один из тех, кто населяет землю и чей род прейдет, не оставя следа, не оставя по себе и воспоминания. Но отвлечемся от этих мыслей и расскажем о его судьбе.
Он был царь иудейский, и народ не любил его. Не любил за жестокость, а еще из-за того, что был он идумей и потому обрезан не по правилам: лишь часть крайней плоти удалялась у младенцев мужского пола по обычаю идумеев. Несчетные злодеяния множили ненависть к нему народа, и все желали его смерти, покуда он жил. И однако он воздвиг храм господу, великолепием превзошедший даже храм Соломонов. Народ этому дивился, но, хотя никто не мог отрицать красоту несравненной постройки, ненависть к царю не уменьшалась. Его считали богопротивнейшим и страшнейшим из людей, врагом рода человеческого, и он наполнял сердца отвращением, тоской и ужасом. Таков был общий о нем приговор. Приговор справедливый и истинный.
И он любил Мариамну.
Хоть родился он в Иерусалиме, истинной родиной его была пустыня, земля его отцов, обозначившая их душу. Пустыня жила в нем, и он часто ощущал ее зов и страшную пустоту. Но жила в нем и дикая, радостная жадность к жизни, унаследованная от предков, страсть к убийству и страстная боязнь смерти.
И сердце его радовалось насилию, крови, битве, взмыленным коням, топчущим трупы врагов, оно радовалось бегущим, и раненым, и пленницам во власти его солдат – всему, что влечет за собой выигранная война, радовалось его сердце: победам, золоту, власти. Но и поражения – а случались у него и поражения – наполняли его весельем, ибо ненависть к врагам, скрываемая от всех, кипела в его груди и ждала случая излиться в кровавой мести, в новой битве. Зато неудачи с женщинами гасили в нем необузданную жажду жизни, и после них он ощущал сосущую пустоту внутри, о которой уже говорилось, страшную пустоту одинокой души сына пустыни.
Он был высок ростом, грузен, черты грубы, и никто, пожалуй, не назвал бы его красавцем, но тот, кто видел его однажды, не мог его позабыть. И уж во всяком случае, никто не мог позабыть его взгляда, хоть редко кому удавалось его вынести, не потупляя глаз. Взгляд этот был опасно-испытующий, он судил людей, и судил немилостиво. Глаза были темные, в светлых прожилках, иногда их сравнивали с глазами льва, однако у льва глаза вовсе не такие, они гораздо светлей. Кожа на его лице была желта, даже губы тронуты желтизной, а это цвет нездоровый, прочее же в нем все говорило о здоровье и силе. Иные думали, что желт он оттого, что его точит болезнь, и он скоро умрет. Но они ошибались.
В поступи его не было явного порока, но ступал он на правую ногу всегда тяжелей, чем на левую. Сам он об этом едва ли догадывался, но другие замечали, и вся стать его казалась оттого еще тяжелей и страшней, особенно если смотреть со спины, когда он удалялся, оборвав беседу. А может быть, дело тут не в поступи, ибо беседу он обрывал чаще всего в гневе и его внезапный уход никому не сулил добра.
Роковой могла оказаться всякая встреча с ним. И блажен тот, кого не призывал он к себе и кто мог не попадаться ему на дороге.
Кровавый путь привел его к престолу, священному престолу Давида и Соломона, и, едва завладев им, он тотчас же стал мстить всем тем, кто пытался препятствовать его воцарению. Он не забыл, что злодейства его некогда поставили его перед Верховным судилищем, перед Синедрионом, и он не забыл, кто изобличал его. И ни один не уцелел, хоть все это были пастыри и старейшины Иудеи. Священнослужителей он презирал и открыто смеялся над ними и над богом, которому они поклонялись в старом, обветшалом храме, особенно чтимом ими за то, что он такой старый и что в самой постройке и в службе все от веку остается без перемен. И все прочие, умышлявшие против него или подозреваемые в умысле, пали жертвой кровавой резни, которую он учинил, как только захватил власть. А еще через несколько лет он с помощью римлян осадил Иерусалим, собственную непокорную столицу, и, когда город пал, допустил поганых язычников грабить и убивать, так что улицы усеялись телами и в самом святилище лежали мертвые и раненые. Неудивительно поэтому, что народ ненавидел его и считал чудовищем в образе человека.
Но как же случилось, что такой человек немного лет спустя задумал возвести храм богу, в которого он не верил? Великолепный храм, не знавший себе подобных.
Как же это случилось? Где причина?
Все, кто видел, как постепенно воздвигается храм, как и те, кто и сейчас еще удостаивает мыслью Иродову судьбу и поприще, считали, что делает он это из высокомерия и суетности, чтобы затмить славой Соломона, на чей трон он взошел неправдой, чтобы превзойти блеском даже знаменитые храмы Рима, чтобы восславить имя свое, себе самому он поставил храм, чтобы слава его не меркла во веки веков, чтобы обрести бессмертие.
Иных причин не существовало. Его беспримерное честолюбие не знало границ. И конечно, только ради честолюбивых помыслов он задумал возвести храм. Если б его спросили, он не стал бы ничего отрицать и даже подивился бы вопросу.
Он со вниманием следил за строительством, во все входил придирчиво и тщательно и нередко подолгу любовался своим детищем, своим трудом, самим собой.
И часто, когда не шел сон, он покидал дворец и отправлялся к месту постройки. В этот час там не было ни души, и он стоял совершенно один. Один в своем храме.
И тяжелой поступью обходил храм в темноте ночи.
И, оставив его, на пути во дворец он часто останавливался и глядел в звездное небо, подставляя блестящим звездным копьям свою пустынную душу, о которой он не знал ничего.
Ибо он был человек действия, устремленный вовне, озабоченный внешним. Он никогда не разбирался в себе. Он просто был таким, каким родился на свет.
Полные недоверия, смотрели иудеи, как возводит храм великий грешник, виновный в стольких кровавых делах, а к тому же не подлинный иудей и обрезанный не по правилам. Их возмущало, что он посмел строить дом господу. И как только господь до этого допустил?
Конечно, храм вырастет прекрасный и великолепный, стены его из мрамора, дивного камня, вывозимого издалека, из чужой страны, и он будет разубран золотом, и серебром, и медью, и бесценной коринфской бронзой. Но пожелает ли господь поселиться в таком доме? Нужен ли ему такой дом? Не покажется ли ему все это великолепие мерзостью?
Не лучше ли было бы господу, чтоб на постройку храма наломали камня из окружных гор, из гор вблизи его собственного города? Не лучше ли так было бы для господа?
Нелегко узнать его волю. Но, судя по всему, так было бы для него лучше.
И вовсе ему не нужна вся эта пышность изнутри и снаружи, все это богатство и украшения, ему нужен дом под стать старому храму, под стать ему самому.
Никто не мог знать этого точно. Никто никогда не знает точно желаний бога. Но первосвященник, всех ближе к нему стоявший, считал, что, несмотря на неслыханную роскошь и красоту нового здания, господь, как и слуги его, хотел бы, чтобы все оставалось по-старому.
И однако же бог не сокрушил храмовых стен, как непременно сделал бы, если б затея Ирода была ему вовсе не угодна. И возможно, объяснялось это тем, что старый храм не был снесен в одночасье, но заменялся новым исподволь, по частям, и то же касалось внутреннего убранства, так что богослужение не прерывалось, хоть, конечно, ему мешал шум работ, а ничего так не боялись народ и священнослужители, как препятствий к службе, ибо ничего нет насущней, чем ежедневная служба господу.
И надо признать, что об этом позаботился сам Ирод, приказавший так вести постройку. Не странная ли забота для такого кощунника и злодея?
Но общее мнение о нем из-за этого не переменилось, да и не было причин менять его. Ибо он оставался прежним и в Иерусалиме и в окрестных селениях по-прежнему сеяли ужас его наемники. Были они больше пришлые люди и не ставили ни во что местных жителей, богохранимый народ. Это с их помощью удерживал Ирод власть и трон. Они чтили его, потому что он давал им вволю грабить и убивать, и, расправляясь с его врагами или с теми, кого только подозревали в крамоле, они завладевали чужим имением. Они были такие же, как их хозяин, и потому преданы ему точно псы.
Это знали все, и кровавый туман окружал имя Ирода и его тяжелый облик, и, хоть редко кто его видел, присутствие его ощущалось всеми, находился ли он у себя во дворце или в дальнем пределе царства, где того гляди ждали беды.
Не многих допускали во дворец, и не многие знали о том, что там делается. Но шли слухи, что во дворце ведут распутную жизнь и предаются оргиям, блуду и неведомым мерзким порокам с женщинами из неведомых, языческих стран. И порочнее всех – сам царь.
И оно неудивительно – жители Иерусалима переговаривались об этом шепотом, потому что царь всюду засылал соглядатаев, – оно неудивительно, ведь земля его предков – родина порока, там прежде стояли Содом и Гоморра, которые господь обратил в пустыню.
Правда, все это больше были догадки. А верно то, что был он груб и жесток в любви. Он презирал женщин, и презрения были полны его ласки, и приближенные поставляли ему все новых наложниц, с тем чтобы забрать их себе, когда он ими наскучит. И ждать им приходилось недолго. Тотчас после утех царя томило отвращение. Иногда случалось и ему некоторое время держать подле себя одну и ту же женщину. Тогда приближенные дивились и менялось все во дворце. Но он никого не любил. И никто не любил его.
Порочная жизнь. Но, пожалуй, народ был не совсем справедлив в своем приговоре. Пожалуй, самый тяжкий грех заключался в том, что жизнь эта текла так безрадостно. До чего же пуста должна быть жизнь, когда и сама любовь не дает веселья сердцу.
Правда, и в жестокости можно найти усладу.
И шла постройка храма, и шла жизнь во дворце, грешная жизнь, порождавшая смутные слухи в народе. И те же были одинокие ночные прогулки царя к храму, собственному его храму.
И все те же стояли звездные ночи над Святой землей, которая сделалась его царством.
Но он надолго отлучался из столицы, пускаясь со своими людьми в кровавые набеги, избивая врагов или тех, кого воображал он врагами, умышлявшими лишить его власти. Эта кочевая жизнь в седле больше всего ему подходила. Такую жизнь вели его отцы в пустынных краях юга, нападая на Иудею и грабя караваны ее купцов. Они вели глухую, суровую жизнь, и он ощущал их дикую кровь в своих жилах и дикую радость жизни. Подлинной жизни, жизни отцов, обозначившей его душу.
А его подданные говорили:
– Он сын пустыни. Потому-то нам и приходится так много терпеть.
* * *
И он встретил Мариамну.
Он стоял на дороге к Дамаску, за городскими воротами, и она прошла мимо. Ничего не случилось, и однако это мгновение было так непохоже на мгновение перед тем, что все разом стало другим: солнце, поле, низкая трава на поле, цветы на нем, цветы в короткой траве. И что за цветы, никогда он их прежде не видел. Траву объели овечьи стада, а цветов не тронули. Они всегда тут росли, но никогда б он их не заметил, не пройди она мимо.
Он видел ее всего мгновение, но такого мгновения еще не было в его жизни. Он даже не понял, что с ним случилось, только знал, что это что-то небывалое, странное и этого нельзя объяснить. А она ушла. Ее уже не было.
И он прикрыл глаза ладонью, чтоб не забыть увиденного, чтоб ни на что другое не смотреть.
Движение это прежде было ему незнакомо. Так он и стоял на дороге, прикрыв глаза ладонью, люди, верно, не понимали, думали, что он заслонился от солнца. Но заслонился он не от солнца. Вовсе нет.
Однако надо рассказать о том, что он увидел, что на самом деле так тронуло его сердце, что так пленило его.
Прошедшая мимо была молода, почти девочка, и светловолоса, что редко среди дочерей иерусалимских. По обычаю знати она была в греческой одежде и на голову ее, на светлые волосы, наброшено белое полотняное покрывало. Странно, но красоты ее он почти не заметил, хоть при взгляде на других всегда сначала отмечал красоту. Красота ее словно была для него неважна. Позже он понял и объяснил себе это. Красота ее была самоочевидна и неважна, потому что все в ней было выше красоты. Легко, как птицу, несли ее ноги в легких сандалиях, охваченные по лодыжкам серебряными браслетами. Она словно плыла по воздуху.
Вот что он увидел. Но он почти ничего не разглядел подробно: так захватило его чувство, рожденное увиденным. Вспомним, каким он был, и как непохоже было увиденное на него самого, и как мало он привык думать о чем-то, кроме самого себя.
Отчего с ним случилось такое?
И отчего он оказался здесь, именно здесь, и именно в ту минуту, когда она проходила мимо? Просто случай. Просто случай привел его к Дамасским воротам. Он сам не знал, зачем сюда пришел, у него не было для этого особой надобности. Но не в его обычае было отправляться куда-то без надобности.
Отчего же с ним это случилось? И что с ним такое случилось?
Он не мог понять.
Медленно отнял он ладонь от глаз и увидел людей, проходивших мимо него в ворота и из ворот, – чужих людей, совершенно чужих.
В рассеянии он тоже приблизился к воротам и вошел в город.
Он пытался разузнать, кто она. Но это было непросто. Ибо он не хотел открываться, не хотел выдавать, зачем ему это понадобилось. И он не хотел ее описывать, потому что бросать запечатлевшийся в нем облик своре доносчиков и шпионов, окружавших его, казалось ему бесстыдством. Они знали почти всех в Иерусалиме, кроме бедноты, а ведь к бедноте она не принадлежала. Но ему претила мысль им довериться, смешать ее с ними. Да и в его ли силах точно передать то, что он увидел, верно ее описать?
И потому время шло, а он так и не знал, кого встретил.
Много раз отправлялся он к Дамасским воротам в тот же самый час, стоял и ждал, не пройдет ли она мимо.
Она все не шла.
И он уже решил, что больше ее не увидит.
Но благодаря странному случаю он узнал, кто она такая. Узнал, что в Иерусалиме она недавно, живет у близкой родни и мало с кем свела знакомство.
И она из рода Маккавеев, чью силу он старался одолеть, предавая их лучших сынов смерти. Она из самых знатных Маккавеев.
Один из ее родни, мальчик всего лет двенадцати или тринадцати, мстя за обиды, причиненные его роду, пытался убить дворцового стражника. Его схватили и бросили в темницу, чтоб потом на досуге известным им способом выведать у него ценные сведения.
Это и было причиной тому, что на другой день, к великому своему удивлению. Ирод увидел перед собой ту самую девушку, так же легко скользящую и даже в той же одежде.
Он схватился за спинку кресла так, что у него побелели суставы, но, впрочем, сумел овладеть собой.
Она пришла просить за мальчика: он доводится ей родней, он так молод, почти дитя, и, конечно, сам не понимал, что делает.
Не дерзко ли такого, как он, просить о милости? Она стояла перед ним, хрупкая и маленькая, и оттого ее смелость казалась еще удивительней.
Так он ей и сказал.
Она даже не поняла. Что же тут необычного, ведь пришла она с самой насущной просьбой, и на что тут нужна смелость? И чего ей бояться?
Последние ее слова странно его тронули. Ничего подобного ему никогда еще не приходилось слышать.
Наконец кому-то он не внушает ужаса...
Он смотрел на нее. На открытое лицо с тонкой и белой, белей, чем у других, кожей. Но глаза ее и ресницы были темны, и темен и странно нежен был ее взор.
Теперь он увидел, как она прекрасна, лишь теперь он это заметил.
Рот полный и чуть припухлый, губы розовы и не накрашены, как у женщин во дворце и у многих городских матрон.
Из этих-то уст, из ее собственных уст, услыхал он, кто она такая. Ни мгновения не таясь, она рассказала, что происходит, как и тот мальчик, из рода Маккавеев, и он увидел, что она горда этим, ведь они тоже некогда были цари.
Он снова подумал, откуда в ней столько смелости. Не самая ли хрупкость придает ей смелость и силу?
Он смотрел ей в глаза, стыдясь своего взгляда, потому что он знал, как трудно его вынести.
Но она не потупляла глаз. Она смотрела на него прямо и просто, без тени робости или смущения.
– Приведите мальчика, – приказал он.
Стражник привел его. Он был худ и мал не по летам, с волосами черными как вороново крыло и с дикими черными глазами, в которых горела ненависть. Увидя Ирода, он словно хотел броситься на него. Ей он кинул лишь беглый удивленный взгляд и больше не поворачивался в ее сторону.
Ирод разглядывал мальчика с лукавым смешком, от которого все же делалось немного жутко.
– И как ты додумался до такой глупости? – сказал он и потрепал его по черным волосам.
Потом он потрогал его мускулы.
– О, какой ты сильный! – сказал он и засмеялся. – Отпусти его, пусть бежит, – обернулся он к стражнику. – Больше он такого не сделает.
Мальчик бросил ему еще один ненавистный взгляд и спокойно и неспешно пошел по залу. На нем была набедренная повязка и больше ничего. Спина была худая и узкая, сильно выдавались лопатки.
Ирод обернулся к ней.
– Я уже видел вас однажды, – сказал он.
– Но этого не может быть, – ответила она.
– Нет, я видел вас. У Дамасских ворот. Там растут какие-то цветы, очень красивые цветы, но я не знаю их названия. И я не замечал их, покуда вы не прошли мимо.
Она не ответила и заслонилась ладонью, будто обороняясь. Говорят, что все женщины во все времена делают это неосознанное движение. Так же и у нее оно было неосознанно.
– Много раз потом я ходил туда в надежде, что вы снова пройдете мимо. Но вы все не проходили. И вот вы пришли сюда, вы пришли ко мне. И я радуюсь, я полон веселья. Если я сумел вам угодить, я от души доволен. Чего бы вы ни пожелали, всегда обращайтесь ко мне, и я сделаю для вас все, что только в моих силах. Думаю, я смогу сделать для вас все. Но есть ли надежда, что я снова вас увижу?
– Да, – ответила она неловко. Впервые ее покинула уверенность.
Он это заметил.
И они расстались, и очень медленно она прошла по залу, и так же медленно она шла до самого дома.
Лучше б ей никогда не попадаться ему на глаза.
* * *
По городу поползла молва о неслыханной милости тирана и о девушке, которая спасла мальчика. Это было непостижимо, но в угнетенных проснулась надежда. Ведь у многих и многих мужья, сыновья и родные томились в темницах, если еще не погибли от побоев и голода или от руки палача. Об их судьбе никто ничего не знал. И одна за другой приходили к ней женщины молить о помощи, молить, чтобы она опять попыталась смягчить сердце царя.
Их просьбы пугали ее. И ее пугали эти лица, измученные и отчаянные, каких она никогда не видела прежде.
Конечно, она хотела им помочь. Помочь им всем. Но как? Они одолевали ее мольбами, но они не знали того, что было для нее исполнить их просьбы. Но как могла бы она объяснить им?
И нельзя просить за всех: такая просьба только вызовет его гнев, и он никого не помилует. Можно просить за одного. И она им это сказала, она объяснила. Но каждая женщина хотела, чтобы этим единственным стал ее муж, ее сын. Ибо так уж человек устроен. Трудно было ей смотреть в эти заплаканные, измученные лица и выбирать одного.
Сделавши свой выбор, она ничем не выдала, на кого он пал, и каждая из просительниц думала, что исполнится именно ее просьба и именно она увидит своего долгожданного.
И с неспокойной душой пошла Мариамна снова трудным путем во дворец.
При виде ее он встал и пошел ей навстречу с улыбкой, ясно показывающей, как он рад тому, что она пришла. Молча он смотрел на нее, и взгляд у него был испытующий, но не тяжелый и не опасный. Вопреки всем слухам о царе, во взгляде этом не было похоти. Он просто всматривался в нее, пытливо, без желания, но с великой серьезностью и почти нежно. Ни ужаса, ни тревоги он не внушал.
Все оказалось легче, чем она думала, и она без страха высказала ему свою просьбу.
– Он тоже доводится вам родней? – спросил он.
– Нет, он мне не родня.
Царь пристально вглядывался в ее лицо, потом призвал начальника тюремной стражи, и оказалось, что узник был юноша, приговоренный к смерти.
Когда по знаку его начальник стражи удалился, царь повернулся к ней:
– Кто этот юноша? Он вам знаком?
– Нет.
– Так отчего же вы так озабочены его судьбою?
– Потому что за него просила его мать.
– Вот как. Его мать. – Он смотрел на нее с сомнением. – Он правда вам незнаком?
– Откуда же мне знать его. Ведь я так недавно в Иерусалиме.
– Да, – сказал он, успокоенный. – Верно.
Тогда впервые заметила она в нем эту подозрительность, его страшную болезнь.
И тотчас он переменился, он пообещал освободить узника и больше о нем не говорил. А потом он показывал ей дворец, он водил ее по всем дворцовым залам, и она дивилась их пустоте и унынию. И тому, как мало в них людей, только редкие слуги. Женщин не было – а ведь она слышала, что их здесь так много. Казалось, что он живет в огромном дворце совсем один. Не считая, разумеется, узников в подземельях да тех, кто их стережет.
Когда они возвратились туда, где он принял ее, он сказал:
– Вы понимаете, конечно, что я отпускаю на волю преступников только для того, чтобы видеть вас. И ни по какой другой причине. Мне бы не следовало так поступать. Я знаю.
И на этом они расстались.
Пуст же был дворец оттого, что он изгнал оттуда всех женщин, всех этих размалеванных блудниц, а также весь сброд, всех женщин и мужчин, которые его окружали. Он очистил от них свой дом.
Он не приближался к женщинам с тех пор, как ее увидел.
Так не однажды еще ходила она к нему, потому что об этом ее молили родственницы несчастных и потому что сама она жалела тех, кто томился в его темницах. Иногда он отказывал ей резко и твердо, и, бывало, она догадывалась, что того, о ком она просит, уже нет в живых. Но чаще она добивалась помилования от этого злодея, всем внушавшего ужас, и тогда она думала, что, принося себя в жертву, творит добро. Ибо, конечно, она приносила себя в жертву.
Ее же родные косо смотрели на то, что она ходит к ненавистному идумею, стольких из их рода предавшему смерти. А она жила у них и ела их хлеб, и ей нелегко было выслушивать их упреки. Неужели она не знает, что двое из ее дядей стали жертвами кровавого тирана, завладевшего троном с помощью римлян и даже не иудея по рождению? И что отец ее непременно разделил бы их участь, если б незадолго до их гибели не умер своей смертью?
Но хуже всех обращался с нею тот мальчик, тот, кто прежде был так предан ей, так неотступно ходил за ней по пятам. Его худенькое лицо совершенно искажалось, когда он молча выказывал ей презрение или осыпал ее бранью. Но она только тихо смотрела на него, а иногда гладила по голове, чтоб немного успокоить. Ее не удивляло поведение мальчика: ведь его отца Ирод убил сам, собственной рукой, своим мечом, тем самым мечом, наверное, с которым никогда не расставался, даже во дворце.
Но другие, те, кому она помогла, и те, кто надеялся на ее помощь, благословляли ее имя. При виде ее лица их сияли благодарностью, и женщины падали перед ней на колени и целовали край ее плаща. Признательность их доставляла ей великую радость, и снова и снова она пыталась смягчить сердце страшного владыки. Хоть едва ли возможно было смягчить это сердце. И не сказал ли разве он сам, что отпускает узников на волю лишь потому, что она его об этом просит, лишь в надежде снова ее увидеть?
Лучше ей не думать об этих его словах. Она вступила на опасный путь, и что-то ждет ее на этом пути?
А родня все больше от нее отдалялась. И больше всех отдалялся от нее упрямый мальчик, тот самый мальчик, который бросился к ней на шею, когда впервые ее увидел.
Ко дворцу она приближалась всегда с тяжелой душой. У всех входов стояла двойная стража, а у главного еще больше, и дворец окружали войска, вооруженные мечами и другим оружием. А стерегли они одинокого человека, бродившего по пустынным залам и тоже вооруженного мечом, потому что, как говорили, он ежечасно страшился за свою жизнь.
Добьется ли она и на этот раз милости от того, кто сам, словно узник, заточен в заколдованной крепости?
Однажды он попросил ее стать его женой. Он не сказал ей, что любит ее, потому что она, конечно, сама давно об этом догадывалась и он не мог выговорить этих небывалых слов. Он никогда их не произносил и боялся их. И он чувствовал, что такие слова ему не к лицу.
Она не ответила. Он и не требовал ответа. Почти приниженно он попросил ее подумать.
С белыми губами, задыхаясь, уходила она от него в тот день. И как только удалось ей не ускорить легкого шага, не побежать по залам дворца, по улицам города? Бежать? Но куда? Во всем мире ей не было прибежища.
Она пошла медленно. Все медленней, бесцельно. Пыталась овладеть собой. Думать. Думать о том, как ей поступить. Никого не было, кто мог бы ей помочь. Все надо решать самой. К этому она уже привыкла. Но так трудно ей не бывало еще никогда.
Пожертвовать собой до конца и разделить с ним судьбу? Его страшную судьбу. Если б от ее выбора зависела только ее жизнь, она б никогда не решилась. Но другие? Сделает ли она этим добро? Предавшись ему. Сделает ли она добро несчастным, которые доверились ей, понадеялись на нее? Тем, кого он мучит.
Сделает ли она кому-то добро, предавшись ему? Она спрашивала себя снова и снова. Укротит ли она его дух, умерит ли его жестокость? Сможет ли она? По силам ли ей его изменить?
Он был ей немил. Но она смотрела на него все же немного не так, как другие. Она не могла отрицать, что постепенно в душе ее нашлось место для тирана, ненавидимого всеми, ненавидимого по справедливости. Ей делалось его жаль. Что крылось за этой жалостью, сказать было трудно, она не могла, да и не хотела в себе разбираться. Она жалела всех, вот и его пожалела. А что, если это не только жалость?
Полюбить его она никогда не сумеет, она знала, для этого он слишком ей противен. Но она жалела его. А жалость всегда толкала ее на жертву. Значит, надо пожертвовать собой и для него?
Она ничего не знала о любви и думала, что только приносит себя в жертву.
Но где она? На какой улице? Кажется, она ее узнает. Не к Дамасским ли воротам ведет она? Да, вот они, ворота.
Пройти?
Она прошла через ворота, прошла еще немного, остановилась. На поле у дороги не было цветов. Уже не было. Кое-где торчали еще засохшие стебли, но цветов не было.
И она повернула к дому.
Вскоре она пошла во дворец и сказала царю, что, если он желает, она станет ему женой. Эти слова осчастливили его. Было ясно видно, как он счастлив, хоть ощущение счастья было ему внове и он не привык выражать и показывать его.
Она протянула ему руку, и в его руке ладонь ее показалась такой маленькой, что, несмотря на всю торжественную серьезность минуты, оба не могли удержать улыбки. Так стояли они друг против друга, непохожие, как только могут быть непохожи двое между собой: она – хрупкая и нежная, с нежным лицом, унаследованным от многих поколений, прекрасных древней красотой, и он – тяжелый, с лицом тоже тяжелым, дурным и грубым.
Он не обнял, не притянул ее к себе, он был сдержан и почтителен, и она была ему за это благодарна. Но потом, расставшись с ним, она корила себя за это чувство благодарности.
Она была из тех, кто непрестанно себя корит.
* * *
В брачную ночь ее напугала его неистовая страстность. Она не знала любви и никак не думала, что она такая. Она попыталась следовать ему, но, не имея прежде мужчины и будучи неискушена в ласках, не сумела ни ответить на его пламень, ни его умерить. Темнота скрыла ее отчаянное лицо, и он ничего не заметил.
Первая брачная ночь стала для нее мучением.
Но потом иногда она делила с ним страсть. Она все больше к нему привыкала, а он делался все бережнее и нежней. И несмотря на их глубокую несхожесть, а может быть, и по причине ее, его ласки порой давали ей глубокую радость. Хоть сам он внушал ей ужас.
И общая жизнь их оказалась куда лучше, чем она смела надеяться. Но приручить ее вполне он так и не мог. Она боялась, как бы он не заметил этого, старалась ничем себя не выдать. Но трудно такое утаить. А она знала, как он подозрителен. Она заставляла себя не останавливаться мыслью на том, что было ей в нем противно. И это все лучше ей удавалось.
Но она знала, что не любит его.
Она распорядилась убранством дворца, и по крайней мере часть его стала походить на жилье. Она изгнала запустение, и те залы, которые она выбрала, сделались почти уютны. Настоящим кровом они для нее не стали, но вид их совершенно переменился. Остальные же залы стояли пустые и зловещие, как прежде, но это и неважно, она туда не заглядывала.
Одного не могла она снести: мучений узников в подземельях. Оттуда не доносилось ни звука, и никто, находясь во дворце, ничего не мог бы заметить, но она знала, что они томятся там. Об этом она и сказала царю. Сказала, что не в силах снести этой мысли, что она молит его снять у нее тяжесть с души и отпустить их на волю. Она знала, что их самих он не пожалеет. Она просила, чтоб он пожалел ее. Она сделалась его женой и пришла жить под его кров, в его дом. В тюрьме она жить не согласна.
Все это она объявила ему, и он уступил ей. Отпустил всех узников, кроме виновных в особенно тяжких преступлениях и ожидавших скорой казни.
– Те и так освободятся, – сказал он строго, без тени насмешки.
Необычайная весть разнеслась по городу со скоростью лесного пожара. Сомневались, не верили, но тотчас убеждались воочию. И те, кто снова обнял своих близких, благословляли имя Мариамны, имя доброй царицы Мариамны, смягчившей злое сердце царя и добившейся от него неслыханной милости.
Благослови ее, господь. Благослови ее, господь.
Но родня ненавидела ее без меры за то, что она сделала, за то, что стала женой презренного и гнусного тирана, неправдой захватившего трон. Какой позор на их род, истинно царский род! Какой грех и стыд! Такое нельзя простить, и они не желали с ней знаться. И отныне призывали на нее смерть, которая одна положила бы конец бесчестью.
Она ничего об этом не знала и не поверила бы, если б ей рассказали.
Народ же особенно чтил ее после дарованной узникам свободы и, зная ее добрую власть над тираном, надеялся только на нее. Все благие перемены совершались благодаря ей, по ее доброте. И народ во всем ей доверился.
Однако ее любили не только за благодеяния, ею оказываемые. Любили ее за то, что она такая непохожая на других. В то жестокое, грубое время она была нежна и тиха, и она дарила свою задумчивую улыбку каждому, кто встречался на ее пути, каждому, на кого падал ее темный взор. Как только она выходила на улицы города, навстречу ей устремлялась людская любовь. Все знали ее, тотчас узнавали. Еще и потому, что одета она была почти всегда одинаково. Ставши царицей, она ничего не изменила в своей одежде, такой простой и не совсем обычной. Покрывала ее были затканы серебром, плащи серебром оторочены, и еще любила она носить серебряные пояски. И сандалии у нее всегда были с серебряными браслетами.
Тусклое серебро было ей к лицу, шло к ее красоте, было сродни ей. Подвески ее всегда были из серебра, никогда – из золота. Напрасно старался царь, в первое время особенно, задаривать ее дорогими ожерельями, бесценными каменьями Востока, искусно выделанными в угоду прихотливому женскому вкусу. Она отвергала его подарки. Ставши царицей, она не хотела меняться ни в чем, она осталась прежней и одевалась в те же одежды, какие однажды избрала для себя, не слишком об этом задумываясь.
Такой любили ее люди. Лица их сияли, когда они видели ее на улицах города. И, падая перед ней на колени, целуя край ее плаща, женщины не могли представить ее себе иной. Такой они ее любили.
И ее называли Мариамна – царица серебряная.
Однажды, поздним вечером, когда ее навестила старая служанка из дома ее родных, Мариамна узнала, что тот упрямый мальчик бежал в горы, в стан Маккавеев.
Она спрашивала себя, не вызван ли его побег тем, что она стала женой ненавистного. Она все бы отдала за то, чтоб это оказалось не так. Но каждый вечер, ложась в постель, она думала о маленьком беглеце и видела перед собой его измученное, худенькое лицо.
Она и вправду имела доброе влияние на владыку. Он и вправду изменился к лучшему, правление его стало мягче, и жестокость умерилась или стала менее явной. Это нельзя было отрицать, нельзя не заметить. И все знали, что благодарить тут нужно Мариамну, и никого другого. Признавали это и те, кто презирал ее за брак со страшным идумеем.
Только ее родня была неизменна в смертной ненависти.
Однажды он повел ее с собою к храму. Он хотел показать ей свое детище. Долго ходили они вокруг постройки, и он объяснял ей, как задумано сооружение и как оно превзойдет красотой и затмит славой сам храм Соломонов.
Она слушала, смотрела, но без внимания. Казалось, все это ей неважно. Может быть, храм был ей не нужен.
Она так мало думала о себе. В противоположность ему, воздвигшему в свою собственную честь эту святыню. О, она была углублена в себя, жила глубокой жизнью души. Совсем, совсем иначе, чем он. Может быть, она не была верующей? Или, веря, сама того не сознавала? Так же точно, как была добра, не сознавая своей доброты, не заботясь о ней?
Может быть, храм был ей не нужен?
Он не брал ее с собой, отправляясь по ночам к месту стройки. Он по-прежнему ходил туда один и один бродил во тьме.
Отчего? Он и сам не знал. Просто так. Но он ходил туда. И долго бродил во тьме. И потом долго стоял под сверкающим ночным небом, устремив в него взгляд.
Ничто не связывало его с божеством. Пустынна была его душа, которую жалили холодные копья звезд.
Многое он скрывал от нее, о многом она не догадывалась. Не только об одиноких ночных прогулках. Не в его привычках было кому-то доверяться. И ей он доверялся далеко не во всем. Между ними не было полного доверия, оба в нем не нуждались.
Она привыкла свободно располагать собой, и он предоставлял ей свободу. Каждого занимали свои заботы, и другой не участвовал в них.
Но он знал, чем занята она, она же не знала о его делах. Он обладал настороженной чуткостью, замешанной на подозрительности. А к тому же его шпионы исправно несли свою службу.
Так, ему тотчас стало известно, что к ней приходила старуха служанка из дома Маккавеев.
Мариамна очень бы встревожилась, если б об этом узнала.
Он загорелся гневом, когда ему донесли, что мальчишка, которого он отпустил на волю, бежал в горы к Маккавеям. Нелепо было его отпускать, не надо бы этого делать.
Долго бесила его эта безделица.
Но Мариамне он не сказал ничего.
Страсть его к ней не утихала. Ей трудно было утолять его неистовую жажду. Казалось, он наделен неиссякаемой силой, ее же потребность в нежности оставалась неудовлетворенной. Правда, он стал нежней и бережней, был к ней внимательнее, но не всегда. Он по-прежнему думал больше о себе и в любви был жесток, как и во всем. Порой она боялась, что ее задушат его ласки.
Никогда прежде не знал он похожей на нее женщины, и это распаляло его. Она была ему внове, полная ему противоположность. И он не мог понять ее, не мог проникнуть в мир иных, строгих и прохладных чувств.
Никогда прежде он не знал любви, не знал, что она такое. И любовь так чужда была всему его существу. Он понял, что любит Мариамну, только не понял, что влечет за собой любовь. Страсть не изменила его души.
Но он хорошо осознал силу влечения к ней и думал, что это и есть любовь.
Часто она бывала слишком истомлена дневной заботой, но все же ночами она старалась ему угодить, потому что она не смела ни в чем перечить ему, но не только поэтому. Еще она хотела, чтобы в ее объятиях он нашел забвение всего: диких своих порывов, безмерных своих вожделений, – всего на свете.
Когда потом она гладила его по голове, он затихал, и ей казалось, что она усмирила огромного зверя. Она любила эти минуты. Ведь она привязалась к нему. Жалела его и немного к нему привязалась.
Умерилась ли его злоба? Стал ли он лучше?
К ней-то он всегда был добр.
Но ей хотелось, чтобы он был добр ко всем.
Так протекала их жизнь, и в конце концов он не мог не заметить горьких усилий ее любви, такой отличной от его чувств. Прежде, с другими женщинами, он думал только о своем желании, остальное было ему безразлично. Но с нею все переменилось. Он страдал, хоть не показывал ей своих мучений, таил их в себе. Он ни за что и ничем не хотел себя выдать. Тяжело было ему, с его натурой, терпеть унижение, но куда тяжелей было бы ему себя выдать.
А страдал он горько и явственно. Он все больше замыкался в себе, и часто взгляд его пугал ее, и она боялась смотреть ему в глаза. Он и сам избегал ее взгляда. Она все понимала, но не смела об этом заговорить. Да и как бы она ему сказала? Нелегко двоим, делящим ложе, говорить о таких вещах. А им, друг другу не доверявшим, и вовсе невозможно. Она еще больше старалась угодить ему, показать, что не только он в ней нуждается, но и она в нем, что все не так, как он думает. Но от этого только росла его подозрительность, его острая чуткость, он понимал ее еще верней, и еще злосчастней делалась жизнь обоих.
Теперь оба почти всегда молчали, он избегал показывать, как она необходима ему, принуждал себя к сдержанности. И наконец совсем перестал приближаться к ней, подавил в себе желания.
Так он выражал теперь свою любовь.
А в горах снова вспыхнули бои. В Иерусалиме мало кто слыхал об этом, но связанные с отрядами Маккавеев знали все. Ирод же, принимавший гонцов со всех краев страны, узнал, разумеется, тотчас, где и когда началась битва. Не его войска первыми вступили в сражение, на этот раз напали Маккавеи. Его войска уступали Маккавеям числом, потому те и открыли бой.
Гонцы осаждали дворец, и все поняли, что происходят какие-то важные события. Поняла и Мариамна. И она не удивилась, когда Ирод объявил, что должен на время покинуть город, что его присутствие необходимо в другом месте, где именно – он, однако же, умолчал. Они простились. Она задержала его руку в своей. В обеих своих прохладных ладонях задержала она его руку.
Как всегда, оставив Иерусалим и дворец, он испытал облегчение. На этот раз, как и прежде, он радовался свободе.
Приближаясь с подкреплением к горам, он всей грудью вдыхал их вольный ветер, и в нем играла древняя кровь предков, и он снова радовался и снова был самим собой, несмотря на темную страсть, гложущую его душу.
На коне он далеко обогнал пеших телохранителей и отряды подкрепления и был совсем один. Его люди привыкли к этому, он никогда не подпускал к себе близко ни солдат, ни военачальников. Но, как уже говорилось, они его любили. Отчасти, конечно, за то, что он не сдерживал их необузданности, позволял вволю убивать и грабить. К тому же им нравилось, что держался он так отчужденно, никого не удостаивал близостью, ибо им нужен был вождь, полководец. Особенный человек, не им чета.
Давно уже не ходил он с ними в походы, и они ликовали при виде его. Но не могли не заметить, что на этот раз он особенно хмур и суров.
В горах они тотчас нашли своих, счастливо наткнувшись на свой пост в теснине. Выяснили расположение частей. Те залегли правее за перевалом и грелись у костров, ибо тут, высоко, было холодно. Начальник удивился нежданным гостям, он хотя просил подкрепления, но не чаял увидеть самого Ирода. Он рассказал обо всем, что произошло, и Ирод выслушал его в молчании. Потом царь за многое ему выговорил и, когда тот сослался на малочисленность войска, возразил, что следовало бы разумней использовать силы. Он не скрывал недовольства. Начальник, человек уже немолодой и хорошо изучивший нрав царя, понял, что за этим недовольством что-то кроется. Слишком хорошо знал Ирод условия горных сражений, чтобы так несправедливо о них судить.
Во время их беседы что было духу примчался дозорный и еще издали крикнул, что враг идет через узкое ущелье с востока. Это был единственный вход в долину.
Ирод сам встал во главе войска и поспешно отдавал приказы. Он хотел запереть врага в ущелье, но было уже поздно. Маккавеи рассыпались по долине. Но тут-то их и сдержали солдаты Ирода, завязалась жестокая схватка, и горы огласились воинскими кличами.
Маккавеи ничего не знали о подкреплении, их застали врасплох. Но они бились с тем же презрением к смерти и безумной отвагой, какие всегда были им присущи. Не подоспей сюда Ирод со свежими отрядами, Маккавеи разбили бы и уничтожили засевшее в долине войско. Теперь их ожидал иной исход сражения. На Маккавеев неслись неисчислимые вражеские полчища. Потери с обеих сторон были значительные, для Маккавеев роковые, ибо противник несравненно превосходил их силой.
Ирод, как всегда, сражался в гуще боя. Но в нем не замечалось обычного упоения битвой. Он, как никто, умел опьяняться сражением. Только не теперь. В нем будто погасло что-то. Он бился, как простой солдат, без свойственного ему бешеного порыва.
А бой шел, как было ему предопределено. Маккавеи несли такие потери, что надежда все более угасала в них, хоть они медлили сдаться.
На самом исходе битвы среди взрослых Маккавеев появился хрупкий мальчик, вооруженный мечом, меньшим, чем у других, но все же слишком для него тяжелым. Странное зрелище.
Но куда более странен был Ирод, который, завидя мальчика, бросился прямо на него и разрубил его от левого плеча до самого сердца.
Все, кто видел это, подивились той ярости, с какою царь бросился на мальчика, всего лишь ребенка, а не достойного противника. Но мальчик был воин, всякий же воин может погибнуть в бою. Мертвое тельце, все в крови, и совершенно белое худенькое лицо выглядели до крайности жалобно. Странно, и зачем они взяли с собой ребенка, никогда они прежде такого не делали.
Ирод еще долго с трудом переводил дух. Бегло глянул на убитого и больше не смотрел в его сторону.
А битва уже почти кончилась, Маккавеи уходили по ущелью. Лишь горстка их осталась прикрыть отступление. Потом и те спаслись бегством.
Тела остались на поле боя, на поле поражения, среди прочих и мальчик.
Солдаты Ирода унесли своих раненых, а врагов не подобрали, ибо таково было тогда обыкновение. Потом они ушли греться у костров.
День клонился к вечеру. Солдаты принялись чистить оружие. Ирод тоже почистил меч.
И настали сумерки.
* * *
Мариамна скоро узнала все потому, что один из Маккавеев, свидетель происшедшего, спустился с гор и тайком пробрался в Иерусалим врачевать свои раны. Но передала ей известие старая служанка из дома ее родичей.
Два дня целых плакала Мариамна.
* * *
Долго не возвращался Ирод в Иерусалим. Ему не хотелось туда возвращаться. Но Мариамна не замечала, как утекает время, она горевала по мальчику, принявшему такую смерть. Она, с ее душою, не в силах была понять, как могло это случиться. Целыми днями сидела она, глядя прямо перед собой пустым взглядом, и старалась понять, что же произошло. Как могло это случиться? И неотступно стояло у нее перед глазами худенькое лицо упрямца, бросившегося к ней в объятия, когда она впервые пришла в дом родни.
Бледное, бледное это лицо и какой укоризненный взгляд.
Виновна ли она в его смерти? В его бегстве и, значит, в его смерти? Не потому ли он бежал, что она стала женой ненавистному Ироду? Возмутился и бежал?
Она не могла избавиться от этих мыслей.
И почему Ирод убил мальчика? Да еще с такой непостижимой жестокостью. Не потому ли, что никогда никому не прощал, будь то взрослый или ребенок? Таков он был, и она это знала, он и сам порой в этом признавался. Может быть, он пожалел о своей непривычной мягкости и вскипел, завидя его в рядах врагов?
Ну и что же, от этого ее вина не меньше. Она, она во всем виновата.
Или... или... Но нет, невозможно...
Не отомстил ли ей Ирод за то, что она не любит? За то, что любит его недостаточно крепко?
Неужто это возможно?
Если так, то разве меньше ее вина?
Нет, ничего, ничего не могла понять Мариамна.
Но она была из тех, кто вечно себя корит.
Воротясь в Иерусалим, Ирод тотчас понял, что Мариамне все известно. Лицо ее преобразилось печалью, но так, что стало еще прекрасней, чем прежде. Оно сделалось еще бледней, прозрачней, его освещала скорбь, и еще яснее в нем проступила душа.
У нее больше не было слез, она все выплакала, но в глазах стояло горе. Они были словно все еще влажны от пролитых слез. Странно, от этого взор ее стал еще нежней и теплей, а ведь часто страдания ожесточают взгляд и черты. Ее же чертам горе лишь прибавило нежности.
Когда Ирод увидел в ней эту перемену и понял, что он ей причинил, что она из-за него выстрадала, на лбу у него выступил холодный пот, он со стоном упал к ее ногам, протянул к ней руки, не смея ее коснуться, и с мольбой устремил на нее налитые кровью глаза. Без слов он молил ее, чтобы простила ему злобу, простила его за то, что он такой. Она, всепрощающая.
И она провела прохладной ладонью по его лбу, стерла холодный пот с этого страшного лба, отвела с него мокрые темно-рыжие волосы и гладила, гладила, пока у Ирода не перестали дрожать губы, взгляд не смягчился, пока он не затих.
Он плакал у нее на груди, и потом она приняла его в свои объятия, чтобы его успокоить. Она старалась быть прежней, как это ни было ей трудно. Она надеялась вернуть свое влияние на него, и для этого, она знала, ей надо было утолить его страсть. Но было и еще одно, хоть это удивляло ее, хоть она не хотела в этом себе признаться: он был ей нужен. Разбуженное им тело томилось по нему, хоть они были такие разные и по-разному чувствовали.
Мариамну удивляло, что после всего случившегося ей радостны его ласки. Но так это было. И она корила себя за это. Как за все и всегда корила себя. А в темноте перед нею неотступно стояло бледное мальчишечье лицо с замученными глазами, которые теперь, после смерти, стали еще больше.
Ирод и вправду на время успокоился, и на время умолкли страшные слухи, по крайней мере стало тихо в самом Иерусалиме. Тихо, насколько знала Мариамна. Но связи ее с миром были бедны. Все, что она знала, рассказывала ей старая служанка из дома родичей. Она приходила к ней, не сказавшись хозяевам; если б они об этом проведали, ей пришлось бы худо. И все же она приходила. Потому что, хоть об этом обе молчали, она всей душой привязалась к Мариамне за недолгие месяцы, что они провели под одним кровом, и Мариамна к ней привязалась. У старухи было изрытое морщинами суровое лицо, но она только с виду казалась такой суровой. Она никогда не улыбалась. Отчего? Кто же знает, никто не знает. Просто бывает, что человек никогда не улыбается, особенно старый человек, у которого за плечами целая жизнь.
Она передавала Мариамне все происшествия в доме родственников и все толки о событиях в Иерусалиме и в мире. Она не тратила лишних слов, а случалось, ей и рассказать было нечего, но она и тогда приходила посумерничать возле Мариамны.
И Мариамна радовалась и благодарила ее. Она радовалась, что видит ее, и радовалась связи с миром и тому, что может порасспросить о родственниках, к которым крепко привязалась. Ей говорили, что они ненавидят ее. Но она не верила.
Она, как и прежде, часто бродила по городу и выходила за городскую черту. Редко какая женщина бродила здесь так свободно, но Мариамна привыкла к одиноким прогулкам. Она ведь родилась не в Иерусалиме, а в маленьком городке, принадлежавшем их семье, от которой теперь никого не осталось. И от городка ничего не осталось. Когда она видела его в последний раз, то была груда дымных развалин.
Много людей встречалось ей во время прогулок, но все незнакомцы, и она
ни с кем не разговаривала. Порой все же ее узнавали и улыбались ей, может быть, в благодарность за помощь. Ибо все добрые перемены и смягчение гнета людская молва приписывала только ей. И потому, завидя ее, встречные улыбались, а иные даже падали перед ней на колени и целовали полы плаща Мариамны.
Мариамны, царицы серебряной.
И дивились тому, как она переменилась. Отчего бы?
И тому, что она уже не улыбается им, как прежде.
* * *
Улучшение жизни подданных и тишина во дворце не могли длиться вечно.
Ирод все больше делался беспокоен, все больше делался самим собой. Он ускользал от нее в собственный мир подозрительности и недоверия, и она ясно видела, что теряет над ним власть.
Она знала отчего. На этот раз он сам ей все высказал.
И снова покинул Иерусалим ради войны в горах, ради походной жизни, которая всегда была ему по сердцу.
Мариамна не очень печалилась, потому что присутствие его день ото дня тяготило ее все сильней. Он открыто укорял ее в том, что она его не любит, только об этом и твердил. Прежде он пересиливал себя, пытался скрыть, как он сам это называл, свое унижение, носил его в себе. Теперь же, напротив, он все высказал без обиняков, все бросил ей в лицо. Сказал, что знает, что она не любит его, что он замечал это всякий раз, как был с нею, и сама она прекрасно это знает и еще больше себя выдает тем, что так старается выказать ему пыл и страсть, каких никогда не испытывала, никогда, никогда, да и никогда не испытает, ведь для страсти не создано ее прохладное тело, ее бледное, хрупкое тело, ни руки ее не созданы для страсти, ни лоно ее, ни сердце, все в ней прохладно, все, все.
Она смотрела в его налитые кровью глаза горюющими темными глазами, не потупляя их. И не в силах вынести ее взгляда, он бросился прочь и упал на скамью в соседнем зале с безумно колотящимся сердцем.
Так они расстались. И он ринулся в горы.
* * *
Для Мариамны настала одинокая, тихая пора. Она жила теперь сама по себе; это готовилось уже давно. Ничуть не занятая собой, она от всего отошла, углубилась в себя. Она просто ступала по земле, жила на свете, и что-то неведомое проходило сквозь ее душу, сквозь ее хрупкое, прохладное тело, как ветер проходит по листве.
Она и сама-то себя почти не знала – такая необычная, особенная, она удивительно мало знала себя. И удивительно, до чего ей это было все равно. Верней, было бы все равно, подумай она об этом. Но она и вовсе не думала о том, как мало она себя знает.
Да, это верно: она жила, как дерево. Ведь и дерево ничего о себе не знает. В каждом дереве тайна, великая тайна. Но оно о ней ничего не знает. И не думает о ней.
Вот, наверное, отчего ей не нужен был храм.
Ведь деревьям, цветам и прекрасным камешкам на морском берегу храм не нужен.
Да и кто бы вздумал его для них строить?
Так и ей не нужен был храм.
Она была как деревья. Ветер в их кронах – вот и вся их церковная служба, он поет, а они слушают. Иногда.
Они вслушиваются в себя, и они слушают службу.
Так созданы деревья.
И как деревья была Мариамна в ту тихую одинокую пору своей жизни.
Она бродила по залам дворца, которым постаралась придать вид жилья. Настоящим кровом они не стали. Но у нее нигде не осталось настоящего крова. Он был когда-то в маленьком городке, но тот городок давно в развалинах. Светлый, радостный кров, и при одной мысли о нем до сих пор радуется ее сердце.
И она вспоминала отца, и мать, и братьев, никого не осталось в живых. Она одна. Правда, вот родственники в Иерусалиме. Они, кажется, ее ненавидят. Но ничего, все-таки родственники. Значит, она не одна.
Бывало, к ней приходила старуха служанка и рассказывала о них. Об их ненависти она не говорила Мариамне. И она никогда не говорила худого об Ироде, хоть многое, верно, знала о нем. Она ни о ком не говорила худого. Но теперь, когда его не было во дворце, она чаще наведывалась туда.
Однажды, бродя по городу, Мариамна добрела до колодца, откуда женщины брали воду. Колодец стоял на маленькой площади, женщины с незапамятных времен брали из него воду. И площадь, и колодец были стары, как все старо в Иерусалиме.
И вот, проходя мимо колодца, она среди женщин узнала свою сестру, двоюродную сестру почти одного с ней возраста. Она бросилась к ней, раскрыв объятия, и с губ ее уже были готовы сорваться слова привета. Но молодая женщина тотчас отвернулась и, поставив на голову наполненный кувшин, поспешила прочь, не оглядываясь, по узкой улочке к дому, где жила прежде и Мариамна.
Мариамна смотрела ей вслед.
Воротясь в Иерусалим, Ирод был пасмурнее обычного. Ее он избегал, а на расспросы отвечал, что в горах все было прекрасно и многие из ее непокорного рода сложили там головы. Чего же ей еще?
Позже, без видимого повода, он вдруг рассказал ей, что имел в горах других женщин из тех, что следовали за отрядами, и пленниц, не ей чета, хоть из того же маккавейского рода.
Мариамна ничего не ответила.
Он был уязвлен ее молчанием. Неужто ей все равно? Но он не показал виду.
Он не только был уязвлен, он удивился. Он ожидал иного, ожидал, что ее больно заденут его слова.
О том же, что все те женщины вызывали в нем отвращение, он не сказал ей. В этом он не хотел признаваться даже себе.
Но не только отвращение вызывали они в нем. Странным образом само это отвращение разжигало его похоть. Они так несхожи были с Мариамной. С той, кого он любил.
Ему сладка была именно полная их несхожесть с нею, с ее чистотой. Иногда приедается и чистота.
Но только ее одну он любил.
Мариамна смолчала, хоть его признание оскорбило и опечалило ее, но она и не ждала ничего иного. Так зачем его упрекать? И она не упрекала.
Больше он к ней не приближался, не искал ее любви. И несмотря ни на что, она тосковала по нему, хоть все в нем внушало ей отвращение и ужас.
И еще она опасалась, как бы он не только с женщинами, но и во всем прочем не вернулся к прежним своим привычкам. Свою власть над ним она утратила совершенно, это ясно, но что же теперь будет?
Прошло немного времени, и худшие ее опасения сбылись.
Расползлась молва о том, что снова настало черное время. Что людей хватают в их домах, отрывают от семей и потом они без следа исчезают. Снова пополз ужас по улицам иерусалимским.
Темницы в подземельях дворца снова наполнились узниками, и можно было только догадываться, каким мучениям их подвергают. Мариамна жила в тревоге и тоске и не понимала, отчего же не разорвется ее сердце. Она боялась, что и в дом ее родни тоже вломились люди Ирода. Но ей удалось узнать, что их дом не тронули. Конечно, будь там мужчины, едва ли бы им уцелеть, но мужчин не было, остались только женщины.
Были и другие перемены во дворце. Ирод снова привык ко множеству женщин, размалеванных блудниц, и приближенные поставляли ему все новых, совсем как прежде. С этими женщинами он не просто ублажал свою похоть, они нужны ему были, чтобы унизить, оскорбить и ранить ту, которую он любил и которая его не любила. Ибо сердце его и в любви оставалось злым.
Но нелегко было унизить Мариамну. Что-то в душе ее и в облике ограждало ее и делало неуязвимой. Она бродила по дому порока, словно ничего не замечая. Конечно, она замечала все, но она не испытывала унижения. Этого чувства она не знала совсем.
Однажды он осыпал ее горькими упреками за то, что она терпит такую жизнь и как-де она не замечает, что творится вокруг, не корит его за беспутство. Как она допустила такое!.. Как позволила!..
Но вдруг он осекся, умолк, отвел от нее налитой кровью взгляд. И ей не пришлось ничего отвечать.
Он ушел, и долго потом не видели они друг друга. Верней даже сказать, что это была последняя их встреча, ибо еще он видел ее лишь один-единственный раз, когда опоздал к ней, умирающей.
До этого дня оставался покуда немалый срок. Но они избегали друг друга.
Между наложницами Ирода и Мариамной не случалось раздоров. Они ни в чем не повинны, в чем же ей их обвинять? Вот она их и не обвиняла. Они же старались не обидеть ее. Быть может, и их поразил ее облик. А быть может, они жалели ее. Думали, что она больше их самих достойна жалости.
К тому же встречались они мало. Мариамна жила в тех покоях дворца, которым постаралась придать вид крова. Там никто ее не тревожил.
Но одна, пленная дочь Маккавеев, взятая во дворец за грубую красоту, однажды, столкнувшись с Мариамной, высказала ей свою безмерную ненависть.
– Меня-то взяли в плен, – кричала она, – меня силой отдали подлому тирану, мерзкому идумею. А ты отдалась ему доброй волей, стала царицей и думаешь, что ты благородная! Я-то не царица! Я попранная дочь врага, и я горжусь этим! А тебе чем гордиться! А ну, скажи! Тьфу!
Другие женщины донесли Ироду о том, как она обошлась с Мариамной. Он сам избил ее, неистово и безжалостно. Она не проронила ни звука. И все же, хоть все думали, что он ее выгонит, он оставил ее при себе. Ибо знал, что она никогда не смирится перед своей судьбой, никогда не покорится ему и он всякий раз будет брать ее силой.
Он никому не позволял обижать Мариамну.
Старая служанка давно уже не наведывалась во дворец, и Мариамна стала думать, отчего бы. Может быть, ничего не случилось, она и прежде, бывало, редко ходила, она еще придет. Конечно, она еще придет.
А та все не шла.
Минули недели, потом месяцы. Мариамна встревожилась не на шутку. Что стряслось? Во всем свете некого ей спросить.
Не проведали ли хозяева об их тайных встречах и запретили ей ходить во дворец? Или иная беда разразилась? Как бы узнать?
А потом она узнала от одной из царских наложниц, что старухи больше нет и напрасно бродит Мариамна по залам дворца, поджидая ее.
Мариамна принялась расспрашивать, откуда та узнала. Да так, слыхала от людей.
Что же, она умерла? Ну, об этом точно неизвестно, но ее нет, а стало быть, наверное, умерла.
Позже известие подтвердилось. Мариамна точно узнала, что старуха умерла, что Ирод убрал ее с дороги, заподозрив, будто она помогает Мариамне сноситься с Маккавеями. А Мариамну он заподозрил в тайной связи с его врагами. Вот что узнала Мариамна.
Какой вздор. У нее это даже в голове не укладывалось.
Не мог же он такому поверить.
И ей не верилось, что старой служанки больше нет. Она горевала по ней всем сердцем, она к ней так привязалась, хоть никогда ей об этом не говорила. Неужели она уже не придет во дворец? Вот и последняя близкая душа покинула Мариамну. И она осталась совсем одна.
Целыми днями она вспоминала старуху. Вспоминала морщинистое лицо, такое суровое с виду, хоть она не была сурова. Нисколько. Просто она никогда не улыбалась. Отчего? Кто же знает, никто не знает.
И вот ее нет.
А он и вправду заподозрил ее в связи с Маккавеями, с его врагами. Заподозрил оттого, что старая служанка так часто наведывалась во дворец. И приказал убрать старуху с дороги.
Но на этом он не успокоился.
Как многих страстно жестоких людей, его преследовал страх смерти. Он загубил тысячи жизней, а сам боялся умереть. Он не боялся смерти в бою, в упоении битвы, в бою он ничего не боялся. Но его пугала смерть от болезни, подтачивающей изнутри, пугала смерть от руки врага, невидимого, незнаемого врага. Он боялся, что его убьют предательски, ударом кинжала в спину, под лопатку, под левую лопатку, это будет, этого не миновать, от этого не уйти.
И если против него готовится заговор, так чего же лучше для заговорщиков иметь своего человека рядом с царем, вне подозрения, в собственном его доме? Чего же лучше?
Верил ли он в это? Конечно, нет. Подозрительность его была ужасна, но не настолько, однако, чтоб заподозрить Мариамну в посягательствах на его жизнь. Она – в одном лагере с заговорщиками? Возможно ли?
Но ему удалось себя убедить.
Тщательно скрывал он от себя самого то, что в действительности было причиной все больше и больше одолевавших его мыслей. И он не признавался самому себе в темных побуждениях, прятавшихся на дне его души. На илистом, грязном ее дне.
Мариамну по-прежнему любил народ, большинство народа. Когда она выходила из дворца – а выходила она теперь не часто, – люди выказывали ей свою любовь. Хоть теперь она уже ничем не могла им помочь, ничего не могла для них сделать. И все же они любили ее. Хоть она им больше не улыбалась, никогда не улыбалась. Они знали, каково ей и отчего она всегда печальна, они знали все. Они знали, отчего она так переменилась, стала совсем другая. И все же они любили ее. А она больше не улыбалась, никогда не улыбалась.
И ее любили.
Мариамну, царицу серебряную.
Он решался. Он проверял себя. Сможет ли он и дольше терпеть, что она живет на свете? Трудно, трудно решиться, но нужно наконец взглянуть в глаза неизбежному.
Давно уже он ее не видел. Она уже казалась ему чужой женщиной. Чужая женщина жила рядом с ним, в его доме. Что же это такое? Он никогда не виделся с ней, но она жила с ним под одной кровлей. И он об этом не забывал. Под одной кровлей с ним. И, быть может, в тайной связи с его врагами. Он решался. Нельзя более откладывать. Довольно. Нельзя откладывать ни дня.
И оттого, что он давно уже ее не видел, решиться было легче.
И вот он нанял человека убить ее. И как только распорядился, он тотчас почувствовал облегчение.
Жребий был брошен, и он успокоился.
Он и прежде нередко употреблял этого наемного убийцу для подобных дел. Подобных? Подобных?
Тот был высок ростом, грузен, как и сам царь, и похож на него лицом. Почему он нанял его?
Почему он именно его выбрал? Похожего? Есть ведь столько других. Отчего же он их не выбрал? Почему именно этого? Похожего на него самого.
Он использовал его уже не однажды. Но есть ведь столько других. Так отчего же непременно этот, похожий?
Он оседлал коня и пустился в путь, прочь из Иерусалима. Неспешно ступал конь, унося царя куда глаза глядят. Стоял погожий день ранней осени, с ясным, безоблачным небом. По солнцу царь определял время дня. Он то и дело взглядывал на небо.
Вдруг, без видимой причины, он повернул коня, повернул обратно, к Иерусалиму. И вскоре – не сразу, но вскоре – он натянул поводья. Сперва не очень, не изо всей силы. Но неподалеку от городских ворот он погнал коня уже во весь опор.
Возле дворца, у дворцовых ворот, он бросил поводья, соскочил наземь и кинулся вверх по ступеням лестницы.
Вбежав к ней, он увидел ее на полу, в луже крови, пораженную двумя ударами – в шею и в грудь. Она была еще жива, но дышала почти незаметно. Глаза ее были закрыты, но, почувствовав, что он вошел, она открыла их и взглянула на него.
– Любимая, любимая, – шептал он, склонясь над нею. – Любимая, любимая...
Услышала ли она?
Этого ему не суждено было узнать.
Говорить она не могла, только беспомощно шевельнула рукой. И вложила в его руку свою маленькую, узкую ладонь.
Так она не знает? Не знает?..
Или она знает – и все же?..
Все же?..
Он рухнул на колени с ней рядом, он не понимал, что ему делать с самим собой, совершенно не понимал, что ему делать.
Он только твердил одно слово:
– Любимая.
А она вновь открыла глаза. Глубоко вздохнула и умерла. Он понял, что она умерла.
Он склонился над нею.
– Любимая, любимая, – повторял он снова и снова.
Но она не слышала.
Не сразу, но вскоре он схватил убийцу. Он накинулся на него в бешеной ярости, поражая несчетными ударами меча все его огромное тело.
Хоть тот был высок ростом и сложения такого же могучего, как царь, он без всякого сопротивления, покорно подставлял себя ударам.
* * *
О жизни Ирода по смерти Мариамны остается рассказать, что жил он в точности как прежде, в злобе и пороках, и жизнь его ничуть не переменилась. Как не могла изменить его любовь, так не изменила его и смерть Мариамны. Лишь на короткое время немного смягчился его нрав, и подданные вздохнули с облегчением, радуясь последней помощи серебряной царицы. А потом все потекло по-старому. Он снова стал самим собой.
Да, пороки его множились с годами, как росла и делалась безграничной его вера в себя и росла убежденность в том, что равного ему могуществом нет в целом свете.
Власть его и вправду еще укрепилась: он сломил сопротивление Маккавеев, наголову разбив их силы в горах и вырезав всех, кто мог быть ему опасен. И страшное единодержавное правление тяготело над поверженным, растоптанным народом.
И продолжались его бесчинства и беззакония, и здоровье его под конец расшаталось от безудержного распутства. Однако лишь телесные силы изменяли ему, нравом он оставался тот же, необузданный и страшный для всех, кому выпадал на долю его гнев или простое недовольство. Он был еще в полной силе. И в полной силе была ненависть к нему народа.
Старость подбиралась к нему все заметней. И почти старик, которому совсем немного осталось, продолжал жизнь жестокую, неистовую, предаваясь прежним страстям и порокам.
Но Мариамну он не забыл.
Однажды, когда пришел посмотреть храм, который стоял уже во всем великолепии, он вспомнил, как приходили они сюда с Мариамной. Как мало заняло ее тогда зрелище постройки, как равнодушна она осталась к нему. На диво равнодушна. Словно ей вовсе и не нужен храм.
И снова подивился этому царь.
И снова он обходил храм, святыню, воздвигнутую им, чтоб восславить имя свое, чтобы слава его не меркла во веки веков, чтобы обрести бессмертие. Прекрасный храм, быть может, прекрасней всех на свете. Вновь любовался царь золотом и медью, бронзой и серебром отделки, сверкающим мрамором несметной цены, вывезенным из дальних стран. Он обходил храм своей странной поступью, с годами еще отяжелевшей. На лице его напечатлелись старость и болезни, но это неважно, этого никто не видел, никого не было вблизи. И, медленно обойдя храм, снова удостоверясь в несравненной его красоте, он возвращался к себе во дворец, в те покои, которые Мариамна старалась превратить в кров. Когда бывал один, он всегда шел в те покои. А один он бывал часто, потому что часто ему делались ненавистны те, кем он себя окружил.
Мариамне и вправду не нужен был храм. Богослужение шло в ее душе, и она могла прислушаться к нему, когда ей вздумается. Она была словно дерево, полное тайн, которые нашептывает ему ветер, как дерево в одежде из шепчущей листвы была Мариамна, и она не нуждалась в алтаре.
Ироду же храм был нужен. Ибо он был сын пустыни. И в пустыне воздвиг храм, чтоб восславить себя самого.
Только ли себя самого? Точно ли?
Кто же знает? Я не знаю.
Когда немощи совсем одолели его и тело его стали терзать непереносимые боли, он отправился в страну отцов, в пустынные пределы к югу от Мертвого моря, чтобы там обрести покой и исцеление. Там, слышал он, бьют горячие ключи, дарящие молодость и силу.
Он не бывал там прежде и с удивлением оглядывал край, обозначивший его душу, – царство голых равнин и кроваво-красных гор. Все это нагоняет ужас, но и наполняет душу восторгом. Ирод, однако, был уже так болен и стар, что почти ничего не ощущал при виде земли предков.
Тело его не нашло исцеления, сернистая желтая вода горячих ключей не избавила его от страданий, а лишь усилила их, жгла его огнем. То была страна смерти, не жизни.
Он стал еще немощней.
Совсем разбитый, воротился царь в Иерусалим. Раздувшееся тело издавало зловоние, мучительное для него и для других. Нрав его сделался еще страшней, он на всех обрушивал свою немилость, так что редко кто осмеливался попадаться ему на глаза. Даже старые, испытанные слуги приближались к нему с опаской.
Его терзали непереносимые боли. Случилось то, чего он больше всего боялся: невидимый, незнаемый враг отнимал у него жизнь.
И несмотря на муки, от которых одна смерть могла его избавить, день и ночь его мучил страх смерти. Особенно ночи сделались для него пыткой. Он с ужасом ждал приближения сумерек.
Болезнь и страх смерти не мешали ему, как и прежде, любоваться собой, своим величием и славой. И его возмущало, что такой человек, как он, обречен простой, низменной смерти, смерти мерзкой и оскорбительной. Ему бы умереть, как умирают боги. Но нет, какое уж там.
Какая болезнь мучила его – неизвестно. Говорили, что его заживо едят черви и что послано ему это за великие грехи. Что за черви, мы не знаем, но народ с радостью в них поверил.
Он жил теперь в своем дворце почти совсем один, ибо при виде людей его томило отвращение, как их томило отвращение при виде царя. С ним оставались лишь немногие слуги. А перед дворцом по-прежнему стояли вооруженные воины, охраняя жизнь Ирода. Жизнь Ирода охраняли и берегли, хоть все только и ждали его конца.
* * *
В это самое время зажглась на востоке звезда и затмила светом другие звезды. И трое мудрецов из дальних пустынных земель увидели звезду и узнали. И пошли за нею следом. И остановилась она над Иудеей. И, придя в Иерусалим, те трое пришли ко дворцу и сказали привратнику:
– Царское дитя родилось, и будет это дитя господствовать над всей землею. Раз тут царский дворец, стало быть, здесь и родилось дитя.
Привратник встревожился и попросил их обождать, а сам пошел доложить о них царю. Дрожа от страха, он передал Ироду их странные речи, ибо никто не мог предсказать заранее, что вызовет гнев царя.
Но Ирод не разгневался. С изумлением увидел слуга, что он, кажется, испугался. Никогда прежде не видел он такого лица у своего господина. По знаку Ирода он вернулся за тремя мудрецами, и они предстали перед царем.
Ирод и вправду сперва испугался. Но, увидев тех троих, он сразу успокоился. По нищенской их одежде он понял, что не следует придавать значения их словам. И принялся расспрашивать их, откуда они пожаловали и за какой надобностью. И они сказали ему так же, как слуге, что вот родилось дитя и станет это дитя царить над Иудеей и над всем миром.
Ирод спросил, откуда это им известно.
Они ответили, что увидели звезду, которая зажглась на востоке, яркую звезду, возвещающую рождение царя. И они пошли за нею. И она стала над Иерусалимом, значит, здесь и родился царь.
Ирод в душе усмехнулся простоте их речей, а потом сказал им, что никто во дворце не родился, никакого тут нет новорожденного царя.
Три пришельца с удивлением переглядывались, не зная, что ему ответить.
Ирод, однако, пожелал видеть звезду, и они пообещали вернуться вечером, когда она взойдет снова.
Вечером они поднялись на дворцовую кровлю, чтоб получше разглядеть звезду и весь небесный свод. И показали ту звезду Ироду.
Обратив к ночному небу старое, морщинистое лицо, он смотрел на звезду. Да, светила она ярко. Но высокое ночное небо, раскинувшееся над ним, над царским дворцом, над Иудеей и над миром, казалось ему куда примечательней. Звезда лишь часть необозримого целого. Она погорит-погорит и загаснет. А звездное небо в бесконечном своем одиночестве не загаснет вовек.
Так размышлял царь.
Мудрецы же увидели, как звезда дрогнула и двинулась дальше, она вовсе не остановилась тут, как они думали. И они поспешили следом за нею, во тьму.
А Ирод все смотрел в высокое небо, подставляя звездным копьям свою душу.
Долго брели мудрецы по ночной Иудее и наконец пришли к маленькому городу, неизвестному им по имени. Над этим городом и стала звезда. Она стала над пещерой, в эту пещеру пастухи загоняли свои стада, но теперь там жили муж, и жена, и младенец, и над этим-то младенцем и стала звезда. И тотчас начала бледнеть и погасла, потому что занялось утро.
И поняли три мудреца, что младенец и есть тот царь, которого они искали, что к нему и вела их звезда.
И почтительно ступили они в пещеру и у входа преклонили колена и замерли, словно молясь, – три мудреца в ветхих, обесцвеченных солнцем одеждах замерли, молясь без слов.
А ребенка только что разбудил солнечный луч, и он смотрел на них ясными глазами.
И они протянули ему дары, которые принесли с собою.
Они были бедны и родом из пустынной земли, и оттого дары были скромны, но они принесли их от сердца и предлагали в душевном смирении.
Первый принес ребенку камешек, прекрасный камешек, ровно и гладко обточенный морем на его родном берегу, на пустынном родном берегу.
Второй принес репейник, видом похожий на скипетр, на царский скипетр, и выросший на бесплодной песчаной земле, на его далекой родине.
Третий припас для мальчика кувшин с водой из источника, который бил в его родном краю, и не иначе как тот источник был чудесный, потому что бил он прямо из песка.
Вот какие дары они принесли младенцу.
И родители, тоже люди простые и не привыкшие к дорогим приношениям, благодарили их от души.
И, еще раз поклонившись мальчику, отцу и матери, трое вышли из пещеры и иным путем отошли в свою дальнюю страну.
Когда же Ирод прознал, что младенец, о котором говорили три мудреца с Востока, родился в том маленьком городе, он повелел убить всех мальчиков в том городе и вокруг, чтоб не было среди них царя.
Конечно, Ирод не верил в эти бредни, не мог царь так родиться, но на всякий случай он повелел вырезать всех мальчиков.
Казалось бы, больному, почти умирающему старику – как не устать от злодейств? И не все ли ему равно, кто будет царем по его смерти? Но Ироду было не все равно. Только ему пристало царить! Равному не бывать в целом свете! И он отдал этот приказ, самый страшный из всех своих приказов.
Это было последнее его злодейство. Ибо к нему приближалась смерть.
Но когда в маленьком городе исполнялась страшная воля царя, младенец, отец его и мать были уже далеко.
* * *
И остался Ирод во дворце совсем один. Все слуги его покинули. Они знали, что он скоро умрет, и больше его не боялись; и они бросили его, разбрелись кто куда.
В одинокие дни он стал думать о Мариамне. Он часто думал о – ней, очень часто. Он не забыл ее, единственно любимую. Странно, как он пронес эту любовь через всю свою долгую, скверную жизнь. И как уцелела она рядом с его злобой? Но она уцелела.
Хоть не влияла на него, не могла его изменить.
Не изменила его и смерть Мариамны. И он не понял, что сам он ей причиной, что сам убил, хоть нанял другого, похожего, чтобы не делать этого своими руками.
Ничто не меняло его. Ничто никогда не могло его изменить.
Ибо он был сын пустыни. А там, в пустыне, не бьют чудесные источники чистой воды, и нечем там наполнить кувшин, и освежиться, и стать иным и новым.
Там нет чудесной воды.
И он непохож был на Мариамну. Которая могла жить без храма. Потому что была как дерево, слушающее тайны ветра.
Он был иной.
Он был Ирод. Он был царь. Великий царь Ирод.
И вот он обречен смерти.
Одинокий, всеми покинутый, он умирал, как будем умирать и мы. Ибо перед лицом смерти все мы одиноки, все покинуты. И вот он умирал, как умрем и мы.
И настала ночь – пора, которой он больше всего боялся.
Болезнь так истерзала его, что он не мог держаться на ногах. Но он не хотел встретить смерть лежа. Нет, не так пристало умереть ему. Ироду.
Почуяв близость смертного часа, поняв, что ему не уйти от неотвратимого, он поднялся и пошел, держась за стены. Умирая, он тяжко прошел по покоям дворца, по пустым и унылым залам.
Последняя мысль его была только о ней, только о ней, единственно любимой. В свой смертный час он томился по ней.
– Мариамна! Мариамна! – кричал он громко.
И пустые залы гулко отзывались на его крик.
Спотыкаясь, держась за стены, он кричал и кричал:
– Мариамна! Мариамна!
Эхо глухо и пусто повторяло имя его мертвой возлюбленной.
С трудом в темноте он делал последние шаги по своей страшной жизни.
И вот он рухнул. Хотел подняться и не смог. Он простер в темноте руки и еще раз, последний раз, выкрикнул любимое имя:
– Мариамна! Мариамна!
Потом руки бессильно упали, и он умер.
* * *
Так прожил царь Ирод свою жизнь на земле, отпущенный ему срок. Прожил одним из тех, кто населяет землю и чей род прейдет, не оставя следа, не оставя по себе и воспоминания. Так прожил он свою жизнь.
Мариамна, Мариамна.
Рассказы
Редакторы
С. Белокриницкая и
Н. Федорова
Морис Флери
Ранним летним утром Морис Флери возвращался домой с войны, которая шла далеко от здешних мест, у самой границы. Человек в зрелой поре жизни, он был от природы красив душой и телом, и все в нем дышало гармонией, твердость нрава сочеталась с глубиной чувств. И хотя мысль его редко вырывалась за пределы обыденного и столь же редко погружалась в мрачные бездны подсознания, все же в ней всегда присутствовало воображение и особая, неуемная сила.
Этой весной в одном из крупных боев он был тяжело ранен. Осколками гранаты ему искромсало лицо. Осколки раздробили нижнюю челюсть, язвами страшных ран испещрили кожу, изуродовали губы и нос, навсегда погасили свет дня в левом глазу. Когда Мориса Флери под градом пуль отыскали на поле боя, голова его казалась сплошным кровавым месивом, и поначалу его приняли за мертвеца. Но в лазарете удалось остановить кровь, и врачи поверили, что его можно спасти. Долго и заботливо лечили его, и мало-помалу раны зажили и челюстные кости кое-как срослись. Наконец настал день, когда бинты сняли. Он больше не чувствовал боли. Но лицо свое он потерял навсегда. Он был изуродован до неузнаваемости, а голос его сделался натужным и хриплым. Только чистый лоб и единственный зрячий глаз еще отражали его внутренний облик. Ему разрешили выходить и греться на солнце: под его лучами хорошо затягивались раны. Прошло еще немного времени, и его отпустили домой. Из-за тяжелых обмороков, которые теперь часто с ним случались, его сочли непригодным к военной службе, по крайней мере в ближайшем будущем.
И в это раннее утро, шагая хорошо знакомой дорогой к дому, он думал не о своем несчастье, а лишь о великой радости, которая ждала его впереди: скоро он снова увидит свою семью – жену и любимых детей. Всех, с кем он так долго бок о бок сражался на войне, постигли тягчайшие беды, и оттого собственная беда уже не казалась ему столь ужасной. Случись ему вовсе ослепнуть, он бы, наверное, еще возроптал, но сейчас он не думал роптать. Ведь он же зрячий, а значит, может наслаждаться всем, что только таит в себе жизнь, – так что же еще, спрашивается, человеку нужно! Край, где он родился и вырос, был озарен слабым светом утра. И свет этот явил ему всю мощь и величие природы об эту пору. Кругом расстилалась бескрайная щедрая равнина, пышные хлеба покрывали землю. Скоро начнутся его собственные поля. За стеной яркой зелени виднелся дом. Как же удивятся, как обрадуются его обитатели, когда он вот так, нежданно-негаданно, появится перед ними! Ведь с тех самых пор, как его ранило, они ничего не знают о нем, может, даже считают его погибшим.
Ему представилось, как жена в волнении бросится к нему, как дети заберутся к нему на колени, лаская его ручонками, как счастливую семью обступят слуги, а вдали, за низкой садовой оградой, будет колоситься пшеница. Ему представилось, как он сидит в кругу семьи, забыв о крови, которую видел, о реках крови на развороченной земле, сидит, позабыв крики и грохот, душераздирающие стоны, хрипло возносящиеся к ночному небу. Да, вот так он будет сидеть, окруженный высшей красой и прелестью жизни – золотистой пашней и смеющимися детьми. И душа его наполнилась радостью.
Наконец он подошел к въезду в усадьбу с ее белым просторным домом. Он давно учуял запах родных полей. А теперь, войдя в тень сада, вновь узнал и запах своих деревьев, и аромат цветов, только что пробудившихся ото сна. Он вдыхал эти запахи и думал, сколь он богат и счастлив. Примчались собаки, окружили его, обнюхали и тотчас принялись радостно скакать, лизать ему руки и то и дело клали мокрые от росы лапы ему на грудь. А люди все не показывались. В доме еще крепко спали, лишь со скотного двора доносились голоса работников. Морис Флери остановился, залюбовавшись красотой дома. Никогда еще, казалось, стены не сверкали такой белизной, никогда еще столь трепетно не оживали окна под лучами зари. Только черная крыша зловещей тучей врезалась в ясное небо. Морис Флери обошел вокруг дома. Он не решался будить своих близких: довольно и того, что они рядом. Лишь тонкая стенка отделяла его сейчас от них, и оттого возвращение в родной дом казалось ему чем-то еще более неправдоподобным. Он помедлил у окон спальни. Он так хорошо представлял себе, как они спят там, внутри. Вот здесь – жена, кровать ее стоит у наружной стены, но не придвинута к ней вплотную. А здесь, в соседних кроватках, головками к другой стенке, спят его дети – девочка и мальчик. Наверно, они все так же будут спать, когда он, отец их, вдруг войдет в комнату и станет рядом. Он уже чувствовал, как навстречу ему струится тепло хрупких детских тел.
Он стоял у своего дома, нынче будто обретенного вновь, дрожа от счастья, чутким ухом ловя дыхание милой жены и детей, и тут с ним внезапно случился обморок – один из тех, что часто донимали его после ранения. Он пошатнулся, пытаясь опереться о белую стену дома, но все вокруг словно подернулось белым пухом, рука схватила воздух, и он без памяти рухнул наземь. К счастью, он упал головой в цветочную грядку, окаймлявшую дом, и потому не ушибся.
Но странно было видеть это побелевшее лицо, на котором грубое, беспощадное железо не оставило живого места, лицо, начисто лишенное человеческих черт, среди великолепных садовых цветов, взметнувших на тонких прямых стебельках свои гордые, ослепительно прекрасные головки навстречу солнцу.
Когда он пришел в себя, он лежал в своей собственной комнате на диване. Рядом стояли его жена, сынок и дочка. Все с тревогой склонились к нему, а он медленно раскрыл глаза.
Волнующий миг настал.
Они были в точности такие, как прежде. Дети были в той же одежде, что и минувшим летом, когда он их покинул. И так же прекрасна была в своей печали его жена.
Но когда он привстал на диване, они не кинулись ему на шею, не осыпали его поцелуями и ласками.
Они не у знали его.
Дети глядели на него с изумлением, робостью и страхом. Жена, поддерживая его за плечи, спросила, что приключилось с ним и кто он такой.
В ужасе смотрел он на них. Чего только не передумал, не ощутил он в этот миг; боль и отчаяние, страх и отвращение к самому себе, к своей участи захлестнули его сердце! Все эти чувства разом обрушились на него, подавляя многоликостью и силой. Потерянно, беспомощно огляделся он вокруг. Перед ним была его жена, его дети. И губы, израненные железом, задрожали от мучительной боли. Казалось, вся исстрадавшаяся его душа рвалась в этот миг к любимым существам, что стояли рядом с ним, билась в тоске под грубыми рубцами, оставленными безжалостным железом, а замутненный слезами взор его метался от одного к другому, взывая: неужто не узнали вы своего отца? Неужто не видите вы, что он лежит перед вами поверженный, униженный вами? Он всматривался и всматривался в их глаза – в глаза своей жены и малых детей, – но нигде не увидел он того, что искал, ни в чьих глазах не прочитал он слово, единственное простое слово, которое жаждал услышать. Лишь ужас и отвращение были в глазах детей, и сердце его готово было разорваться от муки, а в глазах жены – лишь сострадание к несчастному чужаку, и от этого пусто и холодно сделалось у него в груди.
Он снова рухнул на диван. Но мысли и чувства его ожесточились, взгляд стал колючим и уже не искал ничьих глаз. Он вознегодовал, озлобился против своих близких за то, что они не узнали его. Да любили ли они его вообще когда-нибудь? Кого любишь, того всегда узнаешь среди тысяч других, даже самые тяжкие раны и те не скроют дорогих черт. Пусть тело сплошь в рубцах – в нем жив могучий, прекрасный дух, разве не бессильно железо против живой души человека? Ведь все осталось как было, он лежит сейчас перед ними такой же, каким был всегда, он любит их всей душой, хотя сердце его разрывается от боли. А они не видят его. Значит, мало любили, значит, никогда по-настоящему его не знали и взор их не проникал в тот сокровенный уголок души, где таится истинная сущность человека, – вот почему они не видят его.
Он не подумал о том, что явился к своим в военном мундире, который никогда при них не надевал, забыл, что они даже не слыхали о его беде. Он знал только одно: вот он лежит, поверженный, несчастный, в кругу своих близких, а они его не узнают. Ему вспомнилось – и взор его снова заволокли слезы, – как собаки тотчас признали его, как они радостно скакали вокруг и то и дело клали тяжелые лапы ему на грудь.
Детей он все же судил не столь сурово, правда, хотел было оттолкнуть их от себя, но рука не поднялась. И, видя испуг в их глазах, он лишь в муке, в отчаянии метался на своем ложе. Зато вся его горечь и ненависть обратилась против жены. Как он любил ее! Как щедро одаривал своей любовью! А она не узнала его, значит, никогда не была по-настоящему ему близка! Страдание изуродовало его лицо. И жена теперь не признала его. Что ж, раз так – он тоже не желает ее знать.
И когда она снова спросила его:
– Что случилось с вами? Кто вы? – он ответил, не поднимая глаз:
– Я человек, который вернулся с войны. Я хотел подойти к вашей двери попросить хлеба, но упал без памяти возле этого прекрасного дома – возможно, он ослепил меня своей белизной, и сейчас еще у меня кружится голова.
Она сказала, что ему приготовят постель и он сможет отдохнуть. Но он объяснил, что нужды в этом нет, пусть только позволят ему немного отлежаться здесь, на диване, и скоро он вовсе придет в себя. И его оставили одного.
Когда они ушли, он разрыдался. Но слезы не смягчили его сердце. Он оплакивал свой злосчастный жребий, сделавший его чужим в родной семье. Но ни минуты не думал он уйти от этого жребия: простить детям, что они не узнали отца, жене – что не узнала мужа. Случившееся, думал он, показало, что всю свою прежнюю жизнь он был одинок. Что ж, значит, и впредь он будет жить точно так же. Если он сейчас назовет себя, что будет тогда? Жена и дети бросятся ему на шею, кинутся целовать и ласкать его. Но на сердце у него будет столь же сиротливо и пусто, и вовек не услышать им музыку его души.
Спокойный, хоть и с ожесточившимся сердцем, вышел он вскоре из дома. В саду тем временем уже накрыли завтрак, и его тоже пригласили к столу.
Как ярко сияло солнце, как сверкали росой цветы и деревья! Вся природа замерла, купая влажную свою поросль в потоках света. Человек, у которого украли лицо, вышел на солнце, рядом с ним шла его жена. Вместе вступили они под сень кудрявых деревьев, которые уже столько раз зеленели на их веку. Следом шли дети.
За столом говорили о войне, о боях. Он поведал о том, как пули и осколки снарядов, стремительно проносясь в ночи, мгновенно и безошибочно выискивают свои жертвы, сколько бы те ни прятались во мраке, ни сжимались в комок, и наносят им тяжкие раны. И еще, по просьбе хозяйки, он рассказал, как сам был ранен в одну из таких ночей. Они шли в атаку. Отсветы рвущихся снарядов озаряли небо. Вдруг его швырнуло оземь, и будто горячим потом обожгло лицо. Он задрожал всем телом от боли, из окровавленного рта вырвался стон. Этот стон потонул в хоре других, возносившихся к небу во тьме. Он лежал всеми покинутый, истекая кровью. Потом впал в забытье, и вокруг него сомкнулась тишина.
Женщина спросила, в какой же битве постигла его эта страшная участь. Он ответил. Тогда она сказала, что ее муж, отец вот этих малых детей, тоже ушел на войну, наверно, и он участвовал в битвах, о которых сейчас рассказал гость, но от него уже давно нет вестей: что, если в ту самую ночь он тоже лежал раненый, истекая кровью, на необозримом поле брани и его стон – вопль ужаса и боли – сливался со стонами других солдат? Пришелец ответил ей:
– Да, быть может, он лежал рядом со мной.
И от этих слов содрогнулись дети, сидевшие рядом с ним на солнце, а глаза матери их заволокло слезами. Он спросил, как звали ее мужа. Она сказала:
– Морис Флери. – Только она произнесла это имя, как он, вздрогнув, впился в нее и детей пристальным взглядом. Она испуганно воззрилась на него. Потом с тревогой спросила: – Почему вы так пристально глядите на нас?
Он ответил:
– Потому что Мориса Флери нет в живых, он скончался у меня на руках.
Заливаясь слезами, дети кинулись к матери, прильнули к ней, словно ища защиты от страшного незнакомца, который говорил такие жуткие вещи. Мать крепко прижала их к себе, лицо ее исказил ужас.
– Правда ли то, что вы сейчас сказали? – спросила она.
Он повторил:
– Мориса Флери нет в живых, он умер у меня на руках.
И тогда она с горькими слезами и причитаниями склонилась к детям.
А он спокойно созерцал их скорбь. Его удивляло, что они так бурно оплакивают какого-то чужака, ведь много лет он был лишь гостем в их доме, а сейчас они вдруг вспомнили его имя. Они рыдали. Он же заговорил о том, как делил с покойным все тяготы и радости будней, как в бою они всегда сражались плечом к плечу, вместе изнемогали и поддавались отчаянию и вместе мало-помалу вновь обретали силы. Вскоре после того, как сам он был ранен, в тот же лазарет в ближнем тылу привезли Мориса Флери. Ничто как будто не угрожало его жизни, он получил штыковое ранение, обычно такие раны заживали быстро. Как близким друзьям, им разрешили расположиться на соседних койках. Но Морису Флери вдруг сделалось хуже, рана нагноилась, и зараза стала стремительно распространяться по всему телу. Он невыносимо страдал. И в ночной тишине шепотом поверял свои страдания другу. Корни сердца – прекрасные, пылающие алой кровью сосуды – один за другим всасывали отраву и гнали ее внутрь. И чувства, и мысли его – самый хрупкий, самый заветный сосуд! – казалось, были отравлены тоже. Раненый корчился в муках, взгляд его молило пощаде. Как тяжко было видеть эти глаза, умоляющие, точно у пса, которого задумали пристрелить, старого, больного пса, который, даже после того как пуля пробила ему грудь, заклинает взглядом: вспомните, каким я был прежде, вспомните мою преданность, верность, вспомните, как я любил вас всех, и оставьте мне жизнь. Невозможно было спокойно смотреть в эти глаза, равнодушно видеть эти муки. А яд постепенно одолевал его могучее тело. Яд не ведал пощады. И все же ближе к концу умирающий вновь обрел прежнюю силу и ясность духа. Он сказал, что жизнь не имеет для него большой цены, ничто не привязывает его к ней – бездомного, одинокого, отверженного изгоя.
– Не мог он этого сказать! – воскликнула женщина, обратив к незнакомцу заплаканное лицо.
Незнакомец ответил:
– И все же он так сказал. А перед самой кончиной, когда я спросил, не осталось ли у него хоть кого-нибудь, кому я должен буду поведать о его последних минутах, он прошептал: «Никто не знает меня».
Она спросила:
– А точно ли звали его Морис Флери?
Незнакомец ответил:
– Да, точно.
Она снова спросила:
– Вы помните его лицо?
Незнакомец ответил:
– Да, очень хорошо помню. Лицо у него было мужественное, суровое, кожа смуглая, свежая. Большие серо-голубые глаза. И голос, низкий и звучный.
Женщина не сомневалась теперь, что то был ее муж. Но как понять его последние слова? Незнакомец сказал:
– Может, их навеяла лихорадка, может, он просто бредил.
И оба согласились, что, наверное, так оно и было.
Весь день убитая горем женщина предавалась скорби. А день был теплый и благостный, широко и чисто распахнулось небо. Женщина ходила взад и вперед по саду, между яркими клумбами цветов. И незнакомец вынужден был ходить за ней следом, и она снова расспрашивала его о смерти мужа, о последних его минутах. Ей все хотелось знать о его страданиях, о том, как он их сносил. Незнакомцу пришлось рассказать ей, как им обоим жилось на войне, как отважен ее муж был в бою, что говорил он и думал, когда оба они после битвы отлеживались на земле, напоенной горячей кровью.
Наступил вечер, и женщина принялась упрашивать незнакомца остаться. Если он уйдет, горе сломит ее совсем, одно спасение – слушать рассказ о муже. Он обещал ей, что останется на ночь.
Они направились к дому. Длинные, узкие тени их и легкие тени детей плыли впереди. На стене дома головы обозначились крупно и резко. Глядя на них, он подумал: «Тень – это человек, у которого украли лицо. Я – тень самого себя». Затем они вошли в дом.
Пришелец не покинул хутор ни на другой день, ни на третий. Всякий раз женщина настойчиво просила его остаться, и он оставался. Наконец однажды в сумеречный час он решился рассказать ей о себе, о странной своей судьбе. Он вернулся домой после ранения, которое уничтожило его лицо. Никто не узнал его: ни мать, ни отец, ни младшие братья и сестры, осыпавшие его поцелуями, когда он уходил на войну. Никто, кроме собак – те лизали ему руки. И тогда он ушел из родного дома – неузнанный, как и пришел. Разве не обязана мать узнать свое дитя, отец – своего сына? Возьми лицо мое, но, каким был, такой и ныне стою я пред тобою. С тех самых пор он и скитается среди чужих людей и кормится подаянием.
Охваченная жалостью, женщина предложила незнакомцу остаться у нее сколько он пожелает и считать ее дом своим. Разве не счастье распахнуть двери дома перед горемыкой, который был последним другом ее мужа!
Пришелец с благодарностью принял ее приглашение.
Отныне и она, и дети с каждым днем все больше привыкали, все сильнее привязывались к нему. Малышей уже не отпугивал его вид, они забирались к нему на колени и без устали слушали его рассказы – все, что он говорил им своим глухим, хриплым голосом. Всякий раз, ощущая тяжесть их хрупких телец на своих коленях, близость их своему телу, он испытывал чувство глубокого одиночества и тоски. Когда никого не было рядом, он, случалось, вдруг пылко привлекал их к себе, прижимал к груди. С изумлением взглядывали они на него и потом долго сидели молча. Мать замечала его любовь к детям, и на сердце у нее теплело. Часто они подолгу сидели вдвоем и говорили о детях. И в этих беседах, и во многих других обстоятельствах ей открывались достоинства его ума, богатство его души. Ее доверие и привязанность к нему росли.
Он не преминул воспользоваться этим. Все полнее завладевал он ее мыслями. Временами приходилось лицемерить, и это забавляло его. Он мог теперь наблюдать разные грани ее души и оценить их как подобает. Он был к ней равнодушен, но, снедаемый любопытством, вновь и вновь стремился проникнуть в сущность ее натуры, добиваясь, чтобы она открыла ему свое сердце. Он надеялся также узнать многое такое, о чем не подозревал раньше, и скоро сумел стать поверенным ее тайн.
Одного лишь он тщательно избегал – разговоров о Морисе Флери. Стоило ей завести речь о покойном, как он тотчас поспешно и ловко направлял беседу в иное русло. Он мало-помалу стирал в ее сознании свой образ, и это доставляло ему истинное наслаждение. Порой, когда упоминания о Морисе Флери было не избежать, он отваживался намекнуть, что покойному с его здоровой, сильной натурой все же были присущи известные странности, которые человек недостаточно любящий мог бы даже счесть пороками. А от тех, кого Морис Флери выбирал себе в друзья, он всегда требовал постижения самых глубоких тайников своей души, так заботливо берег он эти сокровища, что было видно: их он ставит превыше всего. Она не обижалась на эти намеки, тем более что он всегда ронял их ненавязчиво и словно бы мимоходом. Напротив, день ото дня их отношения становились все непринужденнее, что весьма благоприятствовало его замыслам.
Часто он говорил себе: а ведь порой человеку даже удобнее без лица. И свободнее, и спокойнее. Прямая связь с внешним миром обрублена, и нет нужды вечно быть начеку. Ступаешь по земле уверенней, мыслишь и судишь обо всем беспристрастно, не боясь кого-то этим обидеть. Так легче оставаться самим собой.
Став человеком без лица, он сумел использовать эту беду к своей выгоде. Он властно увлекал за собой женщину, и мало-помалу она становилась такой, какой он хотел ее видеть. И пришел час, когда почти неприметно для нее он сумел окутать их отношения легкой тенью любовной страсти. Тень эта была ему весьма кстати. День ото дня он все больше сгущал ее. Полумрак скрывал его раны, и женщина перестала замечать его увечье. Скрывал полумрак также многое другое, что в ином случае стало бы очевидным. И, любуясь плодами своих усилий, пришелец говорил себе: поистине любовь слепа, хорошо еще, у меня самого остался хоть один зрячий глаз.
Случалось, он отмечал про себя, какое, в сущности, благо, когда черты твоего лица уже не суть творение чуткой и мудрой природы, которая, вдохновляясь силами твоей души, годами бережно оттачивает их, а всего лишь детище грубого железа, что в мгновение ока справилось со своей задачей, подменив эти черты лабиринтом борозд и рубцов. И коль скоро ты приучил женщину не искать в этой застывшей маске отблеска чувств любимого, можно устроиться как нельзя лучше. Нет нужды ежеминутно притворяться, скрывая свое равнодушие, можно оставаться холодным, ко всему безразличным, но при том избежать разрыва.
Он и вправду упивался сладостью мимолетного романа пришельца с женщиной. Он сумел полностью оценить двусмысленность положения: неузнанный и невидимый, муж стал свидетелем нежных любовных сцен между собственной женой и незнакомцем. Мало того – он вдосталь насладился неуловимым очарованием этой любви. Было в ней нечто утонченное, своеобразное, как и в самой женщине, которая любила человека, чье лицо ей не дано было видеть. Лишь скрытую силу и красоту его души ощущала она, к ней влеклась она всем существом. Сколь необыкновенную одухотворенность, утонченность обрели ее чувства, сколь могуче расцвело обаяние женщины в ее стремлении приблизиться к любимому! Они так и не стали по-настоящему близки, но не в том ли и таилась пряная, дразнящая прелесть приключения?
Казалось, между ними постоянно висит легкая пелена, сквозь которую женщина едва различала облик любимого, и все потому только, что она ни разу не видела его лица. Смутная тоска толкала их друг к другу, даже собственные его ощущения и те стали изысканными – ведь невольно он проникался возвышенным настроем ее чувств. Словом, оба испытали особое, неповторимое наслаждение.
И вот однажды вечером, когда пролился первый осенний дождь, свершилось то, чего так долго и хитроумно добивался пришелец. Они были одни в западном флигеле дома. Сквозь влажные стекла окон в комнату вползал мрак. На дворе бушевала буря. В такие вечера хорошо оставаться дома. Он взял ее чуть ли не силой.
Но эта ночь сломила его, разбила ему сердце, спутала мысли и чувства. Страсть к женщине, которая теперь стала ему так близка, взорвала броню, которой он так тщательно себя сковал. И от этого он сам зашатался и рухнул. Потрясенный, в смятении, бежал он от нее.
Долго блуждал он во мраке. Долго искал опоры, но не находил. В страхе вопрошал себя: кто я? И буря отвечала:
– Человек без лица – никто, но может быть кем угодно.
Дождь хлестал его по голове и по спине, а он все брел и брел тропами, уводившими прочь от хутора.
Но он вернулся, влекомый тоской по этой женщине. Сознавая теперь всю глубину, всю силу своей тоски. Наконец по его щекам заструились горячие слезы.
С этой минуты он переменился. Он замкнулся в себе и бродил в одиночестве по садовым тропинкам, на которые теперь, кружась, падали листья. И с детьми, и с женщиной он стал немногословен и сдержан. Но порою молча склонялся к ней и целовал ее с нежностью, какой прежде никогда ей не выказывал. И дети тоже рассказывали матери, как иногда они сидят вдвоем и играют, а он вдруг подойдет к ним, посадит к себе на колени и примется горячо их ласкать, а у самого глаза полны слез. С изумлением и болью слушала она эти рассказы.
Когда спускалась ночь и все спали, он часто уходил из дому и без цели бродил по дорогам. Стояли осенние ночи с дождями и бурями. Бродя по дорогам, всегда и везде один, исступленно раздумывая о случившемся, он все больше винил себя самого, гордыню свою и тщеславие. Не без внутреннего сопротивления свершалась в нем эта перемена. Временами он вдруг упрямо стряхивал с себя вину и становился, как прежде, беспощаден и непримирим. Но всякий раз вновь опускал голову и вновь брал на свои плечи это тяжкое бремя. В конце концов он безраздельно взял его на себя и никого, кроме себя, отныне не винил. Так отрешился он от того, что до сей поры почитал в себе неизбывным. Грозный в своем величии, стоял он во мраке, но сердце его переполняла нежность.
Он повернул назад, к дому. Он шел сейчас тою же дорогой, что и в то утро, когда возвратился домой с войны. И так же радостно было у него на сердце. Тьма, дождь и буря окутывали землю, но он чувствовал, как с каждым шагом приближается к нему белый хутор.
Наконец он вступил под сень садовых деревьев. Они шумели у него над головой, он же медленно шагал к дому. Мягким белым светом лучились стены, и казалось, будто от земли поднимается легкая дымка. Молча, чуть ли не затаив дыхание, шагал он к дому, точно боялся, что прекрасное видение вот-вот растает в ночи.
Под окном комнаты, где спала его жена и дети, он остановился, как и в тот раз. Выла буря, дождь хлестал его по плечам, но во тьме он словно уже осязал тепло родных тел. И шепотом сказал он своим детям:
– Завтра поутру ваш отец вернется с войны домой. Глубоки и страшны его раны. Но блажен тот, кто сумел отрешиться от своего лица.
Брат ищет брата
В одном городе жили два брата: старший, Микаэль, и Стефан, на несколько лет моложе. У них была кузница, которая досталась им в наследство от отца, человека строгого и сурового нрава. Кузница находилась на окраине городка, у самой дороги, что вела в деревню. Беленые стены кузницы были покрыты сажей, а крохотные оконца затянуты паутиной. Тесно и темно казалось внутри. Там стояла наковальня, в горне жарко пылали угли, со стоном и шумом вздымался и опадал кузнечный мех. Кузница была старая, и окружала ее потемневшая, вытоптанная земля. А жили братья на другой стороне дороги, в старинном домишке. С ними вместе жила их мать. Она готовила им обед, варила мясо, которое покупала у крестьян, проезжавших мимо и везших с собой освежеванные туши. И она стелила им белоснежное белье на кровати, где по ночам они вкушали покой.
Когда братья работали в полутемной кузнице, казалось, будто это один человек, только в двух разных обличьях. Но стоило им выйти на яркий дневной свет, как сразу делалось заметно, сколь несхожи они друг с другом. Оба носили бороду, но редкая бородка эта не могла скрыть глубоких различий в облике братьев. У старшего были твердые, резкие черты лица, жесткий рот, суровый, пронзительный взгляд. Лицо младшего выражало мечтательную нежность, и рот у него был нежный и мягкий, а в темных глазах таилась смутная тоска.
Пока был жив их отец, различия в облике и характере братьев не столь уж сильно бросались в глаза. Он подчинял всю семью своей воле, и слово его было закон. Он был здоровый, могучий мужчина. Но как-то раз вечером, когда он стоял у наковальни и на окнах лежал кроваво-красный отсвет горна, он вдруг рухнул замертво, еще даже не успел отзвенеть последний удар его молота о наковальню. Братья вынесли его из низкой, темной кузницы, где прошла его жизнь, и перенесли в дом на другой стороне широкой дороги. Они сняли с него рабочее платье и омыли тело, очистив его от сажи. Затем надели на него белоснежный саван и предали прах отца земле.
После того как старик ушел из жизни, различия между братьями стали проявляться все явственней: Микаэль хотел снести старую тесную кузницу и на месте ее построить просторную современную мастерскую. Ведь теперь от кузнеца требовалось не одно только умение подковать лошадь или накрепко спаять лопнувший колесный обод. Работы нашлось бы немало, надо лишь уметь пользоваться случаем, город год от года бурно разрастался; надо бы нанять нескольких рабочих, да и вообще – ретивее взяться за дело. Но и Стефан, и мать неодобрительно отнеслись к этой затее. Уже одна мысль о том, чтобы сровнять с землей кузницу, где испокон веку день за днем трудились их предки и где рухнул замертво отец, приводила их в негодование: им казалось, что вместе с кузницей исчезнет и память о предках. Слезы выступили на глазах старой женщины, а Стефан сказал брату: кузница была хороша для дедов, а коли так, грех говорить, будто постройка эта слишком низка и тесна. Микаэль возразил: если оба они женятся и обзаведутся детьми, той же кузнице придется кормить уже две семьи. Что ж, должно быть, она и прокормит всех, отвечал Стефан. Но Микаэль настаивал: нелепо из поколения в поколение сохранять ее такой, какой она была испокон веку, надо построить другую – больше, просторней и светлее прежней.
Стефан изумленно молчал: его глубоко ранило, что Микаэль мог так говорить о том, что надлежало почитать и любить. Он понял: брат – чужой ему, он совсем не знает его. И он отдалился от него, с каждым днем все больше замыкаясь в себе.
Теперь, когда до утрам, перейдя влажную от росы дорогу, он входил в родную кузницу, он сильнее, чем когда-либо, ощущал, как прекрасна старая постройка и как покойно ему самому в ее стенах. Больше прежнего он теперь дорожил всем, что окружало его: старые, изношенные наковальни поблескивали в полумраке под глухой шум кузнечного меха. По вечерам, когда вокруг сгущались сумерки, стоит он, бывало, подле кузницы на темной, вытоптанной земле и подковывает крестьянскую лошадь: сперва срежет с копыта омертвелый рог, потом забьет в подкову гвозди и все это время прижимает к себе сильную, вздрагивающую ногу лошади, а ее влажная морда свешивается ему через плечо, – стоит и думает, что вот так просто, смиренно желал бы он скоротать свой век.
Но Микаэль все сильнее тяготился теснотой кузницы, скудостью трудовых будней. Его замыслы обновления дела обретали все более четкие очертания и с каждым днем становились все дерзновенней. Следовало купить новые, современные машины. Само помещение должно быть просторным и светлым, и кузницу надо переоборудовать в мастерскую, выполняющую любые работы по металлу. В его воображении уже вставал дом – выбеленный, чистый и обновленный, с широкими окнами и обшитой железом крышей, дом, залитый ярким дневным светом. И он уже видел самого себя рядом с другими рабочими у могучих токарных и сверлильных станков. Но когда он заговаривал об этом с братом или старухой матерью, те лишь отворачивались от него. Тогда он начинал бушевать и осыпал их градом попреков. И не стало в их доме согласия.
Прошло два года, а взаимное озлобление лишь нарастало. Но вот Микаэль женился, покинул родной дом и принялся своими силами строить новую мастерскую неподалеку от старой кузницы. Получилась завидная постройка из ярко-красного кирпича, которую затем покрыли толстым слоем штукатурки, белой как снег. Внутри были установлены громадные черные машины с блестящими стальными частями. Войдешь туда, и правда душа радуется – таким великолепием и мощью сияли металл и сталь.
В новой мастерской тотчас набралось много работы, и скоро уже Микаэль начал выплачивать деньги, взятые им взаймы, чтобы завести свое дело. Со временем он стал зажиточным человеком.
А в старую кузницу почти все позабыли дорогу, и Стефану, с тех пор как он тоже женился и обзавелся детьми, пришлось влачить свои дни в нищете. Тогда он преисполнился злобы к брату, который отнял у него хлеб и обрек на нужду. Он осудил брата сурово и непреклонно, хотя по-прежнему оставался человеком кротким и добрым.
Но и Микаэля, при всем его благоденствии, не покидали горечь и тоска. Ни разу старая мать не переступила порог его дома, ни разу не привелось его детям посидеть у нее на коленях и ощутить ласку ее загрубелых рук; и когда он думал об этом, ему казалось, будто жизнь утратила всякий смысл и род его отныне лишен корней. Так один брат взвалил на другого бремя страданий. Братья избегали друг друга и ни разу не обменялись и словом.
К тому времени, как разразилась война, этим братьям, столь разным по натуре, было около сорока лет. И призвали их обоих на тяжкий ратный труд.
То было время, когда между людьми легко возникала близость. Израненные души страждущих открывались друг другу.
Рано утром поезд с солдатами покинул город, чтобы отправиться в путь через всю страну. А страна была большая и плодородная, дым из низкой паровозной трубы длинным облаком сажи стелился над ее полями и лугами. В темных, битком набитых вагонах сидели солдаты. Они сидели молча, один вплотную к другому. Под ними постукивали колеса вагонов, сверкали могучие рельсы. Меж их колен стояли винтовки из стали и дерева, ремни с патронташами опоясывали тела солдат, вдоль бедер свисали узкие лезвия штыков. Лица солдат тонули в вагонном сумраке. Казалось, в нем многократно повторен один и тот же человек.
Но солдаты были люди разного склада – и сильные, и слабые. Сидели друг подле друга и оба брата. Они прислушивались к грохоту и шуму паровоза, а тот, разгоряченный огнем, стремительно уносил их к цели. Они закрывали глаза, и у них захватывало дух уже от одной смутной мысли о том, сколь необъятна страна, по которой мчит их поезд; лишь где-то в дальней дали тянутся границы, отделяющие их народ от других народов. Оба брата чувствовали: их увозят прочь, чтобы принести в жертву, бросить в объятия смерти. Но все так же молча сидели они друг подле друга. Они даже не сознавали, что оказались рядом.
Два дня спустя поезд примчал их на фронт. Вылезая из вагонов, солдаты слышали отдаленный гром пушек. Наутро оглушительный грохот обступил их со всех сторон.
То был иной, непривычный мир. Высоко у них над головой большими сияющими звездами рвались снаряды. Осколки стремительно летели вниз и, настигнув жертву, разрывали ее на куски. Солдат за солдатом замертво падали на землю, истекая кровью.
Братья виделись редко, при встрече смущенно кивали друг другу.
Настал двадцатый день войны. На этот день был назначен штурм вражеских укреплений. Одна цепь за другой бросалась в атаку через открытое поле, но погибала под лавиной сметающего все на своем пути вражеского металла. Переступая через израненные тела, на которых еще не остыла кровь, спешили навстречу смерти новые солдаты, преследуемые стонами умирающих. Вся обширная равнина, где прежде благоухали хлеба, теперь, будто пылающими розами, была усеяна окровавленными телами павших, и казалось – она содрогается от боли.
Наконец один за другим вперед прорвались два сильных отряда. Первому предстояло принести себя в жертву, но другой, шедший за ним по пятам, должен был пробиться и завоевать победу. Стоя в отряде, которому заведомо была уготована победа, Микаэль вдруг увидел среди обреченных своего брата.
Сквозь крики раненых, под градом пуль солдаты ринулись в атаку. В угаре боя Микаэль все же не терял из виду брата. Внезапно он увидел, как тот пошатнулся и упал.
Глаза его чуть не выскочили из орбит. Он бросился вперед, протягивая руки, словно желая схватить, поддержать кого-то. Вдруг прямо перед ним разорвался огромный снаряд, и все кругом захлестнул огонь. Свет в глазах померк. Шатаясь, брел он во тьме. Потом рухнул наземь.
Он не был тяжело ранен, лишь с левого плеча по руке текла кровь. Но все вокруг поглотила кромешная тьма. Объятый ужасом, он пытался отыскать в ней хотя бы мельчайший проблеск света, хотя бы полоску, к которой он смог бы ползти, будто навстречу утренней заре. Но сколько он ни искал, всюду его окружала беспросветная мгла. И он зарыдал, словно одинокое беспомощное дитя. Стенания сотрясали все его тело. Отчаяние и скорбь охватили его.
Когда же наконец он оправился от первого всепоглощающего страха, он остался лежать, тихо всхлипывая, на окровавленной земле, и нищей и слабой была его душа.
И тут он вспомнил о брате. В памяти всплыла картина: брат его зашатался и упал; увы! – это было последнее, что Микаэль увидел в своей жизни. И ему представилось, что Стефан лежит где-то неподалеку, с тяжелой раной, истекая кровью. Он прислушался. Крики и стоны рвались из обступившей его со всех сторон тьмы: рядом – пронзительные, душераздирающие, вдали – надсадные, глухие. Он попытался различить среди них голос брата. Но крики смешивались, сливались в одно неумолчное стенание.
Мысли его вновь обратились к собственной страшной участи: вот он лежит на обагренном кровью поле брани и свет в очах его погас навеки! Никогда больше не узреть ему солнца, столь им любимого. Не стоять за работой, радуясь творению собственных рук. Не увидеть сияющего белизной дома, который он воздвиг в своем стремлении к лучшей жизни. Никогда больше не войти ему в свою кузницу, туда, где сквозь широкие окна льется свет, всю жизнь его спутником будет один лишь непроглядный мрак.
Он думал об оставшихся дома близких: о жене и малых детях. Никогда больше он их не увидит, он навеки осужден ощупью искать их во мраке. И если даже доведется ему еще раз коснуться губами их лба, потрепать кого-либо из детей по щеке, все равно никогда, никогда не изведать ему прежней близости. У него закружилась голова при мысли о жуткой пустыне, в которой отныне и до последнего часа суждено ему брести.
Но снова скорбь о собственной доле уступила место тревоге за брата, который лежал тяжело раненный невдалеке отсюда. Он представил себе, как тот, мертвенно-бледный, лежит на земле и стонет. Он вспомнил все, что связывало их прежде, вспомнил детство и юность, вспомнил, как они росли вместе, словно два деревца, посаженных рядом. Он вспомнил отца и мать, которые строго и неусыпно следили за сыновьями, поддерживая их рост, позволяя ветру их закалять, но ограждая от разрушительных бурь. Он вспомнил, как спали они друг подле друга, а утром принимались за одну и ту же работу. Вспомнил, как трудились они бок о бок в полутьме старой кузницы; да, кузница его отца, кузница его предков теперь, когда он лежал, бессильно рыдая в этом неотступном мраке, уже не казалась ему темной и жалкой. Он вспомнил все, что связывало его с братом, пока они не разошлись, ожесточенные и озлобленные друг против друга. И когда он подумал, что еще и сегодня их мать, та, что выносила их обоих в своем чреве и в муках подарила им обоим жизнь, теперь уже старая и седая, по-прежнему влачит свои дни в их старом доме, горячие слезы заструились по его щекам.
Он прислушался к стонам раненых вокруг. Не слышен ли в этом хоре голос его брата? Он сказал себе: я должен его найти.
Ползком двинулся он в гнетущий мрак. Руки его и колени стали липкими от крови, увлажнявшей густую траву. До него долетал шум битвы, грохот пушек, раскатистые взрывы снарядов, но все это казалось ему теперь чем-то нездешним, далеким. Бой кипел там, в свете солнца; он же был обречен ползать здесь, в непроглядной тьме, среди умирающих и убитых.
Он ощупью пробирался вперед. Вот он обнаружил человека, распростертого на земле. Но тот был хрупкого сложения, по-видимому совсем юноша. И Микаэль оставил его и пополз дальше.
Он спросил себя: как мне найти брата в этой кромешной тьме? Голоса его я не слышу, и сердце не подсказывает мне, где лучше его искать. Тут он наткнулся на другого человека – смерть уже приняла его в свои объятия. Он подполз к его голове и рукой ощупал лицо: незнакомец. И он двинулся дальше во мрак.
Как же мне найти брата? – снова и снова спрашивал он себя. И корил свое сердце за то, что ему неведомо, где истекает кровью сердце брата.
Поодаль лежал другой солдат. Еще живой. Когда чужая рука коснулась его, он застонал, моля о помощи. Но Микаэль услышал по голосу, что то не его брат. Однако он представил себе, как этот изувеченный человек глядел на него исполненными муки и мольбы глазами и какой страх, должно быть, охватил его, когда Микаэль бросил его на произвол судьбы, сказав сурово: «Я ищу брата».
Так и полз он, перебираясь от одного раненого к другому.
Наконец, став на колени, он склонился над человеком, у которого была редкая бородка. Он окликнул его, выкрикнул во тьме имя брата. Но ни слова не слетело в ответ с уст раненого. Тогда он тронул его лицо, пытливо и нежно ощупал каждую складку. Он пытался воскресить в памяти облик брата и, обнаружив, что тот уже начал стираться в его сознании, вспомнил все те годы, когда он ни разу не всматривался любовно в это лицо, и снова горячие слезы заструились по его щекам. Горько сожалел он о своей былой жестокости, о ненависти к Стефану и дрожащей рукой ощупывал лицо, в котором ему хотелось узнать столь дорогие теперь черты брата.
И с каждой минутой крепла в нем убежденность, что именно подле него склонил он колени. Он еще раз окликнул брата по имени. Тщетно. Но тело брата было еще теплым, и Микаэль слышал, как бьется – хоть и глухими ударами – его сердце. Должно быть, рана не столь страшна, должно быть, Стефана еще можно спасти, если только помощь подоспеет быстро.
Микаэль бережно приподнял тело. И тут он услышал шепот, несколько едва различимых слов, донесшихся откуда-то из тьмы: «Это ты, Микаэль?» Потрясенный, внимал он тихому голосу, полным любви словам, прозвучавшим во тьме. И, рыдая, припал он к груди раненого: «Это я, брат твой! Наконец-то я тебя нашел!» Он почувствовал, как рука брата коснулась его волос. Потом услыхал слабый хрип. И рука бессильно упала.
Он заговорил с братом. Но тот больше не отзывался из мрака. Он окликнул его – вотще.
Тогда он взял крепкое тело брата на руки и встал.
Таким же крупным и сильным было и собственное его тело. Однако едва лишь он напряг мышцы, как из левого плеча хлынула кровь и обагрила его грудь и руки. Но он непременно должен отнести брата в безопасное место, туда, где ему смогут оказать помощь. А так как он знал, что добраться до расположения своей части он сможет, идя в ту сторону, откуда солнце светило бы ему в лицо, он начал медленно поворачиваться, стараясь уловить хотя бы слабый проблеск солнца в окружающей мгле. Наконец что-то смутно забрезжило перед его глазами. Не выпуская брата из объятий, он пошел на свет.
Он спотыкался о трупы. И снова поднимался. Из тьмы к нему летели душераздирающие стоны умирающих. Он брел сквозь черный океан страха и муки, он шел туда, где светило солнце.
Он шел вперед, неуклонно шагал все дальше и дальше. И все это время говорил самые нежные, самые ласковые слова, но тщетно ждал он ответа.
Вдруг он остановился, цепенея от ужаса. Уж не почудилось ли ему, будто тело брата остывает, будто грудь его становится все холоднее?
Дрожащими руками ощупал он тело брата. Билось ли еще в нем сердце? Он не мог расслышать его ударов. Вдруг оно уже остановилось?
Нет, брат не умер! Он не должен умереть! Микаэль спасет его, вынесет с поля боя. Не умер он! Брат должен жить, должен вернуться домой, к своей матери и маленьким детям! Он снова вернется в старую кузницу, и годы постепенно согнут его, пока в конце концов он не рухнет замертво на землю, как в свое время отец.
И, обретя новые силы, Микаэль ринулся вперед, с поникшим телом брата на руках. Солнце било ему прямо в глаза. Истекая кровью, изнемогая под тяжестью своей ноши, он мчался вперед в лучах солнца, будто раненый дикий зверь.
Тут милосердный осколок металла разорвал наконец тела обоих братьев, столь тесно прижатые друг к другу. Он разверз их груди, и, когда братья упали на землю и остались лежать на ней, сплетенные в тесном объятии, кровь их слилась, а сердца оказались совсем близко друг к другу.
Строгими, но вместе с тем умиротворенными были в смертном сне лица братьев. Столь схожи казались они. Будто жил на земле один человек, только в двух разных обличьях.
Требовательный гость
Пребывание здесь будет совсем коротким. Поэтому мне досадно, что я застаю все в таком анафемском беспорядке.
Я попадаю из вечной тьмы в эту гостиницу для заезжих туристов, я тороплюсь, мне нужно столько успеть, мне хочется покоя и уюта, чтобы вкусить всю прелесть этого места, удостовериться, что оно превосходно, о чем я так много слышал. А здесь все перевернуто вверх дном. Мебель грудами навалена в холле, маляры перекрашивают стены и потолки, столяры перебирают полы и ставят новые панели, стучат, прибивают, заколачивают. Здоровенные свирепые типы месят цемент в огромных корытах. Сомнительные черномазые субъекты взламывают лестничные марши. Странные, подозрительные личности лакируют перила, протирают окна, перемещают осветительную арматуру. Повсюду краска, стружки, известь, гвозди, козлы, чурбаки. Запах олифы, замазки, цемента и свежераспиленного дерева. И шум и гвалт – как в преисподней.
Все разрушить напрочь! Все построить наново! Разрушить и построить, рушить и строить, строить и рушить!
На меня сыплются окрики, ругань, тычки этих грубых людей, я становлюсь помехой, едва переступив порог гостиницы, и чуть не падаю, скользя на их грязных плевках, под град оскорблений и издевок.
Наконец я наталкиваюсь на обслуживающий персонал. Он вежлив, он еще не успел в суматохе забыть, в чем его долг по отношению к гостю. Вам готовы всячески служить, но ничего нельзя поделать, решительно ничего. Ужасно неудачное время для приезда, сплошной кавардак, у самих просто руки опускаются.
Меня отводят в номер с наполовину содранными обоями, с разваленной изразцовой печью, загромождающей почти весь пол, с железной кроватью без матраца. И тотчас поспешно удаляются, ведь есть тысяча дел, в которых надо постараться навести хотя бы маломальский порядок.
Это ужасно, мне же так мало отпущено времени. Мне не дождаться порядка, придется жить в этой сумятице, в этой грохочущей преисподней. А я-то мечтал в тишине и покое многое себе уяснить, обрести некую собранность и цельность, дать отстояться и вызреть мыслям, успеть хоть чего-то достичь, прежде чем пущусь в обратный путь. Но в этой неразберихе мне ничего себе не уяснить, в этом разладе мне не добиться ладу, и цельности и собранности мне никогда здесь не обрести.
И все же я вынужден смириться. С утра до вечера брожу я среди жбанов с краской, стружек, цемента, протискиваюсь между перевернутой мебелью, перебираюсь через груды свежих, пахучих досок. День за днем брожу я среди грубых работников с их бранью и харканьем. А по ночам лежу на своей кровати, железные прутья которой глубоко врезаются мне в спину, лежу без сна, больной, изнуренный, разбитый. Год за годом. За годом год. Ибо время несется здесь с бешеной скоростью! Не успеешь оглянуться, как уж промелькнула чуть не половина.
Я в отчаянии. Я слоняюсь взад и вперед, как полоумный, с лицом бледным и тупым от ночных бдений, тревоги, бессмысленных раздумий над своею судьбой. Я и сам чувствую, что вид у меня обалделый и жалкий, а забудь я – окружающая чернь не замедлит напомнить мне об этом. Но это меня не трогает. Я всецело предаюсь своему отчаянию, своему горькому разочарованию. Я не стыжусь, со слезами на глазах брожу я среди этих грубых субъектов, раздираемый страхом и болью. Год за годом. Все тяжелее гнетет меня этот кавардак, шум, эта жуткая неразбериха вокруг, все глубже погружаюсь я в раздумья и в неизвестность, пытаясь постичь, в чем же смысл этого всего.
В конце концов мне становится невмочь дольше терпеть. Неизвестность переполняет меня ужаснейшей мукой. Меня гложет и терзает одна мысль, ни на минуту не оставляя в покое, – в сущности, я думаю лишь об одном. Я должен попробовать выяснить, должен спросить, быть может, я бы узнал. Ведь если бы я узнал это, все бы, в сущности, было прекрасно и я бы, пожалуй, мог подумать о том, чтобы заняться каким-нибудь делом и стать как все другие люди.
Я окликаю кого-то из персонала, кто проносится мимо:
– Извините, пожалуйста... Вы бы не могли мне сказать...
– Что именно? – кричит он вежливо, но уже издалека.
И тут я понимаю, что я смешон. Боже ты мой, нельзя же спрашивать об этом у человека, который так спешит. С этим разве что к другу можно обратиться, да и то после того, как не один час просидели вместе и обо всем на свете переговорили. Я конфужусь. Я смахиваю с брюк пылинку и внимательно разглядываю свои почти еще элегантные штиблеты.
– Да нет, ничего, – говорю я, достаю часы и нервозно перевожу их на полдня назад. А он скрывается из виду.
И опять проходит за годом год. У меня седеют виски, я устал, устал. Вокруг стучат и гремят, ломают и чинят. Шум и гам, груды досок, кирпичи, грязные подмости. Грубые парни, брань, плевки, на которых скользишь.
Я несу свой крест. Я стараюсь справиться с ним сам. Но мне все тяжелее. Мне не выдержать. Я изнемогаю под его бременем, просто валюсь с ног.
Мне нужно на кого-то опереться, обратиться к кому-то за помощью. Я должен спросить, должен выяснить, я должен попытаться узнать. Меня губит эта полнейшая неизвестность, эти бесплодные раздумья, эта невозможность доискаться смысла, смысла.
И вот однажды я снова окликаю кого-то из персонала. Я должен набраться смелости, нельзя позволить ему опять уйти от меня, я должен его расспросить.
– Извините... Вы бы не...
– Чем могу служить? – спрашивает он весьма учтиво.
Я снова смущаюсь. При этих корректных словах мне становится ясно, что сам я приготовился изъясняться чересчур высокопарно, что я пребываю в каком-то до пошлости взволнованном душевном состоянии. Меня восхищают эти банальные, но столь легко и непринужденно сказанные слова, я стараюсь схватить их тон, я бы не прочь усвоить такой же тон. И, с напускной беспечностью помахивая тростью, я делаю попытку выложить ему все этак полунебрежно:
– Да знаете, я вот тут подумал...
Но, продолжая, я вдруг чувствую, как весь мой страх вновь прорывается наружу, я слышу, как дрожит от волнения мой голос, словно у человека, взывающего о помощи в тяжкой беде.
– Скажите мне... скажите... для чего мы живем?
Он не смеется надо мною, он не находит ничего смешного в моем поведении или, во всяком случае, не показывает этого. Он долго стоит, серьезно обдумывая ответ. Потом говорит:
– Будьте так любезны, обратитесь в дирекцию. Это вверх по лестнице и налево. Пожалуйста!
И он исчезает, наскоро притронувшись рукою к фуражке.
Я сиротливо стою, одинокий, подавленный. Он прав. Именно в дирекцию мне следовало обратиться. Это же очевидно. Какой-то несчастный простой служитель вовсе не обязан этого знать. И нелепо задавать такой вопрос человеку в форменной фуражке, подневольному, загнанному бедняге, которому и думать-то некогда.
Если бы мне решиться зайти в дирекцию! Если бы только решиться. Но я с робостью взираю на небольшую дверь с медной табличкой и матовым стеклом наверху всякий раз, как оказываюсь вблизи нее, и я нервозно проскальзываю мимо. Ведь я еще не уплатил за свое пребывание здесь. Я жду присылки денег. А они не приходят. У меня нет никакого состояния, но я все жду и жду денег из определенного места, сам не знаю из какого, а их все нет! Тем временем долг мой растет и растет.
Я не решаюсь туда войти. Нет, ни за что на свете не решиться мне туда войти. О боже, это ужасно, я не имею права здесь находиться, даже здесь, даже в этой преисподней!
Я тихо крадусь к себе в комнату. Я перебираюсь через кучу пыльных изразцов, я бросаюсь к себе на кровать, прутья которой врезаются мне в спину. И предаюсь раздумьям – до тех пор, пока не засыпаю, забывшись в изнеможении.
Так я лежу, больной, одинокий. За годом год. Я уже не в состоянии
подняться. Время с бешеной скоростью мчится вперед! Вокруг идет шумная возня, я слышу, как что-то рушится, строится. Я думаю и думаю. Для чего это все, для чего? Для чего же, для чего? Я пришел сюда с твердым намерением понять, какой смысл заложен в этом всем, понять, для чего нужен я сам. Я думаю и думаю. Вокруг стучат и гремят, рушат, строят. Я смысла ищу! Смысла ищу! Боже мой, если только я когда-нибудь узнаю, какой во всем этом смысл, так уж я тоже примусь за дело. Я смысла ищу!
Год за годом. За годом год. Я старею, я уже дряхлый старик с седыми всклокоченными волосами, руки у меня морщинистые, челюсти у меня трясутся. Вокруг заколачивают и прибивают, орут и вопят. Дьявольщина, да разве не ясно: чтобы мыслить четко и глубоко, чтобы действительно до чего-то додуматься, человеку требуется хоть немного тишины и покоя! Разве не ясно: чтобы обозреть всю картину в целом, требуется, чтобы не было такого анафемского беспорядка! Дьявол их забери!
Я старею, старею. Я умру, ведь я же умру!
И тут мое отчаяние становится безграничным, неистовым. Я в горячке мечусь по кровати, железные прутья до крови вонзаются мне в тело, и кровь капает на пол. Я стенаю и плачу, я громко кричу от боли.
Смысл! Смысл!
Нет, самому мне его не найти! Самому не найти!
Может быть, мне позвонить, вызвать персонал? Может быть, попросить кого-нибудь из персонала спуститься в контору и навести справку? И в самом деле, может быть, они напишут мне ответ на бумажке?
Нет, нет! Вместо этого они просто пришлют мне счет. А мне нечем уплатить, я жду письма, много-много денег в письме, я жду письма, которое так и не приходит. Я жду его с определенностью, я жду его из определенного места, я знаю, что оно придет, оно может быть здесь с минуты на минуту. Но оно не приходит, оно так и не приходит, нет, оно не придет никогда в этой жизни! Я не имею права здесь находиться, не имею права лежать на этой кровати, которая врезается мне в спину.
Все другие трудятся не зная устали. А я – я жду письма. Все другие стучат, прибивают, клеят, штукатурят, лакируют. А я – я думаю, я смысла ищу, смысла, заложенного в этом всем.
Может быть, мне позвонить? Может быть, они напишут мне ответ на бумажке? Нет, нет! Ничего нельзя вот так просто позвонить и узнать! Ничего нельзя написать на бумажке!
О боже правый!
Я уже чувствую приближение смерти! Да, да! Я скоро умру! Я уже вот-вот умру!
О боже, о боже!..
И тут я встаю. Шатаясь, иду я по комнате. Нахожу свою одежду. Это заплесневелые лохмотья, брошенные в углу. Дрожа от холода, я натягиваю их на себя. Потом выхожу и, шатаясь, спускаюсь по лестнице.
У меня нет воротника. Мне приходится держать руку у шеи. Надо мной смеются, надо мной издеваются, мне вслед плюют. Это едва доходит до моего сознания.
Наконец я стою перед дверью в дирекцию. Смутно различаю я медную табличку и матовое стекло наверху, в котором шевелится большая тень. Я дрожу.
Я делаю несколько глубоких вдохов. Стараюсь хоть чуточку приободриться. Кутаюсь плотнее в свою заплесневелую одежду. Потом наконец отворяю дверь и вхожу.
Позади блестящей стойки полированного ореха стоит господин в прекрасно сшитом сюртуке и полосатых брюках, с синим перстнем на указательном пальце, в пенсне, верхний край которого образует ровную прямую черту. Верховный сатана собственной персоной. Он окидывает меня быстрым взглядом.
Я держу руку у шеи. Пробегаю пальцами по всклокоченным волосам. Стараюсь быть спокойным, совершенно спокойным. Я стараюсь быть совершенно спокойным.
И я подхожу к стойке, опираюсь о нее обеими руками и слегка наклоняюсь в его сторону.
– Извините, – говорю я. – Извините, не будете ли вы так добры сказать мне... для чего я жил?
Я выговариваю это запинаясь, лязгая зубами, дрожа всем телом.
Он тоже подходит к стойке. Опирается о нее руками, совсем как я, и все же, чудится мне, по-иному. Он наклоняется ко мне, у него синий галстук с булавкой и приятный запах изо рта. И он говорит:
– Вы, сударь мой? Вы лично?
Я утвердительно киваю.
Тогда он раскрывает большую книгу и смотрит в нее. Он находит меня. И вот он водит указательным пальцем сверху вниз, листая страницу за страницей, чистые страницы с тремя красными столбцами с правой стороны.
Мне тягостно. Мне жутко.
Потом он резко захлопывает книгу и впивается в меня острым взглядом.
– Это одному черту известно! Одному черту известно!
Он больше ничего не говорит. Ни в чем меня не упрекает. Он уже даже не смотрит на меня и спокойно возвращается к своим делам.
Этот случай его явно больше не интересует. Это даже не интересует его.
Я весь сжимаюсь, уничтоженный. Я бормочу какие-то слова, он их не слышит. Я пробегаю пальцами по своим волосам, влажным, как у ребенка. И нетвердым шагом иду к двери.
Я спускаюсь по лестнице, прохожу по громадному холлу. Пробираюсь между грудами досок, строительными подмостями, бородатыми работниками. Но никто больше не бросает мне вслед гнусных оскорблений, никто не осыпает меня бранью, никто не толкает меня, никто на меня не орет. Я больше никого не интересую. Я даже не интересую их.
Я мертв.
Я выхожу незамеченным через широкие, отворенные настежь двери.
И устремляюсь прочь, в бездонную тьму, из которой я пришел.
Злые сказки
Отец и я
Помню, когда мне было лет десять, как-то в воскресенье после обеда отец взял меня за руку и мы собрались в лес послушать пение птиц. Мы попрощались с мамой: она осталась дома готовить обед. Было солнечно, тепло, и мы бодро пустились в путь. Мы не то чтобы придавали особое значение пению птиц – подумаешь, эка важность! – мы оба были здоровые и разумные люди, жили среди природы и привыкли смотреть на нее не суетясь, не заискивая. Просто день был воскресный, и отец был свободен. Мы шагали по шпалам, вообще-то ходить там запрещалось, но отец работал на железной дороге, и ему было можно. Так мы вышли прямо к лесу, без крюков и обходных маневров.
Опушка встретила нас пением птиц и всем прочим. В кустах чирикали зяблики и пеночки, воробьи и певчие дрозды, – словом, стоял обычный лесной гвалт. Земля пестрела подснежниками, на березах только что распустились почки и ветки покрылись свежими побегами, отовсюду неслись запахи, и лес дышал испарениями – так припекало. Кругом была жизнь: из норок вылетали шмели, комары толклись над топью, а из кустов то и дело стрелой выскакивали птицы, чтоб на лету схватить их и тотчас исчезнуть. Мимо промчался поезд – мы спустились со шпал, отец поздоровался с машинистом, приложив два пальца к своей выходной шляпе, машинист отдал ему честь и помахал рукой; поезд шел на полной скорости. И снова мы шли по шпалам, потевшим на солнце смолой, а воздух пах машинным маслом и миндалем, вереском и смолой. Мы широко перешагивали со шпалы на шпалу, чтоб не обдирать ботинки о грубый щебень. Рельсы блестели на солнце. По обеим сторонам линии высились телеграфные столбы, они тихо гудели, когда мы проходили мимо. Что говорить, день был чудесный. Небо чистое, ни единого облачка, да и откуда взяться облачку в такую погоду – так папа сказал. Мы дошли до овсяного поля справа от линии, где один наш знакомый торпарь [5] держал подсеку. Овес рос плотно и ровно. Отец оглядел поле с придирчивостью хозяина и, кажется, остался доволен. Я не очень-то разбирался в овсах, ведь как-никак я родился в городе. Потом мы по мосту перешли ручей, обычно он был мелковатый, но в этот день там бурлила вода. Мы держались за руки, чтоб не оступиться. Так мы добрались до жилья обходчика, тонувшего в зелени яблонь и кустов крыжовника. Подошли к дому, поздоровались с хозяевами, они угостили нас молоком и показали нам своих кур, поросят, фруктовые деревья в цвету. И мы пошли дальше. Нам хотелось дойти до реки, потому что там было необычайно красиво, а вдобавок она протекала мимо дома, где прошло детство отца. Именно здесь кончались наши прогулки, и сегодня тоже. Станция была совсем рядом, но мы свернули к реке. Отец только взглянул, исправен ли семафор, – вот он какой: всегда обо всем подумает. Мы остановились у реки, слушая веселый шум воды. Река в этом месте разливалась широко и сверкала под солнцем. Густые прибрежные заросли отражались в воде, все было светло и свежо, с заводей поддувал ветерок. Мы спустились по склону и прошли немного берегом. Отец показывал мне рыбные места. Мальчишкой он сидел здесь на камнях и целыми днями удил окуней, иной раз ловилось плохо, но все равно не жизнь, а благодать, – жаль, теперь вот времени нет. Мы бродили по берегу, пускали по течению кусочки коры, бросали в воду камешки – кто дальше, нам было весело, мы наслаждались: и я, и отец. Наконец оба устали и решили, что на сегодня хватит, пора домой.
Начало смеркаться. Лес на глазах менял очертания, было еще не совсем темно, но почти. Мы заторопились. Мама, наверное, заждалась. Она всегда боялась, как бы с нами чего не случилось. Но что могло с нами случиться? В такой великолепный день! Все прошло чудесно, мы были довольны. Сумерки сгущались. Деревья стали какие-то странные. Они прислушивались к каждому нашему шагу, будто не узнавая. На одном сидел светлячок. Сидел и смотрел на нас. Я схватил отца за руку, но он не увидел этого странного света и прошел мимо. Совсем стемнело. Мы подошли к мосту через ручей. Внизу гремело так, словно там открылась бездна и хотела поглотить нас. Мы осторожно шагали по шпалам, держась за руки, судорожно вцепившись друг в друга, чтобы не упасть. Я думал, отец перенесет меня через мост, а он не стал, он хотел, чтоб я был как он, чтоб я не боялся. Мы шли и шли. Отец шагал в темноте спокойно, размеренно, молчал и думал о своем. Я не мог понять, как это он спокоен, когда кругом такая темень. Я испуганно озирался по сторонам. Кромешная тьма. Обмирая от страха, я даже глубоко дышать не смел: вдруг темнота проникнет внутрь и задушит меня? Так мне казалось в те минуты. Железнодорожная насыпь круто уходила вниз, в черноту, в ночную бездну. Телеграфные столбы тянулись к небу, как призраки, внутри у них что-то глухо клокотало, будто из-под земли шли голоса, а белые фарфоровые шляпки на столбах как бы испуганно съежились, прислушиваясь. Страшно. Все стало ненастоящее, чужое, точно в сне. Я прижался к отцу и прошептал:
– Папа, почему так страшно, когда темно?
– Что ты, малыш, не страшно, – ответил отец и взял меня за руку.
– Очень страшно, папа.
– Нет, малыш, ничего. Мы же знаем, бог нас не оставит.
Я чувствовал себя таким одиноким, покинутым. Удивительно, страх отделил меня от отца: он-то совсем не боялся. И как ни удивительно, слова его нисколько не помогли мне, я по-прежнему дрожал от страха. Даже упоминание о боге не помогло мне. Бог тоже был страшен. Страшно было, что он в этой темноте, что он повсюду: и внизу, под сенью деревьев, и в звенящих телеграфных столбах, всюду, всюду. Он всюду, а вот увидеть его нельзя.
Мы шли молча. Каждый думал о своем. Сердце сжималось, как будто темнота проникала внутрь и теснила его.
Вдруг уже на повороте сзади послышался жуткий грохот. Страх вырвал нас из раздумья. Отец поволок меня вниз по откосу, и мы замерли. Мимо шел поезд. Черный поезд, совершенно темный, в вагонах ни огонька, шел на бешеной скорости. Что за поезд? Сейчас не должно быть никакого поезда! Мы смотрели на него с испугом. В огромном паровозе пылал огонь, и кто-то лопатой подбрасывал в топку уголь, а искорки выделывали в ночи дикий танец. Кошмарное зрелище. Машинист стоял бледный, неподвижный, его лицо, подсвеченное снизу пламенем, точно окаменело. Отец не знал его, не знал, кто он и откуда; машинист смотрел вперед, и только вперед, устремляясь в темноту, которой не было конца.
Задыхаясь от страха, я стоял и глядел вслед ужасному видению. И вот его поглотила ночь. Отец снова вывел меня на рельсы, и мы поспешили домой.
– Странно, что за поезд? – проговорил он. – И машинист незнакомый.
Больше он не сказал ни слова.
А я никак не мог унять дрожь. Ведь это из-за меня, да, это все из-за меня. Я догадывался о том, что это означало: это был страх, мой будущий страх, все то неведомое, чего отец не знал, от чего он не мог меня защитить. Таким станет для меня этот мир и эта жизнь, не то что у отца, для которого все просто и ясно. Странный мир, странная жизнь. Пылающая жизнь, устремленная во тьму, которой нет конца.
Приключение
Пришел корабль под черным парусом, чтобы увезти меня. И я взошел на борт без особых колебаний, я был не прочь совершить небольшое путешествие, я был юн и беззаботен и тосковал по морю. Мы отчалили, берег исчез за кормой, и вот судно уверенно погнал свежий ветер. Команда попалась угрюмая и неразговорчивая. Мы плыли и плыли день и ночь, вперед и вперед. Земли все не было видно. Мы плыли и плыли с попутным ветром в открытом море, год за годом. А земли все не было видно. В конце концов мне это показалось странным, и я спросил у одного из матросов, в чем же дело. Он ответил, что земли больше нет. Она уничтожена, погрузилась на дно океана. Остались только мы.
Это известие поразило меня. Еще долго мы плыли по морскому простору. Ветер вздувал черный парус. Все было пустынно, только бездна под нами.
Вдруг поднялась ужасная буря. Море гремело и бушевало. Мы сражались со стихией во тьме. Буря не утихала, не отступала тьма. Так шел год за годом. Над черным парусом густели облака, кругом чернота, пустыня, бесприютность. Истерзанные, отчаявшиеся, мы боролись со страхом, тьмою и голодом, почти потеряв надежду.
И вот мы услышали оглушительный шум прибоя. Могучий вал бросил нас на шхеру, выступающую из моря. Судно разбилось, а мы ухватились за уступ скалы. Вокруг плавали обломки судна, лохмотья паруса, а мы цеплялись за камни. Потом наконец рассвело, и мы смогли осмотреться. Утес, на который нас бросило, был шероховатый, темный. На нем стояло одинокое сгорбленное дерево и не росло ни травы, ни цветов. Мы крепко цеплялись за этот утес. Мы были счастливы. Припав лицом к земле, мы плакали от счастья. Ведь это земля снова начала подниматься со дна океана.
Смерть героя
В одном городе, где люди жаждали все новых и новых развлечений, консорциум пригласил акробата на следующих условиях: сначала он будет балансировать на верхушке церковного шпиля, стоять там на голове, а потом упадет и разобьется. За это он получит пятьсот тысяч. Затея вызвала живейший интерес у граждан всех сословий. Билеты были распроданы за несколько дней, и все только и говорили что о предстоящем событии. Вот это смелость – ничего не скажешь! Но ведь и сумма какова! Конечно, не очень приятно упасть и разбиться, да еще с такой высоты. Однако и плата назначена щедрая, с этим нельзя не согласиться.
Консорциум, выступавший как устроитель, действительно не поскупился, и граждане по праву гордились, что в их родном городе состоится подобное представление. Естественно, необычайный интерес вызвала личность того, кто взялся осуществить задуманное. Репортеры буквально преследовали смельчака, не давали ему шагу ступить: ведь до спектакля оставалось всего несколько дней. Он любезно принимал журналистов в своем номере в лучшей гостинице города.
– Гм, для меня это просто сделка. Мне предложили известную вам сумму, и я согласился. Вот, собственно, и все.
– Но не смущает ли вас то обстоятельство, что вам придется поплатиться жизнью? Разумеется, другой финал невозможен, иначе не получилось бы сенсации и консорциум не смог бы обещать такое вознаграждение. Но все же для вас лично в этом мало радости.
– Да, вы правы, я и сам об этом думал. Но чего не сделаешь ради денег!
На основании этих высказываний пресса публиковала длинные статьи о безвестном до той поры человеке, о его прошлом, взглядах, о его отношении к различным проблемам современности. Много места уделялось его характеру и личной жизни.
Ни одна газета не выходила без фотографии героя. С газетных полос на вас смотрел молодой, крепко скроенный человек, ничем особенно не примечательный, с энергичным, открытым лицом, живой и в меру самоуверенный, волевой и здравомыслящий – одним словом, типичный представитель лучшей части современной молодежи. Портрет его обсуждали и изучали в каждом кафе: люди готовились к предстоящей сенсации. Все находили, что он недурен и даже, пожалуй, симпатичен, а женщины считали его просто обворожительным. Некоторые – те, у кого ума было побольше, – пожимали плечами и говорили: «Ловко сработано!» Все, однако, соглашались в том, что это странная, фантастическая идея, какая может родиться только в наш необычайный век с его бешеным темпом жизни, век, который может пожертвовать всем. Сходились все и на том, что консорциум достоин всяческих похвал, так как не посчитался ни с какими затратами, чтобы осуществить задуманное и дать городу возможность насладиться подобным зрелищем. По всей вероятности, консорциум предполагал покрыть расходы за счет сборов – билеты стоили очень дорого, – но риск тем не менее был.
Наконец великий день настал. Весь квартал вокруг церкви был забит народом. Напряжение достигло предела. Затаив дыхание, люди ждали того, что должно было свершиться.
И человек действительно упал. Все произошло очень быстро. Зрители содрогнулись, а потом стали расходиться по домам, испытывая, однако, некоторое разочарование.
Это было, конечно, великолепно, но все же... Он ведь только упал и разбился. Пожалуй, слишком дорого заплатили они за то, что оказалось в конечном счете так просто. Разумеется, он ужасно разбился, но какая в этом радость? Загублена молодость, полная надежд.
Недовольные граждане понуро шли домой, дамы раскрыли зонтики, чтобы защитить себя от солнца. Нет, следовало бы запретить демонстрацию подобных ужасов. Кому они могут доставить удовольствие? Если хорошенько подумать, то все это просто возмутительно.
Священные кости
Два народа вели друг с другом большую войну, которой оба очень гордились и которая так разжигала страсти, что обычные мелкие человеческие переживания против них ничто. Уцелевшие в битвах люди жадно предавались им. По обеим сторонам границы, где велись бои и не затихала кровопролитная резня, воздвигались огромные монументы павшим воинам, принесшим себя в жертву отчизне и ныне упокоенным в земле. Туда устремлялись паломники, там произносились пылкие речи в честь героев, кости которых спят под землей, освященные доблестной смертью и прославленные навеки.
Но вот прокатилась молва, что на полях былых сражений ночами происходит что-то странное. Мертвые встают из могил, переходят границу и встречаются, будто они давным-давно помирились.
Весть потрясла всех. Павшие смертью храбрых герои, перед которыми преклоняется народ, встречаются с врагами, мирятся с ними! Ужасно!
Оба народа выслали комиссию, чтобы в этом разобраться. За уцелевшими после боев чахлыми деревьями устроили засаду и стали дожидаться полуночи.
И – о ужас! – невероятные слухи подтвердились. Из пустынной земли восставали страшные привидения и шли к границе, причем, кажется, они что-то несли. Все бросились к ним с негодованием:
– Вы принесли себя в жертву родине, мы перед вами преклоняемся, к вам рвутся паломники, мы почитаем и помним вас, свято оберегаем ваши могилы, а вы якшаетесь с врагом, миритесь с ним!
Павшие герои удивились:
– Да что вы, ничего подобного. Мы по-прежнему ненавидим друг друга. Просто меняем кое-какие кости, они все ужасно перепутались.
Юхан Спаситель
Мое имя Юхан, но все называют меня Спасителем, потому что я спасу людей на земле. В этом мое предназначение, и потому меня так называют. Я не такой, как другие, и никто здесь в городе не похож на меня. В моей груди господь зажег огонь, который никогда не гаснет, я чувствую, как он горит во мне, горит день и ночь. Я знаю, что должен спасти людей, что ради них я буду принесен в жертву. Моя вера, вера, которую я им проповедую, принесет им освобождение.
Да, я знаю, как сильно я должен верить, верить за них, за всех, кто сомневается, кто алчет, и жаждет, и не может насытиться. Я должен укрепить их. В тоске и горе взывают они ко мне, и я, будто мановением доброй и ласковой руки, освобожу их от всех бед – и не будет больше ни забот, ни тревог.
Да, я спасу людей на земле. В четырнадцать лет я понял, что в этом мое предназначение. С тех пор я не такой, как другие.
Я даже одет не так, как все. На куртке у меня два ряда серебряных пуговиц, вокруг пояса – зеленая лента, а на рукаве – красная. На шее у меня висит на шнурочке крышка от сигарной коробки, на которой нарисована молодая и красивая женщина – что это такое, я уже не помню. Вот так я одет. А на лбу у меня звезда, которую я сам вырезал из жести, звезда сияет на солнце, ее видно издалека, она сверкает так, что все обращают на нее внимание.
Когда я иду по улице, люди смотрят мне вслед. Они удивляются. «Смотрите, Спаситель», – говорят они. Они знают, что это я. Знают, что я пришел, чтобы спасти их.
Но они меня не понимают. Они верят не так, как нужно верить. Не так, как верю я. В них не пылает огонь, как во мне. Поэтому я должен говорить с ними, учить их верить, поэтому я должен пока быть среди них.
По-моему, это очень странно: они видят своего Спасителя, слышат его, он живет среди них, и все-таки они его не понимают. Но когда-нибудь глаза у них раскроются, и они увидят его таким, каков он есть.
Сегодня базарный день. Я был на площади и проповедовал, как обычно. Там были крестьяне со своими телегами. Все собрались вокруг меня. Я говорил им обо всем том, что ношу в себе, о слове божием, которое я должен возвестить миру, и о том, что я пришел освободить их, что я помогу им обрести покой. Они слушали внимательно, я думаю, их утешили мои слова.
Я не знаю, почему они смеялись. Я не смеюсь никогда. Для меня все серьезно. И когда я стоял, глядя на всех этих людей, и думал, что у каждого из них есть душа, которую нужно спасти от гибели, я чувствовал, сколь велика и серьезна моя задача. Как это чудесно – говорить и видеть, что тебя слушают. Мне даже показалось на миг, что передо мной неисчислимые толпы людей, среди них и те, кто не пришел сегодня меня послушать (ведь когда базар небольшой, народу бывает не так много), показалось, что я вижу всех людей земли, всех алчущих и жаждущих покоя, и я несу им спасение. Это был миг блаженства, я никогда его не забуду.
Мне кажется, сегодня я говорил вдохновенно и они понимали меня.
Когда я кончил, один из них выступил вперед и от имени всего собрания вручил мне кочан капусты. Я взял его с собой и дома сварил удивительно вкусный и сытный суп. Уже давно я не ел горячего. Боже, благослови этого доброго человека.
Как жаль людей! Все они несчастны, все страдают, все в отчаянии. Булочник Юханссон несчастен оттого, что лишился покупателей, с тех пор как рядом открылась другая булочная. Хлеб у него все такой же хороший, он мне часто дает кусочек. Хлеб всегда хорош. Полицейский Экстрем, с которым я часто разговариваю, несчастен потому, что жена у него плохая хозяйка и совсем перестала о нем заботиться. Даже городской судья и тот несчастен, потому что потерял своего единственного сына.
Только я счастлив. Во мне ведь горит огонь веры, который никогда не гаснет, который будет гореть и гореть, пока не сожжет меня. Я не знаю ни забот, ни тревог, я не такой, как они. Таким мне быть нельзя.
Нет, мне нельзя отчаиваться. Ведь я должен верить за них.
Они взяли меня на казенный кошт, чтобы я мог посвятить себя своему делу, ни о чем больше не заботясь. Мне здесь хорошо, нас кормят два раза каждый день. Все здесь бедные и несчастные люди, мне их очень жаль. Они добрые и тихие, кажется, еще никто не понимал меня так хорошо, как они. Они тоже называют меня Спасителем и очень уважают.
По вечерам я им проповедую. Они слушают меня с благоговением, каждое слово западает им в душу. Как сияют их глаза, когда я говорю! Они хватаются за меня, за мои слова, как за свою единственную надежду. Да, они понимают, что я пришел их спасти.
После ужина я всегда собираю их вокруг себя и вдохновенно говорю о той вере, которая может преодолеть все, которая превратит этот мир в счастливую обитель, дарованную нам господом. Начальник говорит, что это можно, что это разрешается. Он мной доволен. Потом мы идем отдыхать. В комнате нас четверо. Над моей постелью висит звезда, она сияет надо мной всю ночь, она бросает свет на мое лицо, когда я сплю. Я не такой, как другие.
О страшное отчаяние в моей душе! Отчаяние и тоска душат нас всех!
Исчезла звезда, звезда спасения, которая одна только может указать нам путь! Утром, когда я проснулся, гвоздь, на который я ее повесил, был пуст. Никто не знает, куда она пропала. Тьма поглотила нас, я ищу луч света, но не нахожу ничего, не нахожу пути из этой ужасной тьмы. Все убиты горем, весь город погружен в печаль. Из окна нашего дома мы видим, каким серым и мрачным стало небо, кажется, будто дома и улицы посыпаны пеплом, нигде ни огонька.
Как же нам быть? Как избавиться от отчаяния, охватившего нас?
Все с надеждой смотрят на меня. Но что я такое, раз над моей головой не сияет звезда и небесный свет не ведет меня? Теперь я – ничто, такой же бедняк, как все.
Кто же тогда спасет нас?
Все уладилось, все хорошо. Я целый день благодарил господа.
Старый Энук спрятал ее. Мы нашли ее у него под матрацем. Теперь все счастливы и спокойны. После этого испытания моя вера окрепла еще больше.
Это была только шутка, я не сержусь.
Иногда я чувствую такое одиночество и пустоту вокруг. Мне кажется, что люди не понимают, зачем я послан к ним. Я сомневаюсь в своей власти над их душами. Сумею ли я освободить их?
Они всегда так хорошо улыбаются, когда я проповедую, их лица светлеют, едва они завидят меня. Но верят ли они в меня по-настоящему?
По-моему, очень странно, что они не понимают, кто я такой, не чувствуют огня, пылающего во мне, неземного вдохновения, сжигающего мою душу. Ведь сам-то я хорошо это чувствую.
Иногда во время проповеди мне вдруг кажется, будто я совсем один, хотя вокруг толпятся люди, много людей, слушающих меня. Я – как пламя, которое вздымается все выше и выше к небу, становясь все чище и ярче. Но никто не греется возле него...
О сомнение, которое хочет сломить меня! Ты, только ты и повинно в том, что мы так несчастны и униженны.
Сегодня я был в гостях у птиц и цветов. Они были рады, что я пришел. Жаворонки пели, фиалки и одуванчики выглядывали из травы. Я проповедовал им в полной тишине. Все слушало. Жаворонки повисли над моей головой, чтобы послушать. Какой душевный покой чувствовался в природе, здесь все так хорошо понимают меня.
Если бы люди были цветами и деревьями, они бы тоже поняли меня. Да, они были бы куда счастливее!
Но они привязаны к земле, хотя и не принадлежат ей. Они как растения, вырванные с корнем, и солнце палит их, и земля ждет, когда они сами станут землею. Ничто не может сделать их счастливыми, ничто не может их спасти, кроме слова божьего, которое я им несу. И тогда все станет на свои места, и земля станет пахнуть лилиями, и люди обретут покой.
Когда я вечером возвращался домой, возле пивных было много народу, и все звали своего Спасителя и хотели, чтобы я проповедовал. Но я отвечал, что говорил с моим богом и теперь должен идти домой, чтобы обдумать то, что он мне сказал.
Может быть, я поступил неправильно, но я чувствовал себя чужим среди них и с печалью в сердце пошел домой.
О сердце, как мне тяжело жить! Как тяжко бремя, которое я несу!
Сегодня, когда я, погруженный в свои мысли, шел по улице, я попал вдруг в толпу детей, выходивших из школы. Они окружили меня. «Смотрите, Спаситель идет, – кричали они, – Спаситель идет!» Их было много, и мне пришлось остановиться. И тогда один из них раскинул руки и закричал: «Распятый! Распятый!» Я думаю, кто-нибудь подучил их, потому что остальные тоже раскинули руки и вокруг меня зазвенели детские голоса: «Распятый! Распятый!»
Меня будто ударили ножом. Я почувствовал, как остановилось сердце, холодный пот выступил на лбу. Под их крики и шум я кое-как выбрался из толпы. Я вошел во двор столяра Лундгрена, сел и заплакал.
Я люблю детей. Никто их так не любит, как я. Когда я смотрю в их чистые глаза, я чувствую радость, которую не может дать ничто другое на свете. Я хотел бы, чтобы они ко мне приходили. Я сажал бы их на колени, гладил бы по голове, и они прижимались бы щекой к моей щеке...
Я часто видел, что так делает маленький сын булочника Юханссона, когда сидит по вечерам на пороге со своим отцом: он гладит отца по щеке и обнимает за шею, и так они сидят долго-долго, не тревожась ни о чем на свете. Как часто мне хотелось, чтобы детская рука вот так же ласкала и меня...
Но тот, кто послан на землю, чтобы спасти людей, бредет в одиночестве, он как чужой среди них. У него нет очага, нет земных радостей, нет и печалей. Он – изгой, ибо в нем пылает огонь, который испепелит их. Кто он, непохожий на остальных?
Распятый! Распятый!
Только верить и верить! Верить за них всех! Каждый вечер я прихожу такой усталый, будто прожил тысячи чужих жизней. Я свертываюсь клубочком, как зверь, и засыпаю. Лишь звезда горит надо мной, смертельно усталым, горит, чтобы я снова проснулся и верил еще сильней.
Почему такое предназначение выпало именно мне? Часто, когда я сижу у окна и смотрю сверху на город, мне кажется странным, что именно я призван спасти их. Ведь я такой ничтожный, многие в мире обладают большей силой и большей властью, чем я. Призвание давит меня, как ноша, для которой я слишком слаб, и я падаю на колени. В такие мгновения мою душу наполняет отчаяние и страх...
Но разве Спасителю дозволено упасть? Разве дозволено ему чувствовать страх?
О, почему я, самый слабый из всех, должен верить за них!
Сегодня, когда я шел по площади, я встретил судью. Он кивнул мне.
– Здравствуй, Юхан, – сказал он.
Я даже остановился...
Он не назвал меня Спасителем!
«Здравствуй, Юхан», – сказал он только... Только Юхан, больше ничего.
С той поры, когда я был еще ребенком, меня никто так не называл. Теперь я вспомнил, что так звала меня мать. Она сажала меня на колени и гладила по голове... Теперь я вспомнил, я только подумал немножко и вспомнил...
«Здравствуй, Юхан...»
Она была такая добрая. По вечерам она приходила домой, зажигала лампу и готовила ужин, а потом я забирался к ней на колени. Волосы у нее были совсем золотые, а руки красивые и белые-белые, потому что целыми днями она мыла полы... Теперь я вспомнил... Я обнимал ее за шею... Я помню...
«Здравствуй, Юхан...»
Как хорошо мне стало, когда судья сказал это. Тепло и хорошо. И в душе сразу как будто все успокоилось – ни тревоги, ни тоски.
Только Юхан, больше ничего.
О, если бы я мог быть таким, как все! Если бы мог снять с себя бремя своего предназначения, стать одним из них, таким, как они. Жить спокойно и безмятежно своими земными заботами, как все, день за днем, и вечерами приходить усталым от будничных дел, которые сделал как нужно, усталым от них, а не от веры, одной только веры...
Может быть, я сумел бы помогать столяру Лундгрену. Или, если бы это оказалось трудным, подметать двор.
И я бы стал таким, как они. И огонь не жег бы меня больше. И не терзало отчаяние.
Только Юхан, больше ничего... Они бы все знали, кто я, видели бы каждый день, что я занят своим делом. А, Юхан, это который подметает двор у столяра!..
О, зачем я избран спасти их, я, самый жалкий и слабый из всех! Я, который хотел бы только тишины и покоя, благодарный за то, что мне позволено жить на земле. Как пришелец, опустившийся на колени перед богатым столом, как едва заметный росток.
О господи, отец мой, если можно – пусть минует меня чаша сия!
Нет, нет. Мне нельзя сомневаться. Нельзя покинуть их.
Что же смущает мою душу? И толкает меня низвергнуть их в пропасть, во тьму, покинуть их?
Это ужасно! Неужели я не верю больше?
Нет, нет! Я верю, верю, как никогда раньше! Я спасу их. Я, только я должен спасти их!
Я иду и иду в ночи, иду не останавливаясь. По улицам, потом по дороге, далеко в лес и обратно... Дует ветер, несутся облака... Где я?.. Голова горит... Я так устал...
Нет, я верю. Я верю. Я спасу их, я буду принесен в жертву ради них. Скоро, скоро...
Но почему тогда я чувствую такую тоску? Разве можно Спасителю так тосковать и отчаиваться?
Нет, нет...
Я, кажется, снова в лесу. Слышится шум деревьев... Зачем брожу я здесь? Почему я не там, не с людьми, которые ждут и ждут...
Но ведь они меня не понимают.
А как им понять меня, который весь – отчаяние и тоска? Как им поверить мне, который бродит во тьме, не зная покоя?
Нет, не могу я спасти их! Не могу!
Да, их Спаситель в тоске и страхе. Он как птица, что кричит высоко в небе над их головами. Они слышат ее крик там, в поднебесье, но не знают, о чем она кричит им, потому что птица так высоко. И пока она, истекая кровью, замертво не упадет на землю, они не поймут. Только после этого они поймут, потом они смогут верить.
Распятый! Распятый!
Да, меня принесут в жертву.
Они освободятся ценой моей крови, моей бедной крови...
Скоро, скоро случится это...
Спите спокойно в ночной тиши – все цветы, все луга, все деревья, все люди на свете! Обрети покой, милая сердцу земля. Я освобожу тебя. Я ночью не сплю над тобой. Вся твоя тоска – моя. Ты не будешь страдать, не будешь. Ведь я отдам за тебя жизнь.
Как тихо в лесу... Я иду по опавшей листве... Моих шагов не слышно...
Много цветов и листьев гниет осенью, и под деревьями так мягко идти... Пахнет гнилью...
Колокол бьет в городе... Раз... Два...
О, я так устал, так устал... Мне нужно домой.
Я пойду и прилягу, я не могу больше. Они ведь ждут, удивляются, куда это я пропал.
Вот я, кажется, на дороге. Какая вязкая глина... Наверное, вчера шел дождь... А какой ветер!
Нет, колокола бьют и бьют. Воздух дрожит... Кажется, произошло что-то ужасное... Много колоколов, они звенят, они стонут, как в день Страшного суда. Что это? Нужно бежать.
Это пожар! Пожар! Бушует пламя, небо стало кроваво-красным. Это горит город! Это горит мир, все гибнет!
О боже, я должен спасти их. Я должен. Они ждут меня – он не идет, почему он не идет?
Но я бегу, я бегу! Я спасу вас! Только глина мешает, но я ведь бегу!
Горит земля, горит небо – целое море огня! Я должен спасти их, я должен спасти их!
Сердце, не бейся так сильно, не надо, сердце, родное мое, не надо! Ведь я не смогу бежать, а я должен спасти их! Ты же знаешь, я должен спасти их!
Сплошное море огня. И грохочет шторм. Пылающее небо обрушивается на землю и поджигает ее.
Я встречаю людей – все бегут туда же.
– Мир гибнет! – кричу я им.
– Э, – отвечают они, – это всего-навсего богадельня.
Да, всего-навсего богадельня. Все эти несчастные, алчущие и жаждущие, потому что они не в силах верить, – они в огне. Они гибнут! Только я могу их спасти.
Сердце, не бейся так, не делай мне больно, я скоро добегу, уже скоро, скоро...
Бьются языки пламени, дым застилает улицу, я чувствую жар...
И вот я у цели.
Начальник здесь, и много народу собралось.
– Я спасу их! Спасу! – кричу я.
– Там некого спасать! – кричат они, пытаясь меня задержать. Они не понимают. Я бросаюсь в огонь.
Дым душит меня. Нет, я не упаду, нет, их Спаситель не может упасть. Я проберусь – вот прихожая... коридор... комната...
Здесь пусто. Их нет. Они наверху.
Дым на лестнице душит меня, огонь слепит... Нет, я не упаду... Я спасу их... Всех... Всех...
Где они?
Я ощупью двигаюсь вперед, как во сне. Плотная стена дыма. Языки пламени. Очень трудно устоять на ногах.
Где они?
Старый Энук, который сам уже не ходит... И Антон – он хромой, и старуха Кристина – она ничего не понимает, совсем как ребенок, и Самуэльсон, и Манфред...
Я не вижу их – их нет...
Я ползу по полу – пламя ползет за мной... Кругом шумит... ревет... рушится... Где они?.. Тут нет ни столов, ни кроватей – ничего, пусто и холодно... будто никто не живет здесь и не жил... Где они? Здесь их нет... Здесь только я... только я...
Кругом горит, горит! Рушатся балки, бушует пламя... Я мечусь в огне... Где они? Где они? Все несчастные люди... Я не нашел их, их нет – только огонь, только пламя, только я, только я...
О мое сердце, это ты горишь? Может быть, это только ты? Я чувствую, как ты сжигаешь мое тело, мою грудь, скоро не останется ничего, кроме тебя! Сердце, поглоти все! Я хочу быть только тобою, только тобою, сердце, алчущее и жаждущее, только тобою, огонь, сжигающий меня!
Ничем другим... ничем другим... только тобою...
Нет, я не могу больше... не могу... это – конец... Да, я падаю... Падаю... Это конец...
О господи, прости, что я не нашел людей, которых должен был спасти! Я не нашел их... Прости, сердце, которое горит... горит, пылая жаждою принести себя в жертву... умереть... умереть...
Я знаю, ты простишь меня... Ты простишь, сердце, которое сгорело ради тебя... Во имя тебя... Это ты любишь... Да, это ты любишь... Ты позволишь ему сгореть... Сгореть... Позволишь обрести покой... Покой...
Распятый! Распятый!
А лифт спускался в преисподнюю
Заместитель директора банка Йенссон открыл дверь роскошного лифта и нежно подтолкнул вперед грациозное создание, пахнущее пудрой и мехами. Опустившись на мягкое сиденье, они тесно прижались друг к другу, и лифт пошел вниз. Маленькая женщина потянулась к Йенссону полуоткрытыми губами, источавшими запах вина, и они поцеловались. Они только что поужинали на открытой террасе отеля, под звездами, и собирались теперь развлечься.
– Как чудесно было наверху, любимый! – прошептала она. – Так поэтично сидеть там с тобой – будто мы парим высоко-высоко, среди звезд. Только там начинаешь понимать, что такое любовь. Ты ведь любишь меня, правда?
Заместитель директора банка ответил поцелуем, еще более долгим, чем первый. Лифт опускался.
– Как хорошо, что ты пришла, моя маленькая, – сказал он. – Я уже места себе не находил.
– Да, но если бы ты знал, какой он несносный! Едва я начала приводить себя в порядок, он сразу же спросил, куда я иду. «Туда, куда считаю нужным», – ответила я. Ведь как-никак я не арестантка! Тогда он сел, и вытаращился на меня, и таращился все время, пока я одевалась – надевала мое новое бежевое платье; как по-твоему, оно мне идет? И вообще, какое больше мне к лицу? Может, все-таки розовое?
– Тебе все к лицу, любимая, – восторженно ответил заместитель директора банка, – но такой ослепительной, как сегодня, я еще не видел тебя никогда.
Благодарно улыбнувшись ему, она расстегнула шубку, и губы их слились в долгом поцелуе. Лифт опускался.
– Потом, когда я была уже совсем готова и собралась уходить, он схватил меня за руку и стиснул ее так, что до сих пор больно, и хоть бы слово сказал! Такой грубый, ты себе представить не можешь! «Ну, до свидания», – говорю я ему. Он, разумеется, на это ни слова. Такой упрямый, что просто сил нет.
– Бедная моя малютка, – сказал заместитель директора банка Йенссон.
– Будто я не имею права немного развлечься! Но знаешь, таких серьезных, как он, нет, наверно, больше на свете. Не умеет он смотреть на вещи просто и естественно, для него все вопрос жизни и смерти.
– Бедная крошка, сколько тебе пришлось вынести!
– О, я страдала ужасно, ужасно. Таких страданий не испытал никто. Только встретив тебя, узнала я, что такое любовь.
– Дорогая! – сказал Йенссон, обнимая ее. Лифт опускался.
– Какое блаженство, – заговорила она, опомнившись после его объятий, – сидеть с тобой там, наверху, и смотреть на звезды, и мечтать; о, я никогда этого не забуду. Ведь Арвид такой невозможный, всегда серьезный, в нем нет ни капли поэзии, для него она просто недоступна.
– Могу представить себе, любимая, как это ужасно.
– Правда ужасно? Нет, – улыбнулась она, протягивая ему руку, – к чему сидеть и говорить о таких вещах? Сейчас мы выйдем и хорошенько повеселимся. Ты ведь любишь меня?
– Еще как! – воскликнул заместитель директора банка и впился в нее долгим поцелуем – так, что у нее перехватило дыхание. Лифт опускался. Йенссон склонился над ней и осыпал ее ласками; она зарделась. – Мы будем любить друг друга сегодня ночью как никогда прежде, да?.. – прошептал он. Она притянула его к себе и закрыла глаза. Лифт опускался.
Он опускался и опускался.
Наконец Йенссон встал, лицо его раскраснелось.
– Но что же такое с лифтом? – удивился он. – Почему он не останавливается? По-моему, мы сидим и болтаем здесь невероятно долго, разве не так?
– Да, милый, пожалуй, ты прав. Ведь время летит так быстро.
– Мы сидим здесь уже бог знает сколько! В чем дело?
Он посмотрел сквозь решетку двери. Кромешная тьма – и ничего больше. А лифт между тем все опускался и опускался с хорошей, ровной скоростью, все глубже и глубже вниз.
– Бог мой, в чем же дело? Мы будто падаем в бездонную яму, и это длится уже целую вечность!
Они пытались разглядеть что-нибудь в этой бездне. Кромешная тьма. Они погружались в нее все глубже и глубже.
– Спускаемся в преисподнюю, – сказал Йенссон.
– Мне страшно, любимый, – прохныкала женщина, повисая на его руке. – Прошу тебя, потяни скорее аварийный тормоз!
Йенссон потянул изо всех сил. Не помогло: лифт по-прежнему спешил вниз, в бесконечность.
– Ужас какой-то! – закричала она. – Что нам делать?!
– А какого черта тут сделаешь? – отозвался Йенссон. – Это похоже на бред.
Маленькую женщину охватило отчаяние, она разрыдалась.
– Перестань, дорогая, не плачь, надо отнестись к этому разумно. Все равно тут ничего не поделаешь. Так, а теперь присядем... Ну вот, посидим спокойно, рядышком, и посмотрим, что будет дальше. Должен же он когда-нибудь остановиться, хотя бы перед самим сатаной!
Так они сидели и ждали.
– И подумать только, – сказала женщина, – чтобы такое случилось с нами именно тогда, когда мы собрались развлечься!
– Да, черт знает до чего глупо, – согласился Йенссон.
– Ты ведь любишь меня, правда?
– Дорогая малютка! – И Йенссон крепко прижал ее к груди. Лифт опускался.
И наконец стал. Яркий свет вокруг слепил глаза. Они были в аду. Черт предупредительно открыл решетчатую дверь лифта и, отвесив глубокий поклон, сказал:
– Добрый вечер!
Одет он был с шиком, только сзади фрак топорщился, будто на ржавом гвозде: очень уж выпирал на волосатом загривке черта верхний позвонок. Испытывая головокружение, Йенссон и женщина кое-как выбрались наружу.
– Где мы, о боже?! – закричали они, цепенея от ужаса при виде этого жуткого существа.
Черт, немного смутившись, объяснил им, куда они попали.
– Но это не так страшно, как принято думать, – поспешил он добавить, – надеюсь, господа даже получат удовольствие. Только на одну ночь, насколько я понимаю?
– Да-да! – торопливо подтвердил обрадованный Йенссон. – Только на одну ночь! Оставаться дольше мы не собираемся, ни в коем случае!
Маленькая женщина, дрожа, вцепилась в его локоть. Желто-зеленый свет был так резок, что почти невозможно было что-либо разглядеть. Дело скверное, решили они. Когда глаза их немного привыкли, они увидели, что стоят на площади, вокруг которой высятся во мраке дома с докрасна раскаленными подъездами; гардины были задернуты, но сквозь щели было видно, что внутри полыхает огонь.
– Господа, кажется, любят друг друга? – осведомился черт.
– Да, бесконечно, – ответила женщина, и ее прекрасные глаза засияли.
– Тогда прошу за мной, – любезно предложил черт. Пройдя несколько шагов, они свернули с площади в темный переулок. У замызганного парадного висел старый, треснувший фонарь. – Сюда, пожалуйста. – Он открыл дверь и деликатно отступил назад, пропуская их.
Они вошли. Их встретила толстая, льстиво улыбающаяся чертовка с большими грудями и катышками фиолетовой пудры в бороде и усах. Она пыхтела, ее глаза, похожие на горошинки перца, смотрели дружелюбно и понимающе, рога на лбу были обвиты прядями волос и перевязаны голубыми шелковыми ленточками.
– Ах, это господин Йенссон с дамой! Пожалуйста, восьмой номер, – сказала она, протягивая им большой ключ.
Они двинулись вверх по засаленной лестнице. Ступени блестели от жира, того гляди поскользнешься; подниматься пришлось на два марша. Йенссон отыскал восьмой номер, и они вошли. Комната была небольшая, воздух – тяжелый, затхлый. Посередине стоял стол, покрытый грязной скатертью, у стены – кровать с несвежими простынями. Комната показалась им уютной. Они сняли пальто, и губы их слились в долгом поцелуе.
Незаметно в другую дверь вошел человек в одежде официанта, но смокинг был опрятный, а манишка такая чистая, что казалось, светится в полутьме. Ступал он бесшумно, шагов слышно не было, и двигался как автомат, будто не сознавая, что делает. Неподвижные глаза на строгом лице смотрели прямо перед собой. Человек был мертвенно-бледен, а на его виске зияло пробитое пулей отверстие. Он прибрал комнату, вытер туалетный столик, поставил ночной горшок и ведро для мусора.
Они не обращали на него никакого внимания, но, когда он собрался уходить, Йенссон сказал:
– Пожалуй, мы возьмем немного вина, принесите нам полбутылки мадеры.
Человек поклонился и исчез.
Йенссон снял пиджак. Женщина колебалась:
– Ведь он еще вернется.
– Ну, детка, в местах вроде этого стесняться нечего, раздевайся – и все.
Она сняла платье, кокетливо подтянула штанишки и села к нему на колени. Это было восхитительно.
– Подумай только, – прошептала она, – мы с тобой одни в таком необыкновенном, романтическом месте! Как поэтично! Я не забуду этого никогда...
– Прелесть моя, – сказал он, и губы их слились в долгом поцелуе.
Человек вошел снова, совсем бесшумно. Неторопливыми движениями автомата он поставил рюмки, налил в них вино. На его лицо упал свет ночника. В этом лице не было ничего особенного, просто оно было мертвенно-бледное, а на виске зияло пробитое пулей отверстие.
Вскрикнув, женщина соскочила с колен Йенссона.
– Боже мой! Арвид! Так это ты! Ты! О бог мой, он умер! Он застрелился!
Человек стоял неподвижно, устремив взгляд прямо перед собой. Его лицо не выражало страдания, оно было только строгим, очень серьезным.
– О Арвид, что ты наделал, что наделал! Как ты мог?.. Милый, если б хоть что-либо подобное пришло мне в голову, уверяю тебя, я бы осталась дома, с тобой. Но ведь ты никогда ничего такого не говорил. Ты не сказал мне об этом, когда я уходила, ни единого слова! Откуда же мне было знать, раз ты молчал? О боже!..
Ее била дрожь. Человек смотрел на нее как на чужую, незнакомую, взгляд был ледяной и бесцветный, этот взгляд проходил сквозь все, что оказывалось перед ним. Изжелта-белое лицо блестело, кровь из раны не шла, там просто было отверстие.
– О, это страшно, страшно! – закричала она. – Я не хочу здесь оставаться. Уйдем сейчас же, я этого не вынесу!
Она подхватила платье, шубу и шляпку и выскочила из комнаты. Йенссон последовал за ней. Они бросились вниз по лестнице, она поскользнулась и села в плевки и сигарный пепел. Внизу стояла та же рогатая старуха, она дружелюбно и понимающе ухмылялась в бороду, кивала головой.
На улице они немного успокоились. Она оделась, привела в порядок свой туалет, припудрила нос. Йенссон, словно защищая, обнял ее за талию, поцелуями остановил слезы, готовые брызнуть из ее глаз, он был такой добрый. Они торопливо зашагали к площади.
Черт-распорядитель по-прежнему там прохаживался, они снова на него наткнулись.
– Как, уже все? – сказал он. – Надеюсь, господа остались довольны?
– О, это было ужасно! – воскликнула женщина.
– Не говорите так, быть не может, чтобы вы на самом деле так думали. Посмотрели бы вы, сударыня, как было в прежние времена! А теперь на преисподнюю просто грех жаловаться. Мы делаем все, чтобы человек не только не почувствовал боли, но и получил удовольствие.
– Что правда, то правда, – согласился господин Йенссон, – надо признать, что стало гуманнее.
– О да, – сказал черт, – модернизировано все сверху донизу, как полагается.
– Конечно, ведь надо идти в ногу с веком.
– Да, теперь остались только душевные муки.
– И слава богу! – воскликнула женщина.
Черт любезно проводил их к лифту.
– До свидания, – сказал он, отвешивая низкий поклон, – и добро пожаловать снова.
Он захлопнул за ними дверь. Лифт пошел вверх.
– Как все же хорошо, что это кончилось, – с облегчением сказали оба, когда, тесно прижавшись друг к другу, опустились на мягкое сиденье.
– Без тебя я бы этого не вынесла, – прошептала женщина.
Он притянул ее к себе, и губы их слились в долгом поцелуе.
– Подумать только, – сказала она, опомнившись после его объятий, – чтобы он мог такое сделать! Но он всегда был со странностями. Никогда не умел смотреть на вещи просто и естественно, для него все было вопросом жизни и смерти.
– Ну и глупо.
– Ведь мог же он мне об этом сказать? Я бы осталась дома. Мы с тобой могли бы встретиться в другой вечер.
– Ну конечно, – сказал Йенссон, – конечно, встретились бы в другой раз.
– Но, любимый мой, что мы сидим и говорим об этом? – прошептала она, обвивая руками его шею. – Ведь все уже позади.
– Да, моя девочка, все уже позади.
Он заключил ее в объятия. Лифт шел вверх.
Любовь и смерть
Однажды вечером я шел по улице с моей любимой, как вдруг открылись ворота мрачного дома, мимо которого мы проходили, и из темноты одной ногою выступил амур. Но был это не обычный маленький амур, а огромный мужик, тяжелый и жилистый, весь волосатый. Похожий на здоровенного стрелка, он прицелился в меня из своего большущего лука. Он выстрелил и попал мне в грудь, а сам исчез, затворив за собой ворота дома, напоминающего темный, безрадостный замок.
Я упал, а моя любимая продолжала свой путь. Наверное, она не заметила, что я упал. Ведь если б она заметила, то, конечно, остановилась бы, склонилась надо мной, постаралась бы мне помочь. Но она прошла дальше, и я подумал, что она ничего не заметила. Моя кровь хлынула ей вслед по водосточной канаве, но вскоре остановилась, потому что вся вытекла.
В подвале
Все мы видели его и видим почти каждый день. Мы не обращаем на него внимания, снова и снова проходим мимо того места, где он лежит, и не задумываемся о нем, словно он и должен там лежать, словно он – неотъемлемая принадлежность нашей жизни. Я говорю о Линдгрене, человеке с отсохшими ногами, который ползает по улицам и бульварам, отталкиваясь от земли руками в кожаных рукавицах; ноги его тоже обшиты кожей. Лицо с короткой бородкой отмечено страданием, которого не в силах выразить маленькие, покорные глаза. Все мы встречали его и встречаем его постоянно, мы привыкли к нему и не замечаем его, будто он – частица нас самих. Мимоходом суем мы монету в его высохшую руку – ему ведь тоже нужно жить.
Но все почти знают об этом старике только то, что он существует на свете. Поэтому я расскажу все, что мне известно о нем.
Я часто останавливался поболтать со стариком, в нем было что-то доброе и успокаивающее, и мне нравилось разговаривать с ним. Я так часто возле него останавливался, что прохожие могли подумать, будто это мой несчастный родственник. Но это не так. В нашем роду нет убогих, а то горе, которое выпало нам на долю, мы несем с достоинством, и миру оно неведомо. Однако я считаю, что нужно иной раз постоять и поговорить с ним – и для него, чтобы он не чувствовал себя отверженным, да и для меня самого, так как ему было что порассказать.
Мне вовсе не казалось, будто между нами такая уж пропасть; и я частенько думал, что, если бы у меня отсохли ноги и мне приходилось бы вот так же ползать по земле, в этом не было бы ничего странного и у меня не было бы никаких оснований удивляться, почему мне выпала такая судьба. Так что между нами словно было что-то общее.
Однажды осенним вечером я натолкнулся на него в парке, где обычно встречаются влюбленные. Он лежал под фонарем, на освещенном месте, и протягивал худую руку, хотя вокруг никого не было; может быть, он надеялся, что от любви люди становятся щедрее, а скорее, просто не разбирался в делах этого мира и лежал с протянутой рукой где придется; или, может, он жил где-нибудь поблизости. Недавно прошел дождь, всюду стояли лужи, Линдгрен весь перепачкался, и вид у него был усталый и больной.
– Не пора ли вам домой, Линдгрен? – сказал я. – Уже поздно.
– Да, – ответил он, – пожалуй, надо двигаться.
– Я немного провожу вас. Где вы живете?
Он сказал мне свой адрес, и оказалось, что мы живем совсем рядом и нам по пути.
Мы наискосок пересекли улицу.
– А не страшно вам переходить дорогу? – спросил я.
– Нет, что вы, – ответил он. – Ко мне все очень внимательны. Вчера полицейский специально ради меня остановил движение. Правда, он велел мне поторапливаться, но в этом нет ничего удивительного. Нет-нет! Меня здесь все знают, и все привыкли ко мне.
Мы медленно продолжали путь. Мне приходилось останавливаться на каждом шагу, иначе он не поспевал за мной. Начало моросить. Он полз рядом со мной, цепляясь грязными руками за камни и подтягивая свое тело, словно усталое животное, пробирающееся домой, к себе в нору.
Но это был такой же человек, как я, он разговаривал, вздыхал, и, хотя видел его я плохо, потому что вечер был пасмурный и горели лишь редкие фонари, я все время слышал его, чувствовал, как он торопится поспеть за мной, и мучился невыразимой жалостью.
– А не сетуете ли вы, Линдгрен, на свою судьбу? – спросил я. – Наверно, часто она кажется вам горькой?
– Нет, – ответил он. – Это, наверное, очень странно, но я считаю, что судьба моя вовсе не так тяжела, как думают другие. Ко всему привыкаешь. Я же таким родился. Ведь когда человек здоров, а потом с ним вдруг ни с того ни с сего случается такое, это куда хуже. Нет, мне, по-моему, не на что жаловаться, если подумать хорошенько. Бывает, людям еще труднее живется. Я избавлен от многого, что приходится переживать другим. Мне живется спокойно, судьба ко мне милосердна. Если разобраться, так я вижу одно хорошее.
– Как это? – удивился я.
– Ну да, я встречаюсь только с хорошими людьми, только они останавливаются, чтобы подать мне монету. А про остальных я ничего не знаю, они всегда проходят мимо.
– Вы, Линдгрен, я вижу, умеете все повернуть к лучшему! – сказал я с невольной улыбкой.
– Нет, это так и есть, – возразил он строго. – И это нужно ценить.
Но на самом-то деле я отнесся к его словам серьезно. Я понял, что он прав, – блажен, кто видит в жизни только хорошее.
Мы все шли и шли. Неподалеку, в подвальной лавчонке, горел свет.
– Я куплю хлеба, – сказал он, подполз к окошку и постучал.
Вышла девушка с аккуратным пакетиком.
– Добрый вечер, Линдгрен, – сказала она. – Ух, ну и погодка! Пора, пора домой.
– Да, пора, – ответил старик, они кивнули друг другу на прощание, и девушка закрыла дверь.
– Я все покупаю только в подвалах, – сказал он, когда мы двинулись дальше.
– Да, я понимаю, – отозвался я.
– Там люди всегда приветливее.
– Угу, возможно.
– Нет, это правда так, – сказал он настойчиво.
Мы пробирались теперь какими-то темными ухабистыми закоулками.
– Я тоже живу в подвале; вы, господин, наверно, так и думали? – продолжал он. – И мне там очень нравится. Все устроил хозяин нашего дома. Он замечательный человек.
Так продвигались мы по улицам.
Я никогда не замечал, что до моего дома так далеко. Я устал, измучился, мне казалось, будто сам я с огромным трудом ползу в темноте, а не иду, как ходят все люди. Когда мы приближались к фонарю, я видел Линдгрена у своих ног, потом он снова исчезал в темноте, и я слышал лишь его прерывистое дыхание.
Наконец мы добрались до его улицы, а потом и до того дома, где он жил. Дом был большой и красивый, почти во всех окнах горел свет, во втором этаже был, вероятно, званый вечер: сверкали люстры, в осеннюю слякоть вырывалась музыка, мелькали танцующие пары. Линдгрен добрался до своей лестницы – три-четыре ступеньки вели вниз, в его жилище. Тут же было окно, украшенное обрывком занавески, на подоконнике, в банке из-под анчоусов, стоял цветок.
– Милости прошу вас, господин, зайти ко мне, посмотреть, как я живу, – сказал он.
Я не собирался к нему заходить. Я не понимал, для чего это нужно. Мне стало не по себе. Зачем я туда пойду? Мы с ним не такие уж друзья, я проводил его немного, потому что нам было по пути, а заходить к нему я не хотел.
Я задумался: там, во втором этаже, где был вечер, жили мои знакомые; странно, что меня не пригласили, – забыли, наверно.
– Вы ведь не в обиде, господин, что я приглашаю вас к себе? – спросил старик, смущенный моим молчанием.
– Нет, – ответил я.
Нет, он неверно меня понял, я хотел, да, да, хотел зайти посмотреть, как он живет.
Он спустился по лестнице, вынул ключ и вставил его в замочную скважину. Я заметил, что она была устроена низко, чтобы Линдгрен мог до нее доставать.
– Это наш хозяин все устроил, – сказал он. – Всегда обо всем позаботится.
Дверь отворилась, мы вошли. Он зажег лампу, и я огляделся. Комната была маленькая и убогая, на холодном каменном полу лежал изорванный коврик. Посредине был стол с подпиленными ножками и два низких стула. В углу был камин, где старик, вероятно, готовил себе еду; на полке, служившей кладовкой, стояли в ряд банки, прикрытые лоскутками, и были аккуратно разложены черствые кусочки хлеба, которые он, по-видимому, макал в кофе; полку украшали белые бумажные кружева. У стены стояла кровать, вернее, нары, низкие, почти у самого пола, застеленные чистым и опрятным одеялом.
Несмотря на крайнюю бедность, всюду был порядок и уют.
Не знаю почему, но, оглядывая комнату, я испытывал мучительную тоску. Зачем ему это? На его месте я предпочел бы беспорядок и грязь, предпочел бы просто дыру, куда можно залезть и спрятаться, как прячется зверь в норе, – так мне было бы легче. Но здесь повсюду порядок и чистота. Он начал ползать по комнате, хозяйничая и прибирая свой уютный домик: дотянулся до вазы с цветами, налил туда воды, снова сполз на пол, достал скатерть из ящика, выкрашенного голубой краской, расстелил ее, поставил на стол чашки и блюдца.
У меня сердце разрывалась, когда я смотрел, как он привычно возится со всем этим. Перчатки он снял, ладони у него были плоские и грубые. Он развел огонь, лег у камина и раздувал пламя, пока в трубе не зашумело, подложил угля, потом поставил на огонь кофейник. Помочь ему мне не удалось: только он один знал, где у него что лежит. Он делал все привычно и ловко, и видно было, как ему это приятно, как милы ему эти мелкие заботы. Время от времени он добродушно поглядывал на меня. Здесь, у себя дома, он стал приветливым и спокойным, совсем другим. Скоро кофейник закипел, и по всей комнате распространился запах кофе. Когда все было готово, он с трудом взобрался на стул и уселся с довольной улыбкой. Он разлил кофе по чашкам, и мы стали пить. Кофе приятно согревал. Он считал, что я должен съесть и кусочек хлеба, но этого я не мог от него принять. Сам он ел с какой-то странной торжественностью, медленно отламывая по кусочку и тщательно собирая все крошки. Он ел так, словно совершал священный обряд. Глаза у него блестели. Никогда еще не видел я, чтобы человеческое лицо так сияло, так тихо светилось.
Я был тронут и в то же время подавлен, видя его таким. Откуда у него силы так мужественно выносить свое несчастье? Я, здоровый человек, случайно заглянувший сюда, чтобы посмотреть, как он живет в своей норе, – я не мог прийти в себя.
«Да, – думал я, – у него, наверное, есть иные, тайные надежды, может быть, он верующий, а тогда все можно снести, тогда ничего не страшно». И я вспомнил, что хотел спросить его именно об этом, ведь это томило меня самого, никогда не оставляло в покое, влекло к глубинам, которым противилось мое существо. Потому я и пошел с ним – я хотел спросить его об этом. Мне нечего было здесь делать. Просто я хотел его спросить.
– Скажите мне, Линдгрен, – начал я, – когда у человека такая жизнь, как у вас, когда приходится выносить столько страданий, не испытывает ли он больше других потребности верить в какие-то нездешние силы, верить в то, что есть бог, который всемогущ и, налагая на него столь тяжкую судьбу, преследует какие-то высшие цели?
Старик подумал немного.
– Нет, – ответил он, запнувшись, – верно, это бывает не с такими, как я.
Как странно, как неловко было услышать его ответ. Неужели он не чувствует убожества своего существования, не подозревает, как богата и прекрасна жизнь!
– Нет, – повторил он, погруженный в свои мысли, – нам бог нужен меньше, чем другим. Если бы он и существовал, он мог бы открыть нам лишь то, что мы сами поняли, лишь то, за что сами благодарны. Я часто говорил об этом с нашим хозяином, – продолжал Линдгрен, – и он меня многому научил. Господин, наверное, не знает нашего хозяина, а жалко, – это замечательный человек.
– Нет, я с ним незнаком.
– Да, конечно, конечно, но это очень жалко.
«Ну еще бы, – думал я, – откуда мне знать, что это за удивительный хозяин, – возможно, он и впрямь редкостный человек, – но я-то живу в другом доме». Все это я только подумал, а вслух ничего не сказал.
– Странно, – сказал старик, – у него так много домов, чуть ли не все дома здесь принадлежат ему; наверно, и господин живет в одном из его домов... Да, – продолжал он, – конечно, ему трудно со всем управиться! Когда я пришел к нему и спросил, не приютит ли он меня – потому что мне ведь тоже нужно где-то жить, – он сперва долго меня рассматривал. «Помещу тебя в подвале, – сказал он потом, – наверху тебе жить нельзя». – «Ну конечно, – говорю, – я прекрасно все понимаю». – «По-моему, подвал тебе подойдет, – говорит, – надеюсь, я в тебе не ошибся? Ты-то сам как считаешь?» – «По-моему, это для меня самое подходящее». – «То-то. Я не могу пускать в подвал кого попало. Не хочу, чтобы люди ругались и ссорились, не хочу плохих и подозрительных жильцов. Наверх я еще пускаю тех, в ком не уверен, о ком почти ничего не знаю, но в подвале у меня пусть живут хорошие и надежные люди, мои друзья. Ну, как ты считаешь, подойдет это тебе?» – «Да, конечно», – говорю; я очень обрадовался. «Стало быть, все в порядке. А платить-то ты сможешь? – спрашивает; человек он строгий, ничего не скажешь. – Платить должны все, ничего не поделаешь, как бы ты ни был беден. Ты будешь платить недорого, потому что много с тебя не возьмешь. Но хоть сколько-нибудь, а платить надо. Где ты достанешь деньги?» – «Мне приходится жить за счет добрых людей». – «И есть такие на свете?» – удивился он и поглядел на меня. «Конечно, есть, и много, а как же иначе?» – «Да, верно, – говорит, – и при желании их нетрудно пересчитать. Ты неглупый старик, оставайся у меня». Да, он замечательный, хоть с виду такой простой. Он мне очень помог. Без него худо мне пришлось бы. Он часто сюда заглядывает – посидит немного, поболтает. А ведь мне это такая поддержка. Как важно знать, что кто-то тебя понимает. «Линдгрен солидный человек» – вот как он говорит. Такое приятно услышать.
Счастливый и довольный, глядел он на меня.
– А вы, господин, тоже солидный человек? – спросил он.
Я не ответил и опустил глаза, чтобы не встретиться с ним взглядом.
Мы сидели в его тихой и убогой комнатке. Свет лампы падал на низкий стол с подпиленными ножками, на скатерть, на черствые куски хлеба, на кровать, где он спал. Мое молчание не тревожило его. Я заметил, что он думает о своем.
Потом он сполз со стула, взглянул на камин, вымыл чашки и аккуратно поставил их на полку. Подполз к кровати, что-то поправил там, снял одеяло. Но, положив его на стул и разгладив рукой складки, он остался лежать на полу.
– Хорошо, когда день кончается, – сказал он. Он и вправду устал, это было видно.
– И это говорите вы, Линдгрен, хотя считаете жизнь такой богатой и значительной.
– Да, – ответил он, спокойно глядя прямо перед собой, – жизнь богата. Я так хорошо понимаю, так ясно чувствую это. Но день всегда трудно прожить до конца. Что поделаешь, уж таков я есть.
Он глубоко вздохнул. Глядя, как он стоит скорчившись, на коленях, можно было бы подумать, что он молится, но таким вот сотворила его природа.
Я тихо встал, собираясь уйти. Подошел к нему, поблагодарил, пожелал доброй ночи. Он пригласил меня заходить, когда мне захочется, и я сказал, что с удовольствием зайду. Потом он пополз, провожая меня до дверей, и я вышел на улицу.
Теперь во всем доме было темно. Темно было и во втором этаже, где недавно сверкали люстры. Наверное, у них и не было званого вечера, раз все так рано кончилось. Только внизу у старика горел свет, он освещал мне дорогу почти до самого дома.
Злой ангел
По безлюдным улицам ночного города шел злой ангел. Ветер выл среди домов, бушевал над крышами; на улицах не было никого, кроме ангела. Он был жилист и мускулист, он шел, наклонясь против ветра и плотно сжав губы, кроваво-красный плащ скрывал его огромные крылья. Он сбежал из кафедрального собора, где долго простоял в затхлости и духоте. Веками дышал он свечным угаром и ладаном, веками слушал хвалебные гимны и молитвы, возносимые к мертвому богу, который висел у него над головой. Веками смотрел он на людей, коленопреклоненных, распростертых на церковном полу, устремляющих взоры к небу, бубнящих разную чепуху, в которую они верили. Трусливый сброд, провонявший верой во всякое вранье! Тошнотворная смесь из страха, путаных мыслей, убогой надежды ускользнуть от судьбы, выкарабкаться! Наконец-то он сбежал!
Он освободился от своих оков и ступил жилистой ногой на алтарь, опрокинув чашу со святыми дарами. В гневе спустился он на пол и пинками расшвырял скамеечки для молящихся. Вокруг висели святые с благочестивыми восторженными лицами, реликвии за решетками пахли гнилью, в апсиде горел свет, там на затхлой соломе лежал младенец и восковая мать стояла перед ним на коленях – лживый, бессмысленный хлам! Ударом ноги он распахнул двери и вышел в ветреную ночь.
Он скажет правду!
Выйдя за ворота, он остановился и огляделся. Вот, значит, как у них тут устроено, у людей. Здесь они и живут.
Он остановился у ворот одного дома и окинул их горящим взглядом. Потом мечом, который носил при себе, вырезал на воротах крест.
– Ты умрешь! – сказал он.
Потом он пошел к другому дому. Глядя на ангела сбоку, можно было подумать, что он горбат, так были сложены крылья у него за широкими плечами. У этого дома он тоже остановился и тоже вырезал крест.
– Ты умрешь! – сказал он.
Так шел он от дома к дому и вырезал кресты коротким и тяжелым, как нож мясника, мечом.
Ты умрешь. Ты умрешь. И ты умрешь. И ты умрешь. И ты!
Он обошел весь город, борясь с ветром, и не пропустил ни одного дома.
Сделав свое дело, он вышел за городской вал, в ночь, где уже не было никакого человеческого жилья. Там он сбросил плащ и остался нагим. И, развернув крылья, ангел поднялся в широко распахнутую тьму.
Проснувшись утром, люди удивились, обнаружив на каждом доме крест. Но они вовсе не испугались. Интересно, говорили они, как это произошло и почему. Они потолковали об этом, как обычно, прежде чем разойтись по делам. С чего вдруг везде вырезали знак, и без того всем хорошо известный! Будто нельзя напомнить о вещах более важных.
– Мы и сами знаем, что умрем, – говорили они.
Принцесса и королевство в придачу
Жил-был принц, и отправился он однажды на войну, чтобы завоевать принцессу несравненной красоты, которую любил больше всего на свете. Рискуя жизнью, отвоевывал он пядь за пядью и, сокрушая все на своем пути, продвигался по стране. Ничто не могло остановить его. Принц истекал кровью, но, не щадя себя, снова и снова бросался в бой. Среди самых доблестных рыцарей не было ему равных. Воинский пыл его был так же благороден, как и черты его молодого лица.
Наконец он достиг стен города, где в роскошном дворце жила принцесса. Горожане не смогли оказать принцу сопротивления и были вынуждены просить пощады. Ворота распахнулись, я принц въехал в город как победитель.
И когда принцесса увидела, какой он гордый и прекрасный, когда подумала, сколько раз он рисковал ради нее жизнью, она не смогла устоять и подала ему свою руку. Принц преклонил колени и осыпал ее руку горячими поцелуями.
– Невеста моя, вот я и завоевал тебя! – воскликнул он, сияя от счастья. – Я сражался только за тебя, и ты наконец моя!
И он предложил ей в тот же день обвенчаться. Весь город принял праздничный вид, и свадьбу справили со всей торжественностью и великолепием.
А когда вечером принц пожелал войти в опочивальню принцессы, его встретил у дверей достопочтенный старец, управляющий королевским дворцом. Вручая молодому победителю ключ от королевства и золотую, усыпанную драгоценными камнями корону, он склонил свою белоснежную голову и сказал:
– Властелин, вот ключи от государства, вернее, от его казны, все сокровища которой отныне принадлежат тебе.
Принц нахмурил лоб:
– Что ты говоришь, старик! Мне не нужны твои ключи! Я сражался не ради презренной выгоды, а чтобы завоевать любимую, ибо она – единственная для меня ценность на земле.
Старик ответил:
– Но ты завоевал и ключи, мой повелитель. Ты не можешь от них отказаться. Отныне ты должен также властвовать и оберегать сокровища своего королевства.
– Ты, видно, не понимаешь, что я говорю! Не понимаешь, что можно сражаться и победить, не требуя при этом никакой награды: ни славы, ни золота, ни королевства, ни даже могущества, а только счастья. Верно, я победил, но я не требую ничего, кроме возможности счастливо жить с той, дороже которой для меня ничего нет на свете.
– Да, властелин, ты победил. Ты воевал как храбрейший из храбрых, не щадя ничего на своем пути, оставляя за собой опустошенную землю. Ты добился своего счастья. Но, повелитель, другие лишились его. Ты победил, и поэтому все теперь принадлежит тебе. Перед тобой великая страна – плодородная, но истощенная войной, могущественная, но разоренная, богатства ее несметны, а нищета беспредельна, и с радостью соседствует печаль. Отныне все это – твое. Ибо тому, кто завоевал принцессу и счастье, принадлежит также страна, где она родилась; он должен управлять страной и оберегать ее.
Принц слушал, мрачно потупясь и беспокойно играя рукоятью меча.
– Я принц счастья, и только! – вспыхнул он. – И не желаю быть никем иным! Если ты станешь на моем пути, я призову на помощь мой добрый меч.
Но старец поднял руку и испытующе, с мудрым спокойствием посмотрел на юношу. Принц отступил.
– Повелитель, ты больше не принц, – смиренно сказал старик. – Ты – король.
И он возложил своими старческими руками корону на голову принца.
Молодой властитель стоял безмолвный и взволнованный. С короной на голове он выглядел еще более мужественным... Исполненный сознания своей власти на земле, в глубокой задумчивости вошел он к своей любимой, чтобы разделить с нею ложе.
Свадьба
Венчание Юнаса и Фриды назначено на четыре часа, и гости уже прибывают в домик на краю станционного поселка, где готовится торжество. Подкатили повозки с хутора, где у Фриды остались дальние родственники, у Юнаса-то нет родни. И из поселка пришел кое-кто – всего, пожалуй, человек пятнадцать наберется.
Погода прекрасная, и мужчины остаются на дворе, прогуливаются по садику, подходят друг к другу, стоят, разговаривают. Оглядывают дом со всех сторон, будто осмотр производят. На восточном фронтоне над небольшой дверью поблекшая вывеска: «Рукодельная торговля Фриды Юханссон». «Н-да. Стало быть, сегодня Фриду выдаем. Ну что ж». Больше они об этом ничего не говорят, но про себя, уж верно, что-нибудь думают.
Правду сказать, чудная история с этой свадьбой, да ведь выпить-закусить дадут, как заведено, отчего ж и не прийти, раз пригласили. Ну, пора, видно, в дом заходить.
Жених стоит на крыльце. Он приземистый, невзрачный, со светлыми висячими усами и не сходящей с лица счастливой улыбкой, улыбается он не переставая. Глаза ясные и добрые, какие-то будто благодарные, и он то и дело моргает, словно желая хоть ненадолго от всех спрятаться. Голову он почти все время держит чуть набок, как бы прислушиваясь. По виду он славный малый, тут ничего не скажешь. Юнас Шлагбаум зовут его здесь, хотя настоящее имя его Юнас Самуэльссон, – так повелось еще с той поры, когда он в молодые годы часами простаивал у переезда через железную дорогу, поджидая, не высадится ли кто у них на станции, кому надо помочь с багажом, и он довольно долго этим занимался, прежде чем взялся за приличную работу. Но теперь он давно уж служит носильщиком при станционной гостинице, так что ему по чину положено стоять у этого самого шлагбаума. Такое его ремесло. Хотя сегодня он ведь женится на Фриде, так что мудрено теперь сказать, кто он есть или кем собирается быть, в лавке ли станет подсоблять, когда нужда случится, или, может, вообще ничего больше делать не будет. Кто ее знает, Фриду, какие у нее планы, и опять-таки сколько у нее деньжонок прикоплено. Никому о том не ведомо, ни одной душе. Может, и немало. Но отчего бы ей и не оставить его там служить, дело-то для него вполне подходящее. Он ведь не сказать чтобы очень расторопный.
Родственникам не особо по нраву, что Фрида ни с того ни с сего надумала выйти замуж, и чему ж тут удивляться. Их не то беспокоит, как теперь сложится ее жизнь, это уж не их забота. Но в ее годы – что за надобность замуж выходить? Ни к чему это, по их разумению. И сколько-то нибудь она, верно, сумела подкопить. Им об этом, правда, ничего не известно, они в это мешаться не хотят. А коли уж ей приспичило, так ладно бы другого кого взяла, а то этого Юнаса. Хотя выбор-то, понятно, невелик. Ну, может, и так, а все же Фрида им родней приходится, из приличной семьи. Вот и чудно, что она на такого польстилась. Да пусть, конечно, дело ее. Она же сама захотела, стало быть, все хорошо. Так-то он добрый, душевный человек, и смирный. Это всякий подтвердит. Тут уж ничего не скажешь.
Юнас, стоя на крыльце, встречает гостей, с услужливым видом поглядывает по сторонам, будто справляясь, не надо ли чего поднести. И если у кого оказывается взятая в дорогу куртка или другая вещь, все равно какая, он совершенно счастлив, что может принять ее и отнести в дом. Уж это-то он умеет, а в такой день человеку ведь хочется показать, на что он способен. Хуже становится, когда перестают появляться новые гости: никто с ним не разговаривает и он просто стоит и все так же улыбается, свесив руки по сторонам, в своем новом черном костюме, заказанном для него Фридой по случаю этого дня. Заняться ему пока особенно нечем, но лицо у него, несмотря на это, довольное, как всегда. А немного погодя он опять при деле оказывается, теперь им подают кофе, надо каждому подставить стул и улыбкой просить присаживаться, говорить он ничего не говорит, потому что не любит без нужды разговаривать. Подумал было предложить им, чтобы угощались без стеснения, да решил, что не станет, это же все-таки Фридино. А они и так угощаются, выпили по второй чашке, болтают друг с другом, совсем освоились. Юнас совершенно счастлив; притулившись у печного выступа, он тоже, как и они, пьет кофе, с искренним доброжелательством слушает все, что они говорят, выбегает на кухню за новым кофейником, обносит сахаром женщин, расположившихся за столом у окна, старается быть полезным где может. Конечно, не принято, чтобы жених вот так всем услуживал, но он, видно, этого не знает. Они ему усмехаются на свой манер, а он в ответ по-своему улыбается, добро и душевно. Им, может, кажется, что у него дурашливый вид с этой его улыбкой. Да вряд ли можно так сказать: она у него умная и славная. Разве только странно, что он улыбается все время, не переставая. Что ж, видно, есть на то причины. Радуется, что все у них идет хорошо. И ведь правда. Все честь честью, не придерешься.
Наверху, в чердачной комнате, Фрида обряжается невестой. Агнеса Карлссон, которая считается ее лучшей подругой, закручивает ей щипцами жиденькие волосы, так что запах паленого разносится по двору. Впервые в жизни ей делают завивку, сегодня без этого нельзя. Она с трудом узнает себя, глядясь в принесенное с комода зеркало. Старушка Фрида, не очень-то она на себя похожа. Да и не может быть похожа в такой торжественный день.
Да, подумать только, что это уже сегодня! Сегодня она и Юнас предстанут пред алтарем и обвенчаются – навсегда, навеки соединятся пред господом своим. Подумать только, что этот день действительно настал, что это будет скоро, уже вот-вот.
– Не забыли бы они там цветы куда надо поставить, как я велела, возле скамеечек. А, Агнеса? Думаешь, сделают?
– Да не беспокойся ты, поставят.
– И потом торт, точно ли его принесли, ну, который с вензелем?
– Принесли, куда он денется, я же видела, Клас пришел с большой коробкой, ясно, это торт.
– А все-таки, может, на всякий случай спустишься, узнаешь?
– Да что ты, некогда же, господи, надо сперва с этим покончить.
– Да, да, верно, это тоже важно.
Все важно в такой особенный день. Обо всем надо позаботиться.
Только бы теперь все прошло хорошо, только бы получилось такое торжество, какого она ждала, о каком мечтала все это время. Такое, какого требуют значительность и серьезность момента.
Есть ли в нашей земной жизни что-либо более значительное, чем когда два человека соединяются в одно, когда двое встречаются пред господом, чтобы скрепить свой союз у престола всевышнего. Ах, многие, вероятно, не задумываются над тем, что это за торжество, относятся к нему как к веселому празднику, где можно потанцевать и посмеяться. И это, конечно, тоже правильно, она сама так рада, что все у нее внутри прыгает. Нет невесты, которая бы радовалась больше нее, и нет такой, у которой больше причин быть счастливой, чем у нее. Право, нет.
И однако же, все же... Несмотря на всю радость... Все же сильнее всего ощущает она значительность и серьезность, которыми отмечен этот их день. Ведь она и Юнас стоят на пороге самого важного, что только могло с ними произойти. Их жизни сольются вместе, они станут как одно целое. Их души соединятся навек. Они не будут больше одиноки, ни Юнас, ни она. До чего же удивительно! Никогда больше не будут одиноки. Ей ли не понимать, что это значит, она еще ребенком осталась одна после смерти родителей. Она была одинока всю жизнь, чувствовала это каждый день. Да, несладко человеку быть одному.
Так что ж за диво, если ей хочется, чтобы все в этот чудесный миг было исполнено особенной красоты и достоинства.
– Поглядись-ка теперь в зеркало, как тебе понравится, – говорит Агнеса.
И Фрида наклоняется вперед и всматривается в свое отражение, проводит рукою по лбу и дотрагивается до непривычных завитков.
Лицо у нее маленькое и узкое, она похожа на девочку, страдающую малокровием. Однако черты уже увядшие, и щеки ввалились. Годы оставили на ней свой след, много появилось морщинок. Но они какие-то мелкие, тоненькие. Будто прочерчены с особой осторожностью. Даже шрам на шее кажется маленьким, тонким и нежным, как и все у нее. Лишь глаза – большие и бесконечно кроткие и доверчивые. И так странно широко раскрыты. А рот у нее – как узкая черточка, можно подумать, она весьма решительная и предприимчивая женщина. На самом же деле это оттого, что губы у нее тонкие и бледные, как и все остальное. Стоит ей улыбнуться – и рот преображается, просто поразительно. Все лицо разом начинает светиться. И у нее ведь самые красивые вставные зубы во всей округе – так многие считают, хоть и не придают этому значения. Они так хорошо подогнаны.
Она, конечно, не красавица. Никогда не была красивой, а теперь и подавно нельзя этого требовать. Но есть в ее облике что-то необыкновенно чистое, такое, как бывает у белошвеек или гладильщиц. Она и шила белье много лет, прежде чем открыть собственную торговлю. Да и в лавке ей приходится иметь дело лишь с тонкими и чистыми вещами – как раз подходящее для нее занятие, оттого она, верно, за него и взялась. Руки у нее совсем белые, ей ведь никогда не приходилось делать грубую работу. Но поработала она ими немало, это по ним хорошо видно.
– Может, нам и венец заодно примерить, – говорит Агнеса, – посмотреть, как он пойдет к прическе. Ты ведь говоришь, наденешь его.
– Конечно, Агнесочка, давай примерим.
И Агнеса прикалывает его шпильками ей на макушку, небольшой миртовый венец, так изящно сплетенный Фридой из веточек мирта, доставшегося ей в наследство от матери, которой он в свое время тоже сослужил службу, когда она была невестой. Трижды деревце чуть не погибало, но Фрида отсаживала отростки, так что это был все-таки тот же самый мирт. Внутри венца она прикрепила белый тюль, и получилась чудесная фата.
Фрида поднимается, чтобы получше рассмотреть себя в зеркале. Нижнюю сорочку и платье она еще не надела, чтобы ничего не измять, но на ней белоснежные панталоны, украшенные тончайшими кружевами, какие были у нее в рукодельной лавочке, а фата, легкая и воздушная, ниспадает вдоль спины до самых подколенок. Она прелестна в эту минуту, углубленная в созерцание самой себя, задумчивая и счастливая. С мечтательным видом глядит она на свое отражение, наконец-то видит себя невестой.
– Ой, да ты же в одних панталонах! – восклицает Агнеса и разражается смехом.
И в самом деле – Фрида тоже вспоминает об этом, и на лице ее появляется кроткая улыбка. Потом она отводит рукой фату и осторожно садится.
Агнесе кажется, что венец слишком плоско сидит на голове.
– Правда? А я и не подумала об этом. Может, действительно не совсем как нужно.
– Попробовать, что ли, еще тебя подзавить, чтобы он повыше сидел? Это, знаешь ли, не так просто – из твоих волос высокую прическу сделать.
– Да, они такие жидкие.
– То-то и оно. Ну да ладно, давай.
И Агнеса так добра, что начинает все сначала, подтягивает волосы с боков к макушке, хотя они с трудом дотуда достают, и сам пучок хочет поднять наверх, потому что неважно ведь, где он будет, все равно фата закроет его. Агнеса славная, она так старается.
А Фрида сидит, по временам погружаясь в задумчивость. И неудивительно...
Она думает о том, как они с Юнасом встретились, как сплелись их судьбы, как они ступили на путь, приведший их к этому великому и чудесному мигу. Они давно питали друг к другу нежные чувства, много, много лет. Это было тайное влечение сердец, молчаливое, неосознанное. В настоящую любовь оно вылилось позднее. Но все же оно как бы сближало их. Она вспоминает, как он однажды взял у нее сумку, когда она приехала поездом из города. Они шли по улице. «Должно быть, с покупками, не зря съездили», – сказал он ей. «С покупками», – ответила она. Но так получилось, что отвечая, она заглянула ему в глаза. Четыре года прошло, а она так живо это помнит, будто это случилось вчера. С тех пор у них и началось всерьез.
Да, до чего же все удивительно с человеческими судьбами. Что нами управляет? Что связало ее и Юнаса этим святым чувством так прочно, что они теперь никогда не расстанутся?
Но прежде, чем они открылись друг другу, прошло немало времени. Так уж ведется. Ох эти проказы любви, эта сладостная игра двух любящих в прятки! Оба чувствуют одинаково, но никто не хочет первым себя выдать. Души тянутся друг к другу, томятся и тоскуют друг о друге, зовут друг друга, точно поющие птицы, точно животные в хлеву по вечерам.
И, несмотря ни на что, постоянные тревожные сомнения. Любит ли он меня? Вдруг не любит? А я сама люблю ли его по-настоящему? Всем сердцем, глубоко и искренне, так, как надобно? Как должно любить. И действительно ли нашим двум душам в их земном странствии богом назначено было встретиться? Вступить в светлую обитель любви. Правда ли нам это от бога заповедано? Да, да, это так, я верю, это так!
Да, она верит. Она знает. Она сидит и смотрит прямо перед собою в безмолвном восторге, в какой-то счастливой отрешенности.
Невозможно и представить себе, чтобы встреча двух людей на земле была красивее и возвышеннее, чем их встреча с Юнасом. От этой мысли глаза ее увлажняются, ее взгляд уносится куда-то далеко, в иные, неведомые края.
Верно ли она думает? Да. Все так и есть. Их чувство друг к другу – это любовь. Она выбрала его потому, что он ей мил. Она любит лишь ради самой любви. А Юнас? Он ответил ей согласием, увидев в том, что она его пожелала, проявление бесконечной доброты. Он об этом и не помышлял. Но как только это стало дозволено, он полюбил ее несказанно. До той поры он никогда никого не любил, ведь никто его не спрашивал, а самому ему такое как-то в голову не приходило. Но когда оказалось, что это ему дозволено, он сделался самым восторженным из всех влюбленных. Он преклоняется перед нею как перед высшим существом, непостижимо добрым и прекрасным. Он видит в ней непревзойденное совершенство. Она для него само провидение.
Что у нее есть деньги – это его не занимает, он слишком мало смыслит в подобных вещах. Ему ведь не много нужно. Но оно, понятно, хорошо, раз все о том говорят. Сам он, когда думает об этом, испытывает нечто вроде благоговения. От этого все кажется, если возможно, еще более необыкновенным.
Только бы не получилось, что ему никогда больше нельзя будет пойти постоять у переезда, об этом он все-таки будет скучать. Уж очень привык, а к чему привыкаешь, с тем всегда жалко бывает расставаться. Для него ведь это вроде ремесла. Но коли Фрида посчитает, что такая работа теперь не по нем, то он, ясное дело, покорится. Ничего, все будет хорошо. Он не хотел об этом прямо спрашивать. Успеется еще. Он ее любит, и это главное, любит ее несказанно и ради нее готов на все. Он любит Фриду за то, что она такая, как есть. И еще за то, что она к нему так добра и одна из всех его приветила.
Вот как все обстоит. Любовь, и только любовь, владеет ими обоими.
Да, Юнас... Фрида сидит и думает о нем, какой он человек. Нет, как он тогда в лесу, прошлой весной, притянул ее к себе и сказал, что она – самый прекрасный в мире цветок. О, он умеет так замечательно сказать, что другим таких слов и не выдумать. Он умница, у него светлая голова, она-то хорошо это знает.
Агнеса кончила укладывать волосы.
– Ну все, Фрида, краше ты уж не будешь, – говорит она.
– Дорогая ты моя, но так, по-моему, очень красиво. Спасибо тебе!
Они еще раз придирчиво оглядывают ее и находят, что теперь прическа гораздо лучше, наряднее сделать невозможно.
– Я думаю, нам надо поторапливаться, давай-ка платье надевать.
– Да, пора уж, наверно. Ах, Агнесочка, ты не представляешь себе, какое у меня удивительное чувство.
– Да что ты!
– Подумай – обряжаться невестой... Прямо как во сне. Даже не верится, что это наяву.
– Знаешь, если б ты хотела послушать моего совета, надела бы ты лучше свое черное праздничное платье, оно тебе так к лицу.
– Ну что ты говоришь, Агнеса, дорогая. Как же можно!.. – Фрида взирает на нее в величайшем изумлении, чуть ли не расстраиваясь из-за того, что она способна предложить такое. – Невеста же должна быть в белом, ведь это радостный праздник.
– Да знаю я, но только... ну, такое мое мнение. А там делай, как тебе угодно.
Они делают, как Фриде угодно. Да и странно, если бы было иначе, ведь она и справила себе белое платье единственно ради этого дня, сидела, шила много ночей подряд. И о чем она только не перемечтала, пока над ним трудилась! Агнеса помогает ей надеть его. Оно такое красивое и наглаженное, надо постараться ничего не измять. И чтоб кружева нигде не подогнулись. Вот только сорочка сзади исподнизу выглядывает. Что же делать, придется ее прикрепить.
Агнеса прислушивается:
– Никак пастор пришел.
– Что ты, не может быть, – тихо говорит Фрида, чувствуя, как кровь отливает от лица.
– Да ты послушай, как там все примолкли-то.
– Тогда нам надо поскорее кончать, – еле слышно говорит Фрида.
Юнас осторожно стучит в полуоткрытую дверь.
– Пастор пришел, – благоговейно шепчет он.
– Юнас, миленький, это ты? Нет, не смотри на меня, еще нельзя. Но мы сейчас, сейчас, вот только прикрепим в одном месте, и все. Пастор уже здесь, говоришь. Значит, подошел наш час... Странно, и чего это она высовывается? Агнесочка, ты уж поторопись, ладно?
– Да ты хоть стой спокойно, чтоб мне подобраться!
– Да, да, конечно... Юнас, что пастор-то сказал?
– Пастор что сказал? Он ничего не говорил.
– А ты-то с ним поздоровался?
– Нет, я сразу ушел, как его завидел.
– Ушел?
– Да, сразу к вам наверх пошел.
– А, ну да, ну да, чтобы нам сказать, это ты хорошо сделал. Сейчас вот еще венец наденем – и я готова. Юнас, миленький мой, все ли там как следует, внизу-то?
– Да вроде все, Фридочка, очень даже красиво.
– Горшки-то с цветами там ли стоят, где надо?
– Как будто там, да.
– А кружевные салфетки на скамеечках, Хульда про них не забыла?
– Не забыла, нет, лежат.
– Да, а торт-то? Торт, Юнас! Точно ли его принесли?
– Этого не скажу, а только я видел, как Клас принес большущую коробку, так я думаю, не с тортом ли она.
– Да, наверно, с тортом. Хоть бы все прошло благополучно. Чтобы все было так, как должно быть. В этот большой и торжественный день в нашей жизни. Они кофе-то пили, Юнас?
– Как же, пили, пили.
– Ты приглашал ли их угощаться?
– А без надобности было, Фридочка.
– Ну все, теперь ты, можно считать, готова, – говорит Агнеса и в последний раз окидывает ее критическим взглядом.
– Готова! Ну спасибо тебе, Агнеса, хорошая моя. Теперь входи, Юнас, иди же, иди сюда, теперь тебе незачем за дверью стоять.
И Юнас входит. Он останавливается, пораженный восхитительным видением, сияющим там, посредине комнаты, ослепительно белым и прекрасным. Это Фрида, его любимая Фрида, и у него даже голова начинает кружиться от счастья. Он смотрит на нее блестящим взором и не может насмотреться, не может поверить, что это правда.
– Ну что, мой друг, нравлюсь ли я тебе?
– Да, – отвечает он охрипшим голосом, и слезы застилают бедняге глаза. Он ничего больше не может выговорить, только все сжимает ей руку, словно в избытке благодарности, снова и снова.
– Тогда все хорошо, – шепчет Фрида и всхлипывает. – Тогда пойдем с тобою вниз. – И она вытирает глаза, прикладывает к ним носовой платок, чтобы не показать охватившего ее волнения.
– А букет-то венчальный! – восклицает Агнеса и идет за ним к вазе, обжимает стебли полотенцем – это яркие гвоздики с зеленью.
– О, спасибо тебе, Агнесочка. И как это я забыла!.. Ах, в такую минуту все можно забыть.
И они идут вниз. Рядом, тесно прижавшись друг к другу. Венец съезжает немного набок, пока они спускаются по лестнице, но в остальном все хорошо. С блестящими глазами вступают они в свадебную залу – небольшую комнату, где солнце светит сквозь гардины. Они шествуют среди гостей, мимо смотрящих на них во все глаза женщин, мимо покашливающих мужчин. Впереди, возле накрытых кружевными салфетками скамеечек, их ждет пастор, преисполненный строгости и достоинства. Они останавливаются перед ним, доверчивые, как дети, в благоговейном ожидании. Он бросает на них пристальный взгляд поверх пенсне, раскрывает книгу и начинает читать.
– Во имя отца, и сына, и святого духа.
Они слушают его затаив дыхание. Невозможно вообразить себе слушателей внимательнее их, так боятся они упустить хоть одно слово, так захвачены они серьезностью минуты. Юнас улыбается, как всегда, но это лишь от несказанного благоговения. Он держит голову слегка набок, чтобы получше все расслышать, и с искренним упованием, сложив ладони у груди, внимает обращенным к нему словам. Фрида тоже крепко стиснула ладони с зажатым между ними букетом, и взгляд ее полон веры и смиренной благодарности.
Затем им надлежит опуститься на колени, и нет для них ничего отраднее. Солнце светит на них: на Фриду, в белом платье с ниспадающей на него фатой, будто сотканной из света, и на Юнаса, в его новой ненадеванной одежде. Они стоят на коленях прямо перед окном, и от этого глаза их сияют каким-то сверхъестественным блеском. А вокруг них множество горшков с цветами. Миг, исполненный света и красоты.
Другие, конечно, не могут испытывать тех же чувств. Они ведь присутствуют просто как приглашенные. Но все же пастор возвещает слово божие, что и говорить, торжественный обряд. Женщины чуточку прослезились, как и положено на свадьбе. И теперь все вслушиваются, как те двое дрожащими голосами отвечают на установленные вопросы. Что ж, довольно-таки интересно поприсутствовать, когда так близко знаешь и того и другого. Юнаса-то они ведь тоже, можно сказать, знают.
Пастор не произносит в их честь никакой особой речи, да это и ни к чему. Но он им читает «Отче наш» и «Благословение», и никогда еще эти две молитвы не звучали так красиво, они словно совершенно новые, с новыми, необычными словами, будто нарочно для них написанными. Затем он закрывает книгу – и волнующая церемония окончена. Фрида и Юнас обвенчаны друг с другом навсегда.
Гостей обносят вином. И все подходят и пьют с ними двоими: сначала пастор, который желает им счастья, а потом по очереди остальные – согласно старшинству и положению или же родству. Солнце светится в рюмках, их звон и сверкание наполняют праздничным весельем всю комнату. В центре, окруженная со всех сторон гостями, стоит сияющая от счастья невеста. А рядом с нею Юнас, улыбающийся каждой морщинкой своего доброго лица. Они и за него тоже пьют, а он держит свою рюмку кончиками пальцев, будто протягивает им редкостный цветок. Повсюду множество приветливых глаз, и в знак благодарности он кланяется и кланяется беспрерывно. На него льется такой поток теплоты и сердечности, о каком он никогда и мечтать не мог. Потом понемногу все утихает, гости рассаживаются за столом и на диване и принимаются болтать друг с другом, а его оставляют в покое, в полнейшем покое – одного посреди комнаты.
Фридой же завладевают женщины, чтобы погладить ее ласково по руке да сказать от себя несколько сердечных слов сверх обычных поздравлений.
– Ну, Фридочка, вот и исполнилось твое желание. Теперь-то уж ты счастлива. Так ведь?
– О да, дорогая фру Лундгрен, очень! Так счастлива, как только может быть счастлив человек!
– Ну еще бы, Фридочка, конечно.
Родственникам тоже нужно подойти, перекинуться с ней словечком.
– Вот ты и вышла замуж, Фридочка.
– Да, Эммочка.
– Видишь, почитай что все этим кончают.
– Нет, но кто бы мог подумать, что так получится? Да разве заранее знаешь, что тебе на роду написано.
– Ах, – встревает фрекен Свенссон из табачной лавки, – конечно же, Фрида должна была выйти замуж. Я сколько раз говорила, довольно странно, что Фрида Юханссон замуж не выходит. Уж она-то может.
– Вишь ты, и я так думала. Муженек-то мой, как зайдет у нас, бывало, про родню разговор, знай свое твердит: мол, Фрида, она замуж не выйдет. А я думаю, погоди, это еще надо посмотреть, тут наперед не угадаешь. Ну поздравляю, Фридочка, это очень даже интересно, что ты замуж вышла.
– Спасибо, спасибо, дорогая Матильда.
Такой идет разговор. И Фрида улыбается, она счастлива. У нее же есть Юнас. Они кивают друг другу, таинственно, с затуманенным взором, все еще под впечатлением священных слов, звучащих у них в душе. Сейчас они стоят порознь, но это ничего не значит, это ведь ненадолго. И все идет прекрасно – она видит, он тоже так думает. Ах, и в самом деле, все такие милые. Многие проделали долгий путь для того лишь, чтобы побыть с ними в этот большой для них день. Не удивительно ли, что столько народу собралось ради них? Все о чем-то рассуждают, и не уследишь за их речами, не знаешь, кого и слушать. А когда они по очереди подходили и пили за их здоровье, господи, до чего это было торжественно.
Из кухни доносится запах съестного, и женщины начинают гадать, чем будут потчевать, верней всего, подадут жаркое, как уж заведено. Фрида – она такая, ей чтоб было все не хуже, чем у людей, достатки-то, видно, немалые. Сколько у нее доходу с этой лавчонки, поди узнай. А Хульда, стало быть, подавать будет, ну-ну. Передничек-то на ней кружевной, скажи пожалуйста.
Пастор выступает вперед и объявляет, что ему пора... Стоит ли задерживаться дольше на такой свадьбе. Его ждет работа, безотлагательные, как говорится, дела. Да, не знает он, что за человек Фрида, какое она приготовила угощение. И откуда ему знать-то.
Фрида надеялась, что он останется. Непременно останется, вот увидите, думала она. С ним бы так торжественно было. Но он вынужден уйти. Что ж, раз у него так много дел. Это и понятно, духовный пастырь, он в ответе за все самое важное в жизни, за человеческие души. Сколько же должно у него быть работы, которая другим и не видна. Она благодарит его за то, что он сделал этот день таким торжественным для них, за все прекрасные слова, которые он им прочитал. Вместе с Юнасом она провожает его до двери, а Юнас подает ему пальто, отворяет калитку на улицу, стоит и кланяется до тех пор, пока пастор не скрывается за деревьями.
Тем временем еда поспела, и все садятся за стол. Новобрачные – на почетном месте, посредине длинной стороны стола, а остальные располагаются вокруг них на этом пиршестве в честь молодоженов. Мужчины толкуют о стоке для нечистот, выходящем в море слишком близко от поселка, затеяли этот разговор, так надо его докончить, а то хуторяне, оказывается, не знают, какой был шум во время обсуждения. Но закуски и рюмки уже дожидаются их, пора за еду приниматься. Угоститься есть чем, стол ломится от всякой снеди. Да и водочка тоже без обману, не грех и еще по одной пропустить. Мало-помалу все веселеют и оживляются, как и должно быть на свадьбе. Раз уж ей понадобилось выйти замуж, старушке Фриде, они, так и быть, позаботятся, чтоб все прошло как полагается. И наедятся и упьются всласть, благо потчуют щедро.
– Эй, Юнас, промочи-ка горло-то. Это не во вред.
– Он что, не пьет? – рявкает через стол Эмиль из Эстрагорда, Фридин троюродный брат. – Да ему только впрок! А ну хлебни, может, хоть язык развяжется.
И Юнас с улыбкой повинуется, хотя вообще спиртного не употребляет. Что ж поделаешь, раз им хочется, чтобы он с ними выпил.
– Вдруг взять и на свадьбе очутиться нежданно-негаданно, а?
– Ну уж и нежданно, бывает хуже. Иной раз смотришь, такая спешка, что и призадумаешься, с чего бы. А тут ничего такого и в помине нет!
– Чего нет, того нет, верно, брат Юлиус. Твое здоровье! Тебе бы все шуточки шутить.
– Нет уж, черт их дери, хотят у меня волов выменять – пусть самую что ни на есть лучшую скотину пригоняют да еще в придачу чего дают. Я им так и сказал. Ей-богу, сроду не видывал ярмарки захудалей нынешней.
– Неужто и водки не было?
– Да нет же, закрыто было.
– Ну тогда, ясное дело, много не наторгуешь.
– Эй, вы там, Эмиль, подкиньте-ка и нам! Ишь какие, все на свой конец загребли!
Принесли жаркое, к нему и подавно надо выпить. И Юнасу приходится со всеми пригубить, хоть он и предпочел бы воздержаться.
– Да что ты, черт возьми, за мужик такой, коль до выпивки не охоч!
Раз все пьют, значит, и он должен. И Юнас пьет, хоть и старается поменьше. Он не из тех, кто умеет отказывать. И ведь они ему добра желают, хотят, чтоб и на его долю перепало.
– Пей давай, силушки прибавится. Ты небось этой работенки-то, что тебя сегодня ждет, ни разу в жизни не пробовал.
– Хочешь, чтоб Фрида довольна осталась, беспременно надо, чтоб разило от тебя покрепче.
– Эх, брат Юнас, и заживешь же ты теперь припеваючи. Уж теперь тебе можно не надсаживаться.
– Из гостиницы-то уйдешь или как? Ах, не знаешь? Она еще тебе не сказала.
– Глядишь, вышивки начнешь продавать на старости лет. Плохо ли, красота, а не работа. Опять же с цветочками будешь ковыряться, она вон какую пропасть цветов-то развела, Фрида.
– Так как же, в лавке он у тебя будет или куда ты его приспособишь?
Фрида может не отвечать, все говорят разом, сплошной галдеж стоит. Она сидит, устремив в пространство взгляд больших кротких глаз, с венцом, слегка съехавшим набок, но полная спокойного достоинства, в своем белом венчальном платье, которое, если подумать, очень ей к лицу. Время от времени она сжимает Юнасу руку под столом, и тогда лицо ее освещается счастливой улыбкой, и они с затаенной радостью взглядывают друг на друга. А потом она снова делается серьезной, чуть печальной.
Начинает смеркаться, и Хульда приносит лампу. На столе появляется сладкое. Оно удалось на славу, но Фрида не может есть, только пробует, чтобы убедиться, что получилось хорошо. Еще бы не хорошо, столько с ним было возни. А потом очередь доходит до торта. Он и в самом деле замечательно хорош. Посредине розовым вареньем выведено «Ю» и «Ф», но этого никто не замечает, они такие перевитые, буквы-то. Зато Юнас и она сразу их видят и обмениваются нежными, счастливыми взглядами, держась за руки под столом. К торту подают вино. Да, если бы пастор смог остаться, он бы, наверное, сказал сейчас речь в их честь. Непременно сказал бы. Он умеет при случае очень красиво говорить. Но ведь и так все идет хорошо. Торт съедают без остатка.
На этом общая трапеза кончается, теперь будет кофе. Оторвавшись от стола, они разбредаются по комнате, мужчины переговариваются, шумят, слегка пошатываются. Им подают сигары, разливают по чашкам кофе.
– А коньячку-то не найдется у тебя, Фрида? – интересуется Эмиль.
Нет, об этом она не подумала. Не ожидала, верно, что будут столько пить в такой день.
– Это ж срамота, в такой торжественный день, – изрекает Эмиль. – Где свадьба, там и коньяк должен быть, неужто не ясно! У меня в повозке есть бутылочка, по дороге в товариществе прихватил. Так и быть, уступлю.
И он с шумом выходит из комнаты и в скором времени возвращается с коньяком.
– Вот теперь гульнем!
Все принимаются снова пить. Они не говорят, а орут так, будто находятся у себя в усадьбах и перекликаются через дворы, сыплют бранными словами так, будто готовы при первой же возможности отправить друг друга на тот свет, – хотя в самом деле стоят все тесной кучей и, полные самых дружеских чувств, болтают наперебой. Время идет, и они все больше хмелеют, приваливаются друг к другу, с грохотом плюхаются на стулья. Которые из станционного поселка, те попристойней держатся, не какая-нибудь деревенщина, а хуторяне так, пожалуй, через край хватили. Дым виснет клубами, и алкогольные испарения разливаются по комнате, наполняя ее своим жарким духом.
Женщины тоже не скучают: сбившись в своем углу, болтают про тех, кого здесь нет, да про разные происшествия в округе, давненько уж вместе-то не собирались, последнее время редко кто гостей созывал. Потом, слово за слово, выкладывают не таясь, что думают, покачивают головой и поджимают губы, шепчут что-то друг другу, прислушиваются и снова говорят, кто уж их разберет о чем. Фрида сидит некоторое время с ними, потом на минутку заглядывает в кухню, потом ставит на место цветы, убранные не туда, куда нужно, потом подправляет лампу. А под конец просто стоит посреди комнаты, сцепив руки и глядя прямо перед собою, и вслушивается в окружающий шум.
– Экая дуреха, в белое платье вырядилась, – вдруг доносится до нее сзади.
Тогда она идет и садится рядом с Юнасом. И, едва сев, не может удержать слез.
Но это не настоящий плач, просто слезы катятся у нее из глаз, тихо, беззвучно. Никто ничего и не замечает, кроме Юнаса. А он в совершенном испуге гладит ей руку, нежно сжимает ее в своих ладонях и все спрашивает, спрашивает, что же такое случилось, отчего она плачет. И тогда она поднимает на него глаза и улыбается ему своей кроткой и доброй улыбкой, как всегда, когда они друг с другом разговаривают.
– Ничего, Юнас, – говорит она, – это просто от радости.
И он успокаивается, потому что видит, что это правда.
– Юнас, миленький, – говорит она, – пошли теперь к себе наверх.
Так они и делают. Они прощаются со всеми весело и приветливо, как счастливые новобрачные, и идут к себе наверх.
Там красиво прибрано, постель приготовлена, все сделано, как Фрида определила. На кровати простыня с кружевной прошивкой, самой широкой, какая только нашлась у нее в лавке, на столе свежие цветы, белая скатерть с мережкой, на комоде тоже. Окно отворено настежь, а на дворе тихий вечер бабьего лета с яркими звездами, свет которых падает в комнату.
Какой здесь мир и покой. Охваченные блаженством, они падают друг другу в объятия. Они стоят долго, так долго, что перестают замечать время, переполненные своим счастьем. Внизу по-прежнему шумят, но удивительно, они не слышат шума. Просто удивительно, что можно вот так ничего не слышать, совсем-совсем ничего.
Затем они раздеваются, идут и ложатся, ласкаясь и перешептываясь. Они приникают друг к другу и ощущают нечто дивное, прежде никогда не изведанное, чему подобного нет.
Никогда она не предполагала, что любовь может быть настолько огромной. Уж как она много об этом думала – и все же до сих пор не представляла себе этого по-настоящему. Словно всю жизнь она прожила ради этого мгновения, когда они с Юнасом слились в одно. Он обнимает ее рукою – сильной рукою, он ведь столько тяжестей перетаскал на своем веку. И она отдается своему любимому, это такое несказанное наслаждение – отдать ему все, что у нее есть, это божественно. Она даже укусила его своими вставными зубами, отчего он уж совсем голову потерял. В первый момент она и сама пришла в замешательство. Но такова любовь, у нее свой язык. Великая, божественная любовь, неподвластное разуму диво, которое все собою освящает.
Потом они лежат рядом, усталые и блаженные. Лежат, держась за руки, будто в этом еще больше нежности, чем в любовных ласках. Они словно оцепенели, потрясенные совершенной полнотою своего счастья.
Юнас забывается сном после долгого дня. Он лежит возле нее, такой красивый и милый, Фрида ласково гладит его волосы, поправляет их. Она тоже чувствует себя немного утомленной. Но лежит в полутьме с открытыми глазами, прислушиваясь.
Как все тихо. Поразительно, до чего тихо. Там ли они или уже уехали? Она ничего не слышит. Вокруг лишь эта огромная, непостижимая ночь – да любимый рядом с нею спит, спокойно похрапывая. И больше ничего.
Она пододвигается к нему поближе и тоже засыпает, крепко сжимая его руку в своей. Так они вместе лежат в ночи, прильнув друг к другу, с горящими щеками, с полуоткрытым для поцелуя ртом. И как величальное песнопение небес, как светозарная осанна единственно сущему, звезды несметными хороводами плывут над их ложем, все умножаясь в числе по мере сгущения тьмы.
Рай
И сказал Бог:
– Ну вот, я тут постарался все для вас получше устроить, произрастил рис, горох и картофель, много разных съедобных растений, которые могут вам пригодиться, всевозможные злаки, чтобы было из чего выпекать хлеб, кокосовые пальмы, сахарный тростник и брюкву, сотворил земли для разной надобности: для пашен, лугов и садов, – подобрал животных, подходящих для приручения, и диких зверей, на которых можно охотиться, соорудил равнины и горы с долинами, террасы, приспособленные для разведения винограда и маслин, рассадил пинии, эвкалипты и прекрасные акации, придумал березовые рощи, цветок лотоса и хлебное дерево, опять же поросшие фиалками пригорки и земляничные поляны, изобрел солнечный свет, который, сами увидите, доставит вам много радости, водрузил на небе луну, чтобы вам легче было следить за временем, пока вы не дорастете до того, что заведете себе часы, подвесил звезды, которые будут указывать направление вашим судам в море и вашим мыслям, когда они станут отрываться от земли, позаботился об облаках, дающих дождь и тень, измыслил для разнообразия времена года и установил приятный порядок их чередования – ну и все такое прочее. Надеюсь, вы будете благоденствовать.
Да смотрите не забывайте вкушать от древа познания, чтобы стать истинно разумными и учеными.
И первые люди почтительно и низко поклонились своему Богу.
– Большое спасибо, – сказали они.
И начали люди пахать землю, сеять и жать, плодиться и размножаться, и они заселили весь рай и, можно сказать, благоденствовали. От древа познания они вкушали прилежно, как и велел им Господь Бог, – вот только незаметно было, чтобы они делались разумнее. Они становились все более хитрыми и сметливыми, мыслящими и просвещенными, вообще замечательными во многих отношениях, но разумнее они не делались. И поэтому жизнь их становилась все более сложной, запутанной и трудной и оборачивалась все хуже и хуже для них самих. В конце концов выискался один бесстрашный человек, который страдал от того, что все складывалось таким образом, и он поднялся к Господу Богу и сказал:
– Сдается мне, что люди ведут себя довольно странно: они, правда, становятся сообразительнее и осведомленнее день ото дня, но свое хитроумие и многознание они употребляют по большей части вовсе не разумно и себе же во зло – не знаю, конечно, но, должно быть, есть какой-то изъян в древе познания.
– Что-что? – возмутился Бог. – По-твоему, в древе познания есть изъян?! Да ничего подобного! Именно таким и должно оно быть, ясно тебе? Его просто невозможно было сделать совершеннее! А коли ты лучше меня знаешь, как мне следовало его устроить, так скажи, сделай милость.
Нет, откуда ж ему это знать. А только нехороши дела там, внизу, ох нехороши, и как ни мудро придумал Бог с этим самым древом познания, а непохоже, чтобы люди набирались ума-разума, вкушая от него.
– Но иным древо быть не может, – рек Господь Бог. – Разумеется, это вещь непростая – научиться от него вкушать, но кто сказал, что все должно быть просто? Ничего не попишешь, кой до чего надо вам и самим докапываться, а иначе какой же смысл в вашем существовании! Все вам разжуй да в рот положи, как малым детям, – так нельзя. Что до меня, я считаю это древо прекраснейшим из всего придуманного мною, а коли вы окажетесь его недостойны, тогда не бывать жизни человеческой, так ты им от меня и передай.
И с тем пришлось человеку отправиться обратно.
Но когда он ушел. Бог остался сидеть опечаленный и удрученный. Ладно бы еще они придрались к чему-нибудь другому из созданного им, это бы не так его задело, но древо познания было особенно дорого его сердцу, быть может, потому, что сделать его было куда труднее, чем прочие деревья и вообще все остальное на земле. И он как настоящий большой художник думал в этот час не о тех своих работах, которые заслужили всеобщее признание, но лишь об этом непонятом творении, в которое он тайно вложил весь жар своей души, не получив взамен никакой радости. Ведь именно эта его работа представлялась ему чрезвычайно, исключительно важной – он просто не мыслил себе, чтобы человечество могло обойтись без нее, без заключенного в ней глубочайшего содержания.
И вполне возможно, он был прав. Ведь он гениальный творец, и ему самому, конечно, виднее. Ему самому лучше знать, во что он вложил всю свою душу.
Он сидел и думал о том, как неблагодарны люди по отношению к нему и к его наиболее выдающемуся творению.
Трудно сказать, сколько он так просидел. В вечности время течет, возможно, весьма стремительно, и то, что для полета господней мысли всего лишь единый взмах крыла, для нас, возможно, длится тысячелетия. И вот опять явился к Богу визитер, но на этот раз пришел к нему сам архангел Гавриил.
– Ты представить себе не можешь, что творится на земле, в раю, – сказал он, – это нечто невообразимое. Люди только и делают, что все тебе портят и губят, и ради этого всячески изощряются, идут на ужасные низости и злодейства. У них там дым коромыслом, шум такой, что оглохнуть можно, – они швыряют друг в друга мерзостные плоды древа познания, которые лопаются с чудовищным треском и, что хуже всего, вырывают из земли всю растительность. А хвастают и бахвалятся люди так, что слушать тошно: они, мол, все знают и умеют получше самого Господа Бога, они изобретают такое, что тебе и во сне не снилось. И у них в самом деле есть жуткие чудища, которые все рушат на своем пути – все, что было придумано тобою, – а в воздухе у них летают огромные поддельные птицы, изрыгающие пламя и сеющие опустошение. В преисподней мне, по счастью, бывать не доводилось, но думаю, что там как раз похожая картина. Срам и безобразие! И во всем виновато это твое древо познания, разве можно было давать его им, я ведь, между прочим, с самого начала тебя предостерегал. В общем, дело, конечно, твое, но ты хоть взгляни, что там происходит.
И Господь Бог посмотрел на землю и увидел, что все правда. И тогда воспылала гневом его глубоко уязвленная душа великого творца, и глаза его стали метать молнии, и наслал он на людей свое небесное воинство, и оно захватило всю их чертовщину и дьявольщину, и боевые бронеколесницы, и извергающие пламя чудища, и при помощи этих творений рук человеческих ангелы господни изгнали людей в бескрайнюю пустыню, где ничего не растет. А Бог поставил ограду вокруг рая и двух ангелов у его врат, каждого со своей скорострельной картечницей и с пламенным мечом. И пустыня вплотную подступала к раю и к ограде вокруг него.
Внутри ограды жизнь цвела во всей своей красе, весенняя и свежая, с солнцем и зеленью – теперь, когда люди оттуда были изгнаны, – луга благоухали, и воздух звенел от птичьего пения. А изгнанники заглядывали в щели между досками и видели, как там теперь стало, но войти туда они не могли.
Ангелы – те, что не стояли в карауле, – легли отдыхать после боя, и усталость смежила им очи. А Господь Бог, погруженный в раздумье, сидел в раю под самым любимым своим творением, и ветви древа познания осеняли его глубоким миром.
Блошиный рынок
Каждый день по пути на службу я волей-неволей брезгливо пересекаю базарную площадь с ее всегдашним блошиным рынком, где на грязной брусчатке разложено для продажи разного рода старье, где прохожие вынуждены перешагивать через груды поношенной одежды и хлама, а торгаши зазывают покупателей все теми же заученными выкриками, наперебой предлагая то всевозможный краденый товар, то жалкие обноски. Кругом разлита светлая утренняя прохлада, но на базаре стоит зловоние и гнилой воздух оглашается хриплыми криками зазывал. Люди пробираются между кучами рухляди, копаются в грудах старья, выискивая яркие тряпки и дешевые поддельные украшения, подолгу толпятся разинув рты вокруг торгашей, которые маслеными голосами заманивают ротозеев. На что только людям весь этот хлам и как вообще можно торговать такой дрянью? Всякий раз, когда я прохожу по базарной площади, мне и противно и грустно, а голодные, больные глаза окружающих и вовсе повергают меня в уныние.
Когда же наконец здесь начнут продавать чистое, добротное платье, когда раскинут на прилавках душистое белоснежное полотно, разложат настоящие украшения и драгоценные камни?
Но вот однажды я встретил седого как лунь старика, он тоже прогуливался среди груд старья и бесполезного хлама.
– Что это вы морщите нос? – сказал он мне. – Людям нравится здешний базар, сами видите. Зачем же лишать их этой отрады? Им по душе блошиный рынок, недаром здесь всегда толпится народ. А вот если бы тут стали предлагать прохожим чистое, благоухающее полотно, как вы думаете, привлек бы базар такую уйму народа? И если бы торговали подлинными украшениями, разве все могли бы их купить? Только фальшивые побрякушки дешевы и потому доступны любому. И разве эти подделки вовсе лишены всякой ценности? Разве они не сверкают так же, как сверкают глаза тех, кому посчастливилось их купить? Отнимите у людей блошиный рынок, к которому они так привыкли, и, сдается мне, вряд ли они будут счастливы.
– А сейчас они счастливы? – спросил я, глядя на блестящую побрякушку, которую старик взял с прилавка и теперь держал на ладони.
– Да. – Он осторожно положил побрякушку назад, на грязный прилавок. – А что такое счастье?
Летописец
В захолустном городке – о нем почти никогда не вспоминали, хорошо еще, если знали о его существовании, – поселился в свое время старый чудак, человек с виду лет семидесяти, который, хоть и жил в полном уединении, все же пользовался определенной известностью и по-своему привлекал к себе людское внимание. Внешне он походил на учителя, только уж в том городке не учительствовал; может быть, он переехал туда, выйдя на пенсию. А может, как знать, он вовсе и не был учителем. Он ни с кем не общался, и никому не довелось свести с ним знакомство. Но при всем том он, можно сказать, был знаком со всеми. Он любил беседовать с людьми и был одинаково приветлив со всяким. С любопытством прислушивался он к словам собеседника, глядя на него своими старыми, умными глазами. Однако о себе никогда никому не рассказывал. Хоть все и знали его, он оставался для людей чужаком, и, даже изо дня в день появляясь на улице, все же никогда не расставался со своим одиночеством.
Длинную, тощую фигуру его примечали издалека. Лицо его, почти аскетическое, всегда светилось внутренним восторгом, когда он одиноко шел своим путем. Нередко его встречали в окрестностях городка, где он любил бродить, но подчас он даже не замечал прохожих; неизменный просторный плащ внакидку придавал ему вид романтический, если не странный. Но никто не нашел бы в нем ничего смешного, и если он прослыл чудаком, то лишь по причине своего отшельничества. У него не было недругов, напротив, к нему относились с известным почтением, ведь, судя по внешности, он, как принято говорить, принадлежал к хорошему обществу.
В любом маленьком городе жителям непременно надо знать всю подноготную о том или ином земляке (иначе они не успокоятся). И многие ломали голову над тем, кто же, в сущности, этот отшельник. Но больше всего недоумевали, почему в его комнате ночами напролет горит свет и чем он там занимается – ведь чем-то он наверняка занят. Прознали каким-то образом, что он сидит там и пишет. Это показалось народу правдоподобным, и молва тотчас наделила старика ученостью.
Как бы то ни было, с тех пор прошел слух – откуда он взялся, мне неизвестно, – будто он пишет какой-то исторический труд. И отныне его стали звать не иначе как Летописцем.
И он заслужил это прозвище.
Однако он не был обыкновенным летописцем: он писал о будущем. Положив перед собой большую книгу в пожелтевшем пергаментном переплете, вследствие чего она уже сейчас казалась древней, он записывал в ней самым изысканным слогом все то чудесное, что предстоит пережить людям, вел рассказ об удивительных судьбах, которые ждут их в далеком будущем, о великих, замечательных явлениях грядущего.
Он писал историю великолепного, бесконечного, ныне почти еще совсем неведомого будущего.
Он не был дилетантом в этом деле. Он хорошо знал минувшие времена, долгие годы отдал он их изучению. Все знал он, что надо было знать. Но прошлое всегда оставляло у него ощущение неудовлетворенности. Слишком многое угнетало человека, исследующего прошлое, не давало воспарить его духу. Посвяти он себя прошлому, он не получил бы никакого удовольствия от своего труда.
Вот он и стал летописцем будущего.
Великую цель поставил он перед собой. И решил всецело посвятить себя ей. Отныне ему уже нельзя было разбрасываться по мелочам, он нуждался в полном покое. Потому и жил отшельником: надо было полностью сосредоточиться на своем труде.
Тому, кто вздумал писать историю, часто мешает современная ему действительность, порой она способна совершенно сбить его с толку. Что только не происходит в мире, что только не вызывает тревогу! Иным событиям человек склонен придавать чрезмерное значение, порой он отводит им роль столь важную, столь решающую, что его представление о мире искажается, а описание грешит против истины. Он может стать жертвой влияний неуместных и ненаучных. А бывает и так: слабеет мужество, вдохновение, пропадает радость труда, а ведь они в конечном счете всего важнее.
Вот почему он отошел от мира, вот для чего отыскал этот захолустный городок, – чтобы написать великий свой труд. Он должен был сберечь верный взгляд на бытие. А писать историю лучше всего в тиши.
Он следил, однако, за тем, что происходило в мире, он и не думал отгораживаться от него, как, впрочем, и прятаться от людей. Просто не хотел допустить, чтобы его смущали ежечасные события, и не позволял себе огорчаться из-за того, что свершалось или свершится, храня в своей душе свет надежды. Сколько раз, задумываясь о настоящем, обо всем, что происходило вокруг, он говорил себе: все это ничтожно в сравнении с тем, что я написал в своей книге.
Нет, прошлому и настоящему не пригнуть его к земле. Он может лишь ненадолго огорчиться, но не больше. Он слишком увлечен своей великой задачей, так велика она, что просто не оставляет места для тоски. Далеко вперед смотрит он, уносясь в будущее на могучих крыльях вдохновения, на крыльях мысли.
Сколь ничтожно пережитое человечеством в минувшие времена в сравнении с тем, что ожидает его в грядущем! Ведь то было просто младенчество мира, время шумных, необузданных отроческих игр.
Отшельник же писал о деяниях зрелых мужей.
Как далеко продвинулся он в своей летописи? О, совсем немного – всего лишь на несколько сот тысяч лет вперед.
Окончит ли он вообще когда-нибудь свой труд?
Временами он поднимал голову от книги, испещренной тонкими четкими строчками, и сидел задумавшись, с пером в руке. Мягкий, пытливый взор всматривался в ночь. Весь город спал, лишь он один бодрствовал у своей лампы.
Никто не ведал, о чем думал он в такие минуты.
Хотел бы я знать, что сталось с тем стариком. Жив ли он поныне? Давно я ничего не слышал о нем. А ведь в ту пору часто видел его и хорошо его помню. Да, раз я даже проник в его жилище. Он снимал квартиру у столяра, а с тем мы были знакомы семьями, и, случалось, я заходил в тот дом, когда меня посылали за сливками: молочник жил там же. Ясное дело, старик вызывал у меня острое любопытство, как и труд, которому он себя посвятил. И однажды, когда Летописца не было дома – быть может, он предпринял одну из своих долгих прогулок, – я не выдержал и прокрался к нему в комнату, горя желанием заглянуть в его огромную книгу.
Вся комната от пола до потолка была забита книгами. Но та, что лежала на столе, была много, много больше всех других, какие мне когда-либо доводилось видеть, я и не думал, что бывают такие огромные книги. Это была та самая книга. Я приблизился к ней с благоговением. Помнится, она не показалась мне особенно привлекательной: всюду следы пальцев, потертости, а переплет выглядел так, будто побывал в огне. Да, судя по всему, переплет видал виды.
И все же это была прекрасная книга.
Я с великим трудом раскрыл ее. Только тщетно старался я разобрать написанное, ничего у меня не получилось. Летописец изъяснялся совершенно необычным слогом, и я ничего не понимал. Я знал лишь те слова, которые мы читали и писали в школе. Но было приятно даже просто сидеть и смотреть в эту книгу. Он не дописал ее до конца, это я точно понял.
Я сидел, глядя в книгу, и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел старика; я не заметил, как он вошел в комнату, – ведь я забыл притворить за собой дверь. В своем просторном плаще, совсем вымокшем от дождя, он стоял и разглядывал меня. Я сильно перепугался, ожидая, что он сейчас рассердится не на шутку. Но к удивлению моему, он и не думал сердиться. Он положил мне на голову ладонь и кротко и приветливо взглянул на меня своими странными, чуть влажными глазами. Потом кивнул мне, но ничего не сказал.
Да, я не раз потом думал об этом. И часто вспоминал, как он стоял у меня за спиной, вспоминал его старые, но все еще лучистые глаза и длинную фигуру в романтическом старомодном плаще.
Жив ли он сейчас? Не знаю. Я давно покинул тот тихий городок. Все это было так давно. И может статься, старика там уже и нет.
И все же я надеюсь, что он по-прежнему где-то сидит по ночам над своим трудом. И как знать, быть может, не зря.
Может, он вправду был чудаковат, а может, просто мечтатель. И возможно, он не снискал бы одобрения своих коллег – профессиональных историков.
Но все же... Что, если никто больше не сидит над огромной книгой и не пишет историю будущего?
Освобожденный человек
В руке у меня круглый камешек. Красный с голубыми прожилками. А если вглядеться, можно различить и другие цвета. Зеленый, фиолетовый и какие-то блестки, похожие на золото. Если его медленно поворачивать, он отливает всеми цветами и оттенками. Мне никогда не надоедает рассматривать его, скользить взглядом по гладкой, красивой поверхности, вроде бы даже мягкой, как и всякая идеально гладкая поверхность. Удивительно, что в камешке размером с птичье яичко могут заключаться такие неисчерпаемые богатства. Это целый мир. Бесконечность, к которой ты приобщаешься, бесконечность, которая вся умещается у тебя на ладони.
Я нашел его на тюремном дворе, и мне удалось пронести его с собой.
Во время получасовой прогулки во дворе нам запрещено наклоняться и подбирать что-либо с земли. Конвойный заметил и спросил, за чем это я наклонялся. Я ответил: ни за чем, и он успокоился, сказал только, что здесь, мол, и подбирать-то нечего. К счастью, он не стал меня обыскивать.
Камешек теперь мой! Моя неотъемлемая собственность! Целый мир, огромная, неизведанная страна принадлежит мне. Царство без границ, неисчерпаемое богатство. И все это мое! Тайные мои владения! Все вот это неведомое, живое, подлинное, что заполняет меня своей бесконечностью.
Я запрячу его подальше в угол, под нары. Там его никто не найдет. Да и кто станет искать такой пустяк?
Мне часто кажется, что начало всему – радость. Что, кроме радости, способно было бы сотворить мировое пространство, все эти солнечные системы и млечные пути?! Но отчего же теперь все переменилось? Отчего все не так, как в первый день творения? Ведь небо и земля все те же, и жизнь так же богата и удивительна, даже еще богаче.
Что же лишило нас Радости?
Голубое имеет свой смысл, красное – свой. Все в этом камешке имеет, я уверен, свой смысл. Я его не постигаю, но мне ясно, что во всем заложен глубокий внутренний смысл, богатое содержание. Это же очевидно. И мне ясно, что час рождения был часом великой радости. А теперь? Куда она подевалась? Ведь все по-прежнему существует, стоит только нагнуться и подобрать. Сокровища рассыпаны повсюду.
По всему тюремному двору.
Небо и земля твои. Земля усеяна цветами, и все звезды сияют. Но свет их направлен в пустоту космоса, они сияют не для тебя. И аромат цветов словно предназначен лишь ветру.
Где же он, тот, кто должен бы вдыхать ароматы и принимать приветствия от созвездия Андромеды? Тот, к кому прежде всего тянулся бы луч рассветного солнца? Кто бродил бы по лугам, возлюбленный всем, что есть свет?
Где же ты, человек?
Богатства жизни словно покинуты и забыты. Мы тащим на себе лишь скудость жизни, она совсем нас заполонила. Мы носимся с ней, как ненавистник со своей ненавистью, как больной со своей болезнью. Обездоленные, жуем мы черствый хлеб нищеты, проклиная того, кто жует с нами рядом.
А накрытый стол богатства стоит нетронутый, без гостей.
Я все время мучительно размышляю над своей судьбой. И над судьбой всех прочих. Почему сидим мы здесь в заточении? И тюремщики тоже в заточении, их жизнь проходит так же, как наша. Ничего не поделаешь: раз уж существуют узники, тюремщики тоже оказываются узниками. Куда ни взглянешь – всюду одни узники. Камеры и узники. Свободных нет!
Тюремщикам, должно быть, намного труднее. Их жизнь, должно быть, абсолютно пуста. Посмотреть хотя бы на их лица – всегда одинаково жесткие, невыразительные, как бы застывшие. А на лицах узников – мука, отчаяние, негодование, они изменчивы, выразительны, это живые лица. Узников терзает страх, они постоянно чем-нибудь мучаются, их жизнь, при всей скудости, не пуста.
Только узник способен найти что-нибудь на тюремном дворе.
Мой камешек – дитя моря. Потрогай его. Вот почему он такой идеально гладкий. Море бесконечно долго шлифовало его, быть может, целые тысячелетия. Омывало его волнами, которые то вздымались, то опадали, – бесконечная, не знающая покоя стихия. Покуда он не стал до того гладким, что кажется как бы даже мягким. Покуда он не стал как бы даже живым. Мягким, как женщина. Потому что он создан морем. Там он лежал и слушал мерный шум тысячелетий, дыхание морской глуби, шорох песка меж камнями.
Море...
Как, должно быть, любил я жизнь! Я вспоминаю о ней, как вспоминаешь о любимой женщине, с которой разлучен навеки. Видишь солнечный ореол ее волос, хотя свет солнца тебе не виден, и ее силуэт на фоне ландшафта, который никак не можешь толком вспомнить. Эту вот тропку я не узнаю, хотя она вроде бы знакома мне. И деревья не узнаю, эти вот именно деревья мне незнакомы. Хотя где-то я видел похожие. Многое забыто, а может, просто стало теперь другим. Но только не она. Она все та же. Походка ее плавна и нетороплива, а голова чуть склонена набок, будто она отстранилась от ветки или прислушивается к чему-то. Да, это она, моя бывшая любовь. Лица ее мне не видно. Она ведь удаляется от меня. Я вижу только силуэт. И она не оборачивается.
Быть может, лицо жизни уже не существует для меня?
Море...
Оно по-прежнему вздымается и опадает, сегодня, как вчера, как испокон веков. Волны плещут и шумят. Мне кажется, я его слышу, сидя здесь с камешком в руке, ощущаю его мерное дыхание.
Море – оно все то же. Его нельзя забыть. Оно слишком просто и огромно, чтобы можно было забыть его. Это нечто цельное и неизменное, нечто постоянное, вечное. Каждое движение извечно и неповторимо. Вот волна бежит к берегу, вот она, будто встретив препятствие, стремительно отступает, уходит к неведомой цели, вот мерно колышется его поверхность, точно вздымается дышащая грудь. Все извечно и вечно молодо.
Да, моя возлюбленная была достойна любви.
Стены не способны отгородить от жизни, она шумит во мне. Они могут лишь скрыть лицо жизни. Глубина же всегда в нас, просто сейчас в ней ничего не отражается. Стены не могут отгородить от любви, могут лишь разлучить нас с любимой. А когда еще любишь так, как в разлуке!
Где-то наши главные жизненные артерии впадают во всеединую глубь, соединяя нас с ней. Где-то все сливается в одно и дышит одним дыханием с великим морем, дыханием вечности. Где-то все – одна глубь, неизменная, недоступная и скрытая, не имеющая внешней оболочки. Что такое отражение в сравнении с Действительностью? Что такое лицо жизни в сравнении с самой Жизнью?
Быть может, теперь, лишенный всего зримого, я смогу приблизиться к чему-то, что прежде было мне недоступно, лучше пойму суть вещей – ведь человеку лучше думается, когда он прикроет глаза рукой. Может, тайный родник наполнит меня своими чистыми водами, и я познаю сокрытый от нас мир истин и сущего.
Слепые, говорят, как-то преодолевают свою судьбу. Почему же мне не преодолеть свою?!
Заглянуть в глубину – не значит ли это заглянуть во мрак? Не знаю. А вдруг наоборот? Вдруг источники светлы, вдруг глубина светла? И в основе всего – радость! И возможно, я загляну в просторный и светлый мир первого дня творения.
Нет, я не согласен быть нищим! Я хочу верить, что жизнь прекрасна и вечно молода. Верить, что в глубине ее – свет и что мои родники пробьются под любыми стенами. Верить, что добро богато и могущественно и что злу не устоять перед ним. И, прикрыв глаза рукой, я буду смотреть только туда, вглубь, в сокрытый от нас вечно юный мир истинно сущего.
Преодолеть свою судьбу! Пробиться под стенами, которые хотят помешать нам видеть! Они думают, они могут заключить нас в темницу, лишить нас света. Не так-то легко лишить человека света! Разлучи его с миром – ты отнимешь у него всего лишь отражение. Разлучи его с жизнью – ты отнимешь у него всего лишь его лично жизнь, не ту великую и всемогущую, которой он сопричастен и с которой его ничто не может разлучить. Та жизнь знать не знает, что кто-то построил стены, что ее родники в темнице и ничего не отражают. Родники жизни бьют из тюремной земли, меж тем как узники изнывают от жажды. Жизнь открывает свои родники в слепце, не ведая, что он слеп, не тревожась за него. Она невозмутима и бестревожна, она недосягаема, ничто не может коснуться ее, повредить ей. Она светла и всесильна, как была и будет всегда.
Люди страдают. Но жизнь не ведает страдания.
На тюремной земле росла вишня. Ее спилили. А она все равно цветет. Она валяется на земле кучей палок и цветет. Ветки обрублены, но они живут, иные белы от цветов.
Жизнь не ведала, что вишню спилили. И одела ее в цветы, как обычно, как всегда.
Нет, узники не зачахнут от жажды! Они все преодолеют, преодолеют самое смерть. Они принадлежат жизни, и оторвать их от нее невозможно. Она держит их крепко, она их не отпустит. Насилие ни к чему не приведет, подавление, уничтожение – все бесполезно. Есть в них нечто, неподвластное отчаянию, не знающее, что это такое.
Обрубок цветет.
Да, нас превратили в обрубки. Но победа не за теми, кто совершил над нами насилие, кто искалечил человека: бессмертное начало в нем победит в конечном счете разрушительные силы. Когда над человеком совершается насилие, изначальный замысел лишь еще яснее проступает в его искалеченном облике. Тайна его делается очевидной, потому что отпадает все внешнее, скрывавшее глубинную суть. Ценой бесконечных страданий и потерь формируется образ поразительной простоты и величия. Разрушительные силы, сами о том не подозревая, способствуют высвобождению бессмертной сути творения.
Но почему вообще на земле должно существовать страдание? Неужели оно необходимо во имя конечной победы и без страдания ее не завоюешь? Неужели символом победы для нас может быть только обрубок? Неужели так должно быть? В этом наша судьба? И страдание – единственный способ выявить нашу суть? Лишь через страдание мы становимся сами собой в высшем смысле? Допустима ли такая возможность? Но тогда, значит, силы разрушения суть силы созидательные? Сами по себе бесплодные, неживотворные, негативные – но при этом созидательные? Все-таки созидательные? И потому-то, в силу такого возмутительного порядка вещей, всегда и получается только обрубок?
Нет, ничто не заставит меня поверить в это!
Страдание, конечно же, ничего не создает и не одерживает никаких побед. Не говоря уж о насилии. Они никак не способствуют нашему осуществлению! Не может негативное созидать в истинном смысле слова. Животворны лишь изобилие и свет! Лишь они властны творить, лишь в них – утверждение, осуществление, становление. Ведь в основе-то жизни – радость! Разве не так?
Конечно, так. Наверняка. Иначе я себе и не представляю. И не желаю представлять. Ведь так оно должно быть.
Я только не понимаю, отчего страдание так безмерно и распростерлось такой мрачной, зловещей тенью надо всей жизнью. Как это так получается? И почему особо зловещей тенью нависает оно над высшими формами жизни, как бы нарастая и усиливаясь вместе с развитием самой жизни? Почему это так? Есть ли в этом какая-то скрытая необходимость?
Как страдает человек, не страдает ни одно живое существо. А между тем – не мы ли, как никто другой, созданы для изобилия и счастья! Кому же, как не нам, оно предназначено! Но мы обременены нашей судьбой, мрачная тень тяготеет над нами и все сгущается, становится все более зловещей, чем выше взбираемся мы по дороге к вершинам.
Отчего человеческая судьба обязательно должна быть печальной драмой? Трагедией, которая разыгрывается в великолепном царском дворце, днем залитом солнцем, а ночью укрытом звездным пологом. Древней сагой – бессмертно прекрасной и волнующей, но жестокой и унизительной для нас.
Но может, в этом и есть наше бессмертие?
Небо и земля – твои. Но твое и бремя, которого никто больше не может нести, бремя судьбы, ставшее слишком тяжелым для всех и вся, посильное разве что царю природы. Жизнь возложила его на нас. Мы должны нести его и не имеем права согнуться. Падай, но не бросай. Разбивайся насмерть, но не умирай. Страдай, но побеждай страдание. Снова и снова поднимай свою ношу и неси дальше, во все времена.
Но уж не судьбу ли самой жизни несем мы на своих плечах? Не так ли получается? Не свою ли собственную сокровенную ношу возложила она на нас как на единственно посвященных, близких, достойных такого доверия? И свое собственное страдание! Не страдает ли и она сама, только тайно, невысказанно? Быть может, именно через нас должно быть высказано, осознано это страдание? Не в том ли наше предназначение? И не преследуется ли тем самым и какая-то высшая цель, не заложено ли в этом и стремления к чему-то большему, чему-то всеобъемлющему – и недосягаемому?
Конечно же, жизнь богата и могущественна. Но разве ее богатство – синоним счастья? Не легкомыслие ли верить в это? Конечно же, она светла, светла до самого дна многих своих источников, но разве не впадают ее воды и в мрачные бездны, куда не проникает луч света? И разве не сложна самая ее суть, не многозначна и противоречива? И может, именно для того и должен был явиться человек? Чтобы познать ее противоречивость, расщепленность, двойственность, чтобы попытаться объять все? Может, ее двойственная суть – два лица Януса, обращенные ко дню и ночи, – должна была воплотиться именно в человеке? И его единая душа – разрываться между светом и тьмой, и в борьбе соединить в себе их обоих? Не в том ли смысл человеческой участи? Не потому ли должны мы страдать?
Я держу в руке камешек. Он сверкает всеми красками, переливается, живет. В нем как бы заключено все богатство и многообразие жизни. Но это не талисман «на счастье». Не так все просто. Счастья он не приносит – зато, быть может, приносит нечто большее, более насущно необходимое.
В царской короне бывает особый камень, один среди всех. Тайный талисман рода, передаваемый из поколения в поколение. Камень судьбы.
Откуда он явился? В каких глубинах был он некогда рожден, чтобы стать потом многозначным даром жизни, преподнесенным человеку? Известна ли ему тайна мрака, как известна тайна света? Помнит ли он глубину, где все его краски гасли – и где они, быть может, снова когда-нибудь погаснут? Является ли он связующим звеном между царством дня и подземным царством тьмы, между светом и тенью в душе царя?
По ночам во дворце слышатся его тяжелые шаги, и тени Гадеса следуют за ним по древним залам, эринии рыщут вокруг акрополя, одиноко возвышающегося на скале, наводя безотчетный ужас на природу в ее вечном забытьи. Лишь здесь, на вершине, в обители человека, – лишь здесь могут вынести бремя судьбы, могут вынести все.
Мир дневного света! Разве не в нем все дело? Не в нем ли все подлинно существует? Не ради него ли возникли и небо, и земля? Не ради него ли и сотворены?
Но где-то в самом сердце творения, в самой сокровенной его глуби, есть, должно быть, нечто трагическое, кровоточащая рана. Возможно, в момент творения был нанесен некий смертоносный удар, совершено убийство. И все сотворенное сразу обрело двойной смысл, тут же стало и отвергнутым, отмененным. Кровь сочится во вселенной, и, возможно, мы, люди, рождены, чтобы собрать ее по капле. Ведь только мы оказались способны постичь драматическую суть спектакля, трагизм страдания – и сами снова и снова повторяем совершенное преступление.
Есть, быть может, что-то глубоко верное в стародавнем представлении о том, что грех пришел в мир с человеком – хотя и не в том смысле, как это понимали в старину. Да и не всегда ли вообще верны оказываются ветхозаветные представления – хоть и всегда не в том смысле, для каждого века на свой, новый лад. Разве не преследуют нас эринии, как они преследовали наших предков с начала времен?
У человека эта загадка жизни, некая трещина в самой ее сердцевине, нашла свое выражение в чувстве вины, сознании греха. Человеческая душа умела тревожиться, бояться, терзаться, винить себя, если преступила некий рубеж. Она сумела взять на себя все мучительное, неразрешимое и нести эту ношу, как свою собственную. Нести и выдержать. Взять на себя то, что скрывалось в сердцевине жизни и что непременно должно было найти свое выражение и тем освободить себя.
Человек должен был появиться. Он был порождением противоречивой, трагически двуликой, многозначной сути самой жизни. Он единственный способен был вместить в себя все. Только он один умел страдать – и только он мог погружаться в бездны преступления. Только он один знал, что такое грех, только он испытывал чувство трагической вины, которая, в сущности, не была его собственной, но которой он способен был терзаться, как своей собственной, – как, например, Эдип, когда он, сам того не зная, убил своего отца. Только он способен был из видимого абсурда, из страданий, из раздробленности и разнородности извлекать нечто ценное, исполненное глубокого смысла.
И очевидно, в этой его способности было нечто очень важное и плодотворное для жизни.
Замкнутое нашло выход. Спящее пробудилось и обрело сознание. С муками выбралось из долгого своего забытья и почувствовало, как звериное обличье оставляет его. Почувствовало себя существом, непохожим на всех прочих: богаче, могущественнее, счастливее, – но избранным, единственным из всех, для невыразимого страдания.
Бездны разверзлись – и для него они имели смысл. Он ощущал их и в себе самом, в собственной своей душе. Теперь ему предстояло погружаться в эти глубины, чтобы оттуда во всеуслышание обвинять самого себя.
Жизнь наполнилась более возвышенным содержанием. Она стала судьбой, призванием, дорогой страданий. Via dolorosa, некий крестный путь, на который вступил человек. На него, на человека, жизнь могла теперь переложить всю свою боль, все мучительные противоречия. Он способен был терзаться ее грехами – и совершать ее преступления. Он способен был пойти на крест – и сам распинать на кресте.
Кто может оценить значение понятия вины, самоуничижения, раскаяния для зарождения и развития мира человека, для углубления и расширения жизни? Плодотворность такого порядка вещей, когда что-то считается правильным, а что-то неправильным, когда положен конец слепым, бессознательным действиям, когда любое действие не просто бессознательный акт, а поступок существа ответственного, так или иначе влияющий на формирование его «я». Когда души могут низвергаться в бездну вечной погибели и воспарять к высочайшим вершинам чистоты и самоотвержения – благодаря врожденной жажде справедливости. Жизнь тем самым обретает новое измерение, поразительное в своей небывалости.
Без этого нового измерения невозможно было строить мир человека, мир развития личности, духовной борьбы, культуры. Теперь наконец были найдены мерки для определения тех высот и глубин, которых стремилась достигнуть жизнь и которые человеческая душа должна была вместить в себя. И повеяло предчувствием трагического величия, и уже угадывалось все богатство оркестровки. И симфония зазвучала в полную силу голосами ликования и скорби, и лейтмотив, мощный мотив судьбы, прорвался, набирая силу, неся борьбу и освобождение, звуча все отчетливее, все ярче.
Зло и добро, добродетель и грех, восхождение из бездны к вершинам чистоты и света. Царство человека! Судьба человека!
Новый, девственный край, плодородный и беспредельный. Изобилие, изобилие. Край надежд, обретенный в борьбе.
Но в качестве платы за все завоевания, за все приобретения – невыносимое страдание. Трагическое напряжение никогда не ослабевает, по мере развития драмы оно будет лишь нарастать, потому что конфликт неразрешим и останется неразрешимым. Потому что масштабы противоречий растут вместе с масштабами самой жизни, потому что развитие идет вширь и все происходящее есть продолжение творческого акта через человека.
Зачем требовать от нас так много! Почему мы должны мочь невозможное! Зачем предъявлять к нам такие высокие требования, что мы все равно никогда не сможем их выполнить! Почему наше счастье должно приноситься в жертву чему-то настолько великому и трудному, что оно несовместимо с понятием счастья!
Почему мы обязаны быть избранными?!
Можно спрашивать. Можно жаловаться.
Но человеку остается только бороться. Продолжать сражение, ход которого подводит его ко все более открытым позициям, к неусыпному бодрствованию на передней линии окопов. А границы все время раздвигаются: владения человека безграничны, они все расширяются за счет пока еще ничейной земли – такова наша родина, за которую мы сражаемся, побеждая и умирая. Иногда позиции прорываются – тогда бегство, паника, смятение, и разбитые части снова наспех формируются на тыловых рубежах. Наступает всеобщее уныние, все кажется безнадежным, и солдаты, смертельно усталые, грязные, сидят, забившись по своим норам, и клянут свою страну, которую они от рождения осуждены защищать. Даже самые храбрые и ответственные могут иногда затосковать и подумать: хорошо бы удрать с поля боя, от невыносимых этих тягот, и пожить, как трава растет, жизнью цветов, деревьев и птичьих стай, с их простыми радостями. Стоит ли все это таких жертв? Не бессмысленна ли битва? Да и сама победа? Что это за страна такая, у которой нет границ? Как прикажете ее защищать? Да и победы не ставятся ни во что и не дают результата, все остается столь же неопределенно. Сплошные бои, сплошные жертвы, и родина не запомнит храбрецов, уснувших вечным сном в ее земле, ибо она слишком необъятна и герои ее бесчисленны и безымянны. Что за участь суждена нам!
Но когда наступает ночь, кое-кто встает и оглядывает при свете звезд разоренную, покинутую землю, где так много бойцов пало в сражении. И они берут оружие и под прикрытием ночи снова, крадучись, идут вперед.
Интересно бы знать: кто же нас все-таки предал? Мы побеждали, мы, как никогда, шли от победы к победе – и вдруг произошло это предательство. Позиции были оставлены, словно по какому-то секретному приказу, хотя, казалось, они были выгоднее, чем когда-либо. Правда, они были очень уж далеко выдвинуты вперед и лишь на отдельных участках укреплены как следует, хотя солдаты, там находившиеся, ничего про это не знали. Но все равно их можно было, наверное, удержать. Или хотя бы защищать. Почему они были просто-напросто оставлены?!
Кто отдает приказы? Высшее командование, разумеется. Я не думаю, что все началось с рядовых, что это они первые дрогнули. Хотя потом уже, когда все начало трещать, все пошатнулось, они-то и стали зачинщиками этих оргий отчаяния и пораженчества.
Нет, я думаю, предали именно те, кто приказывал нам идти вперед, к самым опасным рубежам, кто гнал нас к пределам величия, призывал к самопожертвованию и подвигу во имя победы. Их приказы были двусмысленны. Сами они двойственны по своей сути!
Мечтатели – предатели!
Все стремится к победе. Но все стремится и к краху, гибели. Когда вершина достигнута – пропасть как бы ближе всего, и именно на высоте чувствуешь, как она притягивает, засасывает. Как раз самые высокие точки человеческих устремлений, пики культуры, пики совершенства суть очаги сомнения; как раз в высших слоях начинается процесс разложения культуры. Всякая данная культура несет в себе начало распада, нечто, что разъедает ее. На более ранних этапах это еще не опасно. Даже напротив. Ведь яд в малых дозах оказывает стимулирующее действие. Это даже придает драгоценным камням в царской короне своеобразную прелесть, некое меланхолическое мерцание. Только потом уже становится заметно, что причина – изменения в камнях, предвещающие, что скоро они совсем потеряют блеск.
Странно, просто непостижимо: как это так получается, что разрушительные силы составляют одно целое с силами созидательными, победоносными...
Новенькая корона всего лишь богата и роскошна. Корона накануне своей гибели может быть поистине прекрасна.
Мне запомнилось облако, которое я видел как-то на днях, когда стоял и смотрел на небо сквозь решетку. Оно было похоже на человеческую голову, голову мужчины с благородным, строгим и гордым профилем – воплощение превосходства, возвышенности и изысканности.
Пока я стоял и смотрел, линия профиля постепенно менялась. Сначала своеобразная красота этого лица стала как бы еще явственнее, еще отчетливее проступило самобытное, индивидуальное, но потом в нем появилось что-то внушавшее тревогу, что-то странное и преувеличенное – а дальше уже болезненное, прямо-таки отталкивающее. Лицо будто разлагалось у меня на глазах, не теряя, однако, при этом своей индивидуальности, не лишаясь сходства со своим прежним «я». Постепенно оно превратилось как бы в лицо прокаженного, потеряло отчетливость, расползлось, стало гнить заживо. Наконец на месте выразительного глаза осталась дырка, а подбородок отвалился – вместо головы передо мной был оскаленный череп.
Но даже и у черепа было какое-то сходство с тем прежним, величавым и прекрасным образом, их связывало нечто общее, некая глубоко сокрытая тайна.
Все стремится к цветению. Но все стремится и к самораспаду, к смерти. У каждого цветка есть цветок-двойник, окликающий его из страны вечных сумерек, у каждого дерева – свой двойник, простерший бесплотные ветви во мраке, где все неразличимо, где все суть одно. И именно цветение, зрелость, завершенность подает силам тления знак быть наготове. Именно в высший момент своего развития все стремится к краху, к гибели. Именно победа отдает приказ сложить оружие.
Что это? Тоска всего земного по той стране, из которой все мы вышли? Жажда окунуться в воды тьмы, где все сливается в одно – как это уже было когда-то? Жажда лишиться самого себя и раствориться во всеедином и вечном? И снова возродиться по властному его повелению – оно одно властно вызвать нас из небытия. Медленно высвободиться из его беспредельных объятий, выбраться из мрака забытья – и с радостью, для которой нет названия, вновь ощутить самого себя, но только уже обновленным, созданным опять по-новому. Испытать восторг бытия – будто впервые свершилось чудо творения.
Быть может, царство смерти – это тоже владения жизни? Врата рождения, зачатия, вечное материнское лоно, куда свету нет доступа?
И моя тоска по первому дню творения не есть ли тоска по возрождению?
Восстать из мертвых. Вновь стать как прежде. И в то же время не как прежде. Что же произошло? Не знаю. Но в теле бодрость и свежесть, и на ветках лежит роса. Погрузиться в живую воду – и вот что-то уже не так, как было прежде. Что-то прибавилось, хотя мы и не можем этого определить. Сделан еще шаг вперед, и это совсем новый день, никогда еще не сиявший над землей.
Быть может, так надо и необходимо – чтобы мы снова и снова возвращались со света во мрак, послушные вечному зову? Погружались в небытие, растворяясь в вечном и всеедином? Чтобы могло совершаться величайшее чудо, которое не может происходить при свете дня. Не в том ли значение глуби, мрака? Значение ночи для дня?
Быть может, дневной урожай иначе и нельзя собрать? Лишь урожай на родственной ниве ночи, те бесплотные колосья, что не знают дуновения ветра времени, неколышимы и бестревожны, ибо составляют одно целое с вечным, – они-то и собираются в закрома, все до последнего колоска. Созревающий на земле колос уже готовится обратиться в тлен и прах – и в эту минуту в стране забытья и смерти он созревает для бессмертия, для возрождения.
Не потому ли все в нас именно в высший момент своего развития стремится к краху? Сама любовь к жизни, когда она достигает предельной силы, всякая завершенность, всякий триумф?
Если б я мог в это верить! Верить, что силы разрушения, сама погибель служат жизни и самому значительному в ней. Самому поразительному! Продолжению и обновлению – не просто бесконечному повторению. Что гибель и смерть вовсе не враждебны нам. И что существует единство – не просто раздирающее противоборство. Что в основе основ – целесообразность и глубочайший мир и покой.
Как прекрасно верить! Как тяжко и горько отчаиваться.
Нет, отчаиваться не надо. Да и причин к тому нету. В подобное искушение можно впасть, только если смотришь на то, что вблизи. При виде стен тюрьмы, стен камеры, места нашего заточения. Но не при умении видеть дальше, улавливать взаимосвязь целого, ощущать свою причастность к нему.
Случайное вечно вводит нас в заблуждение. То, что происходит в настоящем, в так называемое наше время, внушает нам преувеличенное представление о малой частице жизни, заслоняя от нас все остальное. Мы просто забываем об остальном. И чем более груба и бесцеремонна в своем натиске внешняя реальность, тем легче забываем мы о той реальности, что кроется под ней.
Но жизнь ни о чем не забывает. Она присутствует всегда, везде одновременно, вся целиком.
Отчаяться! Ведь это значило бы признать, что эта вот клетка, в которой я сейчас сижу, в которой сидят замученные люди-узники, – что это все! Что она и есть жизнь. И что наше кратковременное заключение здесь и есть все, ради чего мы существуем на свете, все, что отпущено нам судьбой. Это значило бы примириться с тем, что ты – заключенный, и только!
Но жизнь не изолирует, не отгораживает нас, а, напротив, связывает с живыми и мертвыми во все времена. Со смертью и возрождением, со всеобщим развитием и обновлением, с бессмертием, с извечным и вечно новым днем творения.
Она рвет оковы времени и пространства. Она есть свобода, свобода, свобода!
Я стою и смотрю на волю сквозь решетку наверху. Смотрю на плывущие облака, как они словно бы проникают одно в другое и рождаются одно из другого, отделяются и снова соединяются – медленный, непрерывный поток превращений. Они составляют некую единую сущность, но бесконечно изменяющуюся, непостоянную. Движущие силы не видны глазу, мне видны лишь результаты: как что-то возникает, изменяется, преображается – не прекращающееся ни на минуту, увлекательное действо разыгрывается в беспредельных просторах вселенной.
Проходит какое-то время, и все постепенно исчезает из глаз, расплывается, тает, улетучивается. Летнее небо теперь голубое и пустое, ничего не осталось.
Ничего?
Нет, сами-то движущие силы остались. Просто сейчас они не воздействуют на что-либо, видимое мне. Я способен различать только видимое. А вообще-то все осталось как прежде.
Если б я не увидел этот мир облаков в вышине, я бы и знать не знал, что там существуют какие-то силы. Вот как мы можем ошибаться!
Стоял бы, смотрел в пустоту и ровно ни о чем не догадывался.
Я часто общаюсь с облаками. Это близкие мне, можно сказать, существа, которые многое мне доверяют. Не самые свои важные тайны, но то, что я способен понять, что можно каким-то образом сообщить мне. Судьбы мелькают мимо, жизнь идет своим чередом: рождение, бытие, смерть. Судьбы облаков, жизнь облаков, летучие аллегории, мимолетный, изменчивый, светлый мир, к жизни которого я причастен. Этот мир – мой.
Окошко расположено так высоко, что земли мне не видно. Я словно бы покинул ее.
А по ночам я общаюсь со звездами. Они сияют совсем близко, сияют своим неземным светом.
Я словно бы погребен – но в безграничных просторах вселенной.
Да, невидимые мне силы на месте. Куда же им деться!
Они не могут прекратить свое существование и не могут никуда улетучиться. Покинуть то, частью чего являются. Они вечны и всегда одинаково деятельны, в равной мере и тогда, когда они не воздействуют на видимое мне, когда они «неживые». Что есть жизнь? Что есть смерть? Не есть ли смерть иная жизнь, непостижимая для нас, поскольку сейчас мы не живем ею?
А когда мы живем той жизнью, то ничего не знаем про эту?
И граница, которая кажется нам такой окончательной и роковой, не есть граница, разделяющая два разных мира, а всего лишь граница наших восприятий, порожденная нашей неспособностью знать и видеть что-либо, кроме данной реальности. Если б мы были истинно знающими, истинно зрячими, мы бы заметили, что нету вообще никакой границы, что эти два мира – единый мир. Что все суть одно.
Единое материнское объятие, собирающее и охраняющее всех нас. В вечном материнском лоне покоимся мы во тьме забытья, а когда стоим уже у материнских колен, глядя снизу вверх в лицо жизни, мы не можем вспомнить того нашего состояния, оно непостижимо для нас. Тогда мы радуемся ясности и отчетливости, тогда мы целиком в мире дня. И темный мир забытья уже недоступен нашему восприятию. Но мы совсем близко от него, и это не какой-то чуждый нам мир, хотя он и кажется нам чужим. Мы несем в себе его тайны, его загадки, мы – его порождение.
Иначе откуда бы в нас потребность вспомнить?
Вечная жизнь. Конечно же, вечная жизнь есть – это единственно существующее. Как иначе могла бы существовать эта наша жизнь? Как бы она поддерживалась? Она была бы точно остров без гавани, без судов – оскудела бы и зачахла, ей неоткуда было бы брать свои богатства. Если б у нее не было связи с вневременным бытием, с неисчерпаемым целым.
Конечно же, вечная жизнь есть. Мы ведь сами к ней причастны, мы – ее частица.
Нам нечего бояться. Есть неисчислимые сокровища, неисчерпаемые запасы, есть корабли с драгоценными грузами, и есть таинственные гавани в нашей душе, куда они заходят на своих невидимых парусах. Они доставляют свой груз, они всегда в пути.
Нет лишь смерти, нет скудости.
И не пустыми возвращаются корабли из страны живых. Чем мы были, чего достигли, что приобрели – все берется на хранение. Это урожай вечности, и он должен быть собран весь до последнего зернышка. Ни крошки не должно пропасть.
Да и как может что-нибудь пропасть, если сама гибель служит жизни, неотделима от нее, и все, сжатое серпом, уже жаждет возродиться.
Вот почему так важно, чтобы мы жили по совести, чтобы мы представляли собой какую-то ценность, когда придет срок жатвы. Вот почему любая человеческая судьба, любой поступок – все имеет значение. Вот почему наше существование здесь имеет смысл.
Будем ли мы ценны для вечности? Обогатим ли ее? Или же корабль вернется пустой, с поникшими парусами, ничего не доставив вечности?
Каков был урожай?
Мы за все в ответе, и от этого нам никуда не уйти. Чувство ответственности не дает нам покоя. Мы пытаемся иногда ускользнуть, вывернуться, мы высмеиваем все эти отжившие предрассудки и воображаем, что избавились от них. Но на самом-то деле это чувство в нас неискоренимо, ибо служит важным целям, и без него никак не обойтись. Ибо оно неотделимо от созидающей воли жизни, а мы лишь орудия этой воли.
Нравственное разложение может оказаться губительным для той или иной эпохи, но последнее слово не за ним, ибо оно находится в противоречии с сутью жизни, ее волей к созиданию.
Иногда думают, что нравственное в нас зиждется на религии, что оно возникает и гибнет вместе с ней. Это неправда. Корни религии переплелись с очень многим, в том числе и с этим. Но она не порождает никаких ценностей в человеческой душе, а лишь выражает уже существующие ценности. Дело обстоит вовсе не так, что эпохи без живой веры в бога безнравственны, а эпохи религиозные нравственны. И ведь люди, над которыми религия утратила свою власть, в нравственном отношении стоят подчас не ниже верующих, а то и выше.
Нет, нравственное в нас зиждется не на тех или иных религиозных представлениях и не исчезает вместе с ними. Оно исчезает вместе с утратой веры в жизнь – когда мы предаем жизнь и пытаемся ее фальсифицировать. Когда мы пытаемся уйти от тех требований, которые она нам предъявляет, и окольными путями достичь того, что мы принимаем за цель.
Но жизнь, в общем-то, никогда не поддается фальсификации.
Она все равно берет над нами верх, доказывая, что в ней есть смысл, восстанавливая свой ход развития.
Верить в возможность окончательного, не временного, нравственного вырождения человека – значит верить в то, что нечто существенное в человеке, заложенное при возведении его душевного здания, может быть разрушено, а сам он при этом не рухнет. Что предпосылки его бытия могут быть радикально изменены. Но это же абсурд.
Колебания, которые бывают иногда заметны на поверхности человеческой жизни, вовсе не означают каких-то катастрофических сдвигов в глубине.
И та почва, на которой произрастает время от времени религия, также не может исчезнуть. Могут поблекнуть порожденные этой почвой миры символов, религии, в привычном смысле слова, могут утратить свою власть, а однажды и вообще отмереть – но не то, что их породило. Жизнь невозможно обеднить – и человека тоже.
Разве можно осушить один из глубочайших первоисточников, отменить одну из самых могучих первопричин возникновения человеческой души? Без этого нас бы просто не было.
Как могло бы дерево упразднить те силы, которые скрывались в семени, его породившем? Ему неизвестна их природа, оно не знает, что существовало какое-то семя, но в нем проявляются все заложенные в семени возможности, оно живет благодаря им. И, само о том не подозревая, воспроизводит такие же семена и передает их будущему. И даже поврежденное дерево оставляет после себя точно такие же семена и возрождается полноценным, таким, каким ему назначено быть.
Так и мы оставим после себя полноценные семена вечности – для лучшего и более совершенного будущего.
Бессмертие, возрождение! Возрождение от униженности и боли к совершенству и нетленности. Это только сейчас все не так, как должно бы быть. Только сейчас. А в семени все так, все правильно. Лишь там все правильно. В каждое данное время что-нибудь не так, как должно бы быть. Но в семени заложено совершенство, и оно терпеливо ждет своего часа. И его час обязательно приходит. Час, когда ему удается добавить дереву роста, придать стройности и пышности. Ему препятствуют, ему никогда не удается полностью осуществить свои возможности: дерево то душат, то калечат, то в него ударит молния, крона получается хилой, искривленной, обожженной. Но в ходе необозримого времени дерево все же вырастает все более могучим – ничто не в силах помешать его росту. Просто такая уж у него судьба – преодолевать препятствия.
Нет гибели, нет смерти, нет слабости и колебаний после поражения. Есть только постоянное возрождение сил, только бесконечно повторяемое, бесконечно обновляемое творение. Только уверенность и радость в сияющий, извечный первый день творения.
Отчаиваться? Нам ли отчаиваться! Нам, носителям бессмертных сил и бессмертной воли к победе, нам, сопричастном величайшему чуду. Нам, хранящим в своей душе тайну совершенства и передающим ее дальше, сквозь века, хоть нам и не дано в нее проникнуть. Совершенство не может воплотиться в реальность, оно недостижимо как цель, оно должно оставаться в таинственном лоне вечности, запечатанное, недоступное. Если б мы и сумели сломать печать, мы все равно ничего бы не поняли. Но всякий раз, как жизнь рождается заново, всякий раз, как она прорывает оболочку семени, печать взламывается, и тайна являет себя в созидательных силах, реализующих волю к победе.
Человек – это вечная воля к победе!
Содержание
В. Неустроев. Художник-мыслитель (5)
Карлик. Перевод В. Мамоновой (17)
ПОВЕСТИ
Палач. Перевод Т. Величко (131)
Варавва. Перевод Е. Суриц (171)
Сивилла. Перевод Т. Величко (239)
Мариамна. Перевод Е. Суриц (325)
РАССКАЗЫ
Морис Флери. Перевод С. Тархановой (361)
Брат ищет брата. Перевод Н. Мамонтовой (370)
Требовательный гость. Перевод Т. Величко (377)
Злые сказки
Отец и я. Перевод К. Мурадян (382)
Приключение. Перевод К. Мурадян (385)
Смерть героя. Перевод Н. Кондюриной (386)
Священные кости. Перевод К. Мурадян (387)
Юхан Спаситель. Перевод Ю. Поспелова (388)
А лифт спускался в преисподнюю. Перевод Р. Рыбкина (396)
Любовь и смерть. Перевод К. Мурадян (401)
В подвале. Перевод Е. Суриц (401)
Злой ангел. Перевод И. Бочкаревой (407)
Принцесса и королевство в придачу. Перевод Н. Кондюриной (408)
Свадьба. Перевод Т. Величко (409)
Рай. Перевод Т. Величко (423)
Блошиный рынок. Перевод С. Тархановой (426)
Летописец. Перевод С. Тархановой (427)
Освобожденный человек. Перевод В. Мамоновой (430)
Примечания
1
В итальянской архитектуре средних веков и эпохи Возрождения – колокольня, стоящая, как правило, отдельно от храма.
(обратно)2
Damigella – придворная дама (итал.)
(обратно)3
Bravo – наемный убийца (итал.)
(обратно)4
А ну! (англ.)
(обратно)5
Безземельный крестьянин-арендатор.
(обратно)
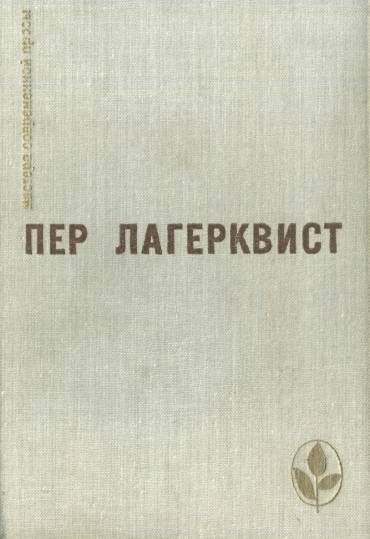







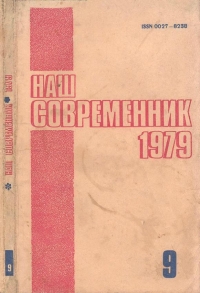


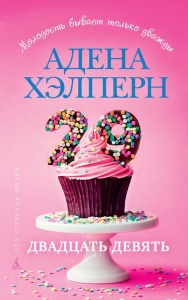
Комментарии к книге «Избранное», Пер Лагерквист
Всего 0 комментариев