Bella Германия Даниэль Шпек
Всем, кто покинул родину, взяв с собой свою историю
И конечно же, нет ничего удивительного в том, что проблема переселения и переселенцев с неизбежностью выливается в вопрос, кто мы есть и кем хотим стать, – в серьезнейший из вопросов.
Ханиф Курейши. Мое ухо у его сердцаBella Germania by Daniel Speck
Copyright © 2016 by Daniel Speck
All rights reserved
Книга издана при содействии Литературного агентства Эндрю Нюрнберга.
В оформлении обложки использована картина Антонио Донги «Женщина в кафе» (Antonio Donghi, Donna al caffè, 1931, Fondazione Musei Civici di Venezia).
© Ольга Боченкова, перевод, 2019
© «Фантом Пресс», оформление, издание, 2019
Часть первая
Глава 1
Наша жизнь принадлежит не только нам. Дом, что является нашим эго, населен теми, кто был до нас. Их следы выгравированы в наших душах. Их истории и делают нас теми, кто мы есть.
Юлия
Он назвался моим дедушкой, просил выслушать и так настаивал, словно это был вопрос жизни и смерти. Насколько все это для меня важно, я поняла позже, когда он рассказал свою историю.
Но, увидев его впервые, я этого не знала. Красивый пожилой мужчина, иностранец, смотревший так, будто знал меня с моего младенчества. Это произошло в Милане, весной. В тот день меня вырвали из иллюзии, которую до тех пор я считала собственной жизнью.
Одежда, как известно, делает человека. И я создаю эту одежду. Я даю людям вторую кожу, меняю их облик. Прячу или, наоборот, открываю то, что они называют собственным «я». А потом наблюдаю за тем, как они выходят на свет, сама оставаясь в тени.
Ателье – вот царство, где творится мое волшебство. Здесь оживают картинки, плоский кусок материи обретает третье измерение. Каждая ткань – индивидуальность и многое может рассказать о человеке, которого она облегает. Язык шелка отличен от языка шерсти. Образы льна и бархата не похожи друг на друга. Платья не мертвые формы, они живут. Меняют своих владельцев и меняются сами. Набрасывая эскиз очередного костюма, я вижу человека не таким, каким он может стать, а какой он есть.
Я мечтала заниматься этим с самого детства. Нет большего счастья, чем делать то, что любишь. Но одного таланта недостаточно. Мода – искусство, а значит, тяжкий труд. И то, что называют самореализацией, в действительности требует немалого самоотречения. Все имеет свою цену. Я, например, живу ради чужой красоты.
Мечта о собственном бренде в мире моды была в моем случае не более чем манией величия. Или же, что того хуже, – непростительной наивностью. Большинство моих соучеников по Лондонской академии моды работали наемными дизайнерами, если вообще были заняты в этой сфере. И они восхищались мной, не подозревая ни о кошмарных снах, от которых я просыпалась посреди ночи, ни о преследовавшем меня вечном страхе грандиозного провала.
Мне было уже тридцать шесть, а «великая цель», на достижение которой я потратила лучшие годы жизни, по-прежнему маячила несбыточной мечтой. Моя кочевая жизнь – с вечными скитаниями по выставочным центрам, с долгами и с неизбывным убеждением, что талант непременно пробьется туда, где его никто не ждет, – лишь со стороны выглядела гламурно.
Единственным человеком, безоговорочно в меня верившим, был мой компаньон Робин – тертый калач в бизнесе. На восемь лет старше меня, Робин успел пережить громкое банкротство и не менее впечатляющее возрождение. У него было то, чего мне всегда не хватало, – состоятельные родители, оптимизм и неиссякаемое чувство юмора. Его вкладом в наше дело стал беспроцентный кредит – то, без чего в наше время едва ли возможно начать хоть что-нибудь жизнеспособное.
Итак, он взял на себя деловую сторону. А я отвечала за творческую. Фирма стала нашей семьей, платья – детьми. Мы были одинаково одержимы, и каждый напоминал другому, что тот не один, – уже только за этим мы были нужны друг другу. Мы делили бессонные ночи, надежды, разочарования и мечту о большом прорыве. Все – кроме постели. Оба мы были достаточно умны, чтобы не рисковать делом ради любовной игры. Профессия была единственным, что придавало моей жизни хоть какую-то видимость стабильности. На людей я полагалась с куда меньшей уверенностью.
Наши дни и ночи в мюнхенском ателье были наполнены чем угодно, только не интимной близостью, подчинялись тщательно выверенному расписанию. В них не было места конкуренции. Только симбиоз – взаимовыгодное сожительство двух организмов. Лихорадочно стремясь к прорыву, мы никогда не задавались вопросом, что же он такое на самом деле. Прорыв маячил, манил недосягаемой близостью. А действительность сводилась к череде успехов и неудач, сквозь которые мы, словно туннельные рабочие, прорубались к свету.
И вот час настал. Впервые мы на Неделе моды в Милане, в компании пятнадцати других молодых дизайнеров – перед публикой со всего мира. Победителю полагается приз, и это не денежная сумма, а спонсор на целый год. Итальянский холдинг с многочисленными предприятиями, громкими брендами и немыслимыми связями по всему свету. Наконец есть возможность получить достойное вознаграждение за труды последних лет.
Несколько недель подряд мы как одержимые занимались новой коллекцией. Попурри из стилей, красок, эпох, она должна была кардинально отличаться от того, что мы делали до сих пор. И эти несколько недель прошли в беспрерывном творческом упоении, почти без сна. Цель – вот единственное, что стояло перед глазами. Сколько кофе было выпито за это время?..
Милан не Мюнхен и даже не Берлин. Здесь ярче софиты, круче ступеньки, глубже падение. И всегда – достойные соперники. В зале царила нескончаемая суматоха, похлеще чем на средневековой рыночной площади. Зато все улыбались.
Но все, что только можно, пошло не так. За несколько секунд до шоу я наносила последние штрихи – тут подвернуть штанину, там подправить шов, здесь чуть поменять макияж – и от волнения уколола иголкой палец. Занавес – и на лицах моделей зажглись улыбки. Настал момент, когда ты вглядываешься в темноту, не чувствуя ничего, кроме стучащей в висках крови, когда дыхание замирает, играет музыка, щелкают камеры, заглушая стук сердца. Но ты не видишь реакции публики и, главное, – ничего больше не можешь сделать.
То, что готовилось втайне на протяжении последних месяцев, беззастенчиво выставлено на всеобщее обозрение. Теперь – либо триумф, либо поражение. Не имея возможности что-либо изменить, я ждала приговора.
Мы с Робином только переглядывались. В полумраке белело его возбужденное лицо. Черный пуловер с высоким воротником сливался с черным фоном занавеса. Оба мы обратились в слух, но публика безмолвствовала. Когда вернулись первые модели, мы бросились переодевать их. У наших соперников моделей было больше, а нам пришлось экономить.
Второй сет был задуман как провокационный – с ироническими цитатами, оптическими иллюзиями и тому подобным. Зал затих, мы затаили дыхание. Первые аплодисменты несколько сняли напряжение, и мы с Робином, взявшись за руки, ступили под слепящие лучи софитов. Как кроты, случайно выползшие на свет солнца.
Поначалу я не различала лиц. Ничего, кроме белой световой волны, накрывшей нас вместе с громом аплодисментов. Дышать сразу стало легче. Мы раскланивались, смущенно улыбаясь, как вдруг в глазах у меня потемнело, ноги стали ватными и я рухнула на сцену. Искра сознания угасла в бездонной, всепоглощающей тьме.
Глава 2
Первым, что я почувствовала, очнувшись, был прохладный ветерок, касавшийся лица. Наверное, окно открыто. Я лежала на полу в гримерной, под зеркалом, среди стульев, вешалок и ворохов одежды. Надо мной мелькали испуганные лица девушек, одна из них держала на весу мою ногу. Робина я не углядела. Молодой санитар, типичный итальянец, воткнул мне в руку шприц. И тут же на меня водопадом обрушились звуки – возбужденные голоса, музыка на заднем плане, рев мотоцикла за окном.
Санитар помог мне сесть на стул. Я посмотрела в зеркало – и тут впервые увидела его. Он стоял за моей спиной, пожилой мужчина в окружении юных моделей. Высокий, худощавый. Элегантный костюм, галстук и шляпа не соответствовали хаосу нашей гримерной. Никто явно не понимал, кто это, но он уверенно, будто хорошо меня знает, пробрался ко мне сквозь толпу. Я увидела его глаза – ясные, голубые и настороженные. Типичный немец. Все в гримерной, похоже, принимали его за представителя конкурирующего дома. Такое не редкость на подобных показах: незнакомые мужчины и женщины проникают за кулисы, в святая святых, и никто не решается спросить, кто они такие, из опасения нарваться на важную особу из мира моды.
– Как вы себя чувствуете?
Для незнакомца его голос звучал слишком уж участливо.
– Все в порядке.
Мужчина протянул стакан с водой. Отпив, я пригладила растрепанные волосы и с наслаждением вдохнула свежий воздух, проникавший из открытого окна.
Незнакомец опустился на стул рядом. В первый момент я подумала, что он из жюри, но для человека нашего круга посетитель выглядел слишком серьезным. Коллег я узнаю сразу. Было что-то трогательное в том, как он смотрел на меня. Чувствовалось, что он взволнован, но я понятия не имела, кто он такой. Яркое неоновое освещение гримерки безжалостно выдавало его возраст: под восемьдесят.
– Юлия, – прошептал он.
– Мы знакомы? – спросила я, уже слегка раздраженная его пристальным взглядом.
Брови его вопросительно поднялись.
– Прекрасная коллекция.
Голос на удивление молодой, но одновременно значительный. И… неуверенный, словно от волнения.
– Спасибо, – ответила я.
Он прокашлялся.
– Я тоже из Мюнхена. Приехал сюда вслед за вами, чтобы увидеть вашу презентацию. (Он так и сказал – презентацию, словно речь шла о докладе, сварганенном в «пауэр-пойнт»). Меня зовут Винсент… Винсент Шлевиц.
Он ждал моей реакции, но имя мне ни о чем не говорило. Тут вмешался медбрат, и, поскольку я не понимала по-итальянски, Винсент взял на себя роль переводчика. Меня просили закатать рукав, чтобы молодой человек мог измерить давление. Я точно не хочу показаться врачу? Я замотала головой: «Нет, минутная слабость, не более». Я не стала распространяться о чудовищной смеси кофе, адреналина и других веществ в моей крови. Мне никогда не нравилось быть в центре внимания. Парень уже накачивал манжету, обернутую вокруг моей худой руки.
– А вы какой дом представляете? – спросила я незнакомца скорее из желания отвлечься, чем из любопытства.
Он взвесил каждое слово, прежде чем ответить:
– Возможно, это вас удивит, но я здесь как частное лицо. Не затруднит ли вас пару минут переговорить со мной с глазу на глаз?.. После того как вам станет лучше, разумеется.
Мне стало не по себе.
– Нет, это не то, что вы подумали… – добавил он, будто прочитав мои мысли. – Я не сумасшедший поклонник. Я… только хочу с вами познакомиться.
Какой все-таки странный у него взгляд. Винсент Шлевиц смотрел на меня так, будто хотел разглядеть во мне кого-то другого.
– Простите, но сейчас не совсем подходящее время, – сказала я.
Но он не собирался сдаваться.
– Мои слова наверняка удивят вас, но дело в том, что мы… родственники. Ваш отец… – он запнулся, заметив мою растерянность, – ваш отец – мой сын. Я… я твой дед, Юлия.
Шутка не показалась мне удачной. Какой-то бред… розыгрыш. Это невозможно. Он словно спохватился – должно быть, из-за моей растерянности – и снова перешел на «вы»:
– Вашего отца ведь звали Винченцо, не так ли?
Винченцо. Когда я в последний раз слышала это имя? Немало лет прошло с тех пор… даже десятилетий… Откуда его может знать этот старик, черт бы его взял? Только мать знала, как звали моего отца. Медбрат отодрал манжету от руки и что-то сказал моему гостю. Я не удивилась бы, узнав, что давление зашкаливает. Хотелось вскочить, но тело словно парализовало.
Человека по имени Винченцо я видела один раз в жизни. Винченцо Маркони, итальянец, сын гастарбайтеров с Сицилии – вот все, что рассказала о нем мать. А этот старик, выдающий себя за его отца, определенно немец. Не стыкуется.
– Мне кажется, вы меня с кем-то путаете, – пробормотала я, порываясь встать.
Хотелось наружу, прочь из этой комнаты. Но стоило подняться, как перед глазами все поплыло. Медбрат подхватил меня:
– Piano, signora, piano…[1]
Он снова что-то сказал старику, явно давая понять – тот здесь лишний.
– Прошу вас, – упорствовал старик, – это важно. – Он вытащил из кармана визитку: – Я живу в Мюнхене… Я все объясню.
За визиткой появилась старая фотография. Мужчина помедлил, словно давая мне возможность подготовиться, и протянул снимок.
Фото из другой эпохи, черно-белое, потрепанное. Пятидесятые, судя по фасонам пальто. Молодая пара на фоне Миланского собора, рядом с мотоциклом. Мужчина держит женщину за руку. Напряженные позы выдают смущение, но оба такие естественные. И просто светятся от счастья.
Мужчина – высокий, статный – одет в летний костюм классического покроя, в светлых глазах затаилась улыбка. Он излучает мужество, уверенность в себе и в то же время – юношескую ранимость.
Я узнала в молодом человеке своего гостя.
– Да, это я, – подтвердил Винсент. – В пятьдесят четвертом, в Милане. А это Джульетта, твоя бабушка. – И указал на женщину на снимке.
Привлекательная итальянка, чуть за двадцать, в летнем костюме, с миниатюрной шляпкой на коротких черных волосах. Я вздрогнула. Я словно смотрела на себя. У итальянки была моя тонкая фигура, мои изогнутые брови, даже иронические складки у рта – мои. Но главное, взгляд – мечтательный и жаждущий приключений. Точно так же смотрела я с фотографий.
И она буквально искрилась энергией. Но большие темные глаза подернуты грустью. Она была словно эхо моей души в другой жизни. Как будто на снимке я сама, только в чужом платье и рядом с незнакомым мужчиной. Изумление мое было столь сильным, что я потеряла дар речи.
– Минуточку, – наконец пробормотала я. – Но мой отец был итальянец, а вы… немец?
В его глазах мелькнула неуверенность.
– Что еще он рассказывал вам обо мне?
– Ничего… У меня нет ничего общего с этим человеком.
Последняя фраза получилась столь резкой, что гость отступил.
– Но…
– Он умер. Простите, но, похоже, вы все-таки что-то путаете.
– Умер? – переспросил Винсент. – Когда это произошло?
– Я была совсем маленькой.
– Кто вам это сказал?
– Моя мать.
– Но это неправда. Ваш отец жив.
Я уставилась на него. Этот старик вовсе не выглядел человеком, не отвечающим за свои слова.
– Не может быть…
– Я знаю это точно. Ваш отец живет в Италии.
В этот момент в гримерную вошел Робин:
– Ты как, в порядке?
Я инстинктивно спрятала снимок за спину.
Робин обнял меня. Мое волнение он наверняка списал на недомогание. Не особо дружелюбно он оглянулся на гостя.
– Все хорошо, – сказала я и, прежде чем Робин успел спросить гостя, кто он, добавила: – Я пришлю вам автограф, ладно? А сейчас вы должны извинить меня.
Винсент неуверенно кивнул:
– Позвоните мне, это важно… Прошу вас.
Никогда еще почтенный пожилой человек не смотрел на меня так умоляюще. Похоже, что-то и в самом деле терзало его. Но что же? Он попрощался легким кивком, и я почувствовала себя виноватой. Не следовало так бесцеремонно отталкивать его.
– Кто это? – спросил Робин, когда дверь гримерной закрылась.
– Ни малейшего понятия.
Я ненавижу лгать, особенно Робину. И никогда не обманывала его, потому что мне нечего было скрывать. Разве что себя саму.
– Что такое?.. – спросила я. – Почему ты улыбаешься?
Нам наконец повезло, хотя не исключено, что мы и в самом деле были самые лучшие. Так или иначе, жюри решило в нашу пользу. Мы сделали ставку, много лет назад, вопреки всем сомневавшимся, и выиграли. Это был прорыв. Долгожданный свет в конце тоннеля. Ноги у меня еще подкашивались, до сих пор удивляюсь, как мне удалось удержать приз. Помню только аплодисменты и громкую музыку. Пресса, жюри, инвесторы – все сразу ринулись к нам. И мы стали знаменитыми.
Глава 3
Далеко заполночь, уже навеселе, мы стояли перед входом в выставочный центр. Я рассчитывалась с девушками-моделями. Робин, несколько на взводе, рвался в ночной клуб – продолжить праздновать. А у меня не осталось сил. Я будто падала, ускоряясь, в бездонную черную дыру беспамятства.
– Может, все-таки в больницу?
– Нет-нет, мне всего лишь надо выспаться. А вы все повеселитесь хорошенько.
Долгожданный успех. Если честно, я представляла его иначе. А получается, что вечеринка пройдет без меня – королевы бала. Ну и к лучшему. Я направилась к своему старенькому фургону «вольво-комби», переоделась в линялые джинсы и развернула в задней части машины спальный мешок. Тут же громоздилась моя коллекция. Мы не могли позволить себе номер в отеле. Победа подоспела как нельзя вовремя.
Я была благодарна за тишину. В голове шумело. Завернувшись в спальник, я сунула в изголовье кожаный бумажник. Из него торчало старое фото. Почему я все-таки не сказала о нем Робину? Потому что эта история хранилась в той части моей души, куда я сама доступа не имела. В тайной комнате, дверь которой давно заперта, а ключ утерян.
Дед был белым пятном в нашей семье. Неведомый остров, о существовании которого знали, но который давно отчаялись найти. Его появление стало ответом на вопрос, в нашей семье никогда не задававшийся, – просто потому, что до него не было никому дела. Я не особо задумывалась о моем отсутствующем отце и уж тем более о том, что у человека, которого я даже не помню, есть отец и мать, – настолько нереальным представлялся он мне.
Отца не существует. Я к этому привыкла, вполне довольствуясь одной матерью. Отца я видела лишь однажды в жизни. А вскоре мать сказала мне, что он умер, погиб в автомобильной аварии. Я была ребенком, но прекрасно поняла, что это значит. Отец исчез. Навсегда. Не могу сказать, что я его потеряла. Потерять можно только то, что имеешь. И все же меня не покидало ощущение неполноты жизни, ее ущербности. А непонимание, чего или кого не хватает, лишь обостряло это ощущение. Ни достаток, ни насыщенность каждого дня не способны восполнить эту пустоту. И человек постоянно что-то пытается нагнать. То он не может примириться с самим собой, то с тем, что у него есть. Ему вечно чего-то недостает.
Безотцовщина не редкость для нашего поколения. Исключением были скорее полноценные семьи. Собственно, сама семья являла собой шаткую конструкцию с фундаментом из переменчивых чувств, эфемерных надежд и хлипких соглашений. Правда, в отличие от большинства подруг, я не могла видеть отца даже по выходным. Искать исчезнувшего родителя не имело смысла, поскольку искать-то было некого.
Возможно, именно это вечное чувство ущербности и толкнуло меня в мир моды. Жизнь меня не устраивала. Хотелось заполнить ее красками и формами, дав волю воображению. Не могу объяснить, почему я выбрала именно моду. Быть может, виной тому мое детское увлечение куклами, которых я любила наряжать.
Самой драгоценной была Барби, купленная тайком от мамы на сэкономленные карманные деньги. Я прятала ее под кроватью. Барби у нас дома были под запретом – как коммерческий антифеминистский хлам. Будь я мальчишкой, под запрет у моей радикальной мамы наверняка попали бы солдатики, а я бы, повзрослев, отправилась в Афганистан.
Я провалилась в глубокий, беспокойный сон. Мне снилось возвращение в Мюнхен. Альпы. Трасса-серпантин. Сырой прохладный горный воздух, влажный асфальт. И тишина над поросшими мхом скалами.
Я еду слишком быстро. Рядом, на месте Робина, сидит незнакомый старик, мой дед. Он что-то кричит. Как будто предупреждает о чем-то, но я не понимаю ни слова. Машина несется по спирали. Внезапно впереди ржавый барьер. Я пытаюсь повернуть, но машина мне больше не подчиняется. Мы летим вперед, сбиваем преграду. Удар – и брызжут осколки. Машина переворачивается в воздухе, и мы падаем в пропасть. Щекочущее чувство в желудке, ничего уже не исправить. Мгновенье невесомости растягивается в вечность, жизнь окончена. Перед глазами отражение в невидимом зеркале – итальянка со старого фото.
Очнулась я вся в поту.
Потребовалось несколько секунд, чтобы осознать, что я вовсе не умерла. Я в своем фургоне, за запотевшими окнами сияет солнце. Робин еще не вернулся. Щебечут птицы, где-то проехал автобус.
Я открыла дверцу, спрыгнула на землю и с наслаждением вдохнула туманный утренний воздух. В голове крутились странные мысли.
Смерть всегда рядом. Одно неверное движение за рулем – и ты летишь в пропасть. И чем быстрее едешь, тем слабее твой контроль над происходящим. Но покуда жив, ты смотришь вперед и крепко держишь руль. Другими словами, что-то создаешь в этом мире, строишь какие-то планы. Ты здесь не случайно. У тебя есть цель, миссия.
Для меня существует только один смертный грех – зарытый в землю талант. Не стать тем, кем мог, – разве есть что-то страшнее? Талант не только дар, но и обязательство. Кредит, который нужно отработать, преобразовать во что-то реальное.
Однажды я решилась, взяла судьбу в свои руки. Но кто на самом деле держит руль? Случившееся в те апрельские дни было точно задумано не мной. Оно будто существовало задолго до того – как чья-то идея, ждавшая воплощения и почему-то выбравшая для этого меня.
Я была лишь частью чего-то большего – неведомого мне замысла.
Глава 4
Наше ателье на заднем дворе превратилось в суетливую голубятню. Журналисты, заказчики, агенты хлынули потоком. И суток не прошло с представления нашей первой коллекции, а они уже интересовались следующей.
Я полагала, успех позволит перевести дыхание. Выскочить из колеса, в котором мы крутились, как хомячки, и хоть ненадолго прикорнуть на лаврах. Но, как выяснилось, успех означал противоположное. Давление только возросло. Выдернутая из темного угла под лучи софитов, я должна была доказать, что я не бабочка-однодневка, что победа досталась нам заслуженно, а не по воле слепого случая. И это при том, что меня не покидало чувство, будто в голову угодил огромный чугунный шар, каким сносят дома.
Робин жал на газ. Исполненный решимости, он чуть ли не ежедневно звонил итальянцам. Нам назначили спонсоров, бывших главной частью нашего приза, но мне казалось, что это спонсоры считают нас трофеем. Огромный холдинг, не одна дюжина брендов, в числе которых оглушительно громкие и давно утратившие связь со своими творцами. Робин врал, что я уже успела набросать следующую коллекцию. Я же была без сил. Часами бездарно торчала у чертежной доски, накачавшись кофе. Ни одного стоящего эскиза.
Разумеется, я радовалась, что наш многолетний труд наконец получил признание. Но в глубине души ощутимо пульсировало сомнение в законности нашего счастья. Снова и снова возвращалась я мыслями в Милан, но не на подиум, а в темную гримерку. Лицо старика в зеркале – метеор, внезапно вонзившийся в мою жизнь.
Ночами, оставшись в ателье одна, я доставала старое фото. Подходила к зеркалу и вглядывалась в свое отражение, пока в нем не начинали проступать черты молодой итальянки. Две женщины из двух столь разных эпох, могли ли мы походить друг на друга как близнецы? Где сейчас эта Джульетта, жива ли?
Я пыталась понять, что может значить для меня этот старый человек. С чего вдруг на закате дней ему приспичило меня увидеть? Неужели мы и в самом деле родственники? Каково это вообще – иметь дедушку? Отца матери я видела пару раз в детстве, прежде чем они окончательно разругались. «Старый нацист», – говорила о нем мать.
Если правда, что женщина на фото моя бабушка, а этот старик – мой дед, то я итальянка всего на четверть, не наполовину. И мой дедушка не гастарбайтер с Сицилии. Не то чтобы я придавала значение своим «мигрантским корням». Корней как таковых в моем понимании не существовало. С детства я воспринимала свою идентичность как нечто, созданное мною, а не заимствованное или полученное в наследство. До сих пор за моей спиной была только мать. И вот теперь эта женщина на фото… Впервые я осознала, что у того, чего мне так не хватало, есть лицо. И что оно не утеряно безвозвратно.
Я нашла старика в интернете, выяснилось, что он человек небезызвестный. Доктор Винсент Шлевиц, вплоть до выхода на пенсию двенадцать лет назад, был одним из самых успешных инженеров компании «БМВ». «Википедия» называла его разработчиком нескольких моделей автомобилей, серии и названия которых мне ни о чем не говорили. Он родился в Катовице, Верхняя Силезия, в 1930 году. Ничто в его биографии не указывало на связь с Италией, и уж тем более ни слова ни о какой итальянке или моем отце. Погуглив еще, я нашла фотографию Винсента Шлевица с женой на благотворительном вечере. Высокая голубоглазая блондинка – ни малейшего сходства с миниатюрной темноволосой итальянкой на фото. Жили они тут же, в Мюнхене. Ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову мчаться в Милан на встречу со мной, если для этого достаточно проехать несколько остановок на трамвае. Наверняка старик либо перепутал что-то, либо спятил.
И только одно по-прежнему смущало, мешая похоронить инцидент как недоразумение, – женщина на фото. Похожая на меня как две капли воды.
Робин заметил, что со мной что-то не так.
– Эй, где ты постоянно витаешь? Ты будто не здесь…
Он не мог понять, почему я пребываю в прострации именно теперь, когда мы наконец достигли того, к чему стремились, и списывал все на мой тогдашний обморок.
Что мешало мне открыть Робину правду? Мы делились друг с другом всем, кроме главного. Не было у нас обыкновения лезть другому в душу. Наше сотрудничество держалось на молчаливом соглашении игнорировать мрачные элементы в мозаике наших биографий. Но они не исчезнут, если просто закрыть глаза. Напротив, предоставленные сами себе, они разрастутся, поглотят тебя. Стоит остаться ночью одной – и безжалостные тени отделяются от темноты.
Поэтому Робин прав: я была не здесь. Возможно, я никогда и не была здесь целиком. Часть меня всегда пребывала где-то в другом месте. Не вполне доверяя этому миру, я стояла на земле только одной ногой.
Но работа меня спасала. Ночами напролет я кроила и вычерчивала, забыв обо всем. Предавалась этому опьянению, не думая о времени. И не заметила, как оказалась на грани физического истощения. Что гнало меня?
Как-то раз я отправилась к матери за своим котом. Модельерам с их кочевой жизнью противопоказано держать даже комнатные растения, не говоря о домашних животных. По счастью, это не относится к тем, у кого есть одинокие мамы.
Таня – я с детства звала ее по имени – только что перебралась из просторной квартиры в комнату. Соседями по новой квартире были коллега-журналист на пенсии, белый как лунь учитель французского языка, помешанный на Западной Сахаре, и юный афганский беженец – истинный профи по части тайской кухни. Компания оказалась довольной беспокойной. Все, кроме парня-афганца, хоть и оставили работу, были еще недостаточно стары, чтобы расстаться с тем, что до сих пор составляло их мир. Вот и моя мать, уволившись с редакторской должности, продолжала сотрудничать с левыми журналами как внештатник.
Она не успела избавиться от коробок после переезда, и ее комната была настоящим раем для кота, проигнорировавшего мое появление. Мама открыла бутылку просекко, и мы выпили за мой первый приз, который был для мамы «показательной историей женского успеха». То, что я обязана победой компаньону-мужчине и его состоятельным родителям-буржуа, из деликатности замалчивалось.
Мама редко спрашивала меня о работе – из-за презрения к модной индустрии, а не потому, что не интересовалась моими делами. Даже самый дорогой автомобиль значил в ее представлении не больше, чем груда металлолома, что уж говорить о «модных тряпках». Ее зеленый пуловер «кольчужной» вязки был куплен в конце истекшего тысячелетия. Мама часто хвалила меня за то, что я иду своим путем, но считала мой «буржуазный» круг слишком поверхностным, гедонистическим и продажным. Не могу сказать, что мама совсем уж ошибалась, но я была благодарна ей за то, что она держала свое мнение на этот счет при себе.
Сколько помню маму, она постоянно за что-то боролась – вернее, против чего-то. Против авторитарного государства, ядерного оружия или глобального потепления, но всегда – против мужчин. У нее были на удивление четкие представления о правильном и неправильном. Слишком однозначные, на мой взгляд, и неизменные. Другими словами, моя мама оставалась верна своим убеждениям.
Отказалась она только от курения. В компании курильщиков я попадала в запахи своего детства, вспоминала длинноволосых хиппи в джинсовых куртках и переполненные пепельницы на деревянном столе. Мама всегда блистала на таких сборищах – прежде всего начитанностью. И ее никогда нельзя было упрекнуть в отсутствии собственного мнения. Она имела его даже о том, о чем у нее не было представления. Не говоря уж о вещах более-менее ей близких.
Надо отдать ей должное, мама никогда не навязывала мне свою точку зрения, предоставляя возможность исходить из собственного опыта. Она была самым искренним, честным и неподкупным человеком из всех, кого я когда-либо встречала в жизни. Без нее я не стала бы тем, кем стала, – здесь я нисколько не преувеличиваю. Это мама наделила меня мужеством и умением не пасовать перед трудностями. «У тебя нет шансов – так используй это» – ее любимая присказка. При всей несхожести наших взглядов на жизнь не было у меня человека ближе, чем она.
Выпив просекко, я оглядела мамину комнату – коробки с книгами, письменный стол, ноутбук, больше ей и не требовалось, – и как бы невзначай спросила:
– Мой отец… скажи, ты знала его родителей?
Она потрясенно взглянула на меня. Еще бы, ведь мы никогда об этом не говорили.
– Что это на тебя нашло?
– Да так, просто интересно…
В ее глазах мелькнуло недоверие.
– Мама, я просто хочу знать. Его родители, кем они были?
– Но ты же знаешь… к чему опять ворошить эту давнюю историю?
– Они мне безразличны, я просто хочу знать.
– Они с Сицилии… я же рассказывала тебе. Точнее, с какого-то островка у Сицилии.
– Оба?
– Кто «оба»?
– И отец и мать?
– Ну да… Они всегда там между собой женятся… Настоящая катастрофа. Я ведь была… совсем с другой планеты.
– И как ее звали?
– Джульетта… если ты имеешь в виду отцовскую мать.
– Поэтому я Юлия?
– Это была моя идея.
– Так ты была с ними знакома?
– Объясни наконец, что происходит?
– А его отец… как его звали?
– Этого я не помню.
– Он был немец… могло такое быть?
– Нет, нет… Они же гастарбайтеры… приехали в Германию в шестидесятые годы… Как тебе только в голову взбрело такое?
Я задумалась. Насколько правильным будет с моей стороны рассказать ей обо всем?
– И ты никогда их не видела?
– Нет же!
На этот раз она не на шутку разозлилась. Я помедлила, прежде чем сделать решающий выстрел:
– Ты знаешь, кто такой Винсент Шлевиц?
– Нет, а кто это?
– Он явился на наш показ… Назвался моим дедом. Отцом…
Имя моего отца было под негласным табу, но упоминать его не было никакой нужды. Я достала из кармана фотографию – влюбленная пара в Милане.
– Ты их знаешь?
Мама раздраженно нацепила очки для чтения.
– Это отцовская мать. А это… – я ткнула пальцем в молодого человека, – это он и есть, Винсент Шлевиц.
Таня взглянула на меня поверх очков – смесь подозрительности и неуверенности.
– Чего же он от тебя хотел?
– Он сказал, что отец… в общем, мой отец жив.
Это для нее оказалось слишком. Я испугалась, что Таню вот-вот хватит удар.
– Но ведь он немец… я имею в виду твоего гостя… Это невозможно, он солгал.
– Он вовсе не выглядел проходимцем. Напротив, весьма почтенный господин.
– Значит, он тебя с кем-нибудь перепутал.
Таня решительно вернула мне снимок, явно предлагая закрыть тему.
– Сколько мне было лет, когда умер отец?
– Восемь или около того… точно не помню.
– А если это правда? Что, если отец и в самом деле жив?
– Такого не может быть. Но даже если оно так, что это меняет… для тебя лично?
Теперь уже я разозлилась.
– То есть как «что меняет»?
– Ну… для тебя же никакой разницы нет. Всего, чего хотела, ты добилась без его помощи. Летаешь по всему миру, получаешь призы…
Мама явно хотела увести разговор в сторону.
– У тебя сохранилось свидетельство о смерти? – спросила я. – Ну… хоть какое-нибудь доказательство?
Она покачала головой:
– Нет. Ты – единственное доказательство того, что он существовал. – Она обхватила мою голову. – Это долгая история, мое сокровище… В конце концов, мы с тобой неплохо справились вдвоем, разве не так?
Она улыбалась. Я не могла не улыбнуться в ответ.
Да, мы справились. Мы с ней составили неплохую команду. Если кто и научил меня не пасовать перед трудностями, то это она. Я забрала у мамы фото, засунула кота в переноску – не без труда – и попрощалась.
– Чао, мама. Может, когда-нибудь и разыщу этого типа… но не сейчас.
Поцеловав ее, я направилась к двери. Мама не двинулась за мной. Я обернулась – что с ней такое? Таня медленно подняла глаза и указала на стул:
– Присядь.
– Зачем?
Она решительно выдвинула второй стул, села.
– Когда тебе было восемь лет, мы переехали, помнишь?
Если я и помнила, то весьма смутно. Мы часто переезжали.
– На Шлёрштрассе, к Бернду. Припоминаешь?
Как же, Бернд… бородач. Мне он сразу не понравился. Один из претендентов на роль папочки. В этом качестве он полностью облажался.
– Ты хотела остаться в коммуне, с другими… А я решила, что нам с тобой пора жить отдельно, вдвоем…
– И с Берндом.
– Да. Он был идиот, здесь ты права. Но теперь это не имеет значения. На третий день после переезда ты сбежала, помнишь?
Помню, как же. Кукла в моем детском чемоданчике, красные сандалии… Мужчина в парике на купюре в пятьдесят марок[2], которую я тайком вытащила из маминой сумки.
– Я с ног сбилась. Полицейские нашли тебя на Центральном вокзале.
Безнадежнейшая из всех авантюр моего детства. «Куда собралась?» – спросил меня полицейский. «В Италию, к папе». Ответа на вопрос, в каком городе живет мой папа, у меня не было. Италия есть Италия.
Воспоминания вдруг опалили тоской, и я рассмеялась, чтобы не расплакаться.
Мама бежала ко мне через зал ожидания – напуганная и вся в слезах.
– Я так беспокоилась за тебя. Это после того случая я сказала тебе, что он умер.
Я непонимающе посмотрела на нее.
– Я боялась, что ты снова сбежишь.
Я молчала. Привычный мир рухнул в одно мгновенье. Если я кому и доверяла в этой жизни, то это была моя мать. Несмотря ни на что, до сих пор она оставалась самой близкой моей подругой.
– Я верила тебе…
– Я лишь хотела защитить тебя.
– Где он сейчас?
– Понятия не имею… правда.
Земля уходила из-под ног. Я сидела неподвижно, все еще надеясь понять, и не могла поднять на нее глаз. Захотелось уйти. Я встала.
– Подожди, Юлия…
Она выбежала за мной на лестничную площадку.
– Тебе было восемь лет, что мне оставалось делать? Юлия, вернись…
Я села в машину, завела двигатель. Про кота я совсем забыла, поехала в ателье. Не помню, как припарковалась на заднем дворе. Только не быть одной.
Робин оказался там. Глянул на меня озадаченно, но я сделала вид, будто все в порядке. Села заниматься письмами. Да и что, собственно, произошло? Какая разница, в самом деле, жив или мертв человек, с которым у меня нет и не было ничего общего? Он ни разу не пожелал взглянуть на меня. Что мне от него может быть нужно?
Но подоспела новая волна сомнений: так ли оно на самом деле? Что, если мать обманывает и отец искал со мной встречи? Но неужели за все эти годы он не сумел найти меня? И если он жив, разве ситуация не становится во сто крат невыносимей? И как мне теперь относиться к маме – как к союзнице или как к предательнице, разлучившей меня с отцом? Кто, наконец, этот человек, перевернувший всю мою жизнь? И в тот самый момент, когда я впервые чего-то добилась.
Я достала из ящика стола визитку Винсента Шлевица, вышла во двор и набрала его номер.
– Здравствуйте, это Юлия. – Я не узнавала свой голос. – Мы можем встретиться завтра?
Мы выбрали нейтральную территорию – итальянское кафе в Шлахтхофе. Робину я сказала, что иду к врачу.
Глава 5
Стоял один из тех первых дней весны, когда солнце неожиданно набирает силу, не оставляя от зимы даже смутных воспоминаний.
Все вдруг устремились на улицу. За столиками кафе под открытым небом сидели мамаши с детьми, богемного вида пенсионеры и хипстеры с ноутбуками и чашками с латте-макиато. Угол Шлахтхофа и Рыночной площади они называли «итальянским кварталом», а Мюнхен считали одним из городов Северной Италии. Официанты приветствовали посетителей неизменным buongiorno[3], те охотно отвечали по-итальянски. И вовсе не потому, что разучились говорить по-немецки.
Лично я никогда не понимала людей, которые заказывают кофе по-итальянски исключительно ради того, чтобы показать себя «гражданами мира». «Тосканская фракция» – так я их называла, «фракция латте-макиато». Я никогда не чувствовала себя итальянкой, даже наполовину. Три года жизни в Лондоне сформировали меня больше, чем какие-то непонятные гены. За пять лет, прожитых в этом квартале, я ни единого раза не зашла в это кафе.
Я намеренно явилась пораньше, заняла один из немногих свободных столиков и сразу почувствовала себя маленькой девочкой, растерянной и обманутой. Зачем мне эта встреча? «Ты взрослая женщина, – говорила я себе. – Ты прекрасно справляешься со своей жизнью. К чему бередить старые раны?»
Ладони взмокли от холодного пота. Что-то во мне протестовало против всего этого. Вдруг захотелось встать и уйти, но тут я увидела его, выходящего из машины на другой стороне улицы.
Он был в легком светлом костюме и бежевых кожаных перчатках, которые снял и привычным жестом бросил в машину. Движения отличала уверенность, свойственная успешным людям. В то же время он казался выходцем из другой эпохи. Во всяком случае, дверцу машины он запер ключом – в классическом понимании этого слова.
Да и сама машина – простенькое, но элегантное винтажное авто с тонкими хромированными вставками и сверкающими ажурными дисками на колесах. Легко было представить Грейс Келли на переднем пассажирском сиденье.
Легкая походка придавала его фигуре нечто юношеское, несмотря на чуть сгорбленную спину. Он тут же узнал меня. Я встала, мы пожали друг другу руки – возможно, чересчур церемонно. Когда я улыбнулась, он просиял, внезапно помолодев. Я смутилась.
Он придержал мне стул – старая школа. Молодой человек на фото и этот старик словно две скобки, внутри которых – жизнь. Для меня она была сплошным знаком вопроса.
Только когда мы сели друг против друга, я поняла, как он взволнован. Прокашлялся, извинился, держался он неуверенно, будто явился на тайное свидание. С первых минут я почувствовала, что он видит во мне кого-то другого. Но приветливость, даже нежность, читавшиеся в его глазах, были настолько непритворными, что я невольно прониклась к нему доверием.
Я искала черты фамильного сходства – во внешности, жестах, мимике. Этот представительный господин казался мне воплощением порядка, в то время как моя жизнь представляла собой неправильно собранный пазл, отдельные фрагменты которого и вовсе отсутствовали.
– Простите за бесцеремонное вторжение. Я всего лишь хотел увидеть вас на подиуме. Но когда вы… надеюсь, сейчас все в порядке?
Я кивнула. Слава богу, у него хватило такта говорить мне «вы», держать дистанцию. Мне тоже так было проще.
– Как долго вы за мной шпионили? – спросила я и сама удивилась холодности своего тона.
Он обиделся. Возможно, именно этого я и добивалась. На его лице проступило выражение сожаления.
– Простите, что так вышло. Собственно, я искал Винченцо. Я ничего не знал о вас.
– Но зачем вы отправились за мной в Милан? – удивилась я. – Ведь мы живем в одном городе.
Моя прямота, похоже, нисколько его не смутила.
– Это было чистое сумасшествие, – ответил он. – Ностальгия… Когда я увидел вас на подиуме… Бог мой…
Его глаза увлажнились. Я старалась сохранять невозмутимость.
– Джульетта гордилась бы вами, – продолжал он. – Она всю жизнь мечтала об этом.
Я не понимала, что он имеет в виду.
– Она ведь тоже… портняжничала, – пояснил Винсент. – И имела к этому делу талант. Вот только ваших возможностей у нее не было… Думаю, отец назвал вас в ее честь. Мать он любил больше всех на свете.
На безымянном пальце его левой руки блестели два золотых кольца: вдовец. Заметив мое внимание, он поспешно спрятал руку.
– Где она сейчас? – спросила я.
Он чуть заметно тряхнул головой. Будто не хотел произносить вслух то, что и без того было мне понятно. Джульетты нет в живых. Но молчание Винсента красноречиво свидетельствовало, что для него она не умерла. Одни оставляют этот мир насовсем, примирившись со своей участью, другие уходят против воли. В последнем случае часть человека остается с живыми.
Тишину нарушило появление официанта. Винсент заказал эспрессо по-итальянски – довольно необычно для немца его поколения. Но по-итальянски он говорил с акцентом, немецким, насколько я могла судить. И вообще, совершенно не походил на итальянца.
– Когда вы последний раз общались с отцом? – осторожно спросил он.
– Я видела его один-единственный раз, в детстве, – ответила я. – И совсем недолго.
– Мне жаль… Я не знал.
Он вздохнул и посмотрел на меня так, будто решил удочерить не сходя с места.
– Все нормально, – успокоила его я.
– Я тоже давно с ним не общался, – продолжал Винсент. – Ваш отец не хотел меня знать.
– По крайней мере, это нас объединяет, – заметила я и тут же пожалела о своей неосторожности.
Винсент застенчиво улыбнулся и отвел взгляд. Некоторое время мы молчали – два чужих друг другу человека. Все, что было между нами общего, – незнакомец по имени Винченцо. Точнее, его отсутствие.
Официант поставил на стол кофе и удалился.
– Вы уверены, что он жив? – спросила я.
– Безусловно.
– Зачем вы его разыскиваете?
Винсент перегнулся через стол, понизил голос:
– Буду откровенен с вами, не так давно в нашей семье произошло несчастье, умерла моя жена.
– Джульетта?
Он покачал головой:
– Официально мы с Джульеттой никогда не были супругами.
Он помолчал, глядя на меня, будто ожидал реакции. Но я решила сохранять покерфейс.
– Это так… – Винсент шумно выдохнул. – В молодости не понимаешь, как быстро все подходит к концу. В ваши годы я тоже смотрел только в будущее. Но с возрастом все чаще оглядываешься назад. Я не хочу уйти, не примирившись с прошлым.
Я не понимала, к чему он клонит. Винсент огляделся, как будто боялся, что его подслушают. Но люди вокруг были заняты своими разговорами. Он еще ближе подался ко мне:
– Я должен уладить свои дела, времени на это осталось не так много.
И снова этот пронизывающий взгляд. На что он намекает?
– Ваш отец – мой наследник, – пояснил Винсент. – Кроме него у меня две дочери… Но прежде я хотел бы с ним объясниться. – Он замолчал, будто ожидая ответа, и тут же продолжил: – Мне следовало озаботиться этим раньше. Но видите ли… я был связан одним обещанием… долгая история. Сейчас, во всяком случае, я решился его нарушить. Надеюсь, не поздно.
В его тоне чувствовался напор, Винсент и в самом деле будто куда-то торопился.
– После смерти жены я нанял частного детектива. Винченцо он не нашел, зато вышел на его дочь… – Он неуверенно улыбнулся. Мне стало не по себе. – Если Винченцо так и не объявится или откажется от наследства, оно достанется его детям…
Я откинулась на спинку стула.
– Спасибо, мне ничего не нужно.
Я не хотела этих денег. Наследство – это для тех, у кого есть корни. Не для таких перекати-поле, как я.
– Вы мне не верите?
Он попытался взять меня за руку. Я отпрянула.
– Тот, кого вы ищете, мне чужой. Я не имею к нему никакого отношения.
Винсент снова помолчал.
– Разумеется, он вам чужой. Но человек остается для нас чужим, пока мы не знаем его истории.
Я молчала. Всю жизнь я только и занималась тем, что пыталась заполнить пустоту в ней. Делала все, чтобы не чувствовать этой раны. И, по-видимому, не слишком преуспела, потому что иначе сейчас просто встала бы и ушла, без сожалений.
Иногда мне кажется, что наши тела населены духами ушедших близких. Прошлое не оставляет нас, как бы мы от него ни бегали. И это пугает. В одном африканском племени женщины носят на поясах головы умерших детей и разговаривают с ними, как с духами предков.
Некогда существовала женщина, как две капли воды похожая на меня. Моя жизнь изменилась необратимо с тех пор, как я узнала об этом. Я не хочу иметь ничего общего с этой семьей, но, похоже, не все зависит от моего желания. И связь эта становится тем крепче, чем отчаянней я пытаюсь ее разорвать. Тридцать шесть лет я убегала без оглядки, но теперь во мне будто что-то сломалось. Мне захотелось остановиться и взглянуть в глаза своим призракам. Только ради того, чтобы распрощаться с ними.
– Как умерла Джульетта? – спросила я.
Он надолго задумался. Очевидно, воспоминания были мучительны.
– До сих пор я никому об этом не рассказывал.
Я встретила его испытующий взгляд. Винсент как будто хотел убедиться, что я готова выслушать его историю.
– У меня к вам предложение, – сказал он. – Я рассказываю вам, как все было, а вы решаете, верить мне или нет. От вас зависит, станем ли мы друзьями или останемся чужими. Возможно, мы сможем помочь друг другу.
Глава 6
Лучшее образование сметливый человек получает в путешествиях.
ГётеВинсент
– Итак, все началось в Милане летом пятьдесят четвертого, за год до рождения Винченцо. Для меня, как и для вас, этот город так и остался чужим. Джульетта была родом с юга, с маленького острова возле Сицилии. Там она и похоронена.
– Как она умерла?
– Не торопитесь, дойду и до этого… Итак, я жил в Мюнхене. Осел там после войны как беженец из Верхней Силезии. Мать и сестра умерли по пути в Мюнхен, в Дрездене, отец погиб в России. Мне было пятнадцать, когда война закончилась. Я начал учиться и устроился работать на завод «БМВ». Я был молод и амбициозен, но и компания играла по-крупному, даже слишком. Наши машины были чересчур громоздки. После войны они выпускали только восьмицилиндровые двигатели – эдакий барочный ангелочек… И в каком-то смысле это было совсем неплохо. Вот только мало кто мог позволить себе такие шикарные авто. В то время даже «фольксваген» считался роскошью. И мы начали разработки с нуля. У людей была работа, дела шли в гору. Всего-то требовалось – наладить выпуск маленьких, недорогих машин. Но наших ресурсов не хватало. Компании грозило банкротство, и тут в игру вступили итальянцы. В пятьдесят четвертом на автомобильной выставке в Турине наши боссы присмотрели одну интересную модель, компактную, как чемодан. Она свободно умещалась в длину поперек стандартного парковочного места. Миланский производитель специализировался на мотоциклах, и эта машина была чем-то средним между мотоциклом и авто… «Изетта», слышали когда-нибудь?
– Да, конечно. «Букашка»?
Его лицо просияло.
– Именно, «букашка»… С одной передней дверцей, как у холодильника. Помню, как начальник явился к нам, в отдел технического развития. «Парни, нам надо задешево прикупить лицензию на эту штуковину и срочно запускать ее в производство». Кому-то из нас предстояла командировка в Милан. Я был самым молодым, семьи не имел. Мне выдали мотоцикл, рухлядь времен вермахта, и пожелали счастливого пути.
Старик оживился, будто, рассказывая, сбрасывал груз десятилетий. Я почти видела его молодым человеком, трясущимся через послевоенный Мюнхен на старом мотоцикле.
Вероятно, к тому времени многое успели восстановить, но все же город наполовину лежал в руинах, камни еще не одно десятилетие хранили следы катастрофы. Тысячи и тысячи бездомных, бесконечные вереницы грузовиков, вывозивших строительный мусор за город, на Обервизенфельд, где вырастали окутанные пылью каменистые холмы. Позже на этом месте разбили Олимпийский парк.
Ребенком я каталась там на гоночном автомобиле, не подозревая, что холмы под моими ногами не природного происхождения. В тот самый день, когда я увидела отца, – первый и последний раз в жизни. Всего несколько часов после полудня – а потом он исчез навсегда.
Итак, в то прохладное летнее утро перед ним расстилалось пустынное шоссе. Мюнхен остался позади. Винсенту предстояло впервые в жизни покинуть пределы Германии – через перевал Бреннер, ворота на юг. Далее – Верона, Бергамо… Я знала эти названия из рассказов подруг, мама возила меня повсюду – но только не в Италию. Где только ни доводилось мне проводить школьные каникулы – во Франции, Португалии, Чехословакии, даже в Южной Америке. Только на Италии, чьи пляжи мои одноклассницы освоили еще в раннем детстве, лежало табу. Негласное, но тем не менее…
Нет, я не чувствовала себя обделенной. И вообще не могла понять, почему все вокруг бредят Римом и Флоренцией. Почему там и кофе вкусней, и парни симпатичней. Это потом, уже в Лондоне, я открыла для себя итальянский дизайн. И поразилась его элегантной простоте, удивительному, идущему от древних ремесленных традиций чувству пропорции и материала.
Что касается молодого Винсента, у него Италия могла ассоциироваться разве что с лирическими воспоминаниями Гёте, знакомыми ему по урокам немецкого языка в школе.
Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, Где пурпур королька прильнул к листу, Где негой Юга дышит небосклон, Где дремлет мирт, где лавр заворожен? Ты там бывал? Туда, туда, Возлюбленный, нам скрыться б навсегда[4].На перевале Бреннер дул холодный ветер. Италия встретила путника не яркостью апельсиновых рощ, а бесплодным лунным пейзажем. По дороге он обогнал развалину с дымящимся радиатором – немецкие туристы в груженном поклажей «фольксвагене» пытались преодолеть альпийский перевал. На границе Австрии и Италии стояли вооруженные американские солдаты – напоминание о том, кто контролирует молодую демократию в побежденной Европе.
Первым, что поразило его по ту сторону Альп, был свет. У Винсента словно пелена спала с глаз. Солнце палило все жарче, и он все быстрей мчал по серпантинной дороге, пока не остановился на променаде у озера Гарда. И стоило ему снять мотоциклетные очки, как у него перехватило дыхание. Впервые в жизни Винсент увидел пальму. До сих пор пальмы были для него чем-то недосягаемым и связанным с роскошными круизами по южным морям, доступными разве что американским миллионерам.
И вот теперь пальмы были прямо перед ним – он мог коснуться пальцами их шелестевших на теплом ветру тонких листьев. Волны били в гранит набережной, играли на воде солнечные блики. На пьяцца резвилась ребятня, в воздухе терпко пахло лимонами. Винсент стянул кожаные перчатки, глубоко вдохнул и внезапно понял, что имел в виду Гёте.
Это трудно выразимое словами внезапное, невозможное, бьющее через край смешение всех вдруг пробудившихся чувств.
До Милана он добрался почти к закату, солнце стояло низко, на горизонте собирались дождевые тучи. Многоцветный ландшафт сменился серыми каньонами улиц.
По сторонам дороги потянулись безликие предместья, бетонные блоки домов, прерываемые шести-, десяти-, двадцатиэтажными башнями деловых центров, шикарными магазинами, футуристическими выставочными павильонами и прочими храмами в честь золотого тельца. Этот Милан не имел ничего общего с «прекрасной Италией» из песни Рудольфа Шурике[5] «Капри-рыбаки». По восьмиполосной трассе бульвара, оглушительно грохоча, текли потоки мотоциклов. Современный мегаполис жил в ритме биржи, банков и фабрик.
Винсент отыскал на карте свой отель в центре города. Он окончательно потерялся в городской сутолоке, когда сгустившуюся темноту прорезал свет уличных фонарей и разноцветные огни витрин замерцали со всех сторон. Какими жалкими задворками показался ему в этот момент Мюнхен, да и вся Германия.
Внезапно он очутился на огромной площади. Люди муравьями сновали на фоне гигантского собора, тут же вздымались ворота в галерею Виктора Эммануила, с дорогими модными магазинами под стеклянным куполом. Сияли безупречно симметричные аркады витрин. Услужливые официанты в черных костюмах подавали аперитивы. На крышах сверкала реклама – «Чинзано», «Кампари», «Кока-Кола»… И повсюду элегантность, строгость архитектурных пропорций. А ведь в рассказах его старших коллег, ветеранов Африканского корпуса, «итальяшки» представали исключительно как придурковатые раздолбаи.
Винсент глядел во все глаза, не понимая, откуда взялась эта ложь. Перед ним по пьяцца фланировали мужчины в строгих костюмах, женщины в модных шляпках и стильных шалях. Их казавшееся врожденным чувство стиля не нуждалось ни в модных изысках, ни в показной роскоши. Многовековые традиции естественным образом вливались в современность. И все – полные достоинства, которого попросту не было в послевоенной Германии, если вообще оно когда-то там существовало.
Начался дождь. Миланцы раскрыли зонты, задвигались быстрее. Стоя с мотоциклом посреди быстро редеющей толпы, Винсент вдруг вспомнил, что сегодня день его рождения. Он давно перестал отмечать этот праздник – с кем, собственно? Никого из родных не осталось. Но на душе у него вдруг сделалось светло и радостно, словно он внезапно открыл для себя самое естественное человеческое счастье – просто жить.
И в самом деле, война позади. Из руин поднималась новая Европа. У него нет долгов, а значит, он свободен. Винсент вдохнул свежий, влажный воздух. Молодой человек двадцати четырех лет, в этот момент он исполнился решимости сотворить из своей жизни нечто необыкновенное.
Глава 7
– Capo ingegnere Ermenegildo Preti! Il progettista Dottore Marco Gobini! Pierluigi Raggi, capo ufficio technico! Gianfranco Sassi, soprintendente della catena di montaggio…[6]
Инженеры – в костюмах и при галстуках – выстроились шеренгой, чтобы поприветствовать немецкого коллегу. Сам Ренцо Ривольта, владелец «ИЗО», персонально представил каждого.
– Buongiorno, piacere, добрый день…
Один из итальянцев даже рискнул перейти на ломаный немецкий – он воевал под началом Роммеля в Африке.
Аристократ Ренцо Ривольта был из фабрикантов старой закваски: серый костюм в тонкую полоску, из кармана выглядывает уголок зеленого платка, туфли начищены до сияния. Элегантность и обаяние. Строгий, но доброжелательный «патрон». Сразу было видно, что работники для него – одна большая семья.
Вежливые итальянцы не выказали удивления по поводу того, что крупная немецкая фирма доверила столь ответственные переговоры молодому парню, почти мальчишке, ни слова не знающему по-итальянски. Винсент же ужасно переживал, почти не спал в своем душном гостиничном номере.
Если немецкая сторона срочно нуждалась в лицензии на выпуск «изетты», то итальянцам требовался прорыв. Неказистая с виду «букашка» продавалась в Италии ни шатко ни валко – практичная модель, не более того. Автомобиль вполне удовлетворял немцев, превыше всего ставящих практичность, но не итальянцев, для которых не меньшее значение имела красота. Уже сами заводские корпуса в Брессо, миланском пригороде, являли образец современной архитектуры – с широкими арочными перекрытиями и панорамными окнами.
Винсент не понимал ни слова из того, что ему говорили. Поначалу вежливые итальянцы старательно игнорировали это досадное недоразумение, пока терпение Ренцо Ривольты наконец не лопнуло.
– Найдите же кого-нибудь, кто говорит по-немецки! – вскричал он.
Ассистент немедленно бросился исполнять приказание. Вскоре от группы рабочих отделился небольшого роста молодой человек и обратился к Ренцо Ривольте:
– Scusi, commendatore…[7]
По реакции инженеров Винсент понял, что подобная дерзость здесь не приветствовалась. Тем не менее Ривольта обернулся, ухватившись за предоставившуюся возможность решения проблемы.
Молодой человек говорил, отчаянно жестикулируя. По оливковому оттенку его кожи Винсент понял, что перед ним не миланец. Живые умные глаза и уверенные движения плохо сочетались с почти подобострастным смирением его тона и позы. Ренцо Ривольта кивнул, и рабочий удалился в одно из конторских помещений.
Спустя некоторое время он появился снова, в компании секретарши, по виду несколько моложе Винсента. Девушка выглядела напуганной и на ходу поправляла голубой костюм.
– Ecco, commendatore![8] – воскликнул рабочий, подталкивая ее к директору.
Секретарша сделала книксен и улыбнулась. Ренцо спросил, как ее зовут.
– Маркони Джульетта, – ответила она.
Винсенту запомнилось, что она назвала сначала фамилию, потом имя. И еще сияющие темные глаза, тонко очерченные скулы, ее фигура – хрупкая и одновременно необыкновенно энергичная. И то, с какой неуверенностью девушка произнесла по-немецки «Добро пожаловать…» и как ласково улыбнулась.
С сильным, но приятным акцентом девушка представилась секретаршей отдела сбыта. Она окончила курсы немецкого языка в школе стенографисток и может побыть в роли переводчицы. Их взгляды пересеклись и задержались несколько дольше, чем можно было ожидать, и она отвела глаза, то ли из вежливости, то ли от застенчивости. Но в эти несколько секунд Винсент увидел ту непостижимость, которую пытался понять всю оставшуюся жизнь. В глубине этих глаз, искрящихся жизнелюбием и веселостью, словно таилась некая древняя сила. Будто молодость боролась в них с безнадежностью смерти.
Такое случается, когда внезапная любовь прорывает рамки привычного мировосприятия. И мы видим перед собой не просто человека. Нечто просвечивает – пробивается – сквозь смертную оболочку, опрокидывает привычный нам мир и наполняет душу почти детским счастьем. Несколько мгновений вечного лета.
– Джульетта, – повторила она и рассмеялась. – Как «Ромео и Джульетта», да?
– Очень рад… Винсент Шлевиц.
Он протянул руку – подчеркнуто официально, скрывая впечатление, которое она на него произвела.
Рядом сопел маленький рабочий. Очевидно, ревновал. Муж? Любовник? Ни у него, ни у нее обручального кольца не было, но их явно что-то связывало.
«Изетту» трудно было назвать полноценным автомобилем – «букашка», курьез, тумбочка на колесах. Ее создатель Эрменегильдо Прети прославился в годы войны как авиаконструктор. Ривольта тогда производил холодильники. Результатом совместной работы двух гениев стал диковинный механизм, нечто вроде капсульного летательного аппарата с дверцей от холодильника впереди. Задние колеса располагались друг к другу так близко, что можно было подумать, будто у конструкции не четыре, а три колеса.
Но, как бы забавно ни выглядела «букашка», ее создатель был, несомненно, истинным гением. Никому из инженеров не удавалось добиться столь внушительной вместимости при столь малых габаритах. И такой мобильности при скромной себестоимости. С одноцилиндровым двигателем в девять лошадиных сил, «изетта», по сути, была разновидностью мотороллера. Для управления даже не требовалось водительских прав. А потрясающая экономичность – три литра бензина на сто километров – делала ее машиной для всех. Дешевле «фольксвагена», дешевле даже «фиата-тополино» – важной вехи в массовой автомобилизации.
Пока Винсент и Прети – оба мужчины основательные – устраивались на хлипком, обтянутом коричневой материей сиденье, Джульетта старательно переводила технические пояснения конструктора. Пучеглазая «изетта» выглядела удивительно воздушным созданием и действительно походила на летательный аппарат. Прети убрал тканевую крышу. Глядя сверху на скорчившихся в тесноте мужчин, Джульетта не смогла удержаться от смеха. Винсент включил первую передачу – и «букашка» тронулась с места. Поскольку Прети продолжал говорить, девушке пришлось бежать рядом с машиной, но скоро она отстала. Винсент смотрел, как она исчезает в зеркале заднего вида, а Прети старался перекричать мотор.
Винсент выжал газ и опомнился, только когда стрелка тахометра задрожала против отметки 85, – испугался, что дребезжащая конструкция развалится на части.
– Vai, avanti! – закричал Прети.
Винсент без перевода понял, что это значит: можно не опасаться и смело пришпорить коня. Он запетлял зигзагами, притормозил, ускорился, сделал петлю вокруг Джульетты, терпеливо ожидающей окончания ралли. Это был танец на колесах.
Когда «изетта» остановилась и Прети толкнул дверцу над передними колесами, девушка спросила, как Винсенту понравилась поездка.
– Потрясающе, – ответил он, выбираясь из салона.
Джульетта принялась переводить его слова: машине явно не хватает мощности, еще пара лошадиных сил точно не помешает, и не все хорошо с задней осью.
Вторую часть заявления Эрменегильдо Прети категорически опроверг. Винсент попросил Джульетту перевести: речь не о конструкторском просчете, а скорее о неисправности. Легкая вибрация – возможно, подвеска разболталась.
– Impossibile![9] – продолжал возмущаться Прети.
Когда подошел Ривольта со свитой, Прети велел инженерам немедленно проверить заднюю ось. Не хватало еще уронить себя в глазах немца.
Винсент с коммендаторе и Джульеттой ждали перед подъемником в монтажном зале. Девушка нервничала. Винсент испытывал неловкость от того, что указал на недочет такому опытному инженеру, как Прети, да еще перед всей его командой, но он не сомневался в своем впечатлении. Ренцо Ривольта молча наблюдал, как рабочие разбирают заднюю ось. Прети тщательно ощупал ее пальцами. Porca miseria…[10] Вокруг столпились инженеры. Никто, как ни вглядывался, не видел ничего подозрительного. Прети жестом подозвал Винсента. Тот также не мог понять, в чем дело, пока сам Прети не показал на трещину толщиной с волос:
– Come l’ha sentito?
Голос конструктора выражал крайнюю степень удивления. Джульетта перевела:
– Как вы это почувствовали?
Винсент пожал плечами:
– Попометр.
Девушка вопросительно подняла глаза: этого слова она не знала.
Винсент, смеясь, хлопнул себя по заду:
– Попометр!
Прети расхохотался, запрокинув голову.
– О… попометр! Браво!
На этот раз поняли все, включая Ривольту. Прети обнял Винсента за плечи. Лед растаял, а немец обзавелся прозвищем: синьор Попометр. Винсент покраснел и оглянулся на Джульетту. Девушка улыбалась. И он уже почти не сомневался, что тоже понравился ей.
Никогда еще Винсент не вливался так быстро в круг незнакомых людей, тем более иностранцев. Ренцо Ривольта пригласил его поужинать на своей вилле. Поместье располагалось сразу за заводскими корпусами. Фактически Ривольта выстроил завод на территории собственного парка.
Он представил Винсента жене и детям, на чем свет ругал свою «феррари» и поделился с молодым коллегой сокровенной мечтой: когда-нибудь он непременно создаст лучший в мире спортивный автомобиль. В столовой главный инженер Прети научил немца управляться с длинными итальянскими макаронами, их следовало наматывать на вилку, а не кромсать ножом. С непривычки Винсент нашел этот способ крайне нерациональным, но возражать не стал.
К обеду подали вино, ужин состоял из трех блюд, а на завтрак тут полагалась лишь маленькая чашечка кофе. Время от времени на вилле появлялась Джульетта, но чаще Винсент видел ее в конторе.
Общение становилось все более непринужденным. Инженерам всего мира одинаково хорошо понятен язык миллиметров, секунд и килограммов. Пока «изетту» разбирали на составные части, монтировали доставленный из Мюнхена мотор «БМВ», тестировали и оптимизировали, Винсент успел стать полноправным членом семьи «ИЗО». Внутренне он не был готов к такому повороту дела. Винсент привык считать себя одиночкой, с тех пор как мальчиком покинул Силезию. Он не то чтобы отличался неуживчивым характером, но с людьми сходился с трудом. После смерти всех близких работа, учеба и профессия стали для него сутью жизни.
Винсент превратился в человека, который думает о будущем и не тратит времени понапрасну. Создание семьи не входило в его планы, несмотря на то – или благодаря тому – что он рос сиротой. Винсент нравился женщинам, но предпочитал держаться на безопасном расстоянии от них. Он полагал разумным для начала утвердиться в профессии, обеспечить постоянный доход и обзавестись собственным домом.
Джульетта привлекала его не только характерной южной красотой. Оглядываясь сегодня на их первую встречу, Винсент прежде всего вспоминал странное чувство, тогда его раздражавшее, – непонятно откуда взявшуюся убежденность, что именно она должна стать матерью его детей. Откуда взялось это наваждение? Никакая женщина, ни до, ни после Джульетты, не вызывала в нем подобных мыслей. Винсент не верил ни в судьбу, ни в предопределенность. Он вообще не был религиозным человеком. Ужасы последних лет войны окончательно убедили его, что в этом мире человек предоставлен самому себе и только здравый смысл удерживает его от падения в бездну собственного естества.
Именно конец войны стал для Винсента точкой отсчета, когда, отринув все, во что верил до сих пор, он взял жизнь в собственные руки.
Но сегодня, на закате дней, миланские события 1954 года не виделись ему следствием сознательно принятого решения. Винсента словно подхватила волна и отдала во власть непонятной стихии. И сделала частью некоего общего замысла.
Так или иначе, в то итальянское лето были посеяны семена главной любви его жизни, смерти Джульетты и проклятия Винченцо.
Каждый вечер около шести, когда рабочие отправлялись по домам, а Винсент седлал мотоцикл, Джульетта поджидала кого-то у заводских ворот.
Она часто меняла туалеты – то клетчатый костюм, то летнее зеленое платье, то прогулочные белые брюки. И все с неизменным вкусом, в неброском, но узнаваемом стиле. Как-то раз Винсент решился спросить, не подвезти ли ее до города.
– Я жду Джованни, – ответила девушка.
Винсент недоумевал, что может означать этот ответ.
– Он ваш парень?
– Нет. – Она рассмеялась. – Мой брат. Мы… как это называется… gemelli… родились в один день…
У Винсента камень свалился с души.
– Близнецы, – подсказал он. – Двойняшки…
– Да, двойняшки…
Она говорила «двойняжки», Винсенту нравился ее акцент.
– Джованни – ученик на линии сборки.
Винсент кивнул. Повисла пауза, они переглянулись.
– Как вам Италия? – спросила девушка.
– Я совсем не знаю ее, – признался Винсент. – Венеция, Флоренция, Рим… ничего этого я не видел.
– Я тоже, – отозвалась она.
Винсент удивился: как такое возможно?
– Я бы с удовольствием посмотрела, но… – Она пожала плечами и рассмеялась.
В этот момент Винсент впервые почувствовал ее главную тайну: тоску по жизни, словно запертую за фасадом приветливого лица и ищущую выхода наружу.
– Я отвезу вас в Венецию на «изетте», – пообещал он.
Если это и было шуткой, то лишь отчасти. Девушка рассмеялась.
– Джульетта!
Это был Джованни, который только что появился в дверях цеха с группой товарищей.
– Arrivederci…[11] – прошептала Джульетта.
Винсент посмотрел ей вслед, невольно залюбовавшись легкой походкой.
Джульетта чмокнула Джованни в обе щеки, как принято в Италии между друзьями и родственниками. Компания направилась к трамвайной остановке за заводскими воротами.
Джованни шел слева от Джульетты, справа – другой рабочий, тоже по виду сицилиец. Настоящий медведь с огромными кулачищами и тяжелым взглядом. Он не касался Джульетты, но будто норовил прикрыть ее от нескромных мужских взглядов. Опасно шутить с таким телохранителем.
Глава 8
Джульетта подходила к воротам не ровно в шесть, а минут за пять до окончания смены, чтобы до появления брата успеть перекинуться парой фраз с Винсентом. Он тоже старался пораньше улизнуть из конструкторского отдела и весь день ждал этих нескольких минут.
Однажды, торопясь к воротам, Винсент увидел, что Джульетта что-то будто рисует в раскрытом блокноте. Заметив Винсента, она убрала блокнот в сумочку.
– Чем это вы тут без меня занимаетесь? – с напускной строгостью спросил Винсент.
– Так… ничем… – смутилась девушка.
Он не сдавался. Выдержав его долгий вопросительный взгляд, Джульетта вытащила из сумочки модный журнал, на обложке которого Одри Хёпберн и Грегори Пек катили на мотоцикле по римским улицам.
– «Римские каникулы», не смотрели?
– Нет.
– Мне понравилась эта юбка, – она показала на белую юбку Одри с высокой талией, – я ее… украла… – И лукаво улыбнулась.
Винсент поначалу не понял, что она имеет в виду, и тогда девушка вытащила блокнот. На рисунке была та же самая юбка, дополненная жакетом и широкополой шляпой.
Винсент, имевший дело только с техническими чертежами, никогда не видел эскизов одежды. Но руку профессионала он определил безошибочно.
– Вы моделируете одежду? – спросил он.
Джульетта кивнула. Только сейчас Винсент заметил, что она в новом костюме – с юбкой, как в журнале, только из лазурной ткани в мелкую клетку.
– Вы сами это сшили?
Она снова кивнула – смущенно, но не без гордости.
– Учились этому?
– Нет. – Джульетта вздохнула. – Стала шить сама, потому что мама вечно покупала мне унылые длинные платья.
– У вас талант, – вырвалось у Винсента. – Вы так стильно одеваетесь. А у нас в Германии все как мешки с картошкой.
Джульетта рассмеялась. Застенчивости как не бывало. Винсент уже собирался пригласить ее прогуляться вечером, но тут его по плечу хлопнул Джованни:
– Как дела, синьор Попометр?
И, не дождавшись ответа, заговорил с Джульеттой. Она кивнула брату и повернулась к Винсенту:
– У Джованни сегодня ночная смена. Я поеду домой одна. До завтра!
Она удалилась прежде, чем Винсент успел что-либо возразить.
Джованни остановил на Винсенте подозрительный взгляд и что-то сказал, когда Джульетта поднялась в трамвай. Попрощавшись с Джованни, Винсент завел мотоцикл. Бульвар Витторио Венето, по которому трамвай шел в центр, пролегал неподалеку от его отеля. Винсент поехал вдоль путей.
Солнце стояло низко, и камни мостовой были словно из золота. Винсент догнал трамвай и пристроился с левого боку. Джульетта сидела у окна. Увидев Винсента, она испугалась. Внезапно из-за поворота вывырнул встречный трамвай, раздался отчаянный трезвон, и Винсент исчез. Джульетта вскочила, кинулась на заднюю площадку, мимо кондуктора, проклинавшего мотоциклистов.
Винсент ехал за трамваем. Он увидел девушку в окне. Джульетта сделала страшные глаза, надеясь как-то приструнить лихача. Но Винсент убрал руки с руля и приветственно помахал. Джульетта зажмурилась, а когда открыла глаза, не смогла удержаться от смеха. Винсент же чувствовал себя совсем мальчишкой. Словно вернулся в солнечное силезское лето, когда вот так же мчался на велосипеде мимо золотистых пшеничных полей. И не было ни вчера, ни сегодня.
Он следовал за трамваем через перекресток и мост, пока Джульетта не сошла у канала Навильо-Гранде. Там он притормозил, снял шлем и рассмеялся. На юношу обрушился поток возмущенной итальянской речи. Винсент улыбался, хоть и не понимал ни слова. Лицо его сияло.
Девушка замолчала и испуганно огляделась по сторонам, словно опомнилась.
– Вы здесь живете? – спросил Винсент.
Женщины полоскали белье в канале. На воде играло закатное солнце. На противоположной стороне улицы, на тротуаре возле трамвайных путей, бедно одетый официант расставлял столики. Рядом с тратторией располагалась табачная лавка. Окна домов – самые высокие четырехэтажные – закрывало развешанное на веревках белье. Возле припаркованного неподалеку «фиата» мальчишки гоняли мяч.
Это был мир фабричных рабочих, рыночных торговцев, горничных, сапожников и швей.
– Вы покажете мне Милан? – спросил Винсент.
Джульетта пожала плечами:
– Я знаю только это.
– А остальное? Собор? Ла Скала?
Она снова испуганно огляделась:
– Это для миланцев. Мы сицилийцы, мы работаем.
Картина начала проясняться.
– В таком случае, – сказал Винсент, – я покажу вам Милан. Садитесь…
Он ободряюще улыбнулся. Девушка покраснела.
– Джульетта!
Из окна на втором этаже выглянула пожилая женщина с крестьянским лицом, черные волосы стянуты в тугой узел. Джульетта подняла голову:
– Да, мама, сейчас иду!
Последовал быстрый обмен репликами, и Винсент замер, завороженный мелодией чужой речи.
– Пьяцца-дель-Дуомо, завтра в шесть, – прошептала девушка, прежде чем скрыться в подъезде.
Винсент был на месте, когда часы на соборе пробили лишь четверть шестого. Нетерпение выгнало молодого человека пораньше из тесного номера отеля.
Была суббота, миланцы неспешно фланировали по площади, выходили из бутиков и галереи Виктора Эммануила с коробками и разноцветными пакетами. Винсент понял, почему Джульетта выбрала именно это место: в мире состоятельной публики риск наткнуться на кого-то из ее родни или знакомых минимален.
Винсент опрыскался итальянским лосьоном, который купил в дорогой лавке, надел свою единственную выходную рубашку, отутюженную и накрахмаленную по его просьбе хозяйкой отеля. Кожаную летную куртку, в которой ездил на мотоцикле, сегодня он оставил в номере.
День выдался погожий, с обещанием по-итальянски беззаботного летнего вечера.
Погруженный в наблюдения за мальчишкой, гонявшим по площади голубей, Винсент не заметил, как подошла Джульетта. Одета она была потрясающе, вот только Винсент не видел ничего, кроме ее улыбки. Приветливая, насмешливая и застенчивая одновременно, она будто струилась из самой глубины души. Это была победная улыбка, улыбка вопреки, – улыбка девушки, назначившей свидание мужчине.
Она протянула руку и, прежде чем Винсент вышел из ступора, спросила по-итальянски:
– Итак, вы собирались показать мне Милан?
Через высокие ворота они вступили под своды галереи Виктора Эммануила. В многочисленных кафе под стеклянным куполом отдыхало высшее общество – господа, на время забывшие о делах, дамы с холодными светскими улыбками. Пол был выложен мозаикой, а витрины походили на декорации к сказочным спектаклям. Выставленные в них костюмы и платья не были одеждой в привычном смысле этого слова, то были произведения искусства. Даже двое полицейских, патрулировавших коридоры, будто сошли со страниц модного журнала.
Это была и торговая галерея, и дворец, и собор; рыночная площадь, ставшая музеем и местом вечерних прогулок, сочетавшая обыденность с самой утонченной роскошью.
Несмотря на стоявший здесь шум, Джульетта говорила вполголоса, как в церкви. Она призналась Винсенту, что время от времени бывает тут на открытии сезона, когда в витринах выставляют новые коллекции.
Разумеется, она никогда ничего не покупала, только любовалась. А вернувшись в темную каморку в квартале Навильо, не чувствовала ни зависти, ни злобы. Разве спала потом дольше обычного, отдаваясь во власть снов о дорогих нарядах и роскошной жизни. В которых могла позволить себе что угодно.
А следующим же вечером, после работы, Джульетта отправлялась к швее – толстой апулейке с усиками, прокуренным голосом и большим сердцем – и покупала остатки полотна. Синьора Малерба, конечно, не выписывала дорогие ткани из Лондона и Парижа, зато понимала толк в качестве. Карандаш и бумага – вот все, что требовалось Джульетте для дальнейшей работы. Плюс память. Стоило закрыть глаза – и воображение в деталях воспроизводило модель с витрины.
Вычерчивая ее в блокноте, Джульетта могла кое-что изменить – например, сузить платье в талии, укоротить рукав или поэкспериментировать с пуговицами и украшениями. Для нее было важно внести свою нотку, пусть даже и совсем незначительную. Но девушка никогда не осмелилась бы назвать получившееся своим эскизом.
Джульетта не нуждалась в портновском метре, чтобы определить, сколько ткани уйдет, чтобы обратить рисунок в платье. Винсент отметил, что итальянский глагол trasferire устроен как его немецкий аналог: пере-носить с двухмерной плоскости рисунка в трехмерное пространство готового платья. В этом состояло сходство ее портняжного ремесла и его, инженерного. Ведь прежде, чем воплотиться в реальности, механизм зарождается в чертеже.
– А это… – Винсент кивнул на ее светлое платье с зауженной книзу юбкой-карандаш, – это вы тоже сами сшили?
Джульетта улыбнулась:
– Все, что я ношу, я шью сама.
– Но почему бы вам не заняться этим профессионально… сделать карьеру?..
Она молчала. Винсент продолжал:
– На секретарском месте вы зарываете талант в землю.
Тут она остановилась и посмотрела на него серьезно:
– Здесь не Германия. Везде нужны raccomandazioni… рекомендации. Мы не с Севера, мы сицилийцы… terroni, capisce?[12]
Не дожидаясь ответа, девушка подошла к витрине дорогого бутика и показала на шляпку с широкими полями:
– Красивая, правда?
Она явно хотела сменить тему, но Винсент не поддался.
– Какая разница, откуда вы родом. Главное же талант.
Было очевидно, что Джульетте эти слова показались несерьезными.
– Нужно верить в себя, – упорствовал Винсент.
– Вы мечтатель, – ответила девушка. – Что вы понимаете, инженер из хорошей семьи?
– Неправда, – возразил Винсент. – Я реалист. Когда-то я тоже представлял свою жизнь иначе. И у меня нет богатых родителей, вообще никаких нет. Мои родители и сестра погибли в войну. Я беден как церковная мышь, но это не имеет никакого значения.
Удивление, появившееся на лице Джульетты, тут же сменилось сочувствием.
– Простите.
– Вам не за что извиняться. Я только хотел сказать… Знаете, когда я прибыл в Мюнхен, то был совсем один. Беженец, ни денег, ни жилья, ни работы, ничего. И тогда я сказал себе: но это же прекрасно, это означает, что ты свободен. У меня не было ни отца, ни начальника, которых я должен был слушаться, никаких обязательств ни перед кем. Надо было лишь найти заработок, и я спросил себя: а что ты можешь? В городе была только одна крупная компания – «БМВ», а от автомобилей я всегда был без ума. Вот и направился к заводу, отыскал ворота и прямо у охраны спросил, как бы мне устроиться на завод учеником. Молодые парни после войны были в цене, так что меня сразу и взяли. А поработав немного, я поступил в техническую школу, учился вечерами. Зачем я все это рассказываю, Джульетта? У каждого человека есть призвание, и самый большой из смертных грехов – зарывать талант в землю.
Его речь хоть и впечатлила девушку, но явно не убедила.
– У вас своя судьба, – задумчиво произнесла она.
– А что такое судьба? – спросил Винсент.
– Она написана на ладони… Покажите свою.
Винсент не верил в хиромантию, но послушно протянул руку. Не касаясь ее, Джульетта долго разглядывала линии на худой ладони парня.
– Сильная воля, – резюмировала она. – Крупный успех в делах и долгая жизнь.
– И все это вы там прочитали? – усмехнулся Винсент.
Джульетта уверенно кивнула.
– А вот я совсем не удивлюсь, если завтра разразится очередная война и мне на голову упадет бомба.
– Судьба, – повторила Джульетта.
Винсент покачал головой:
– Не верю я в это.
– А вот что вы верите?
В вежливой улыбке Джульетты сквозил скепсис.
– В себя. – Винсент заметил, что ответ ей понравился. – А что у вас на ладони написано?
Винсент хотел взять ее ладонь, но девушка спрятала руку за спину.
– Вы говорите совсем как мой папа.
Она отвернулась к шляпной витрине, в эту минуту напоминая обиженного ребенка. Винсенту стало стыдно, он сообразил, что перешел пределы дозволенного.
– Пойдемте, – предложил он. – Давайте примерим эту шляпку.
Он улыбнулся и распахнул дверь в бутик. Но Джульетта замерла у витрины, не решаясь войти в шикарный магазин.
– Что с вами? – спросил Винсент.
Она медленно покачала головой:
– Слишком дорого.
– Ну и что?
Винсент рассмеялся и вошел в бутик. Ему не было никакого дела до этой шляпы. Он всего лишь хотел преодолеть застенчивость Джульетты, освободить девушку из ее ловушки.
Он и сам никогда прежде не бывал в месте, подобном этому. Внутри стояла торжественная тишина, почти как в церкви. Тело будто окутали прохладной дорогой тканью. Ковер под ногами заглушал малейшие шорохи, воздух был пропитан запахами благородного табака и парфюма.
Шляпы лежали на высокой полке из темного дерева. Джульетта еще не вошла, а к Винсенту уже спешил продавец – высокий пожилой миланец; из кармана его пиджака торчал платок. Лицо мужчины удивленно вытянулось. Он явно не привык к таким покупателям, но быстро взял себя в руки.
Винсент, не понимая, что говорит ему этот синьор, молча указал на красную шляпу в витрине. Продавец кивнул и снял шляпу с манекена. Винсент помахал Джульетте: входи же. Девушка замотала головой. Продавец смотрел выжидательно. И Джульетте не осталось ничего другого, как переступить порог бутика.
Девушка объяснила Винсенту по-немецки, что ей не нужна шляпа.
– Да вы примерьте! – сказал Винсент. – Это же ничего не стоит.
Продавец терпеливо ждал распоряжений. Молодой человек жестом велел ему передать шляпу Джульетте. Старик повиновался, выстрелив итальянской фразой, которую Джульетта не сочла нужным перевести и вообще будто пропустила мимо ушей. Тем не менее шляпу приняла. Продавец показал на зеркало в человеческий рост в раме из темного дерева. Девушка осторожно надела шляпу, но посмотрела не в зеркало, а на Винсента, как будто подчеркивала, что делает это только ради него.
Винсент замер. Джульетта выглядела потрясающе. Шляпка не только придала ей элегантности, но будто даже сделала выше ростом. Смущенно, но не без кокетства девушка увернулась от его восхищенного взгляда. А потом не выдержала и все-таки взглянула в зеркало.
– Davvero bellissimo, signora[13], – заверил продавец, и с ним невозможно было не согласиться.
– Спросите его, сколько это стоит, – сказал Винсент.
– Нет. – Она тут же сняла шляпу.
Винсент повернулся к продавцу:
– How much?[14]
Старик посмотрел на миниатюрный ценник:
– Quattromilanovecentocinquanta lire[15].
Винсент оглянулся на Джульетту. На лице девушки был написан ужас. Она осторожно сняла шляпу и вернула ее продавцу:
– Grazie, signore.
И благоговейно опустила глаза, точно перед ней был священник.
Винсенту все это не нравилось. И особенно надменное лицо продавца, молча принявшего шляпу. Должно быть, старик узнал сицилийский акцент. Во всяком случае, выражение, с каким он взял шляпу, красноречиво намекало, что Винсент с Джульеттой ошиблись дверью.
Больше всего Винсент боялся, что Джульетта примется извиняться перед этим наглецом. Только не она, понимающая в платьях больше, чем все продавцы этого города вместе взятые.
– How much? – нетерпеливо повторил Винсент.
Продавец посмотрел на него удивленно. Потом подошел к стойке и написал что-то на листке бумаги.
Винсент уставился на вереницу цифр, понятия не имея, сколько это в немецких марках. Достал кошелек, вытащил оттуда все, что там было, и положил на прилавок.
Винсент бросил вызов. Оставалось ждать, примет ли его старик.
– Certo, signore[16], – пробурчал тот, пересчитав купюры.
Почтительный поклон и то, как он произнес signore, дали понять, что денег достаточно. Молодой человек торжествовал. Покраснев до корней волос, Джульетта наблюдала, как продавец укладывает шляпку в картонку.
Покинув магазин, Винсент открыл коробку и с улыбкой протянул шляпу Джульетте:
– Наденьте, пожалуйста.
Та взорвалась. Он невозможен, возмущалась девушка, totalmente pazzo, совершенно чокнутый. Винсент понимал в лучшем случае половину и с трудом сдерживался, чтобы не поцеловать девушку.
Шляпку она тем не менее взяла. Разумеется, Джульетте понравился подарок. Винсент смотрел на их отражение в витрине – влюбленная пара, да и только. Девушка кокетливо склонила голову. Она была так очаровательна, что Винсенту показалось незаслуженным счастьем даже просто находиться рядом с ней.
Сидя на мотоцикле, Джульетта одной рукой придерживала поля шляпы, а другой обнимала Винсента. Он спиной чувствовал ее тело. Вечер выдался лунным. Оборачиваясь, Винсент видел, как развеваются на теплом ветру волосы девушки. Время остановилось. Безлюдная темная улица принадлежала только им, и так хотелось, чтобы она никогда не кончалась.
На углу набережной они расстались. Провожать Джульетту до дома было слишком опасно.
Она сняла шляпу и бережно уложила ее в коробку:
– Спасибо, мой сумасшедший.
Винсент понял, как много стояло за этими тремя словами.
От поцелуя она увернулась. Винсент смотрел вслед девушке, удалявшейся в тусклом свете уличных фонарей. Поодаль печально толпились столики траттории. Прогрохотал, ослепив на мгновенье фарами, трамвай. Джульетта исчезла в подъезде, не оглянувшись.
Глава 9
В понедельник Винсент поджидал ее у заводских ворот. Все как всегда, только нервничал он больше обычного. Джульетты не было. После шести к воротам устремился поток рабочих и Винсент увидел брата Джульетты, курившего в компании приятелей у дверей цеха. Заметив Винсента, Джованни направился к нему.
– Buona sera, Giovanni! – дружески поздоровался Винсент.
Сицилиец молча затянулся сигаретой. Взгляд его не выражал ничего, кроме холодного презрения.
– Джульетта? – Винсент сделал вопросительный жест.
Джованни уронил окурок на землю.
– È andata a casa. Go home[17].
Это прозвучало почти как угроза. Джованни демонстративно отвернулся, растоптал окурок и продолжал стоять, как бы предлагая Винсенту убраться подобру-поздорову.
– Oh, sì, grazie… – сказал Винсент все так же приветливо. – Сiao…
Он ушел. Но на улице, когда Джованни не мог его заметить, повернул назад и через боковую дверь прошмыгнул к конторскому корпусу. Здесь, в боковом флигеле, работала Джульетта. Винсент заглянул в окно. За столами с тяжелыми пишущими машинками уже никого не было. Винсент открыл железную дверь, вошел в коридор.
Услышав голос Джульетты, он заторопился, собрался было окликнуть, но понял, что девушка не одна. Крепкий, коренастый парень помогал ей надеть жакет. Он был ненамного старше ее и как будто ниже ростом, даже если принять во внимание каблуки Джульетты.
Винсент узнал рабочего, который каждый вечер сопровождал ее и Джованни к заводским воротам. И опять – ни поцелуя, ни случайного прикосновения. Спутник Джульетты вел себя как ее опекун, по крайней мере, телохранитель. Было что-то покровительственное в том, как он провожал ее к выходу.
На следующий день Винсент постучал в дверь секретарского бюро и вошел, не дожидаясь ответа. Он принес список деталей, которые нужно было доставить из Мюнхена.
Деловито стучали печатные машинки, несколько девушек разговаривали по телефону. Джульетта, сидевшая у окна, заметила его сразу. Остальные девушки прекратили работу, охваченные любопытством, когда Винсент положил листок Джульетте на стол.
– Вот детали, которые нужно доставить из Мюнхена. Экспресс-почтой, пожалуйста.
Девушка кивнула, продолжая печатать. Винсент не уходил. Он не мог понять, в чем допустил промашку, чувствовал себя провинившимся мальчишкой. Джульетта глазами показала под стол, на сумку со шляпной коробкой.
– К сожалению, я не могу принять ваш подарок, – прошептала она.
– Но почему?
Джульетта не отвечала, ее молчание оглушало. Стыд, отчаяние, гнев – воздух вокруг нее будто вибрировал.
– Это же… от всего сердца, – сказал Винсент.
Она продолжала печатать.
– Что подумают люди?
Он огляделся. Секретарши склонились над своими машинками.
– Понимаю… – пробормотал Винсент.
– Нет. Ничего вы не понимаете… Я… я помолвлена.
Последнее прозвучало как удар грома. Винсента бросило в жар.
– Понимаю, – повторил он.
Секретарши вскинули головы. Джульетта вскочила и выбежала из кабинета, прикрывая лицо рукой. Все взгляды устремились на Винсента.
Не без труда приоткрыв железную дверь, Винсент вступил в монтажный цех. Уши тотчас заложило от металлического грохота – куда более оглушительного и хаотичного, чем стрекот печатных машинок в секретарской. Винсент двинулся вдоль огромных рельсов, по которым подвешенные корпуса «изетт» перемещались в другой конец зала. Там их опускали и прикручивали к вмонтированным в конвейерную ленту шасси. В цеху этот этап сборки прозвали свадьбой. Лента с равномерной скоростью крутилась против часовой стрелки.
Именно здесь работал Джованни. Как и крепкий сицилиец, которого Винсент вчера видел с Джульеттой. Ее жених. Он сосредоточенно и молча трудился, в то время как другие вокруг кричали, жестикулировали и сыпали проклятьями. Только один раз сицилиец прервался, вытащил платок из кармана синего комбинезона, утер пот и вернулся к работе. Стойкий, неприметный солдат заводской армии.
На следующий день, когда итальянские инженеры и Винсент приспосабливали четырехступенчатую коробку передач к двигателю «БМВ», в дверях цеха появилась Джульетта. Ее лицо выражало решимость, но Винсент на расстоянии почувствовал ее отчаяние. Она ждала. Винсент положил монтажный ключ и подошел к ней.
– Вам почта. – Девушка протянула конверт.
Винсент не ждал никакой почты. Ни адреса, ни имени отправителя на конверте не значилось. Открыв его, молодой человек достал отпечатанное на машинке письмо.
«Я должна с вами объясниться, – было написано на безупречном немецком языке. – Завтра в шесть, Пьяцца-дель-Дуомо».
Они расположились в одном из тех маленьких кафе, куда заглядывают после работы клерки перехватить кофе или аперитив. Вокруг мужчины в деловых костюмах обсуждали последние биржевые сводки и прогноз погоды на завтрашний день. На обшитых темными деревянными панелями стенах металлические вывески рекламировали ликеры и освежающие напитки.
За стойкой бармен возился с самой большой из кофейных машин, какие Винсент только видел в жизни. Пахло свежемолотым кофе.
Снаружи вдруг хлынул ливень. Клерки забегали под летним дождем, прикрывая головы портфелями. Джульетта и Винсент сидели за столиком у окна. За запотевшим стеклом во всю стену полз нескончаемый поток автомобилей. Под столом стояла коробка с красной шляпой.
Официант принес два эспрессо.
– Почему вы пьете кофе из таких маленьких чашек? – спросил Винсент, чтобы нарушить тягостное молчание.
– Из маленьких? – удивилась Джульетта. – Разве его нужно пить из больших?
Винсент улыбнулся.
– И какие же чашки в Германии? – спросила она.
– Большие… – Винсент показал руками, – во-от такие… И кофе там наливают через фильтр, что гораздо удобнее.
Джульетта задумалась.
– Что ж, может, когда-нибудь и итальянцы будут пить фильтрованный кофе из больших чашек. – Она печально улыбнулась. Потом перегнулась через стол и уже серьезно продолжила:
– Энцо мой родственник, только дальний… Кузен. Он… просил мою руку… так это говорят?
Дать Винсенту от ворот поворот просто так Джульетта не могла. Она чувствовала себя виноватой и хотела по крайней мере объяснить свое поведение.
– Просил вашей руки, – поправил Винсент. Ему тоже было не по себе. – Простите, я совсем не хотел осложнять вам жизнь.
Джульетта молчала. Винсент дорого дал бы за то, чтобы знать, о чем она сейчас думает.
– И вы согласились? – спросил он наконец.
Обручального кольца на ее руке он не видел.
– Я не могла ему отказать, – уклончиво отвечала девушка. – Энцо хороший человек. Это он нашел квартиру для меня, брата и мамы. Он работал на «ИЗО» и дал нам… как это говорится… raccomandazioni…
– То есть рекомендовал вас?
Она кивнула.
– На Сицилии у нас совсем ничего не было – ни работы, ни денег.
– На Сицилии? – переспросил Винсент.
– Да. Но мы не siciliani di Sicilia, мы eoliani[18].
– Еoliani? – Винсент с трудом повторил за ней это слово.
– Sì. Эолийские острова… Их семь у берегов Сицилии.
Винсент впервые слышал об этом.
– Прекраснейшее место на Земле. – Лицо девушки просияло, как будто она и вправду объездила весь мир. – Вы знаете фильм «Стромболи»? Там играла Ингрид Бергман.
– Слышал, но я редко хожу в кино.
– Стромболи – один из островов… È un volcano attivo![19] Все они когда-то были вулканами посреди моря – Липари, Панарея, Филикуди… наш называется Салина.
– Салина… – Винсент точно попробовал это слово на вкус.
– Самый красивый из островов, – она прикрыла глаза, – но жизнь там тяжелая. И никого нет, кроме рыбаков и крестьян. Мой отец собирал в поле capperi. В Германии есть capperi?
Винсент смутился. Он явился сюда ради ответа на один-единственный простой вопрос: помолвлена она или нет. Меньше всего он хотел разбередить ее память. Джульетта достала из сумочки словарь и пролистала. Нашли слово «каперсы», но Винсент не знал, что это такое.
– Сaponata? Spaghetti alla puttanesca? Vitello tonnato?[20] – продолжала Джульетта.
Он покачал головой, и девушка рассмеялась:
– Когда-нибудь я приготовлю для вас все это. – Потом вздохнула и продолжила рассказ: – Мой папа вместе с папой Энцо работал на полях дона Витторио. Дон Витторио жил не на острове, в Мессине. Но ему принадлежала земля. А тот, кто владеет землей, владеет и людьми. Когда дон Витторио появлялся на острове, мы должны были целовать ему руку. Но мой папа был… comunista, вы понимаете?
Это слово Винсент понимал. Теперь пол-Германии принадлежало коммунистам. Его родина стала частью Польши. Ферму отца национализировали.
– Земля принадлежит тому, кто ее возделывает, – так говорил отец. – Он работал на этих полях и зимой и летом, а потом дон Витторио забирал у нас весь урожай. Нужна была rivoluzione, in tutta la Sicilia[21]. – Лицо Джульетты просветлело, было видно, как она любит своего отца. – Отец Энцо заболел. У него не было денег на врачей, и он умер. Тогда мой папа пришел в ярость. Он организовал большую забастовку среди крестьян. Они хотели dignità… как это… защитить честь.
Винсент кивнул.
– Папа был гордый человек. Он сказал мне: «Когда придет дон Витторио, не целуй ему руку. Мы не рабы». – Воспоминания волновали девушку все больше. – Мама испугалась. Все время повторяла, что мы бедные, что такова наша судьба. Но папа отвечал, что судьбу делаем мы сами.
Она замолчала, опустив глаза на маленький стол.
– И что было потом? – спросил Винсент.
– Дон Витторио прислал вооруженных людей. Они стреляли: работа или смерть. Крестьяне испугались и вышли в поле. Но папа не сдавался: лучше умереть с честью, чем жить, утратив человеческое достоинство. Он продал все, взял кредит и купил… как это… biglietti…
Винсент кивнул:
– Да. Билеты.
– В Америку… Для всех нас и для Энцо, его сестер и матери…
– И вы уплыли в Америку?
– Почти. – Она оставалась серьезной. – Мы упаковали чемоданы. Папа рассказывал нам о Нью-Йорке, Бостоне… Я очень хотела туда. Но в ночь накануне отъезда к нам в дом ворвались вооруженные люди дона Витторио. Они избили папу, переломали ему руки и ноги. Джованни был маленький, ничего не мог сделать. А мне было так страшно.
Она перевела взгляд на Винсента, как будто желая удостовериться, что тот понимает.
– Но зачем они это сделали? – удивился Винсент. – Вы ведь все равно собирались уезжать?
– Onore… вопрос чести.
Он все еще не понимал.
– Из мести?
Джульетта опустила глаза.
– На острове Эллис[22] всех больных отправляют обратно, им нужны только здоровые. Папу не пустили бы в Америку, и мы остались на Салине. Но папа больше не мог работать. Через год он умер. Теперь Джованни должен был работать на дона Витторио. Понимаете?
Только теперь Винсент стал улавливать извращенную логику событий.
– Энцо уехал в Милан, – продолжала она. – Мама разговаривала с ним по телефону, просила, чтобы он помог нам. Взамен он попросил моей руки.
– По телефону?
– Да. Но позже, тогда было не время. А что нам оставалось делать? У мамы не было выбора. Да и Энцо был uomo onesto[23], порядочный и при деле. Однажды он прибыл поездом из Милана и забрал всех нас на север. Устроил все – и жилье, и работу. Энцо спас нас.
Винсент молчал, пораженный и пристыженный. Напрасно он так плохо думал об Энцо. За окном мелькали машины, на крышах уже загорелась неоновая реклама. Современный Милан – и рабы, бегство, месть… Что за бред?
Джульетта первой нарушила молчание:
– Наша свадьба была… una promessa… договоренность на далекое будущее, не более. Но теперь…
Она закусила губу.
– Вы любите Энцо? – спросил Винсент.
Джульетта остановила на нем долгий взгляд, очевидно тронутая этим вопросом, ответить на который так и не смогла.
Обратно они мчались на мотоцикле по уже высыхающим улицам. Джульетта обнимала Винсента за талию обеими руками, а потом прислонила голову к его спине. Винсент слышал, как бьется ее сердце.
На углу набережной они расстались. Канал лежал подернутый туманом. Тенью промелькнула кошка. Джульетта быстро огляделась – не видит ли кто из соседей? – и, не попрощавшись, скользнула за угол. Но только Винсент развернул мотоцикл, пытаясь совладать с бурей в душе, как за спиной послышались легкие шаги. Она вернулась и обняла его за шею. А потом поцеловала – так страстно, что перехватило дыхание. И убежала, прежде чем Винсент успел опомниться.
В отель Винсент летел на всей скорости. Ночь выдалась лунной, в лицо хлестал влажный летний ветер. Винсент забыл надеть летные очки, они так и болтались на шее. В голове царил хаос, Винсента переполняли противоречивые чувства. По сторонам мелькали огни фонарей, глаза застилали слезы.
Глава 10
Когда на следующий день они повстречались на заводе, на ней было огненно-красное платье. Джульетта переводила беседу Винсента и Ренцо Ривольты, который захотел посмотреть, как поведет себя «изетта», оснащенная мотором «БМВ».
Винсент наслаждался мягким акцентом переводчицы, но слов почти не разбирал. Только звуки, в которых было столько невысказанного, имели сейчас для него значение. После поцелуя воздух между ними был словно наэлектризован, и напряжение неумолимо приближалось к критической точке.
Винсент решил по возможности сдерживаться и не давить на девушку. Но она сама дарила ему знаки внимания. Сначала выразительные взгляды, жесты. Потом свежая булочка, которую Винсент обнаружил на приборной панели «изетты». А затем Джульетта во время обеденного перерыва пришила на место оторвавшуюся пуговицу. Ворованные мгновенья, осевшие в памяти моментальными снимками. Винсент и Джульетта возле панели испытательного трека – близко, насколько позволяют правила приличия.
Вот она, косясь на него, перегрызает зубами нитку. А он сидит перед ней в одной майке: лицо загорелое, а плечи и руки от локтей и выше бледные. В кустах за окном стрекочут цикады, и полуденное солнце ласкает ее волосы – сменяющие друг друга в памяти грани остановленного мгновенья.
Оба соблюдали невысказанное соглашение не говорить о главном. Оба понимали, что рано или поздно кто-то его нарушит.
Разговоры крутились вокруг их будущего и моды. И если Винсент уже имел вполне определенные планы на жизнь – он хотел проектировать автомобили, – то Джульетта полагала неправильным загадывать так далеко вперед. Потому что судьбы человеческие в руках Господа.
Винсент возражал: если бы Бог существовал, человек со стопроцентной неизбежностью раскрывал бы божий дар – талант. Он надеялся вселить в Джульетту решимость, мужество следовать ее предназначению. Он спрашивал, почему она не поступит в школу модисток или не устроится работать в ателье. Но какие бы аргументы ни приводил Винсент, возражения Джульетты сводились к обстоятельствам, связанным с ее семьей. Она не может учиться в школе модисток, потому что деньги нужны на оплату жилья. И работать в ателье она не будет, потому что судьбой ей предназначена иная стезя: стать матерью семейства, как и ее мать, бабка и прабабка. Ничего другого ей просто не позволят, даже если в Германии у женщин есть выбор.
– Тоже не у всех, – отвечал Винсент. – Но в Германии все меняется.
– А в Италии, – возражала она, – не меняется ничего, кроме моды.
– Но мы в Милане, а не на Сицилии.
С этим она соглашалась – со знакомым ему смешанным выражением иронии и скепсиса. Как хотелось бы ей, чтобы он был прав, но… ее последний аргумент падал с неумолимостью не подлежащего обжалованию приговора:
– Сицилия – это я.
С каждым днем они сближались все больше. Случайные прикосновения, тайные послания, невысказанные мечты – они жили этим. Каждый день удавалось урвать хотя бы пару минут друг для друга и забыть остальной мир. Они не вспоминали о нечаянном поцелуе летней ночью, не помышляли его повторить. Просто ловили мгновенья счастья, до сих пор для них запретного.
Шли месяцы, родные Джульетты ни о чем не догадывались. Ее помолвка с Энцо стала в свое время ответом на настойчивые уговоры матери. До появления Винсента Джульетта руководствовалась здравым смыслом и убежденностью в достоинствах Энцо. И все же она будто чего-то ждала. И дождалась, предначертанное свершилось. Джульетта была слишком молода, чтобы так запросто похоронить надежды на будущее, а Винсент обрел в ней близкого человека, единственного во всем мире.
Однажды она позвонила в отель и поставила на граммофон пластинку с немецкой песней. И Винсент, стоя перед окном, у тяжелой портьеры, слушал прорывающееся сквозь треск в телефонной трубке: «О, мой папа…»
Уже в который раз Джульетта сказала домашним, что ей нужно купить ткани у синьоры Малерба, а сама отправилась с Винсентом в кино, на вечерний сеанс.
В переполненном зале кинотеатра в Брере темнота надежно оберегала их от посторонних взглядов. В отличие от немцев, итальянские зрители вели себя как активные участники происходящих на экране событий. Они на чем свет стоит проклинали злодеев, предостерегали комиссара полиции от ловушки и выкрикивали восторженные комплименты в адрес экранных красоток. Каждый сеанс превращался в народный праздник. Мужчины курили. Женщины болтали. Дети носились по залу.
Одна Джульетта не отрываясь глядела на экран.
А на экране была Германия. Зеленые альпийские луга, и девушка в дирндле[24], обманутая парнем в клетчатой рубашке. И никаких «сверхчеловеков» в коричневой форме, о которых рассказывала ей мать. Многим ее соотечественникам немецкая речь казалась немузыкальной, почти что лаем. Но Джульетта, изучая этот язык, открыла его особую красоту, точность и выразительность громоздких составных слов, грубоватую сдержанность немецкого нрава.
В детстве на богом забытом острове Салина ей ни разу не доводилось видеть краути[25]. Тем больше будоражили фантазии девочки рассказы взрослых о светловолосых великанах с Севера – восторженные и одновременно пугающие.
– Они подомнут нас всех под себя, – говорили одни.
– Они уйдут, – возражали другие. – Как ушли греки, испанцы и арабы.
Но в любом случае Сицилия всегда останется Сицилией.
И вот война закончилась. Немцы и в самом деле отбыли домой. Некоторые, правда, вернулись, но без оружия и военной формы, – как тот, что сидел рядом с ней. Он оказался совсем не таким, какими Джульетта представляла себе немцев, но и на итальянца походил мало. Девушка нисколько не боялась его. Ей нравились прямота и искренность этого парня, его открытая улыбка и решительность, с какой он смотрел в будущее. И еще она любила его пальцы, сильные и одновременно чуткие, – пальцы инженера.
Винсент почувствовал, как рука Джульетты легла на деревянный подлокотник кресла. И его поразила – нет, не нежность и тепло, а смелость девушки, когда он взял ее ладонь в свою. Так они и просидели, рука в руке, до самого конца сеанса.
Домой вдоль Навильо-Гранде возвращались поздно. Желтые огни дрожали на воде канала. Ночь защищала влюбленных от любопытных взглядов. Джульетта повязала на голову косынку, частично прикрыв лицо. Держа Винсента под локоть, она рассказывала ему о миланских каналах и системе шлюзов, спроектированной, ни больше ни меньше, самим Леонардо да Винчи. В сумерках вырисовывались очертания арочного моста через Навильо.
– Совсем как в Венеции, – заметила Джульетта.
Винсент вспомнил, что оба никогда там не бывали.
– Мы съездим в Венецию на «изетте», – пообещал он. – Если отправимся сейчас, успеем вернуться к утру.
Джульетта коротко рассмеялась – тем смехом, который означал, что она не вполне верит ему. Но идея ей понравилась.
– Я серьезно, – добавил Винсент. – Что нам мешает?
Он ожидал, что она откажется обсуждать это, как бывало всегда, когда речь заходила о будущем более отдаленном, чем завтрашний день. Но на этот раз Джульетта остановилась и заглянула Винсенту в глаза:
– Поедем в Венецию!
Винсент понял, что настал момент сказать то, о чем он больше не мог умалчивать.
– Мне пора возвращаться. Моя работа в Италии заканчивается.
– Когда?
– Завтра.
Обеденный перерыв последнего дня командировки – вот все, что оставалось в их распоряжении. Новая модель «изетты», погруженная в фургон «альфа-ромео», ждала отправки на север. Сегодня Винсент снимет со стен чертежи, упакует их и отнесет на почту, доведет до ума протоколы технических испытаний и простится с итальянскими коллегами.
Этот завод стал для него родным. Итальянцы тоже с некоторых пор считали его своим человеком. Ведь это Винсенту предстояло доставить их детище «изетту» в Германию. В обеденный перерыв в столовой они готовили Винсенту сюрприз, но «немец», как назло, куда-то пропал.
Его мотоцикл ждал возле скромного отеля в центре города. Окна в тесном номере с обоями в цветочек на втором этаже были закрыты ставнями, но уличный шум проникал сквозь них и тонкие стекла. Винсент повернулся к Джульетте. Та стояла неподвижно и смотрела на него. Они обнялись, как будто были мужем и женой всю жизнь. Один-единственный раз, в это украденное у судьбы мгновенье, в обеденный перерыв. Уже вечером того же дня Винсент пересекал Альпы в обратном направлении, а Джульетта накрывала ужин для семьи.
Глава 11
На перевале Бреннер хлестал ливень.
Ее теплые поцелуи оставили на теле Винсента невидимый след. Обернутый вокруг шеи красный шарф хранил ее аромат. Джульетта связала его специально для Винсента. Принимая подарок, он поклялся себе забрать ее в Германию.
Дома дела обстояли прекрасно. Это был один из тех моментов, когда колесики и шестеренки, которыми приводится в движение сложный механизм жизни, работали как никогда слаженно. Главный инженер похвалил Винсента за отличную работу. Руководство компании «БМВ» выехало в Милан для подписания лицензионного соглашения с Ренцо Ривольтой. «Изетте» на мюнхенском заводе отвели отдельный цех, а Винсент получил первое в жизни повышение.
Каждый день они с Джульеттой разговаривали по телефону, и Винсент слышал, как время от времени на другом конце провода падали в автомат металлические жетоны. Телефонный аппарат находился в маленьком баре возле трамвайной остановки у заводских ворот. Именно там Джульетта впервые услышала это длинное немецкое слово, звучавшее как обещание. Wirtschaftswunder[26].
Винсент читал ей вслух объявления в газетах: «Требуется швея», «Ищем модельеров одежды», «Текстильная фабрика набирает сотрудников». Он хотел не просто забрать Джульетту в Германию, но и предоставить ей возможности, которых она лишена на родине. И Джульетта с каждым днем все больше верила в его сумасшедший план. Германия стала для нее чем-то вроде Америки, о которой в детстве рассказывали бабушка с дедушкой.
Джульетта вспоминала тесную кухоньку в их доме на острове. Ветер стучал в деревянные ставни, а они с Джованни слушали бабушкины сказки про страну по ту сторону океана. Страну, куда огромные пароходы доставляют бедных мигрантов, где тыквы вырастают в человеческий рост, а дома упираются крышами в самое небо. Всего, чего здесь им так не хватает, там в избытке. Америка – это слово звучало как заклинание. Теперь же появилось новое: Wirtschaftswunder.
Винсент снял квартиру в новостройке неподалеку от завода «БМВ». Три комнаты, кухня, ванная – практично и современно, хотя, возможно, и многовато по его скромным запросам. До сих пор он снимал только комнаты. Сразу после войны – чердачную каморку, а потом несостоявшуюся детскую в квартире супругов Гримм.
В деревнях, случалось, крестьяне встречали беженцев вилами. Но в Мюнхене многие давали таким, как Винсент, крышу над головой. И это несмотря на то, что полгорода лежало в руинах.
Бездетные Гриммы обращались с Винсентом, как с сыном. Когда пришло время прощаться, хозяева не удержались от слез. Фрау Гримм собрала для него пирог, кровяную колбасу и мягкий сыр. Все его вещи уместились в двух потрепанных чемоданах да паре коробок.
Свалив посреди новой квартиры нехитрый скарб, Винсент принялся прикидывать обстановку. Там – стол, здесь – супружеская кровать… детская. Первую ночь он спал на полу. Мебели в квартире почти не имелось, зато был телефон. Голос эхом отдавался от голых стен, когда Винсент разговаривал с Джульеттой. Он в деталях описал новое жилье, а потом они обсуждали, как долго придется копить на бытовую технику: стиральную машину, пылесос.
Воодушевленный перспективами Винсент упускал из виду, каково придется Джульетте. Чего будет стоить ей признание матери, не говоря об Энцо. Она откладывала тяжелый разговор – и чем дальше, тем больше росла ее неуверенность.
До сих пор мать не сомневалась, что Джульетта пойдет под венец девственницей, и только Энцо знал, что это не так. Джульетта тянула, выискивая все новые предлоги для отсрочки. Винсент давил, настаивал – сколько можно лгать? «Лучше кошмарный конец, чем кошмар без конца», – говорил он. Джульетта боролась с собой. Она запятнала честь семьи, переспав с Винсентом. Но тем самым она дала Энцо законные основания ее отвергнуть. Себе – свободу, ему – возможность сохранить лицо.
Но последствия ее пугали. Мать, конечно, ее проклянет, да и Энцо не отпустит так просто к другому. Джульетта промучилась без сна несколько ночей, пока не пришла к решению вообще никому ничего не говорить. Просто собрать чемодан и уйти. Сжечь за собой мосты.
Единственным, кому она могла довериться, был Джованни. Неизменный наперсник и преданный друг, он должен был понять ее, потому что желал ей только счастья. Но когда Винсент спросил Джульетту по телефону, как Джованни воспринял ее признание, она долго молчала, а потом разрыдалась.
– Все так сложно… Но он меня поддерживает.
Последнее, как показалось Винсенту, прозвучало не слишком уверенно. Было ли это правдой? Ведь Джованни наверняка не хотел расставаться с сестрой. Винсент давно понял, что с братом-близнецом у Джульетты доверительные отношения.
– Джованни сказал, что это моя жизнь. Решать мне.
– Когда ты приедешь?
– Скоро, любовь моя.
Винсент испугался, что Джованни переубедит сестру. Энцо имел меньшее влияние на Джульетту, чем брат и тем более мать, чей авторитет в сицилийской семье незыблем. Винсент волновался, спрашивал, действительно ли Джульетта хочет соединить с ним свою жизнь. «Разумеется, – отвечала девушка. – Как ты можешь в этом сомневаться?»
Он – ее судьба. Джульетта ходила к гадалке – а их в Милане множество, – и та подтвердила, что Винсент – главная любовь ее жизни.
Винсент не верил гадалкам, но даже он понимал, что их встреча неслучайна. Что за всем этим стоит некое предопределение, которое Джульетта называла судьбой.
Слышать ее голос и не иметь возможности к ней прикоснуться – есть ли мука невыносимей? Тело едва ли не взрывалось от желания. В конце концов Винсент решил отправиться в Милан. Поездом, чтобы вернуться уже с багажом. Машиной он пока не обзавелся. Изучил расписание, купил билеты: ей в один конец, себе – в оба.
У Джульетты два дня ушло на получение заграничного паспорта. В субботу, в 19:22 поезд Винсента прибывал на Центральный вокзал. Джульетта должна была ждать на перроне, с чемоданами. Молодые люди рассчитывали сесть в вагон раньше, чем ее семья успеет понять, что к чему.
На перевале Бреннер лежал снег. Был холодный ноябрьский день. Солнце уже зашло, когда Винсент вышел на платформу Центрального вокзала. Вид кипящего жизнью большого города придал ему сил. Если Мюнхен встречал прибывающих гарью угольных печей, то Милан будто пропитался запахами позднего лета. А они в сознании Винсента были навсегда связаны с Джульеттой.
Огромный вокзал так и кишел народом. Люди спешили к пригородным электричкам. Винсент двинулся вдоль путей, высматривая в толпе Джульетту. Дошел до конца и огляделся. Огромное светлое здание вокзала просматривалось насквозь, но Джульетты видно не было.
Что-то явно пошло не так. Винсент ждал до половины девятого. Ноги в новых ботинках с тонкой подошвой заледенели. Винсент купил обувь за день до отъезда, не желая предстать перед любимой в растоптанных сапогах.
Она не пришла. Ночной поезд до Монако-ди-Бавьера – так итальянцы называли Мюнхен – отправился строго по расписанию. Винсент прошелся по вагонам и пробежал вдоль поезда снаружи в обратном направлении. Все напрасно. Когда красные огоньки последнего вагона поглотила ночь, отчаяние холодной рукой сжало его сердце.
Винсент взял такси до Навильо-Гранде. Старый канал лежал окутанный густым туманом. Мостовая перед тратторией, где летом стояли столики, пустовала. Люди сидели внутри, за запотевшими стеклами. Под ногами шуршала бурая листва. И мальчишки в этот час не играли с мячом на улице. Мир Джульетты был объят сном.
Дверь в подъезд оказалась незаперта. Джульетта жила на втором этаже, Винсент помнил это с тех пор, как впервые проводил ее до дома. Он поднялся по разбитой лестнице с холодными металлическими перилами. На лестничной площадке было темно. Ближайшая целая лампочка горела на четвертом этаже. В ее тусклом свете Винсент разглядел табличку на двери: «Маркони». Фамилия как у изобретателя телеграфа.
Винсент задумался. Что скажет он матери Джульетты, Джованни или Энцо, если дверь откроет кто-то из них? Во-первых, они его не поймут. Вероятность же того, что дверь откроет Джульетта, всего один к четырем. И это при условии, что она вообще дома. Возможно, что-то произошло с ней по дороге на вокзал. Что, если семья уже знает о ее бегстве? Или же Джульетта передумала в последний момент? Или они ее поймали? В таком случае ей нужна помощь, но звонить в дверь нельзя.
С другой стороны, Винсент хотел раз и навсегда покончить с ложью. Правда рано или поздно откроется, семье придется примириться с зятем-иностранцем. Палец завис над звонком сбоку от двери, но нетерпение победило, и Винсент нажал кнопку.
Ничего не произошло, звонок оказался сломан. Винсент постучал – получилось громче, чем ему хотелось. Открыл Джованни, и Винсент воспринял это как удачу, ведь брат Джульетты был посвящен в их планы. Но Джованни, похоже, не особенно обрадовался гостю. И лишь когда мать спросила его, кто пришел, и испуганная Джульетта выбежала из комнаты, Джованни вышел из оцепенения и вежливо поздоровался.
Взволнованная Джульетта что-то быстро сказала брату. Винсент не понял ни слова. В прихожую вышел Энцо, и девушка замолчала, умоляюще глядя на Винсента. Энцо недоверчиво смотрел на гостя. Винсенту всегда было не по себе под его тяжелым взглядом, но сегодня жених Джульетты смотрел мрачней обычного.
– Ты помнишь синьора Попометра? – весело спросил Джованни. – Он отвез в Германию нашу «изетту»!
Энцо кивнул и приветствовал гостя крепким рукопожатием.
– Добрый вечер, синьор Шлевиц, – по-итальянски поздоровалась Джульетта.
Что произошло? Винсент пытался прочитать ответ в ее глазах, но Джульетта старательно не смотрела на него. Она изменилась, стала другой. Винсент не мог понять, что именно не так. Скромное домашнее платье, черные волосы собраны на затылке; Джульетта выглядела бледней, чем летом, но что тут удивительного. И все же что-то его смущало.
Семья ужинала, когда Винсент постучал в дверь. Мать Джульетты пригласила гостя к столу. Синьора Маркони была в доме главной, это Винсент понял сразу. Этой решительной женщине в простом платье в клетку подчинялись даже мужчины. У Кончетты были пронзительные глаза, рано состарившееся лицо несло отпечаток тяжелой крестьянской жизни. На шее на серебряной цепочке висел крест.
В целом обстановка квартиры напомнила Винсенту родительский дом в Силезии. Скатерть в красно-белую клетку, массивный буфет рядом с обеденным столом, голая лампочка, распятие в углу. На тесной кухоньке эмалированная газовая плита, запах сырой штукатурки, лука и бедности. Чисто и тепло – и на всем налет какой-то меланхолической мрачности, быть может, тени прошлого.
Винсент сел рядом с Джованни, напротив Джульетты, чувствовал он себя неловко. Синьора Маркони положила ему спагетти – таких длинных ему еще не доводилось есть.
– Sono i buoni rigatoni alle acciughe! – затараторила хозяйка. – Da noi, non si mangia la cucina milanese! Loro mangiano il riso. Noi no! Almeno una volta la settimana mangiamo il pesce. Siamo gente di mare![27]
Джульетта не переводила. Молча смотрела в тарелку.
– Come va la Isetta in Germania?[28] – спросил Джованни, ковыряя вилкой ригатони с рыбой и каперсами.
Винсент разобрал только «изетта».
– Isetta va bene[29].
– Ti piace la pasta? È buona?[30]
Паста – так они называют макароны.
– Sì, è buona[31].
Но все было вовсе не хорошо. Пока Джованни разыгрывал клоуна, Энцо молча жевал, время от времени подливая вина в бокал Винсента, – вежливо, но без суетливости. Джульетта нервничала. Винсент ждал любого ответа – взгляда, жеста, намека. Но она замкнулась в себе. Или же – того хуже – отчаянно сдерживала, душила что-то, прорывавшееся наружу. Ее отсутствующий взгляд пугал Винсента. Он видел, что в сердце Джульетты бушует буря. Стыд – вот что мешало ей поднять глаза.
Мать хотела подложить ей пасты, но Джульетта отрицательно качнула ладонью. И тут разгорелся спор по поводу того, что она мало ест.
– Теперь она должна есть за двоих, – с грехом пополам перевел Джованни. – Это же для bambino, маленького Маркони!
У Винсента упало сердце. И тут Джованни жестами объяснил ему, что у Энцо и Джульетты скоро свадьба, – показал, будто надевает кольцо на палец. Будущие молодожены уже ждут ребенка.
Голова закружилась, но Винсент держался.
– Ты беременна? – спросил он Джульетту по-немецки.
Она кивнула. Он почувствовал на себе взгляд Энцо, но, когда поднял на него глаза, тот улыбался и что-то говорил невесте, держа ее за руку. Позже Винсент не понимал, что помогло ему сохранить самообладание в тот момент. Какая сила словно спасительным ударом вдруг притупила боль?
Оглушенный, он сидел в уютной, затхлой квартирке, в компании приветливых, радостных итальянцев. Только с Джульеттой что-то по-прежнему было не так. Она с трудом сдерживала слезы. Джованни попросил синьору Маркони добавить Винсенту ригатони, но тот отказался. Собрав последние силы, извинился, поблагодарил за еду и направился к выходу.
Где-то за спиной синьора Маркони велела сыну проводить dottore[32] Шлевица. Не замолкая ни на секунду, Джованни помог Винсенту надеть пальто. Винсент вышел на лестничную площадку, даже не оглянувшись на Джульетту.
Джованни провожал его до трамвайной остановки. Он говорил и говорил, нимало не заботясь о том, понимает ли его dottore. Винсент злился на этого шута и ничего не мог с собой поделать. Он похлопал Джованни по руке, когда тот хотел взять у него чемодан. Тем самым Винсент просил оставить его одного. Он должен был понять, что же такое произошло.
Почему она ничего ему не сказала? И каким же глупцом нужно было быть, чтобы верить, что между ней и Энцо и в самом деле ничего нет! С другой стороны, откуда такая уверенность, что ребенок от Энцо? Винсент снова и снова представлял себе Центральный вокзал и то, как они с Джульеттой вместе вносят чемоданы в поезд. Словно какая-то его часть пребывала в другом, параллельном мире, где события развивались совершенно иначе.
Винсент остановился посреди улицы. Влажный ночной воздух приятно холодил разгоряченное лицо. Джованни похлопал его по плечу, предложил сигарету. «Выше голову! – говорил его понимающий взгляд. – Тут уже ничего не поделаешь». Винсенту вдруг показалось, что в глазах Джованни мелькнуло сочувствие, но в следующий момент словно закрылась дверь и взгляд итальянца снова сделался беззаботно-непроницаемым.
Винсент не слышал его шуток. Из размышлений его вырвал подъехавший трамвай.
В ярко освещенном вагоне почти все скамьи были пусты, только в самом конце сидел кондуктор. Винсент протянул ему пару мятых лир. Трамвай тронулся, Винсент смотрел в заднее окно, за которым в мокрых сумерках исчезал мир Джульетты.
Джованни пошел домой. На воде канала дрожали желтые огни фонарей. В одном из окон второго этажа мелькнула и скрылась женская фигура. Джульетта? Этого Винсент так и не узнал. Равно как и того, что всю ту ночь она проплакала в подушку.
Глава 12
Успех «изетты» в Германии превзошел все ожидания. Эмигрантка из Италии стала символом немецкого экономического чуда. Каждая семья получила шанс обзавестись собственным автомобилем. Дети полюбили «букашку» за забавный внешний вид, матери семейств – за практичность, отцы – за экономичность. Так или иначе, «изетта» вытащила «БМВ» из кризиса.
И когда первые немецкие семьи перевалили через Альпы на новых мини-автомобилях, Винсент получил повышение. Ему выделили отдельный кабинет в отделе развития производства и секретаршу – рослую блондинку из Гамбурга, миловидную и незамужнюю. Винсент не оценил ее прелестей. Вечерами, один в пустой квартире, он отрешенно смотрел на голые деревья за окном. А утром с головой погружался в работу, чтобы забыться.
Шестьдесят лет – целая жизнь, но Винсент помнил все до мельчайших подробностей. Время будто обнажало в тех давних событиях все новые и новые детали.
– И откуда ты узнал, что это был твой ребенок?
Мы уже были на «ты». История Винсента стала моей. Меня знобило. Яркое весеннее солнце померкло и скрылось за голыми деревьями на берегу Изара. В домах загорались окна, официанты разворачивали шатры для тепла. В апреле весна еще не столь сильна, чтобы разогнать зимний холод.
Винсент долго задумчиво смотрел на меня.
– Правду я узнал позже.
– Есть доказательства? Тест ДНК?
– Нет, другое… долгая история. – Он посмотрел на пустую кофейную чашку.
– И Джульетта больше не объявлялась?
– На следующий день она позвонила мне на работу. Чувствовала себя бесконечно виноватой, пыталась все объяснить… Но я не хотел объяснений. Мне всего лишь нужно было знать, чей это ребенок.
– И?..
– И она сказала, что не мой. Якобы женщина чувствует такие вещи… – Горькая складка в уголке рта говорила об обратном. – Я спросил, как она собирается жить с человеком, которого не любит. И она ответила, что о любви здесь речи нет. Это вопрос чести.
– Чего? – не поняла я.
– Семейной чести. – Он закусил губу. – Ребенок – знак судьбы, указывающий, что она принадлежит Энцо.
– Но ведь у нее… у вас могли быть дети и в Германии?
Я все еще ничего не понимала.
– В таких вопросах люди редко руководствуются логикой. Джульетта боялась, семья была ей защитой. Германия далеко. Что, если у нее там не сложится? У нас ведь ничего не было, кроме чувств. Любовь – это мечта. Семья – реальность.
– И она была счастлива с Энцо?
Он молчал.
– Ты когда-нибудь встречался с ней после этого?
Винсент посмотрел на меня и кивнул.
– Когда?
Он задумчиво улыбнулся и отвел взгляд.
– История долгая, как я уже сказал. Это только начало.
Он устал. Я же, напротив, только вошла во вкус. То и дело посматривала на фотографию Джульетты. Как бы выглядела эта женщина десять, двадцать лет спустя? И почему она отказала мужчине, которого любила? Теперь Джульетта казалась мне чужой, несмотря на наше внешнее сходство. Винсент молчал, потом сказал, будто прочитав мои мысли:
– Думаю, она не вполне верила, что имеет право на счастье.
После этих слов во мне словно зародилось понимание.
– Отвезти тебя домой? – спросил Винсент.
– В этом нет необходимости, – ответила я. – Это недалеко.
Я не хотела, чтобы он увидел квартиру, в которой меня никто не ждал. По сути, мое жилище было просто местом для сна. Жила я в ателье. Но меньше всего мне хотелось, чтобы Винсента увидели Робин или мои коллеги. Дурацкие расспросы – последнее, что мне требовалось.
– Я прошу тебя.
Голос почти умоляющий – и я не стала возражать.
Винсент достал серебристый ключ и открыл дверцу со стороны переднего пассажирского сиденья. Машина пахла другой эпохой, старым материнским «рено» моего детства. Металлические части бордовых сидений подернуты патиной, кожаные подушки скрипят. Я плохо разбиралась в автомобилях, но чутье на хорошие вещи у меня имелось. А каждая мелочь в этом салоне была высочайшей пробы. Приборная панель – настоящее произведение искусства в стиле шестидесятых, с хромированными переключателями, тумблерами и основой из благородного дерева. Aqua, Olio, Benzina[33] – неброские подписи под шкалами. Винсент сел рядом и надел перчатки.
– Это «ИЗО-ривольта», – объяснил он. – Той же компании, что и «изетта». Названа в честь графа. – Он показал на логотип в центре большого рулевого колеса: серебряный грифон на черном бакелите: – Фамильный герб.
– Ни разу такого не видела, – призналась я.
– Их было выпущено семьсот девяносто два экземпляра. Сохранились единицы.
Он повернул ключ. Мотор глухо заурчал.
– Она сидела там, где ты сейчас. – Взгляд Винсента снова был непроницаем. – Я никогда не смогу продать эту машину.
Мы тронулись с места.
– Твой отец тоже водил ее, – как бы между прочим заметил он и вздохнул.
– Именно эту? – спросила я. – Или такой же модели?
– Именно эту. И твоя мать сидела там, где ты.
Он кивнул в мою сторону. Я оказалась не готова к такому повороту. Одно дело – слушать историю, другое – сидеть на том самом месте, где когда-то сидела твоя мать, трогать вещи, которых касались руки твоих родителей. Почему она никогда не рассказывала мне об этом?
– Когда это было? – спросила я.
– Где ты живешь? – последовало вместо ответа.
Я попросила остановить на углу, достаточно далеко от ателье, чтобы никто из коллег не смог меня заметить. Открыла дверцу. Теперь – исчезнуть, и как можно скорее. Прощанья я бы точно не вынесла.
Винсент не хотел отпускать меня. Похоже, он все еще видел во мне свою Джульетту.
– Юлия… – Он запнулся.
– Я обязательно объявлюсь, и ты расскажешь мне, чем все кончилось.
Вместо ответа он открыл бардачок и вытащил конверт:
– У меня к тебе просьба…
Я повертела конверт в руках, он был запечатан. Вместо адреса стояло одно-единственное слово, выведенное от руки красивым, каллиграфическим почерком: «Винченцо». Прочитав это имя, я тут же захотела положить конверт на место, он жег мне руки, словно был пропитан ядом. Винсент заметил мое замешательство.
– Винченцо должен прочитать это. Речь там о Джульетте, – почти шепотом пояснил он.
– Но… откуда мне знать, жив ли этот Винченцо вообще?
Винсент не собирался принимать у меня конверт.
– Я знаю это от Джованни, брата Джульетты. У него магазин деликатесов на Центральном рынке.
– Здесь, в Мюнхене? – Я не поверила своим ушам. – Брат-близнец Джульетты?
– Да. Я навестил его. Джованни сказал, что Винченцо живет в Италии, но адреса не дал.
– Почему?
– В их семье я персона нон грата.
Это после стольких-то лет… Я ничего не понимала.
– Твой отец ненавидит меня.
– То есть он знает, что ты его отец?
Винсент кивнул. Он явно что-то недоговаривал.
– Там, – он показал на конверт, – правда.
– Правда о чем?
– Со смертью Джульетты жизнь Винченцо полетела под откос, и…
– Это ты виноват в ее смерти?
Он затряс головой.
– Я любил ее больше жизни, Юлия… У меня к тебе одна-единственная просьба… Уверен, что в этой семье будут рады тебя видеть.
– Откуда такая уверенность? Мы с ним почти не знакомы. Он мой биологический родитель, и только.
– Если ты придешь к Джованни и попросишь… они не откажут тебе… ты дочь.
– Но этот Джованни столько лет прожил здесь, за углом, и ни разу мной не поинтересовался.
Винсент молчал, вглядываясь в вечерние сумерки.
– Я не имею права настаивать, но… не пойми превратно. Я специально приехал в Милан, чтобы увидеть тебя. И Винченцо… Я надеюсь уладить это дело, пока есть время… Видишь ли, никому не хочется оставлять после себя в этом мире кучу мусора.
– Разве это не он оставил после себя кучу мусора?
Я положила письмо на приборную панель. Чего я не выношу, так это давления, пусть даже это очень важно для Винсента.
– Как хочешь, – сказал он.
– Мне жаль, – ответила я и протянула ему руку: – Спасибо за рассказ. Надеюсь, еще увидимся.
Он разочарованно кивнул и даже попробовал улыбнуться. Но расставание получилось грустным. Меня мучила совесть. Не выдержав, я вернулась и взяла письмо:
– Я подумаю.
Винсент посмотрел на меня с благодарностью. Переходя улицу, я чувствовала на себе его взгляд – обращенный не ко мне, а к женщине, давным-давно покинувшей этот мир.
В ателье, по счастью, никого не оказалось. Я включила свет, приготовила кофе и села за эскизы. Сообщения в мобильнике от Робина я прочитала, материнские проигнорировала. Взяла карандаш. Я понятия не имела, как будет выглядеть следующая коллекция. Наши с Робином идеи на этот счет мне разонравились.
Что-то изменилось во мне за последние несколько дней. Если бы и в жизни все было так просто – отринуть старое, разорвать в клочки, начать с чистого листа. Но жизнь состоит из тысячи листков, сложенных стопкой. Все они – единая книга, и ни один нельзя удалить просто так. Пусть некоторые читать неприятно, но добравшийся до конца стопки может быть вознагражден сверх ожиданий.
До Центрального рынка было меньше двух километров. Небольшая прогулка помогла бы мне подготовиться. Я спрашивала себя, находился ли мой отец в Мюнхене, у дяди, когда я бегала в школу, буквально в двух шагах от него?
Зарядил дождь, и я распахнула окно. Зажмурилась, вдохнув свежий ночной воздух. Мне представилось лицо Джульетты. Она будто хотела что-то сказать, но исчезла, когда я открыла глаза. Остался темный двор и струи дождя на стекле. Я вернулась к столу и задумалась, как выглядели платья, которые Джульетта себе шила. Что она изобразила бы, окажись на моем месте? Если Джульетта умерла незадолго до моего рождения, на тот момент ей было всего-то около сорока. Что же произошло? И что ее смерть сделала с Винченцо? Не с ней ли связано его внезапное исчезновение?
Наконец, почему я так противлюсь встрече с ним, хотя есть и возможность, и повод?
Я просто испугалась. Оказалось, что иметь мертвого отца проще, чем живого.
Глава 13
В дверь позвонили. Я вздрогнула: почудилось, что это Джульетта явилась с визитом. Или Винсент? Я открыла, на пороге стояла мать – промокшая, с переноской в руке.
– Юлия… мне страшно жаль…
Я стояла в дверях, не давая ей войти.
– Нам нужно поговорить. Прошу тебя, я все объясню. Только дай мне шанс.
– Не нужно. Я уже все знаю.
– У меня кое-что есть для тебя. От твоего отца.
Отец. Когда в последний раз она произносила это слово? И я не помнила, чтобы мать когда-нибудь так на меня смотрела. Умоляюще. Испуганно. Она явно чего-то стыдилась.
Я не могла держать ее под дождем, да и кот нервничал.
Таня молча стояла возле письменного стола, пока я открывала банку кошачьих консервов. Я даже не предложила ей сесть.
– С моей стороны было ошибкой обманывать тебя.
– Чего ты от меня хочешь?
Она мяла в руках сумочку.
– Видишь ли, в жизни бывает, что одна ошибка влечет за собой другую, а та, в свою очередь, следующую и так далее. И тогда поневоле задаешься вопросом: с чего все началось?
– У тебя не было права лишать меня отца.
– Но он бросил нас, Юлия. Если отца нет, то его нет. Я не хотела понапрасну морочить тебе голову.
– И в результате заморочила еще больше.
– Он умер для тебя, понимаешь? Для себя я давно его похоронила, чтобы идти дальше.
– У тебя это получилось – тебе он не отец.
Я поставила миску перед котом.
– Не стоит переоценивать значение кровного родства. Настоящие родственники – те, кого мы выбираем себе сами.
– Нет. – Я посмотрела ей в глаза. – Семья – единственное, чего нам выбирать не дано.
– Но, Юлия, ты так не похожа на Винченцо. Он ничего не добился в жизни, конченый неудачник. А ты так многого достигла… Что у тебя с ним может быть общего?
Тут я подумала о наших долгах и о том, как непрочно благополучие. От успеха до падения в пропасть один неверный шаг, это дело случая. «Никогда не смотри вниз, только вперед», – так говорила мне мать на американских горках.
– И ты сожгла за собой мосты, да?
– Так было нужно. Мы должны были освободиться от этого, Юлия, ради тебя… И я никогда не мешала тебе идти своим путем.
Что правда, то правда. Здесь ей нужно отдать должное. Вот только в личной жизни мать стала для меня плохим примером.
Она достала из сумочки фотографию и протянула мне:
– Вот что я нашла. Помнишь ее?
Это был наш с отцом единственный снимок. Мать сняла нас вместе в тот день, когда мы виделись в первый и последний раз. Мне лет пять, а он только вышел из тюрьмы – о чем мать, конечно же, сказала мне много позже. А тогда я думала, что папа приехал «из Италии». Так она меня научила. Когда девочки в детском саду спрашивали, где мой папа, я отвечала, что в Италии, и тема была исчерпана. Италия – прекрасная страна, где много моря, солнца и пиццы. Это же здорово – иметь папу в Италии, пусть даже и неведомого! Итальянские папы ведь время от времени возвращаются.
И какой простор для детской фантазии! Я до сих пор помню тот день, когда мама пришла за мной в садик не одна. С ней был высокий мужчина с черными вьющимися волосами и в короткой кожаной куртке – мой отец. На зернистом, выцветшем снимке я сижу у него на плечах, запустив пальцы в его черные кудри. Счастливая, ни о чем не подозревающая пятилетняя малышка. Глаза у отца блестят, он весь такой подтянутый, спортивный. Харизматичный мужчина – возможно, чересчур серьезный для своих лет, но, безусловно, обаятельный. И как он смотрит в камеру! Сразу понятно, что фотограф – женщина. Отец одет по моде семидесятых: клетчатая рубаха с отложным воротником, кожаная куртка, клеши, короткие кожаные сапоги. На обратной стороне дата: 11 июля 1982 года. Если это действительно сын Винсента, рожденный в 1955 году, то здесь ему двадцать семь лет. И у него уже пятилетняя дочь!
Я не узнаю себя в этой пухленькой девочке на плечах незнакомого мужчины. Что осталось от того маленького существа, невинного и ничего не смыслящего в жизни? Когда сегодня я пытаюсь представить себе тот день в Олимпийском парке, то не могу отделить действительность от фантазий. Я не доверяю памяти. Прошлое ушло безвозвратно. Память о нем – работа нашего воображения, замешенного на эмоциях. А последние – самая ненадежная субстанция.
Возможно, этот день был совсем не таким и я все придумала, чтобы обрести хоть какую-то опору в прошлом. Но я хорошо помню его крепкие, жилистые руки и то, как высоко он поднимал меня. Я смеялась, запустив пальцы в его кудри. У отца были необыкновенно густые, упругие волосы – совсем не такие, как у матери. Помню, как визжала, когда он подкинул меня в воздух. Я кричала от радости, а он поймал меня и снова подкинул. Целовал, смеялся. Кружил, да так, что слетела туфелька. Мать никогда не делала ничего подобного. Я летала в невесомости, и все вокруг – прозрачное небо, воздух, тепло – было одно нескончаемое лето.
Отец подарил мне гоночный автомобиль из красного лакированного дерева. Помню, как стучало жесткое сиденье, когда я съезжала с горки. Должно быть, у меня остались синяки на мягком месте. Он бежал рядом и держал меня за руку, а внизу ждала мама, готовая поймать меня. Я запомнила, как сияли его глаза, сколько в них было любви. Единственное, чего я тогда хотела, – чтобы этот день никогда не кончался.
Потом были крики и кровь на полу, и я постаралась вычеркнуть это из памяти. В тот счастливейший и ужасный день я видела отца в последний раз. Он исчез вечером, навсегда. Вернулся в свою «Италию». Но, исчезнув из действительности, он прочно обосновался в моих фантазиях. А в этом мире отсутствующие реальней присутствующих. Часто именно их мы считаем важной частью своей жизни, ее невидимой стороной, той, что открывается в снах. Он приходил ко мне в образах. Сколько раз я пыталась представить себе дом, где живет отец. Я так замучила мать вопросами, что она в конце концов сказала мне, что он умер.
– Но то, что ты рассказывала мне про тот день, правда?
Я больше ей не верила.
– Да. Правда. Все.
Отец «разбушевался», так объяснила она мне позже, когда я выросла.
– Он избил меня на твоих глазах. Его не было пять лет. Увидел моего парня и обезумел от ярости.
Я помнила, как пришли полицейские и папа снова отбыл «за границу».
– Он всегда был таким? Вы ведь когда-то любили друг друга, расскажи.
– Он притягивал, но при этом… он был навроде бомбы замедленного действия.
– Что с ним случилось?
– Это было сложное время, Юлия… Тогда мы делали такие вещи, которые сегодня…
– Ты имеешь в виду терроризм?
– Мы вовсе не были РАФ[34], но и далеко не голуби мира…
Таня не любила распространяться на эту тему. Зато у меня сохранились фотографии ее молодости, где она – дерзкая бунтарка с сигаретой во рту, в черном пуловере с высоким воротом и в джинсах раструбами.
В голову невольно приходили мысли о Патти Смит – женщине, которую обычно представляют в черно-белом цвете, как Дженис Джоплин прочно ассоциируется с пестрым цветочным орнаментом.
– Это поэтому он угодил в тюрьму?
Она кивнула.
– Он убил кого-нибудь?
Таня покачала головой.
– А о его матери ты что-нибудь знаешь?
– Это была щекотливая тема. Одно неосторожное слово – и он взрывался.
– Ее не было в живых, когда вы познакомились?
– Да.
– Когда это случилось?
– В семьдесят четвертом.
Я быстро подсчитала: Джульетте не было и сорока.
– Как она умерла?
Этот вопрос Таня оставила без ответа.
– Кто тот человек, что приходил к тебе? – спросила она вместо этого.
– Его отец. Так он говорит, по крайней мере.
– Отца он ненавидел.
– За что?
– Об этом лучше не спрашивай. Персона нон грата.
– Но почему?
– Он… Ах, Юлия, неужели я должна снова копаться во всем этом?
– За что мой отец ненавидел Винсента?
– Из-за матери. Якобы… возможно, это его домыслы, не более… но… Винченцо считал Винсента виноватым в ее смерти.
– Что?
– Тому нет никаких доказательств. Сама я в это никогда не верила.
– Но почему ты раньше не говорила со мной об этом?
Я была вне себя.
– Юлия, это случилось задолго до твоего рождения, так ли для тебя это важно?
– Каким образом Винсент мог быть виновен в смерти Джульетты?
– Я не знаю, Юлия. Это не более чем слухи, об этом было не принято расспрашивать. Абсолютное табу. Стоило мне при Винченцо заговорить о его родителях, как он впадал в ярость. Терял рассудок в буквальном смысле слова.
Я закрыла глаза. Пазл не складывался. Нескольких фрагментов явно недоставало.
– Его отца звали Энцо?
– Да. Это он на тебя вышел?
– Нет, немец.
Тут мать совершенно растерялась.
– Чего он от тебя хотел?
– Чтобы я съездила к Винченцо.
Таня пришла в ужас.
– Юлия, если он немец, он не может быть его отцом!
Я не нашла в себе сил пересказывать нашу беседу с Винсентом. С другой стороны, если рассуждать здраво, спустя столько лет уже не различить, где фантазии, а где реальность. Особенно когда речь идет о первой любви. Пусть даже вся история сущая правда, но это не доказывает, что Винсент – отец Винченцо. И если мое сходство с Джульеттой достаточно красноречиво свидетельствует, что она моя бабка, дедом вполне мог быть Энцо, гастарбайтер из Сицилии.
Внезапно я вспомнила кое-что еще.
– Скажи, приходилось ли тебе ездить на автомобиле серебряного цвета с красными сиденьями? Таком шикарном, в стиле шестидесятых…
Мать удивленно посмотрела на меня:
– Откуда ты знаешь?
– Я видела эту машину. Она принадлежит Винсенту.
– Это была машина Винченцо, он очень любил ее.
– Ты сидела в ней? Когда?
– Еще до твоего рождения… За девять месяцев до того, если быть точной. Это было в Италии, на парковке у моря…
– В Италии?
Она кивнула. Я ничего не понимала.
– Ты поедешь к нему? – холодно спросила Таня.
– Пока не знаю.
– Я боюсь за тебя. И это единственная причина моего молчания. Я берегла тебя, Юлия. История в высшей степени темная. Я не хотела, чтобы ты рылась во всем этом, тем более с целью восстановить справедливость. Но теперь ты взрослая, и я не встану у тебя на дороге. Делай что хочешь.
Таня ушла, оставив меня наедине с фотографией. Подарить ее мне – великодушный жест. Когда мне было восемь лет, я выкрала этот снимок из ящика ее письменного стола. После того как мое Большое итальянское путешествие столь бесславно завершилось на мюнхенском Центральном вокзале, я спрятала снимок у себя под кроватью. Таня никогда не спрашивала о нем, потому что, по негласным правилам нашей с ней игры, этого снимка не существовало. «Он» не имел имени, и мы в «нем» не нуждались. Более того, «он» умер.
Однажды мое сокровище пропало. Должно быть, Таня стащила у меня его, как я у нее когда-то. Но я, как и она, не решалась об этом спрашивать.
После Винченцо у матери было много мужчин. С одними она жила, другие оставались у нас на одну ночь. Были среди них и те, кто пытался разыгрывать «папочку». Безуспешно. Для меня существовал только один отец, настоящий.
И тогда я ушла в мир фантазий. Шила куклам платья из лоскутков, придумывала образы, семьи. Этого у меня никто не мог отнять. А затем я сшила свою первую юбку, после чего стала дарить подругам платья на дни рождения.
В мире моей мамы были книги, самокрутки и полбяной хлеб, но все связанное с модой автоматически попадало под запрет. Таня довольствовалась старыми джинсами, парой футболок, кроссовками и безликими кожаными куртками. Я листала модные журналы в супермаркетах и на первый заработок купила швейную машинку у матери одной из одноклассниц. Таня мне не мешала, но ей, как убежденной феминистке, представлялось странным, что ее единственная дочь – огражденная, ко всему прочему, от мужского воспитания – увлеклась таким делом, как шитье.
Таня витала в мире идей и политических дебатов, мне же в качестве опоры требовалось что-то более материальное. То, чему я могла сама придать форму. Через что могла бы выразить себя. Во что, наконец, могла одеться, чтобы не замерзнуть зимой.
О снимке я постепенно забыла. Образы незнакомого мужчины и маленькой девочки со временем поблекли в памяти. Жизнь шла своим чередом. Учеба в Лондоне, первые коллекции, первое выступление в Париже… Без денег, без сна я волочилась по выставочным центрам с мешком, набитым одеждой, и не теряла надежды на признание. Шансы были близки к нулю, но об этом я не думала. Работа составляла смысл моей жизни. Что до денег, то я как-то держалась на плаву, к большему и не стремилась.
В то же время я страшно боялась одиночества, поэтому постоянно окружала себя людьми. Они придавали мне сил и уверенности в себе. Стоило остаться одной, как просыпалась та пухленькая малышка на плечах высокого мужчины. Она жила во мне, прячась в темных закоулках памяти, пока я стояла на подиуме в лучах софитов. И эта девочка подстегивала меня, она боялась быть брошенной, боялась умереть от голода в случае моей неудачи.
Ее беззвучные крики были невыносимы. И я заперла малышку на дне памяти – просто чтобы выжить самой. Я была сильная, талантливая. Но несчастный ребенок кричал тем громче, чем плотней я затыкала уши. И с этим нужно было что-то делать.
В восьмидесятые годы была популярна одна настольная игра под названием «Игра жизни». Пластмассовые человечки, голубые и розовые, получали пластмассовые автомобили и бумажные деньги, прежде чем начать свою игрушечную жизнь. Там крутилось пластмассовое Колесо Фортуны, и в зависимости от того, на каком поле останавливалась вращающаяся стрелка, человечек получал либо пластмассовую жену, либо пластмассовых деток, должность, дом и так далее… Жизнь представлялась нагромождением вещей и прочих благ, выигрывал самый удачливый. Как будто мы начинаем с чистого листа и с небольшой суммой денег, полученной от родителей, которую по мере возможностей должны приумножить. На самом деле мы приходим в этот мир каждый со своей травмой и потом всю жизнь пытаемся ее залечить.
Глава 14
Утром меня разбудил Робин. Я уснула, положив голову на стопку эскизов.
– Где ты вчера была?
– Который час?
– Юлия, что случилось? Ты нужна мне. Мы должны держаться вместе.
– Прости. Я заработалась.
– Это видно.
Он положил на стол вскрытый конверт и направился к кофе-машине.
– Из Милана, только что принес курьер. Прочти…
Это был проект договора с итальянским холдингом. Я пробежала бумаги глазами, пока Робин готовил кофе.
Я сразу же уловила суть дела: то, что называлось «спонсорством», в действительности означало нечто иное. А именно – холдинг покупал на рынке молодые компании, чтобы в дальнейшем подмять их под себя. Формально мы оставались независимой фирмой. Фактически – становились наемными сотрудниками, себе не принадлежащими.
Приняв предложение, мы избавлялись от долгов, получали более-менее стабильный заработок, но ценой становилась наша независимость. А это для меня всегда была важно. С другой стороны, насколько мы независимы, имея кучу долгов?
– Что с тобой? – Робин заметил мое замешательство. – Ты восходящая звезда. Они хотят тебя, понимаешь?
– Но я совсем не уверена, что хочу их.
Робин уставился на меня в изумлении:
– Вопрос не в том, чего мы хотим, а чего нет, а в том, что мы можем себе позволить. Это же уникальный шанс. Мы разом рассчитаемся со всеми долгами.
– А они будут диктовать нам, что делать и сколько, где покупать материалы и где работать.
– Условия выгодные, что и говорить.
– Да, но мы должны будем использовать материалы, к которым по доброй воле я не приблизилась бы и на пушечный выстрел. Что мне проку в этой «независимости» из Китая?
– Из Бангладеш, – поправил Робин и стукнул чашкой о стол.
И выложил все карты. Оказывается, его родителям вздумалось вернуть кредит, который позволял нам держаться на плаву все это время. Теперь, когда есть первый приз и спонсоры, им нет необходимости и дальше нас финансово поддерживать. И Робин уцепился за эту возможность избавиться от родительской опеки. Пора, что и говорить, когда тебе за сорок.
– В конце концов, нам давно пора самим стать родителями, – пошутил он.
Таким образом, речь шла всего лишь о смене «крыши». Или же похоронить то, за что мы боролись все эти годы.
Победа обернулась ловушкой. Робин сказал, что это всего лишь проект договора, что я могу внести поправки. Но они должны знать, с чем имеют дело на сегодняшний день. Другими словами, спонсоры хотят взглянуть на эскизы новой коллекции.
– Но они еще не готовы, Робин. Всего пара набросков, не более.
– Мы не можем отказать. Пусть приезжают, посмотрят на ателье, взглянут на твои наброски…
– Когда?
– Послезавтра.
– Ты с ума сошел? У меня ничего нет.
– Тогда закрываем контору и следующие десять лет водим такси.
Я его ненавидела. Больше всего меня нервировало, если мою работу выставляли напоказ, когда она еще не готова. Когда недочеты и ошибки во всей красе представали перед теми, кто лучше меня знает, как надо. Для меня работа – единый непрерывный процесс. Диалог между мной и материалом. Результат должен вызреть.
Вечная дилемма, выбор между творчеством и реальностью в этот раз ощущался как никогда остро.
Робин положил мне руку на плечо:
– Мы семья, Юлия. Будем искать выход вместе и обязательно найдем.
Он знал, чем меня взять. И я была готова согласиться, но в горле встал ком, ладони вспотели. Я понимала: стоит подписать эти бумаги – и беличье колесо завертится с новой силой. Согласование эскизов, ярмарка тканей в Париже, подготовка первых моделей… Далее – переговоры с арт-директором, маркетологами, директором холдинга. Изменения, согласования и… притирки, притирки, притирки – вплоть до абсолютной обезличенности. Потом «дочернее» предприятие в Турции. В Бангладеш – безо всякой гарантии, что не будет использован детский труд. И пошло – массовое производство, маржа… потеря себя ради market share[35].
– Прости, Робин, но я не могу.
– Ладно, но что ты предлагаешь? И дальше играть в лотерею?
– Я не знаю.
– Ну… просто сказать «нет» в данном случае недостаточно. Я поддерживаю тебя во всем, Юлия, но если тебе не нравится мой вариант решения проблемы, ты должна предложить свой.
– Дай мне время.
– Два дня. А сейчас мне пора в банк. Пока!
Он ушел, оставив меня изводить себя сомнениями. Меня каждый раз неприятно удивляло, насколько холоден Робин бывает в спорах. Как уверенно он, обычно такой покладистый и милый, утверждает при случае свою власть.
Кроме того, я ненавидела, когда меня держали за маленькую девочку. В споре я бывала напористой, даже агрессивной, как львица, но хватало меня ненадолго. А потом наступало время апатии и невыносимых мук одиночества и оставленности.
Я вышла во внутренний двор и закурила. Срочно требовалось развеяться. Я села в машину – нужно было забрать из химчистки миланскую коллекцию. Загрузила шмотки в старый «вольво» – и тут меня осенило.
Меньше всего мне хотелось с ним встречаться. Я просто должна была убедиться, что Винсент не солгал и мюнхенский брат-близнец в самом деле существует. До Центрального рынка езды было не больше десяти минут. Я нырнула в туннель под железнодорожными путями и выехала на Шлахтхоф, соединявший фешенебельную часть изарского предместья с густонаселенным Зендлингом. Железная дорога была, по сути, границей. Жители богатого северного района пересекали ее нечасто. Они ходили в бары на Глокенбахе, а овощи покупали в супермаркете «Био», даже если на рынке у Центральной площади они стоили вполовину дешевле. В свою очередь, обитатели Зендлинга предпочитали оставаться по ту сторону железнодорожных путей – не исключено, что они считали нас, платящих дорогущую аренду на Глокенбахе, богатыми дураками. И возможно, не без оснований.
Я не спеша вырулила на рыночную площадь. Мюнхенские задворки – аляповатые граффити, мечети на заднем дворе, кумушки в платках и полиэстровых пальто. По рельсам застучал товарняк. Напротив входа на рынок, в самом начале небольшого торгового ряда, находился итальянский ресторан: столики прямо на тротуаре, смуглые официанты с блестящими от геля волосами. Посетители – рабочие с рынка, пенсионеры и молодые хипстеры – наперекор апрельской погоде попивали эспрессо на улице.
Рядом располагался магазинчик под синим козырьком. «Деликатесы Маркони» – было написано на витрине. Я притормозила и, не выходя из машины, вгляделась в окно. Сырная стойка, разложенные на прилавке куски ветчины, чугунная нарезочная машина красного цвета, расставленные на полках винные бутылки, огромная хромированная кофе-машина, барные стулья у высокой стойки.
Я ждала. Мимо текла толпа – итальянцы, турки, баварцы. Убедившись, что магазин закрыт, я припарковалась и вышла из машины.
На стене за стойкой висели фотографии, групповые, так что лиц было не разобрать. Семья, догадалась я. На двери прибита табличка с фамилией и именем владельца – действительно «Джованни Маркони» – и номером мобильного.
За стеклом висело объявление по-итальянски, написанное от руки: «Закрыто по случаю церемонии крещения». И под ним – вырезка из местной газеты с фотографией младенца и подписью по-немецки: «Семья Маркони с радостью извещает о крещении Регины Маркони, дочери Люка и Барбары Маркони, родившейся 3 марта 2012 года. Таинство совершится в приходской церкви Святого Андрея 5 апреля 2013 года в 16 часов по адресу: Ценеттиштрассе, 46».
Совсем недалеко, пять минут езды от силы. И уникальная возможность посмотреть на родственников, не привлекая к себе лишнего внимания. Я понятия не имела, что скажу, войдя в магазин, а вот в церкви могла остаться незамеченной. Она располагалась в одном из унылых коробкообразных послевоенных строений и меньше всего походила на храм. Скорее наоборот, одним своим видом уничтожала любую мысль о возвышенном.
В архитектуре пятидесятых, похоже, господствовал тот же дух, что и в тогдашней немецкой моде, а именно стыдливого, консервативного практицизма. Стиль немецких модельеров в те годы являл собой полную противоположность тому, что проповедовали французские и итальянские кутюрье. Никаких ярких цветов, броских рискованных экспериментов. Практичность и неприметность. Как развивалась бы немецкая мода, не будь наше сознание пропитано духом неизбывной вины и сокрушительного поражения? И почему мы, совершив прорыв в экономике и за какие-нибудь несколько лет наверстав военные потери, так и не вернули себе статус законодателей в искусстве?
Возле церкви как будто ничего не происходило. Ворота на замке, но слева от входа я заметила крытую галерею, такую же невзрачную, до убожества, как и главное здание. На застекленной доске под козырьком висели объявления на итальянском и немецком. Похоже, здание делили две общины. Из-за двери доносилось приглушенное пение. Осторожно толкнув створку, я заглянула в церковь.
Внутреннее убранство оказалось столь же скромным. Но наполненное голосами пустое, гулкое пространство поражало воображение размерами и устремленностью ввысь. В безупречных архитектурных пропорциях угадывалось влияние эстетики Баухауса.
Задние скамьи были не заняты, на передних сидело десятка два итальянцев. Гости, родители, крестные; сновала ребятня. Меня никто не замечал, все взгляды были устремлены на пожилого священника в белых одеждах, вещающего по-итальянски.
Я присела с краю последней скамьи. Священник поднял над купелью маленькую девочку, та заплакала. Мать пригладила малышке волосы. После молитвы девочку окунули в воду. Ребенок смолк, словно испугавшись, а потом завопил с новой силой. Священник передал дитя матери. К тому времени, когда подоспел отец, малышка совсем успокоилась. Ее отнесли к скамьям, где, словно на игровой площадке, резвились другие дети. Их никто не одергивал. Родня собралась вокруг новокрещеной. Священник продолжал читать, а итальянцы уже превратили службу в семейный праздник.
Я не помнила, когда последний раз заходила в церковь. Должно быть, в детстве, на Рождество. Меня не крестили. Мать предоставила мне самой выбирать веру по достижении сознательного возраста. Но в восемнадцать лет время чудес миновало безвозвратно, и чувственная, земная любовь стала интересовать меня куда больше, чем небесная.
Семейство хлопотало вокруг малышки, никому до меня не было дела. Внезапно меня охватило чувство оставленности, выключенности из жизни, к которому я оказалась не готова. Чувство было странное. Это ведь они, итальянцы, чужаки в моей стране. Но ощущение тем сильней и болезненней, чем хуже понимаешь его причину.
Я сидела на холодной церковной скамье, представляя себя на месте плачущей малышки. Как сложилась бы моя судьба? Рядом в нише стояла статуя, уставив на меня невидящие глаза. Мария Магдалина с окровавленным телом Христа на руках. На каменном лице скорбь и крайняя степень потрясения. Но поза исполнена любви.
Я собиралась покинуть церковь до окончания службы, но опоздала. Когда первые итальянцы устремились к выходу, я думала выскользнуть, отвернув лицо. Но замешкалась да так и осталась сидеть, разглядывая носки своих туфель. Я затаила дыхание, когда шумная компания прошла мимо меня. По счастью, итальянцы были слишком заняты собой, чтобы обращать внимание на одинокую прихожанку. Когда шаги стихли, я подняла глаза. Рано.
Ушли не все. Один из итальянцев разговаривал со священником – благодарил, хлопал по плечу, совал мятую купюру. Когда мужчина повернулся, чтобы последовать за остальными, наши взгляды встретились. Итальянец был явно пенсионного возраста, низенький и живой, седая борода и небольшая залысина; видавшие виды мокасины, бежевые штаны и натянувшийся на круглом животе старомодный клетчатый пиджак. Он двинулся к выходу, а я разглядывала его прищуренные глаза, лицо в красных прожилках. Лицо состарившегося клоуна, сохранившее выражение детского любопытства. Пожалуй, он показался бы мне симпатичным, если бы не мой страх.
Он кивнул мне, чуть заметно. Удаляясь, замедлил шаг. Похоже, мое лицо показалось ему знакомым. А я узнала этот удивленный взгляд – так смотрел на меня Винсент, когда увидел впервые.
Хлопнула дверь. Я вздохнула с облегчением. Подождала, пока священник скроется в ризнице, и тоже направилась к выходу.
Глава 15
Итальянцы еще не разошлись. Болтали, обменивались подарками, рассаживали детей по машинам. Старик в клетчатом пиджаке подбрасывал крещеную малышку в воздух. Та визжала, пока наконец пожилая дама – похоже, его жена – не забрала у него девочку. Я отвернулась и направилась к своей машине.
Один из итальянцев обогнул меня на «веспе», притормозил и что-то крикнул в мою сторону. Вопрос, насколько я уловила из интонации. Я пригляделась. Карикатурный тип итальянца в неизменных солнечных очках и рубахе нараспашку – из тех, что шляются по мюнхенским барам в поисках любовных приключений. Вне всякого сомнения, парень предлагал прокатиться с ним на мотоцикле.
– Нет, спасибо.
Услышав немецкую речь, он рассыпался в извинениях:
– Oh, scusa, pensavo che fossi della famiglia. Sei italiana?[36]
– Нет, – ответила я, лишь догадываясь о сути вопроса. Во всяком случае, мне показалось глупым отвечать на него по-итальянски.
– Прости, – повторил он по-немецки с акцентом. – Я думал, ты из наших.
– Все в порядке…
Я улыбнулась. Он подвинул свою «веспу», освобождая мне место.
Наш разговор продолжался каких-нибудь несколько секунд, но они оказались решающими. К нам приближался Джованни. Лысина прикрыта серой кепкой, придававшей ему нелепо бесшабашный вид. На плечах у него сидела виновница торжества с пластмассовой короной на голове.
– Oé, Marco! – закричал Джованни, и «любовник-итальянец» обернулся. – Tua ragazza?[37] – Джованни кивнул на меня.
– No.
Бежать было поздно. Джованни с любопытством посмотрел на меня и спросил с неподражаемым итало-баварским выговором:
– Мы знакомы?
– Нет.
Я лихорадочно соображала, как буду выкручиваться. Сразу стало жарко.
– Джованни… Nonno[38] маленькой проказницы. – Он протянул мне руку.
– Юлия, – представилась я.
Лицо Джованни отразило лихорадочную работу мысли.
– Я думал, она итальянка, – сказал Марко. – Выглядишь как итальянка.
Я пожала плечами.
– Откуда ты? – спросил Джованни.
– Из Мюнхена.
Интересно, как долго смогу еще выдерживать эти прятки.
– Но твои родители итальянцы, ведь так?
Всегда ненавидела вопросы, касающиеся моего происхождения. Обычно люди задают их, чтобы завязать беседу, но только не в этом случае. Джованни явно сгорал от любопытства, желая узнать, что за незнакомка явилась на крестины его внучки.
– Мой отец итальянец, – ответила я.
Неуклюжая попытка завершить беседу не удалась.
– А… это видно! – воскликнул Джованни. – Откуда твой отец?
Я запнулась. Что я должна была отвечать? Правду? Назови я Рим или Венецию, пришлось бы лгать дальше, придумывать новые названия, имена. В конце концов я бы точно запуталась. Между тем я до сих пор не знала, хочу ли знакомиться с этим человеком. Возможно, я слишком растерялась, потому что неожиданно для себя выпалила:
– Я не знаю.
Теперь смутились все. Не знать, откуда родом твой отец, – такое просто не укладывалось в голове. Первым очнулся Джованни:
– Но… Как его зовут?
Нападение – лучшая защита. Собственно, теперь мне было все равно.
– Винченцо. Винченцо Маркони.
Гром грянул. У Джованни расширились глаза.
– Винченцо Маркони? – переспросил он, снимая девочку с плеч.
– Кто это? – встрял «любовник-итальянец».
– Nessuno[39], – буркнул Джованни.
Он буквально ел меня глазами. Мне хотелось исчезнуть.
– Так ты Джулия? – тихо спросил он.
Я кивнула.
– Santo dio…[40]
Жена позвала Джованни от машины и, когда он не отозвался, направилась к нам, прижимая к груди коробки со сладостями и букеты.
– Che c’è?[41]
Женщина выглядела испуганной, она уже поняла, что муж чем-то встревожен.
– La figlia di Vincenzo[42], – пробормотал Джованни и кивнул на меня.
Женщина приоткрыла рот.
– Vincenzo?
По ее дрогнувшему голосу было ясно, что мое появление что-то разбередило.
– Я… я просто хотела взглянуть на вас… – сказала я, пытаясь сгладить ситуацию.
– Macché[43], просто взглянуть! – уже во весь голос возмутился Джованни. – Я его дядя, Santo Cristo![44]
Не успела я опомниться, как он заключил меня в объятия. В глазах Джованни стояли слезы. Он был ниже меня ростом, но не в пример живее. А круглый живот красноречиво свидетельствовал, что деликатесами он занимается не только ради выгоды.
Он не переставал целовать меня – в лоб и щеки, справа и слева – даже после того, как я перешла в объятия его жены.
Это была решительная матрона, полная, но крепко сбитая.
Теперь уже весь клан спешил к нам. Все понимали: произошло нечто важное. Один за другим родственники вылезали из машин и направлялись к нашей группе.
– Quanti anni sono?[45] – кричал Джованни. – Trenta, quaranta?..[46]
Даже малышка удивленно таращилась на меня. Джованни ласково объяснил ей, выговаривая каждое слово:
– È Giulia. Dì buongiorno a Giulia[47].
Девочка спряталась за ногами деда, откуда кокетливо постреливала в меня глазами.
Я улыбнулась. Собравшиеся вокруг родственники наперебой кричали, осведомляясь, что стряслось. Чтобы их успокоить, Джованни отпустил какую-то шутку и повел меня к машине. По-видимому, тема Винченцо и его la figlia касалась не всех. Джованни прошептал что-то на ухо жене. Отныне жизнь этой пожилой пары, равно как и моя собственная, никогда не будет прежней – это было единственное, что я понимала в тот момент.
Они не дали мне уйти, ни малейшего шанса. Мы поехали к ним домой. Джованни и Розария – широкой души сицилианка в полосатом весеннем платье и огромных очках от «Гуччи», делавших ее похожей на мультяшную пчелку Майю, – проживали вместе со взрослыми детьми, по крайней мере с некоторыми из них, в многоквартирном доходном доме в Зендлинге. Дом располагался неподалеку от лавки Джованни на Центральном рынке. Таким образом, мир Джованни Маркони замыкался в круге радиусом в несколько сотен метров. Здесь протекала его жизнь, семейная и деловая, причем отделить одно от другого едва ли было возможно.
Предоставив мужчинам заниматься детьми, Розария и дочери организовали во дворе фуршет. «Все эти окорока, салями, сыр и вино доставлены прямо из магазина деликатесов», – заверил Джованни. И с такой гордостью наложил мне полную тарелку, словно спасал от голодной смерти.
Он ни на секунду не оставлял меня одну. Мы устроились за столом во дворе. Вокруг носилась ребятня, размахивая пластмассовыми мечами. Джованни включил динамики, подсоединенные к «айподу», и двор огласила итальянская эстрада.
– Buono, eh?[48] – интересовался Джованни после каждого проглоченного мной кусочка и с такой надеждой заглядывал в глаза, словно приготовил эту салями собственноручно. – Это трюфели из Пьемонта… Традиция!
И это действительно было buono. Даже molto buono!
К нам подошла Розария с огромной тарелкой. Села рядом и тихо спросила:
– Скажи, папа когда-нибудь навещал тебя?
Я покачала головой.
– Madonna mia… – прошептала женщина и укоризненно посмотрела на мужа: – Как такое возможно…
Тот перебил ее, также шепотом. Какой-то просьбой, судя по интонации. Розария согласно хмыкнула и ушла. Джованни объяснил, что она отправилась за семейным фотоальбомом.
Когда женщина удалилась на достаточно большое расстояние, он наклонился ко мне.
– Как ты нас нашла?
Задумавшись на мгновенье, я пришла к выводу, что правильнее всего будет сказать правду.
– Ты знаешь Винсента Шлевица?
Лицо Джованни омрачилось. Круглые глаза сузились до щелочек.
– Нет… еще вина?
Не дожидаясь ответа, он встал и направился к столу за бутылкой. Я чувствовала себя провинившимся ребенком. Подошел Марко с тарелкой и спросил разрешения сесть рядом. Он улыбался. «Любовник-итальянец» оказался вполне привлекательным мужчиной, не лишенным самоиронии и отстоящим от Италии примерно на ту же дистанцию, что и я, только по другой причине.
Он называл родину предков насквозь коррумпированной банановой республикой, где не видел для себя будущего, потому и перебрался в Германию. Во всяком случае, способа честно заработать на жизнь, чтобы к тридцати годам не висеть у родителей на шее, в Италии у него не было.
Тут вернулся Джованни и объявил Марко, что желает поговорить со мной наедине. Марко подчинился – как младший старшему.
Джованни наполнил бокалы и тихо спросил:
– Так чего он хотел?
– Кто, Марко? – не поняла я.
– Винсент.
– Он действительно отец Винченцо?
Видит бог, мне нелегко далось произнести это имя вслух.
Джованни быстро осушил свой бокал.
– Disgraziato[49], – пробурчал он и еще некоторое время бормотал что-то, будто забыв о моем существовании, а потом вдруг поднял на меня глаза и ответил резко: – Нет.
Это прозвучало настолько категорично, что я мигом насторожилась.
– Мы едва знакомы, – сказала я. – Он хотел с моей помощью выйти на сына, и я подумала, может…
– Что ему было нужно?
– Не знаю. Он как будто хотел примириться.
Реакция Джованни на упоминание одного только имени Винсента меня поразила. Нет, не неприязнь, это было неприкрытое презрение. Словно бы я, сама того не заметив, перешагнула границу дозволенного и приблизилась к чему-то ужасному, что наложило на это имя табу и определенно имело отношение к Джульетте и ее смерти.
Вернулась Розария, положила на стол тяжелый фотоальбом в клетчатом переплете, обняла меня за плечи.
– Вот. Здесь много фотографий твоего папы.
Она улыбалась. Джованни тоже просиял. Он придвинул альбом к себе, пролистал. Вставленные в кармашки снимки были подклеены, страницы разделены хрусткой шелковой бумагой. Жизнь семьи в картонном переплете. Джованни открыл страницу с тремя фотографиями. Сверху от руки шла надпись явно женским почерком: Matrimonio a Salina[50]. И дата: 15 agosto 1968.
Снимки выцвели и имели характерный для фотографий шестидесятых годов желтоватый оттенок. Вот жених и невеста танцуют на деревенской свадьбе. Праздничный стол под оливами накрыт белой скатертью, на заднем плане виден клочок моря. На втором снимке я узнала Джованни и Розарию. Крупный план – глаза Джованни такие же круглые, шевелюра гуще. Розария, уже тогда плотная, млеет в его объятиях.
– Ты был красивый мужчина, Джованни… – Она рассмеялась.
Джованни лукаво подмигнул мне:
– Полюбуйся, в кого она меня превратила.
Я высматривала Джульетту. На третьем, групповом снимке я сразу ее узнала. Джульетта стояла рядом с Джованни.
– Смотри, как ты на нее похожа, – воскликнула Розария. – Dio buono! Incredibile![51]
Я замерла, вновь потрясенная сходством. Джульетта была примерно моих лет, около тридцати пяти. Она изменилась с тех пор, как снималась с Винсентом на фоне Миланского собора. Пропала безудержная радость в глазах, взгляд потускнел. Джульетта серьезно смотрела в камеру, держа за руку кудрявого подростка.
– Твой папа, – ласково представил мальчика Джованни.
– Какой он был хорошенький! – зацокала языком Розария.
– А у тебя есть дети? – спросил Джованни.
– Нет.
Повисла неловкая пауза. В их мире, где взрослых вечно окружал выводок bambini, бездетная женщина моих лет смотрелась жалкой калекой.
– Так радуйся! – подбодрил меня Джованни. – Дети – это катастрофа… Кто, ты думаешь, проел мне лысину?
Я разглядывала фото. Джульетта с Джованни, Винченцо с матерью. Где же его отец?
– Вот его отец. – Джованни показал на смуглого мужчину, который стоял чуть позади остальных и пристально смотрел на Джульетту.
Энцо. Каменная стена. Плечо, на которое всегда можно опереться. Сегодня такие мужчины большая редкость. Напрасно я пыталась найти сходство между ним и сыном. Винченцо – подвижный, с умными, пытливыми глазами – относился к тому типу детей, которые «сами по себе», ни в мать ни в отца. Джованни угадал направление моих мыслей. Он пролистал назад и показал фотографию Винченцо с Джульеттой и Энцо, сделанную несколькими годами ранее. Десятилетний мальчик гордо держался за руль велосипеда на фоне обшарпанной дощатой двери.
– Вот твои бабушка с дедушкой.
И снова эта не терпящая сомнений уверенность, на этот раз меня разозлившая.
– Но Винсент говорит, что отец он.
Я хотела его спровоцировать. Похоже, дар, переданный мне, – это ложь. И он же причина, по которой я стала персоной нон грата не в одном порядочном семействе. Возможно также, именно поэтому у меня до сих пор нет детей. Ведь каждая семья – как мне кажется, по крайней мере, – держится на замалчивании некоторых эпизодов своей истории. Причем, как правило, довольно важных. Ложь сплачивает, в отличие от правды. Но в молчании ложь вызревает до катастрофы. А потом все разлетается на куски.
Я встретила испуганный взгляд Розарии.
– Что он еще рассказал тебе о нас? – спросил Джованни.
– Что Джульетта забеременела от него. Это правда?
Розария вздрогнула, словно я помянула нечистого. Джованни подался ко мне, опершись о стол крепкими руками:
– Правда всегда двулика, дорогая Джулия.
Тогда я объяснила, что явилась сюда не для того, чтобы улаживать старые дрязги. Что прекрасно справилась со своей жизнью и без отца и просто хочу знать, почему он нас бросил.
– Где он сейчас? – спросила я.
Джованни с Розарией переглянулись.
– Он жив?
– Sì, – заверила Розария. – sì, он жив, certo[52].
Я задумалась. Но с какой стати ей лгать? Розария вздохнула и собиралась продолжить, когда ее перебил Джованни.
– Этого Винченцо, – он ткнул пальцем в снимок, – этого bravo ragazzo[53] больше нет. Есть другой Винченцо…
Он отпил из бокала. Было видно, что Джованни стыдится племянника, бросившего семью. И это тоже замалчивалось. Скелет в семейном шкафу, вызволенный моим появлением.
– Винсент не сказал, что случилось с Джульеттой? – спросил Джованни.
Я покачала головой.
– Он только рассказывал, как они полюбили друг друга. Как он хотел забрать ее из Милана, а ваша семья этому воспротивилась.
– И больше ничего?
– Нет. Кроме того, что он вернулся в Германию и до сих пор не может ее забыть.
Джованни многозначительно поднял брови и разлил остатки вина по бокалам. Розария придвинулась к нему и что-то прошептала по-итальянски. Я догадалась по ее глазам: она хочет, чтобы я узнала историю до конца.
– È il suo papa!
«Он ее папа», – так я это поняла. Джованни сделал хороший глоток красного вина и пролистал альбом к самому началу.
– Вот, – указал он на черно-белое фото, – наш дом в Милане. Там родился твой папа.
На снимке была старая улица с трамвайными путями. Слева – канал. Справа – доходные дома, с магазинами и тратторией на первых этажах. На другом берегу канала – церковь. Две женщины полощут в канале белье. Мир Джульетты, о котором рассказывал Винсент. Совпадало все, вплоть до мельчайших деталей. Я поймала себя на мысли, что как будто видела все это раньше.
Глава 16
На две категории крысы разбиты: Одни голодны, а другие сыты. Сытые любят свой дом и уют, Голодные вон из дома бегут[54]. Генрих ГейнеДжованни
Сын Джульетты родился 11 июня 1955 года на Виа-Лудовико-иль-Моро, 13. Джульетта собиралась рожать в больнице, но Джованни и Энцо работали в ночную смену, когда неожиданно начались схватки, и мама Кончетта вызвала доктора на дом. Вместе они вытащили ребенка на свет божий. Когда Джованни и Энцо вернулись, дома их ждал малыш.
– Успел раньше отца, – пошутил доктор, и они с Энцо рассмеялись.
Совсем не склонный к патетике, Энцо разрыдался. Он взял сына на руки, нежно поцеловал в лоб и возблагодарил Господа.
Джованни никогда не видел сестру такой измученной. Роды были нелегкими и, по словам Кончетты, разрешились успешно лишь ее неустанными молитвами. Джованни сумел поднять сестре настроение, но ему не давала покоя одна мысль. Еще вчера они с Джульеттой были дети, близнецы не разлей вода, тайком курили за церковью, делились друг с дружкой самым сокровенным. И вот теперь она мать. Еще немного – и их тесная квартирка затрещит по швам. Кто-то должен уйти, и этот кто-то, конечно, он, Джованни.
Не успела Кончетта сварить для всех кофе, как в дом хлынули соседи с поздравлениями. То, что Джульетта шла под венец беременной, вызвало шушуканья и пересуды в квартале. В те годы подобное было чревато скандалом даже среди миланцев, что уж говорить о сицилийской общине. Смягчающим обстоятельством стало то, что Энцо и Джульетта были помолвлены. А когда Кончетта принудила молодых к церковному покаянию, община и вовсе успокоилась и со спокойной совестью поздравила семейство Маркони с пополнением.
То, что первенец оказался мальчиком, было воспринято как благословение Божие. По сицилийской традиции он должен был получить имя деда по линии отца – Винченцо. Энцо спросил согласия Джульетты, и она молча кивнула.
Младенец оглушительно орал, пока Кончетта, нацепив на нос старые очки, разглядывала линии на его ладошке.
– Это необыкновенный ребенок, – объявила она благоговейно притихшей публике. – У него есть миссия. Такие рождаются раз в сто лет.
Вечером обитатели квартала прильнули к радиоприемникам. Квартиры же счастливых обладателей телевизионных аппаратов ломились от наплыва гостей. Джульетты, за неимением в семействе Маркони радио, не говоря уж о телевизоре, всеобщее возбуждение не коснулось. Поэтому, когда Джованни в компании других рабочих прислушивался к бормотанию старого приемника в траттории, она спокойно укладывала маленького Винченцо спать.
Между тем новость была ужасной. И не только для ветеранов автомобилестроения, у которых, как говорится, бензин тек в жилах. Позже события того дня признали крупнейшей аварией за всю историю автомобильного спорта.
Почти сразу после старта двадцатичетырехчасовой гонки «Ле-Ман» на трассе столкнулись два автомобиля. В результате немецкая «серебряная стрела» на скорости свыше двухсот сорока километров в час врезалась в заграждение, перевернулась и понеслась на зрительские трибуны, защищенные одним только дощатым бордюром да соломенными тюками. Автомобиль взорвался перед включенной камерой. Капот, передняя ось, двигатель разлетелись в разные стороны, снося людям головы. Больше восьмидесяти человек погибло на месте, более сотни получили ранения. Камера сняла дымящийся металлический остов на фоне обезумевшей от ужаса толпы.
Несмотря на то что команда компании «Мерседес» той же ночью отбыла в Германию, гонки не остановили. «Мазерати», «феррари», «ягуары» и «астон-мартины» как ни в чем не бывало продолжали движение к финишу до вечера следующего дня. Победителем стал виновник происшествия – пилот британского «ягуара». Имевшим доступ к телеэкранам запомнилось его победно улыбающееся в камеру лицо.
Раздолбанный радиоприемник в траттории был немецкого производства. Возможно, брошенным нацистами при отступлении. Слушая, Джованни представлял мюнхенского инженера, приникшего к такому же аппарату по ту сторону Альп. Он не думал, что ему доведется еще когда-нибудь свидеться с этим человеком.
Винченцо и в самом деле оказался необыкновенным ребенком. Из-за врожденной патологии легких он был подвержен приступам удушья. Джульетта не оставляла сына ни на минуту. Бывало, и среди ночи приходилось вызывать врача с кислородным аппаратом.
Джульетта бросила работу. Ее угрозы вернуться на завод домашние не воспринимали всерьез. Никто не сомневался, что молодую мать ожидает участь всех женщин квартала и отныне ее мир будет ограничен семьей и детьми. Но денег не хватало. Энцо все чаще оставался в ночную смену. Покойный муж ничего не оставил Кончетте, пенсии за него она тоже не получала. Деревянная колыбель – гордость и творение рук самого Энцо – стояла рядом с кроватью Джульетты, в спальне Кончетты. План перестановки напрашивался сам собой: Джульетта с младенцем выселяются из комнаты матери, а койки Джованни и Энцо в соседней гостиной переоборудуют в одну супружескую кровать. О такой роскоши, как детская, конечно, никто не мечтал.
Джованни души не чаял в племяннике, да и Джульетта ни за что не решилась бы сказать брату, что он должен съехать. Он по-прежнему был ближайшим ее другом, наперсником. Энцо был всего лишь муж и отец. Но даже Джованни не мог сочувствовать тому, что тяготило в то время душу сестры.
Однажды, когда они курили тайком за церковной стеной по другую сторону канала, Джульетта спросила брата:
– Как ты думаешь, в моей жизни еще будет любовь?
Джованни задумался.
– Не знаю, – ответил он, не желая огорчать сестру. – В любви ты понимаешь больше, чем я.
Оба знали, о чем говорят, точнее, о чем умалчивают. Мимо прогрохотал трамвай. Черная вода канала подернулась серебристой рябью.
– Ты веришь, что каждому человеку от рождения уготована пара? – спросила Джульетта.
– Так, похоже, только в фильмах. А в жизни твоя половина – дело случая. Наши родители познакомились на поле, и большого выбора у них на острове и не было. Но что-то потянуло их друг к другу, и они поженились. Ты когда-нибудь видела, как целуются в кино? О, это совсем другое… Любовь, когда у тебя в животе щекочут бабочки, но семья – это не то же самое. Чувства приходят и уходят… Черт, что бы там ни было, я-то всегда буду с тобой.
Джульетта молчала, и Джованни попробовал переменить тему.
– А что с твоим шитьем? – спросил он, имея в виду мечты сестры о карьере модистки.
– Ты же сам видишь… – отвечала Джульетта. – Винченцо плачет, стоит мне оставить его на минуту. Может, и получится что-нибудь года через два, когда он выздоровеет.
Но Джованни понимал, что сестра не верит тому, что говорит. То, что он любил в ней, – ее жажда жизни, мечтательность, безумные идеи – выродилось в унылую серьезность, состарившую Джульетту по меньшей мере на десяток лет.
В тот вечер Джованни твердо решил повременить с женитьбой и собственными детьми.
Настала осень, за ней зима. Джованни вынес угольную печурку из кухни в спальню Кончетты, Джульетты и Винченцо.
Однажды ночью, когда малыш кричал, а Джованни кемарил за кухонным столом, из спальни вышла Кончетта. Подогрела молоко на газовой плите и налила в стакан, который поставила на цветастую скатерть. Потом села напротив Джованни и сказала, глядя, как он пьет молоко:
– Ищи себе квартиру, сынок.
– Не беспокойся, мама, – ответил Джованни. – Я как раз собираюсь заняться этим.
Оба понимали, что это значит. Джованни не окончит курса в знаменитом Миланском политехникуме и никогда не станет инженером. Он будет до конца жизни работать на сборочной линии, если, конечно, будет работать вообще. Времена настали не лучшие. «Изетта» неплохо продавалась по лицензии за границей, но на родине не выдерживала конкуренции с массовой продукцией «Фиата». Она и вправду была современней «тополино» – эконом-рухляди времен Муссолини, но оставалась не по карману небогатому итальянскому потребителю. И это делало будущее Джованни как никогда проблематичным.
Он ушел в свою комнату. Энцо спал. Джованни откинул пахнущую мылом простыню и нащупал в матрасе тайник – прорезь, где между двумя плитками пенопласта хранился мятый конверт. Джованни достал его, пересчитал купюры – неприкосновенный запас, утаенная от матери часть зарплаты. На учебу, конечно, не хватит. И все-таки это его. Джованни хорошо помнил, чему учил его отец на смертном одре: «Устраивай свою жизнь сам, как знаешь. Не будь ничьим рабом».
Джульетта узнала о том разговоре только накануне Рождества. Никогда еще Джованни не видел сестру в такой ярости. Она обвиняла Кончетту в том, что та выставила за порог родного сына. И грозилась лично нанести визит ректору Политехникума.
– Но на что я буду жить? – спрашивал сестру Джованни.
– Ты останешься дома. Все будет по-старому. Нам с Энцо не нужна отдельная спальня, не сейчас.
– А когда?
– Не раньше, чем ты получишь диплом инженера. Ты же у меня ловкач, Джованни… У тебя не только руки на месте, но и голова… Посмотри на меня. Ты свободен, у тебя нет семьи. Перед тобой открыты все двери.
Джованни слушал сестру разинув рот. Меньше всего он хотел провести всю жизнь за конвейером. Но были ли инженеры такими ловкачами, какими их представляла себе Джульетта?
– Я видел вчера на заводе инженера Прети, – упавшим голосом ответил он.
Что было, то было. Прети обедал с коммендаторе Ривольтой. Потом они распрощались. Инженер сел в свою «изетту», а директор – в британский «ягуар». Так кто из них двоих больший ловкач, инженер или capo?[55]
– Ривольта аристократ, нам не чета, – возразила Джульетта. – Но кто сказал, что ловкачи непременно должны быть из знати? Аристократы часто бывают глупы как бараны. Они ведь женятся между собой, как в какой-нибудь сицилийской деревушке. Все мы знаем, что потом из этого получается… Но у них есть деньги!
– Предоставь мне решать проблему денег, – ответил Джованни. – Увидишь, я стану capo, каких мало.
С этими словами он поцеловал сестру и ушел из дома.
По правде говоря, Джованни понятия не имел, что делать дальше. Противостоять трудностям с улыбкой – чисто итальянское искусство, которым он владел в совершенстве. И оно давало Джованни немалые преимущества в жизни, но не делало всесильным. Что-то должно было произойти, и поскольку остальные не выказывали желания двигаться вперед, первый шаг должен был сделать он сам.
Вокруг него переливался рождественскими огнями праздничный Милан, и промозглый холод проникал сквозь тонкие подошвы ботинок.
Как сложилась бы жизнь Джованни, останься его семья на юге? Работал бы в поле, как отец. Быть может, купил бы даже в собственность небольшой участок земли. Какую-нибудь пару акров, с которых его уже никто и никогда не смог бы прогнать.
Джованни направился к Политехникуму, из дверей которого как раз выходила большая компания студентов. Все они были северяне, в добротных пальто и с модными прическами. Лишь изредка ухо Джованни улавливало римский или тосканский выговор. Ему, сицилийцу, никогда не стать среди них своим.
Джованни подошел к одному из киосков неподалеку, купил газету за пару лир и углубился в изучение объявлений об аренде жилья. Ну почему в этой стране деньги можно либо унаследовать, либо украсть? И почему беднейшие из бедных, вроде его матери, самые богобоязненные?
В самом деле, что есть пресловутая религиозность южан? Убежище от жалкой действительности? Или же самообман, морок, притупляющий волю, из-за которого люди не решаются взять судьбу в собственные руки, наплевав на традиции, мораль и прочие условности? Вот что мешает ему, Джованни, пойти и ограбить банк – честность или трусость?
Уже около полуночи Джованни подошел к дверям кинотеатра «Капитоль» на Виа-Гроче-Росса. С афиши за стеклом на него смотрел кумир заводской молодежи Рифифи[56]. Герой Жана Серве ограбил ювелирный магазин в Париже. Джованни всегда нравились такие парни – в тренче с глухим воротом, надвинутой на глаза шляпе и с сигаретой в зубах. Они мало говорили, зато отлично знали, что делать. Жаль только, что их почти всегда убивали в конце.
Джованни купил билет и пачку сигарет и вошел в зал под конец сеанса.
В те времена входной билет давал право войти в кинотеатр и выйти из него в любое время. Многие оставались смотреть один и тот же фильм по нескольку раз только ради того, чтобы быть в тепле, курить и без помех тискать девушек.
Джованни опустился на скрипучий стул, обтянутый красным бархатом, как раз в тот момент, когда неизвестный гангстер разрядил в Жана Серве целую обойму из револьвера. Сразу видно, на кону стояли большие деньги. Удивленный, Жан Серве запрыгнул в американский кабриолет, где уже сидел маленький мальчик, который тоже крутил в руках револьвер, хныкал и просился к маме.
Когда Джованни закурил первую сигарету, Серве, оставив ребенка в безопасном месте, погиб под градом полицейских пуль и с чемоданом денег на заднем сиденье. В этот момент зажегся свет, публика, болтая, потекла к выходу. Джованни закурил вторую сигарету. Он хотел знать, как Жан Серве дошел до такой жизни.
Но тут появилась уборщица-сицилийка, и Джованни отлучился в туалет.
Когда он вернулся, в зале снова было темно. На экране мелькали кадры кинохроники. Джованни нравилось быть в курсе мировых событий, в отличие от большинства рабочих, не интересовавшихся даже газетами. Прорвалась ли плотина в Южном Тироле, установила ли «Андреа Дориа»[57] новый рекорд по пути в Нью-Йорк – из всего можно было извлечь полезный урок.
На этот раз речь зашла о Джованни Гронки, новом президенте-католике, только что заключившем договор с Конрадом Аденауэром.
Джованни был наслышан о немецком канцлере. Итальянцы любили его за то, что он католик и проводит отпуск на Лаго-ди-Комо. Джованни никогда не бывал в тех местах, хотя многие миланцы предпочитали плавать и загорать именно там. Чтобы добраться туда, требовался автомобиль. А в Милане все жители делились на две группы: те, кто автомобили имеет, и те, кто их производит.
Тем не менее этот вечер 22 декабря 1955 года необратимо изменил жизнь Джованни Маркони, потому что именно тогда, в том кинозале, он впервые услышал о Wirtschaftswunder.
Это немецкое слово гремело из динамиков как заклинание. Il miracolo economico – так это звучало по-итальянски, экономическое чудо. Что стояло за этим? Дымящиеся заводские трубы, вращающиеся колеса подъемников в угольных шахтах и пылающие жерла доменных печей. И еще – Вольфсбург и Гельзенкирхен[58]. И народ, еще недавно державший в страхе всю Европу, потом поверженный, восстал, словно феникс из пепла, за какие-нибудь десять лет.
В понимании Джованни краути были кем угодно, только не веселыми парнями. Но их нельзя было не уважать за трудолюбие, честность и порядочность. Они не только восстановили собственную страну в рекордно короткие сроки, но и экспортировали продукцию по всему миру, заставив бывших врагов покупать немецкие холодильники, стиральные машины и автомобили. При этом немцам не хватало рабочих рук – на фермах, фабриках, в отелях и на угольных шахтах.
Новому соглашению между Аденауэром и Гронки было суждено навсегда изменить лицо Европы. В тот вечер ни Джованни, ни кто-либо другой в том зале об этом знать не мог. Название документа, Соглашение о посредничестве в вербовке итальянских рабочих и служащих в Федеративную Республику Германия, также мало о чем говорило Джованни. Но это был его шанс – вот единственное, что он понял.
Джованни покидал кинозал, утратив всякий интерес к Жану Серве и ограблению парижского ювелирного магазина.
Клерк из окошка приемной выдал Джованни голубую брошюру: «Новая жизнь в Западной Германии».
В душном коридоре толпились шумные, небритые южане – апулийцы, калабрийцы, неаполитанцы, сицилийцы. Широкие штаны, по-крестьянски подпоясанные бечевкой, запах табака и затхлых каморок, запах бедности… Джованни хорошо помнил его с детства. Первое, что он сделал, ступив на миланскую землю, – стянул в лавке бутылочку дешевого парфюма, которым не брезговала пользоваться и Джульетта.
Большинство собравшихся были если и старше Джованни, то ненамного и прибыли в «немецкую комиссию» в Вероне на поездах, с узлами и чемоданами, набитыми тряпьем и снедью, чтобы спустя год или два вернуться с Севера с кейсами, полными немецких марок.
Джованни явился без чемодана, разузнать, что и как. Не в его правилах было очертя голову бросаться в незнакомое дело.
На стене висела бумага с перечнем вакансий, и Джованни углубился в ее изучение.
Вакансия: сварщик, количество – 8 человек; работодатель: «Райнише Штальверке»; место расположения: Эссен.
Вакансия: горный рабочий; количество – 25 человек; работодатель: компания «Цехе-Лотринген»; место: Бохум, Герте.
Вакансия: посудомойщик; количество – 2 человека; место: отель «Хиршенбергер»; место: Гармиш-Партенкирхен.
Вакансия…
Небритые мужчины, распространяя запахи табака и несвежей одежды, громко спорили и сбивались в группы, чтобы не отправляться на чужбину в одиночку. Время от времени в коридор выходил человек, который снимал бумаги и заменял их новыми, при этом свободного места на стене оставалось все меньше. «Как на миланской бирже», – подумал Джованни. С той только разницей, что здесь торговали людьми.
При этом он не мог не восхититься слаженностью работы немецкого учреждения. Шаблоны трудовых контрактов на все вакансии лежали готовые, оставалось вписать персональные данные завербованного и поставить дату, как только находился подходящий кандидат.
Посреднические услуги предоставлялись бесплатно, что особенно должны были оценить итальянцы, которым без «подмазки» не обходилась ни одна чиновничья закорючка.
Один за другим претенденты входили в комнату, где двое немцев в костюмах и при галстуках ставили с их слов пометки в бумагах и пропускали дальше. Окончательный вердикт выносил доктор, который заглядывал каждому в рот и в штаны и, не обнаружив признаков заразных болезней, допускал к получению контракта. Завербованному полагался пакет с едой, десять немецких марок и билет на поезд – из тех, что были специально организованы для такого рода пассажиров.
Сама процедура показалась Джованни отвратительной – как на скотном рынке! Особенно неприятно поразило его то, с какой покорностью соотечественники позволяли себя унижать. В их глазах читалась обида, иногда затаенный гнев, но никто не протестовал, потому что выбора у них не было. Там, откуда приехали эти люди, было нечего есть. Джованни же имел и работу, и крышу над головой. Оставалось возблагодарить за это Господа и покинуть контору подобру-поздорову, но тут ему взбрело в голову поинтересоваться у мужчин с подписанными контрактами в руках размером оплаты.
– Сколько это в лирах? – спросил Джованни в окошке.
И остолбенел. На немецкой угольной шахте он бы зарабатывал почти вдвое больше, чем на сборочной линии «ИЗО». В качестве подсобного рабочего! Сколько же, в таком случае, они платят квалифицированному механику? И при этом предоставляют жилье и медицинскую страховку.
Перспектива долбить молотком в темной душной штольне не казалась Джованни особенно радужной. Из кинохроник он знал, что в шахтах случаются обвалы. И никак не мог поручиться, что не сойдет с ума за недели, месяцы, годы без солнца. Но ведь это не навсегда. За какие-нибудь пару лет он наверняка накопит нужную сумму и сможет учиться.
– Поедем в Германию, – сказал Джованни Энцо после ужина и выложил на стол брошюру. – Вместе мы разбогатеем и, когда вернемся домой, сможем построить дом на Салине, для всех.
Энцо пролистал брошюру с фотографиями уютных домиков на одну семью.
– И такой дом они дают каждому? – спросил он.
– Да, – ответил Джованни. – У них все отлажено и продумано до мелочей, porca Madonna!
– Сколько они платят?
– Механик с твоей квалификацией получает две сотни марок в месяц.
– Сколько это?
Когда Джованни назвал сумму в лирах, Энцо в задумчивости покачал головой:
– С этого не разбогатеешь.
Джульетта решительно вырвала брошюру из рук мужа:
– Нет! Никогда.
– Но почему? – удивился Джованни. – Швеи там тоже нужны, а если хочешь…
– Нет! – Джульетта закричала так пронзительно, что больше Джованни возражать не решился. – Кто будет заботиться о маме?
– Но я не такая старая, – подала голос Кончетта. – Думайте о своем будущем. Все, что мне надо, – чтобы вам было хорошо.
– Разумеется, мы будем и дальше оплачивать аренду квартиры, – сказал Джованни. – Это не подлежит обсуждению. Мы будем приезжать к тебе в отпуск, а года через два вернемся насовсем. Смотри, Джульетта, у них есть детский сад… – Он ткнул пальцем в брошюру.
– Я не поеду в Германию! Там холодно!
Джульетта выскочила из-за стола так резко, что ее тарелка упала на пол, паста с соусом вывалилась на плитку.
– Что с тобой, сестра? – недоумевал Джованни. – В Милане ненамного теплее.
– А о маленьком Винченцо ты подумал? – Джульетта задыхалась от возмущения. – Он ведь такой чувствительный…
Винченцо за стенкой проснулся и закричал. Кончетта принялась успокаивать Джульетту:
– Что с тобой, детка? Я присмотрю за Винченцо, пусть остается со мной.
Разъяренная Джульетта убежала в спальню. Хлопнула дверь. Энцо, Джованни и Кончетта озадаченно переглянулись.
Спустя некоторое время Энцо пошел к жене поговорить и, вернувшись, покачал головой:
– Мы не едем в Германию. – Он пожал плечами: – Она не хочет.
В ту ночь Джованни не сомкнул глаз. Пока все спали, он курил у окна на кухне. Канал лежал окутанный густым туманом. В голове Джованни пощелкивала счетная машинка. По временам подавал голос малыш Винченцо, и Джульетта принималась его успокаивать.
Потом она вышла из спальни, прижимая к себе малыша.
– Продай ее, – она кивнула на машинку, – а деньги возьми себе.
– Ты спятила? Это же твое будущее!
Джульетта покачала головой:
– Это мое прошлое. Мое будущее – Винченцо. Продай ее и купи билет в Германию. Там твое будущее.
Джованни смутился. Сестра поставила машинку у его ног и отнесла Винченцо обратно в спальню. Сквозь неплотно прикрытую дверь Джованни слышал сицилийскую колыбельную, которую когда-то пела над ним его мать.
Винченцо быстро уснул, Джованни же продолжал стоять. В глубине души он понимал, что это к лучшему. Пусть Джульетта остается здесь, он уедет один. Джованни любил сестру больше всех на свете, но он хотел свободы. Сын, брат, дядя, шурин – в конце концов, сколько можно? Желание начать собственную жизнь гнало его в дорогу больше, чем потребность в деньгах.
Джованни закончил учебу на сборочной линии и незадолго до первого дня рождения Винченцо в июне 1956 года сжег повестку в армию и купил на блошином рынке старый чемодан. На прощанье Джульетта связала брату теплый шарф. Закутанный в подарок сестры Джованни смотрелся странно на улицах июньского Милана, но шарф не снимал. На вокзал его провожали всей семьей.
При нем был заграничный паспорт, свидетельство о прохождении обучения на заводе, нотариально заверенный документ о семейном положении и бумага из полиции, удостоверяющая, что Джованни не преступник.
Дабы избежать унижений, Джованни отказался от услуг «немецкой комиссии» в Вероне, поэтому готового контракта у него при себе не было. В баварском Мюнхене, куда прибывали поезда с трудовыми мигрантами, представители немецких компаний высматривали желающих наняться прямо на вокзале. Так, по крайней мере, рассказывали. И еще – что небо в Германии всегда серое, еда скверная, а женщины все как одна – блондинки.
Прощание далось Джованни тяжелее, чем он думал. Было шесть часов утра, воздух еще не успел прогреться после ночи. Джульетта взяла с собой на вокзал заспанного Винченцо.
– Я вернусь, мой ангел, – обещал ей Джованни, – и привезу тебе подарок из Германии. Береги маму!
Винченцо смотрел на дядю и не понимал, что происходит. Кончетта сунула сыну в карман пальто медальон святого Варфоломея.
– Зачем? – удивился Джованни.
– Он защитит тебя в пути.
– Но ты всегда говорила, что путешественников оберегает святой Христофор. А Варфоломея призывала, когда не могла найти очки.
– Ты путаешь, дорогой, – отвечала Кончетта. – То был святой Антоний. А теперь успокойся и не позорь меня перед людьми, слышишь?
Варфоломей был ее фаворитом, поэтому шуток на эту тему Кончетта не понимала. Некогда любимый ученик Христа, он оставался бесспорным capo над всеми святыми и праведниками в райских кущах. Согласно легенде, в детстве наводившей ужас на Джованни и Джульетту, со святого Варфоломея содрали кожу и, еще живого, бросили в море где-то в Армении. Но Божиим провидением тело его прибило к берегу Липари, где его и нашли. И по сей день клочок его кожи хранился в тамошней церкви Святого Варфоломея. Легенда умалчивала о том, каким образом жители острова вообще узнали освежеванное тело святого. И эта нестыковка, когда-то не дававшая спать маленькому Джованни, окончательно отвратила его взрослого от садомазохистских католических бредней.
– Господь да хранит тебя, – напутствовала Кончетта, целуя Джованни в обе щеки.
Джульетта схватила его за руку уже в дверях вагона:
– Возвращайся скорей, иначе я буду плакать.
Она хотела, чтобы это прозвучало как шутка, но в глазах сестры Джованни увидел страх. Напрасно он смеялся, пытаясь развеселить ее. Джульетта обвила руками шею брата и зарыдала. Джованни гладил сестру по спине, утешал как мог, но она вздрагивала всем телом и отпустила его, только когда вагон тронулся с места. Когда же застекленное здание вокзала осталось позади, расплакался уже Джованни. Он оплакивал не свою участь. Джованни было жалко сестру, которую он оставляет в этом чужом ему городе. За грязными окнами мелькали убогие дома предместий. Покинув Салину, Джованни расстался с морем. Теперь же он лишился семьи. И больше у него ничего не осталось.
Глава 17
Носки. Кальсоны – три пары, столько же брюк. Три майки, столько же рубах. Пуловер. Бритвенный прибор, крем для бритья и помазок – белый, из какого-то искусственного материала. В том, что касалось помазков, он не терпел никаких компромиссов. Зубная щетка. Вода для полоскания рта. Пилка для ногтей. «Следи за ногтями, это нравится женщинам», – напутствовала мать.
Вот только сменной пары ботинок у него не было. Вечером Джованни отполировал обувь оливковым маслом при помощи кухонного полотенца.
Единственный костюм он надел. Плюс ковбойскую шляпу – вроде той, что была на Жане Серве.
В один из носков Джованни спрятал семь купюр по десять марок каждая. Это было все, что он получил в обменном пункте за десять тысяч итальянских лир. Джованни даже подумал, что меняла хочет его надуть. Но потом выяснилось, что стоимость немецкой марки неизмеримо выше, чем итальянской лиры. Это открытие оставило горький привкус.
В Вероне у него была пересадка. На вокзале царил хаос. Повсюду южане – чистые, выбритые, приодетые, а потому почти неузнаваемые. Большинство – в дешевых летних костюмах, с сумками, набитыми провиантом и проездными бумагами. Многие надели галстуки, из карманов пиджаков торчали носовые платки. Неаполитанец разгуливал по перрону в белых гамашах с лампасами. Со стороны все это в равной степени походило на безумный народный праздник и на воздушную тревогу.
Подали специальный состав до Мюнхена – с коричневым электрическим локомотивом. Итальянским, хотя темно-зеленые вагоны украшали логотипы «Немецких железных дорог».
Восемь вагонов везли бедняков в страну обетованную. В купе пахло орегано, чесноком и несвежими носками. В туалет было не попасть. Пакеты с пастой и оливковым маслом, салями и головками сыра подавались снаружи через открытые окна.
Помимо скарба, каждый из пассажиров увозил в чемоданах свои мечты и страхи. И медальоны со святыми. О них не забыли даже упертые коммунисты. Вдруг пригодится, чем черт не шутит?
Уж кто действительно не находил себе в тот день места, так это святые Христофор и Варфоломей, не говоря о Мадонне, которым предстояло курировать своих подопечных на чужбине. Можно представить себе, какая неразбериха творилась на небесах.
В одном купе с Джованни ехали сицилийцы из Чефалу. От его родного острова до Сицилии можно было добраться на пароме за несколько часов, хотя для салинцев Сицилия находилась где-то в другой галактике. Когда житель Салины брал в жены девушку из Чефалу, это всегда выливалось в скандал. Здесь же, в поезде, вчерашние соперники приветствовали друг друга как братья. В конце концов, они говорили на одном диалекте.
Их было четверо, простые крестьяне, все старше Джованни. Они делили с ним хлеб, показывали семейные фото и контракты с «Райнэльбе Бергбау».
– Чем занимается эта компания? – спросил Джованни.
– Уголь, – ответил один из мужчин.
– И где это?
Все четверо пожали плечами.
– Ты-то куда? – поинтересовались, в свою очередь, соседи. – Где собираешься работать?
– Пока не знаю.
– Давай к нам.
Джованни вздохнул. «Берегите своих святых, они вам еще пригодятся», – мысленно напутствовал он соседей.
В купе за стенкой затянули песню.
На перевале Бреннер было тихо. По вагонам рыскали немецкие овчарки. Австрийские пограничники проверяли паспорта. За окнами маячили фигуры американских автоматчиков. Снаружи сразу стало холодно. На душе – тошно. Когда состав тронулся, сицилийцы снова запели.
Джованни вспомнил отца. Будь у того хоть малейший шанс, обязательно уехал бы в Германию. Если существовали небеса для коммунистов, в этот момент отец следил оттуда за сыном и его сердце переполнялось гордостью.
После обеда поезд прибыл в Мюнхен. Никто не встречал итальянцев с оркестром, как ожидали некоторые. Напротив, первым делом их согнали в подвал.
Единственным сопровождающим оказался худощавый немецкий чиновник в роговых очках, беспрестанно объявлявший в громкоговоритель что-то непонятное. Никто его не слушал. Люди кричали, передавали друг другу чемоданы из окон. А потом, как послушное стадо, потянулись за немцем в холодное, вонючее подземелье. На лицах их было недоумение. По бетонной стене тянулась немецкая готическая надпись: «Бомбоубежище», но ее никто не понял.
– Это бывший бункер, – объяснил чиновник с громкоговорителем. – А теперь здесь перевалочный пункт.
Понятней не стало.
Немец велел поместить багаж на стойку, взять каждому номерок и приготовить трудовые контракты.
Две пышнотелые официантки в белых передниках разливали кофе из огромного чайника. Они же вручали каждому прибывшему коричневый бумажный пакет с булочками, салями, плавлеными сырками, пачкой печенья и плиткой шоколада. Сразу стало повеселее. Невкусный кофе Джованни только пригубил, приветливо кивнул дамам и отставил чашку.
Тех, кто не имел контракта с работодателем, направляли в особую комнату, к врачам. Там было устроено два смотровых кабинета, разделенных портьерой, – для мужчин и для женщин. Хотя мужчины явно преобладали. Женщины из Южной Европы массово устремились на север лишь спустя несколько лет. Но тогда никто не загадывал так далеко. Итальянцы вообще не думали задерживаться в Германии надолго. А уж остаться здесь насовсем никто и вовсе не помышлял.
В бункере Джованни впервые услышал слово «гастарбайтер». Человек с мегафоном объяснял его, поглядывая в словарь. Оно означало «гостя, который является таковым до тех пор, пока работает». «Странное слово», – подумал Джованни. У них на острове гостям не давали работать. Чиновник объяснил Джованни, что тот получит направление на работу сразу, как только пройдет медицинский осмотр. Не успел Джованни спросить, о какой работе идет речь, как его оттеснили новые соискатели.
Джованни понимал, что одиннадцатый путь Центрального вокзала Мюнхена – это остров Эллис Германии. Но если в Америке прибывших мигрантов встречала гордая статуя Свободы, то Германия первым делом отправляла «гостей» в бункер. Разумеется, американцы фильтровали не менее жестко. Лишь самым трудоспособным были открыты двери в страну. А те, у кого находили инфекции, особенно корь, как и обладатели паспортов нежелательных стран, с ходу выдворялись обратно.
Но унижение терпели, сжав зубы. Америка обещала эмигрантам – при условии, разумеется, добросовестной работы – пожизненное место в своем гостеприимном доме. Предлагала стать частью ее национальной – американской – мечты. Германия же предлагала «гостям» до поры засучить рукава и трудиться, а потом убраться восвояси. Негласным условием сделки было «не задерживаться». Да и сами прибывшие надеялись через пару лет благополучно отбыть домой.
Врач – бледный худощавый господин – явно пережил лучшие годы своей карьеры. Военной, судя по резковатым движениям и командным ноткам в голосе. Джованни поздоровался с доктором по-немецки. «Гутен таг» – одно из немногих выражений, которым успела научить его Джульетта. Немец холодно кивнул и, не представившись, приказал Джованни раздеться. Увидев, как тот опешил, подкрепил фразу поясняющим жестом.
Нехотя Джованни стащил с себя пиджак, потом рубашку, ботинки и, наконец, штаны. Доктор показал на носки. Джованни покачал головой: ведь там были деньги.
– Руки за голову, – скомандовал немец.
Затем осмотрел подмышки, нет ли вшей, посветил в рот карманным фонариком и протянул сосуд, в который Джованни должен был помочиться. Джованни огляделся в поисках туалетной комнаты, но, судя по всему, приказание следовало выполнить на месте. Доктор отвернулся и стал готовить шприц.
Джованни был не робкого десятка. Но в бетонном бункере, со спущенными штанами, да еще в компании вооруженного шприцем врача станет не по себе кому угодно. Когда же немец принялся глазеть ему между ног, Джованни решил, что с него довольно. Он прибыл сюда не попрошайкой. Это немцы позвали к себе «гостей», и Джованни был готов продавать им свои рабочие руки, но не человеческое достоинство.
Он протянул доктору сосуд с мочой и начал одеваться.
– Нет-нет… – остановил его немец. – Я еще не сделал анализ крови… Кровь… Sanguis…[59]
Джованни не понял ни слова, но ему было все равно.
– Спасибо, – сказал он доктору по-немецки, повернулся и вышел.
Джованни пробрался сквозь толпу, игнорируя оклики бывших соседей по купе. Взял со стойки чемодан, пошел к лестнице, ведущей из бункера на вокзал. Он понятия не имел, что станет делать дальше, – все лучше, чем этот подземный рынок рабов.
Наверх Джованни вырвался уже почти бегом и остановился только на улице. Вдохнул свежий воздух. Нет, шахта не для него. Он заслуживает лучшего. На память пришли слова Джульетты: «Ты у меня ловкач, Джованни. У тебя не только руки на месте, но и голова». Значит, пришло время показать себя. И здесь, по правде сказать, Джованни не очень-то рассчитывал на себя. Но у него имелось верное преимущество перед бедолагами из бункера, а именно знакомый немец.
Впервые в жизни Джованни взял такси. Вечный пассажир трамваев, никогда не имевший даже мотоцикла, он ни с того ни с сего протянул чемодан водителю, и сделал это так естественно, будто всю жизнь пользовался услугами носильщиков. Таксист приветствовал его с почтением, что удивило Джованни. «Неважно, кто ты и откуда, – подумал он. – Главное – сколько у тебя в кошельке».
Развалившись на заднем сиденье дизельного «мерседеса», Джованни потыкал кожаную подушку и покачался, пружиня упругую спинку. Впервые в жизни он сидел в автомобиле и указывал шоферу, куда ехать.
Джованни велел отвезти его на завод «БМВ». По дороге удивлялся, какой Мюнхен маленький. Здесь, должно быть, скука, как в какой-нибудь сицилийской деревне. Не такой представлял Джованни Германию по рассказам земляков.
Единственным, что приятно удивило его, было множество «изетт» на дорогах. Джованни так и объяснил таксисту, что имеет в виду под «Би-эммэ-ву», – завод, на котором делают «изетту». И немец сразу все понял. А Джованни уяснил, в свою очередь, что «Би-эммэ-ву» на самом деле называется «Бэ-эм-вэ». И еще – не стоит усердствовать с приветливостью, доброжелательных людей не воспринимают всерьез. И зря Джованни улыбался тому доктору, который был откровенно ему неприятен. Чем меньше говоришь, тем солидней выглядишь.
Он объяснил таксисту, что работает на заводе «ИЗО» в Милане, который тоже производит «изетты». А на «БМВ» у него важная встреча. И водитель кивнул, хотя не понял ни слова. Совсем как такса из странного материала на приборной панели, которая все время согласно мотала головой. И снова дело не в том, что ты сказал, а в том, как ты сказал. И немного высокомерия здесь совсем не помешает.
Положив одну руку на спинку сиденья, Джованни другой попытался вытащить купюры из носка. Он открыл окно, чтобы водитель не почувствовал запаха его потных ног, и помолился святому Варфоломею, чтобы денег хватило.
У заводских ворот перевес силы снова оказался на немецкой стороне.
Сторожу, крепкому неприветливому баварцу, было совершенно все равно, чего хочет от него этот прыткий иностранец с картонным чемоданом. Не назначено – хода нет. Будь ты хоть сам Папа Римский, хоть «амиго дотторе» Винсента Шлевица, инженера «делла изетта». Лишь благодаря обаянию Джованни удалось избежать позорного отступления.
Юная секретарша – блондинка и на голову выше Джованни, – выходя из ворот, услышала его перепалку со сторожем. «Дотторе Винсент Шлевиц» оказался ее новым шефом. Девушка немного понимала по-итальянски, и парень с чемоданом ей понравился. Джованни же первым делом взглянул на ее руку и убедился, что там нет обручального кольца. Он уже уяснил для себя, что немецким женщинам нравятся итальянцы.
Блондинка провела его к шефу.
Винсент так и застыл при виде гостя. Да и сам Джованни был удивлен немало. Куда подевался тот парнишка с мотоциклом? Перед ним был ведущий инженер крупнейшего в Европе предприятия – в костюме, при галстуке, с собственным кабинетом и секретаршей.
Винсент походил на бизнесмена из американского кино, какие днями напролет висят на телефонах в нью-йоркских бюро, а под вечер разъезжаются по пригородным виллам за высокими белыми заборами.
На стене позади Винсента висел рекламный плакат с изображением «изетты», которая будто тоже повзрослела за это время. Хотя это была другая, немецкая «изетта», которую создал Винсент.
Опомнившись, Джованни раскрыл «амиго» объятия.
– О, синьор Попометр! Complimenti![60]
Джованни и не ожидал от Винсента столь же бурного всплеска эмоций. В конце концов, в Милане они расстались не самыми близкими друзьями. Но холодность немца поразила его. «Синьор Попометр» ни разу не взглянул ему в глаза. Секретарша Марианна Кампс поставила на стол фильтрованный кофе. Винсент даже не предложил Джованни сесть.
– Я всегда знал, что ты станешь большим человеком, – по-итальянски сказал Джованни. Он все еще держался так, будто ничего не замечал, – просто встретились два старых друга после долгой разлуки.
– Что случилось? – Винсент кивнул на чемодан.
Джованни улыбнулся и попробовал ответить по-немецки.
– Я… – он ткнул себя пальцем в грудь, – работа…
Потребовалось немало времени и усилий – и помощи со стороны фройляйн Кампс, – прежде чем Винсенту удалось донести до сведения нежданного гостя, что инженеры на «БМВ» не занимаются кадровыми вопросами. Для этого существует отдел персонала. Хотя… честно говоря, весьма сомнительно, чтобы на сегодняшний день компания планировала брать новых людей.
Джованни не мог понять, говорит немец правду или просто хочет от него поскорей отделаться.
– Хорошо, – сказал он. – Я все понял. Буду искать сам.
И двинулся к выходу.
О главном они так и не сказали друг другу ни слова. Тень Джульетты все это время стояла между ними.
– Джованни! – крикнул Винсент в спину гостю. – Постой… Где ты остановился?
Итальянец пожал плечами.
– Можешь пожить у меня несколько дней, если хочешь.
Джованни не знал, как отнестись к этому предложению. Согласие обязывало, делало его несвободным. Но куда, если не к Винсенту? Обратно в бункер?
Сейчас главным было выиграть время.
Когда вечером того же дня Джованни с чемоданом в руке стоял в квартире Винсента, в душу ему закралось неприятное чувство. Трехкомнатная квартира в пятиэтажной новостройке была хорошо меблирована и оборудована всем необходимым. Но производила впечатление необжитой или же просто слишком просторной для молодого холостяка. Как будто диванный гарнитур, желтый журнальный столик в форме человеческой почки, «стенка» с телевизором, мятного оттенка кухня и белая двуспальная кровать намекали на нечто большее.
Обстановка была лишена уюта, какой может создать только присутствие женщины. На окнах не было гардин, на столе – скатерти, на полу – ковра. И никаких ваз с цветами. В холодильнике вместо свежих фруктов и овощей только банки с консервами. Пока Джованни осматривался, Винсент приготовил кофе.
Впрочем, в гостиной рядом с диваном обнаружился уголок, излучавший больше домашнего тепла, чем вся остальная квартира. Над проигрывателем висела фотография Миланского собора, стояли в ряд пластинки Катерины Валенте, а на модном журнальном столике лежало издание «Итальянских путешествий» Гёте.
В стенном шкафу, слегка прикрытая книгами, стояла еще одна фотография в рамке: Винсент с мотоциклом и Джульетта на фоне Миланского собора. Увидев ее, Джованни понял, что история его сестры и немца еще не закончилась. Более того, только начинается.
– Растворимый? – спросил Винсент.
– Растворимый?
– Кофе. Только развести водой – никаких фильтров, никакой гущи.
Винсент пил молча, так что и у Джованни все слова вдруг вылетели из головы.
– Она счастлива? – по-немецки спросил Винсент.
Джованни не понял. Винсент показал на фото в шкафу и повторил по-итальянски:
– Felice?
– Sì, sì, – быстро закивал Джованни. – È molto felice[61].
– А bambino?
– Винченцо? È un bellissimo bambino. Molto intelligente![62]
Джованни постучал себя пальцем по виску, но Винсент и без того уже догадался. Повисла пауза. Джованни достал из чемодана снимок, чтобы скрасить неловкое молчание.
Там было все семейство. В центре Джульетта с ребенком на руках. Рядом Энцо с Кончеттой и Джованни. Крестный Винченцо щелкнул всех на фоне канала рядом с церковью. Винсент долго вглядывался в снимок, как будто надеялся прочитать ответ на один-единственный вопрос: почему она так поступила?
Джованни, в свою очередь, изучал лицо Винсента. У него тоже имелся вопрос, который он ни за что не решился бы задать Джульетте. Кто отец?
Винсент все молчал, вглядываясь в снимок, и Джованни сказал:
– Винсент, Giulietta è una mamma. È finito. Basta, ciao, capisci?[63]
Винсент прошел на кухню, намазал маргарином два куска хлеба, положил на них по тонкому ломтику ветчины. Потом достал два кружка консервированных ананасов из уже открытой банки и дополнил композицию кусочками плавленого сыра из пластиковой коробочки.
– Практично, – Винсент кивнул на коробочку, – сыр всегда свежий и уже поделен на порции.
Пока тосты запекались в духовке, Винсент объяснил, что это его любимая еда. На посторонний взгляд, чистой воды экзотика. Не хватает только коктейльной вишенки, но не бежать же за ней сейчас. Вместо нее Винсент предложил добавить приправы, о которой Джованни прежде не слышал.
– «Фондор»… Для изысканного вкуса.
Джованни не стал говорить, что это первый ананас в его жизни. Он не переставал удивляться изобретательности немцев, пусть даже и в том, что касалось кухни. В Италии никто не додумался бы до такого. Ветчина и сыр, соленое и сладкое вперемежку. Первое, второе и десерт в одном! Это позволяет сэкономить кучу времени. Что, если тост «Гавайи» и есть главная тайна немецкого экономического чуда?
После еды Винсент включил черно-белый телевизор.
– Там даже рекламу показывают, – сообщил он.
Меньше всего Винсент рассчитывал произвести на гостя впечатление. И телевизор тоже был не более чем попыткой отвлечься от главной для обоих темы.
В рекламном ролике на экране домохозяйка приготовила пудинг при помощи волшебного порошка. Муж пришел в восторг от ее стряпни, и женщина сияла от счастья.
В следующем ролике за столом сидела немецкая семья, а повар в большом колпаке проверял блюда аппаратом под названием «вкусомер». Прибор походил на градусник. Когда повар сунул его в жаркое на отцовской тарелке, серебристый столбик на шкале поднялся до отметки «есть можно». И взлетел до «великолепный, насыщенный вкус» после того, как повар добавил в блюдо порошок из пакетика. Джованни вспомнил, что такими же специями Винсент приправлял тосты.
– «Фондор» для изысканного вкуса! – объявила женщина на экране и восторженно заулыбалась.
Винченцо достал сигареты «Оверштольц», предложил гостю. Оба курили, глядя, как рекламные домохозяйки делают мужей счастливыми.
На следующий день Винсент переговорил с кем-то из отдела персонала и вечером сообщил, что «БМВ» приостановила набор сотрудников, даже немцев.
«Изетта» действительно продавалась хорошо, только это и позволяло компании держаться на плаву и отодвигало продажу активов «Мерседесу». Чтобы развиваться дальше, компании требовалось разрабатывать новые модели среднего класса собственными силами. Именно этим и занимался Винсент. На производстве были востребованы молодые инженеры, но не рабочие.
– Поезжай в Вольфсбург, – посоветовал он итальянцу. – Сборочные линии «Фольксвагена» загружены на полную мощность. В прошлом году они преодолели миллионный рубеж.
То есть выпустили больше миллиона автомобилей. Немцы если за что и берутся, то основательно, будь то в Вольфсбурге или Сталинграде. «Фиат» за все время своего существования изготовил вполовину меньше «тополини». Вот какие чудеса творит немецкое трудолюбие и техническая смекалка.
– Но на «жуках» им долго не протянуть, – продолжал рассуждать Винсент. – Довоенная модель, в шестидесятые никто ее покупать не станет.
Джованни понял, что Винсент сделал для него все, что хотел, и пора убираться. «Гость что рыба, – говорили у него на родине. – Через пару дней начинает пованивать». А Джованни и вправду не сделал для Винсента ничего такого, за что тот остался бы ему должен.
Поэтому в тот же вечер итальянец собрал чемодан. Винсент не стал спрашивать, где Джованни собирается ночевать. Просто пожелал ему удачи.
А Джованни и не думал о ночлеге. Около полуночи он вернулся на вокзал – точнее, в катакомбы под железнодорожными путями. Даже в этот час бункер был переполнен. Люди отходили от утомительного путешествия, спали кто на стульях, кто на складных лежанках.
Джованни спросил земляков, не собирается ли кто из них в направлении Вольфсбурга. Но контрактов с «Фольксвагеном» ни у кого не оказалось. Вольфсбург находился недалеко от границы с ГДР, поэтому там хватало рабочих с Востока. Это позже, уже после возведения Стены, Вольфсбург стал превращаться в итальянский город на территории Германии.
Джованни смотрел на земляков и чуть не плакал. Горнорабочие, мусорщики, посудомойщики – последние из последних. После непродолжительного путешествия в другую жизнь, с телевизором, тостом «Гавайи» и секретаршей-блондинкой, участь итальянских гастарбайтеров казалась ему вдвойне жалкой.
В ту ночь Джованни пришел к выводу, что его мечты не стоят и ломаного пфеннига. Чем он лучше этих бедолаг, которые трудятся в поте лица, чтобы свести концы с концами? Что может он противопоставить судьбе, от рождения определившей ему место в этом мире рабов и господ?
Человек из Палермо рассказал, что на Центральном рынке ищут подсобных рабочих. Сам он уже пристроился за пятьдесят восемь пфеннигов в час. Утром мужчина отвел Джованни к одному мюнхенскому оптовику. Удалось договориться за семьдесят пфеннигов в час.
Джованни поселился в дощатом бараке за городом, где делил комнату с семью итальянцами. На всех была одна раковина, одна газовая плита и один кипятильник. Каждое утро Джованни вставал в четыре часа и пешком отправлялся на Центральный рынок таскать ящики с сицилийскими апельсинами.
Глава 18
Мюнхен, Бавария
30 сентября 1956 года
Моя дорогая сестра!
Германия прекрасна. Здесь есть место каждому, и неважно, откуда ты родом и какие имеешь связи. В расчет принимаются только твои способности.
Мне предложили место сборщика на конвейере «БМВ», но я отказался. Сейчас работаю на «Мерседесе». Здесь лучше платят, да и машины совсем другого класса. Покупатели – самая изысканная публика. Скоро я заработаю денег, вернусь домой и открою свою фирму.
Как дела у маленького Винченцо?
Поцелуй его за меня.
Обнимаю.
Твой Джованни
Милан
16 октября 1956 года
Дорогой брат,
Как я была счастлива, когда вчера получила твое письмо!
Не проходит и дня, чтобы я не думала о тебе и не тосковала. Рада, что у тебя так хорошо сложилось в Германии. Горжусь, что ты идешь своим путем.
Я связала тебе носки, ведь в Германии такие холодные зимы. Винченцо растет не по дням, а по часам. Ты вряд ли узнаешь его, когда вернешься. Мне кажется, он каждый день прибавляет в росте на сантиметр. Как будто торопится наверстать то, что недобрал раньше. И еще он страшный непоседа. Целый день бродит по квартире и хватает что ни попадя.
Он прирожденный исследователь, все должен ощупать и изучить. И знаешь, он заболел после твоего отъезда. Глаза. Доктор Скатта сказал: инфекция. Нужно остерегаться солнечного света, иначе отслоится сетчатка.
Я сшила гардины на окна. Конечно, Винченцо все время норовит выглянуть на улицу, он ведь такой любопытный. И я не всегда успеваю оттащить его от окна.
Дорогой братец, мне еще столько всего хочется тебе рассказать. Часто вспоминаю, как детьми мы бегали к морю, сидели на скале и поверяли друг другу свои маленькие тайны. Ни один человек на свете не знает меня так, как ты. Слышишь ли ты меня, когда я мысленно разговариваю с тобой?
Я спрашиваю себя, что ты ешь и не ходишь ли голодным. Есть ли у тебя друзья и скучаешь ли ты по нам. И тут же говорю себе, что должна отпустить тебя, что у тебя свой путь, который ты пройдешь без меня.
Люблю.
Твоя сестра Джульетта
P. S. Энцо сказал, что «Мерседес» в Штутгарте.
Разве ты больше не в Мюнхене?
Мюнхен, Бавария
14 декабря 1956 года
С Рождеством, дорогая Джульетта.
Я впервые встречаю этот праздник без вас.
Мне жаль, что я не смог приехать и что так давно тебе не писал.
На открытке ты видишь немца. Представь, они добавляют в горчицу сахар, чтобы не было так остро, и приправляют ею белые колбаски, которые едят руками.
И еще так чавкают, как ненормальные.
Передавай привет маме, Энцо и Винченцо.
Джованни
P. S. Я все еще в Мюнхене. Компания «Мерседес» имеет здесь большой салон. Я работаю в автомастерской, скоро стану мастером.
Милан
24 апреля 1957 года
Дорогой братец, эта весна без солнца.
На улицах полно людей и деревья стоят в цвету, а мы с Винченцо сидим за закрытыми шторами.
На завод я так и не вернулась, потому что не могу доверить Винченцо маме. Но нам всего хватает. Слава Богу, в этом мы можем положиться на Энцо.
Глаза Винченцо – вот что меня сейчас больше всего беспокоит. Доктор Скатта говорит, что нужно набраться терпения. Только мне кажется, он и сам плохо представляет себе, к чему все идет.
Мама говорит, Винченцо сглазили, ты ведь ее знаешь. Она ходила к одной своей подруге гадать на кофейной гуще. Представляешь, что выпало? Он выздоровеет!
Винченцо чувствительней, чем другие дети, но в нем горит Божественный огонь. Значит, ему суждено изменить этот мир. Он пойдет далеко, дальше всех нас. Но Божественный огонь – опасная вещь. Если человек носит его в себе, не имея над ним власти, все, что он им создал, будет разрушено.
Ты веришь в это, Джованни?
Пожалуйста, позвони мне, я хочу услышать твой голос.
Твоя Джульетта
Милан
27 декабря 1958 года
Дорогой братец, огромное спасибо за рождественский подарок. Винченцо в восторге. А теперь главное: он снова здоров.
Инфекция не прошла бесследно, один глаз у него теперь карий. Думаю, что другой останется голубым – цвет, который был дан ему от рождения. Доктор Скатта говорит, что это связано с пигментами.
Так или иначе, зрение в норме. И еще, ему снова можно на улицу. Если до сих пор Винченцо жил в мире собственных фантазий, теперь он открывает вселенную в окрестностях нашего дома. И замучил нас вопросами вроде: «Почему люди не летают на Луну?» «Потому что это слишком далеко, милый», – отвечаю я.
«Как далеко?» – «Я не знаю. Настолько, что там нет воздуха, чтобы дышать». – «Но ведь русские посылали собаку в космос». – «К сожалению, она погибла». – «Почему же они не построили ей ракету получше?» – «Потому что это невозможно». – «Почему?»…
И так до бесконечности. Мира, который его окружает, ему явно недостаточно.
Винченцо любит машины, это у него от отца. Он интересуется их названиями и уже умеет различать их лучше, чем я. Когда вчера мы ходили за покупками и мимо проезжал «мерседес», он сразу узнал марку, у него ведь точно такой же, только игрушечный, который ему подарил ты.
Винченцо гордится, что его дядя работает на «Мерседесе».
Когда приедешь навестить нас?
Твоя Джульетта
Налетевший порыв ветра смел листки на землю. Джованни поднялся и подобрал их.
– Почему она вернула тебе твои письма? – спросила я.
– Ничего она не возвращала, – пробурчал Джованни. – Я сам их забрал… Еще вина?
Не дожидаясь ответа, он открыл новую бутылку, наполнил мой бокал. В «айподе» играл блюз. Я чувствовала, что Джованни неприятно мое вторжение в самую потаенную область его жизни. Я догадывалась, что он забрал письма после смерти Джульетты, но расспрашивать не решилась. Мы пили вино. Я рассказывала Джованни о себе и под конец осмелела.
– Но если вы были так близки… неужели она так ни разу и не намекнула, кто отец ребенка?
Джованни посмотрел на меня с недоумением:
– Зачем?
– Или ты знал?
Джованни молчал.
– Она знала, что я знаю, что она знает.
– Почему же вы не говорили об этом?
– Потому что это неважно, – усмехнулся Джованни.
– Но когда ты снова увидел Винсента, тебе не могло не броситься в глаза…
– Это осталось в прошлом. Глупость, ошибка молодости. Джульетта стала матерью. Жизнь идет, нужно уметь забывать.
Я смотрела на него скептически. Мое молчание вывело Джованни из себя.
– Что я должен был делать? – закричал он. – Они были семьей, понимаешь? Кто я такой, чтобы лишать ребенка отца?
Розария накрыла его руку своей, чтобы успокоить. Я поняла, что не имела права ставить под вопрос его решение. Вместо этого я попыталась перевести разговор в более безобидное русло.
– Джульетта пишет только о Винченцо и никогда о себе. Она шила?
Джованни поднял брови, будто не совсем понимал, что это должно значить.
– Винченцо был ее жизнью. Solo Vincenzo. Sempre Vincenzo[64]. Ее принц, ее настоящее и будущее…
– А мода?
– У Джульетты был талант. Одно то, как она смотрела на ткань… как быстро и безошибочно все схватывала, с каким вкусом… Но что-то сломалось… что-то закончилось. Я позвонил ей, сказал: «Ты должна шить. Ты в тысячу раз талантливее меня. Если у меня получилось, у тебя тем более получится». Но она ответила: «Джованни, мы с тобой близнецы, gemelli… У меня есть семья, у тебя успех – мы все поделили».
Джованни задумался и покосился в мою сторону.
– А историю с «Мерседесом» я придумал, чтобы не лишать ее надежды. На самом деле я был все тот же жалкий бедолага с рынка.
Глава 19
Путешествие на юг – это круто, говорят, Только двое итальянцев просто дома быть хотят. О эти двое итальянцев вдалеке от двух подруг, О Тина, о Марина, о Неаполь, дивный юг… Корнелия Фробёсс. «Двое маленьких итальянцев»Летом 1962 года, когда во всех машинах были открыты окна – водители не упускали возможности лишний раз продемонстрировать окружающим, что могут позволить себе радиолу, – Джованни отправился в отпуск в Милан.
За шесть лет жизни в Германии он повзрослел достаточно, чтобы наконец открыть сестре правду. Мать давно интересовалась, когда он вернется в Милан учиться в Политехникуме. Денег ведь, поди, заработал достаточно. Джованни научился обходить этот вопрос. Он посылал домой фотографии, на которых стоял, небрежно опершись на капот «мерседеса». На самом деле заработка едва хватало, чтобы сводить концы с концами.
Он оказался в тупике. Учеба в Политехникуме стала и вовсе недосягаемой. Джованни добивался уважения немецкого работодателя и приятелей, с которыми в обеденный перерыв сидел за кружкой пива, но все усилия шли прахом. Он оставался все тем же «макаронником», последним из последних, низшим звеном в пищевой цепочке Центрального рынка.
При этом они по-своему любили его, что, впрочем, еще больше отдаляло его и от «Мерседеса», и от карьеры механика. Похоже, Джованни недоставало честолюбия, амбициозности, или же он просто не имел настоящего призвания к тому, что раньше считал делом своей жизни. Джованни был не из тех, кого цель гонит вперед, через препятствия начального этапа. Он приспособился, научился жить в свое удовольствие. Полюбил работу, рынок, друзей. Так незаметно пролетели шесть лет.
Человек привыкает к любой лжи, прежде всего к собственной. Но тем настоятельнее ощущает потребность в собеседнике, которому мог бы доверить правду. Для Джованни и после шести лет пребывания на чужбине таким человеком оставалась сестра. Он должен ей исповедаться. Джульетта обязательно поможет и сумеет объяснить все матери.
Поезд мчал через перевал Бреннер. Рядом с картонным чемоданом Джованни лежала тяжелая коробка – подарок Джульетте. На Джованни был клетчатый пиджак и плоское кепи – его любимая модель. Напротив сидела супружеская пара из Эссена. «Италия – прекрасная страна, – говорили они. – Только вот местный кофе – серьезное испытание для желудка. Поэтому, отправляясь в Италию, нелишне прихватить с собой банку ”Нескафе” и кипятильник».
В квартире на Виа-Лудовико-иль-Моро стоял все тот же незабываемый запах – чеснока, лука и сырой штукатурки. Он возвращал Джованни на остров его детства. Все как было – и мебель, и обои. Разве что Джульетта стала больше походить на мать: прибавила в весе и изменилась в лице. Вокруг рта появились озабоченные складки, отличающие пожившую женщину от молодой девушки.
Винченцо только что окончил второй класс. Читать и писать он научился дома, раньше, чем другие дети, отличался любознательностью и страшно любил дядю из Германии – за захватывающие истории, о которых никогда нельзя было сказать, выдуманы они или правдивы. Собственно, последнее занимало мальчика меньше всего. Какая, в конце концов, разница, когда речь идет о компании «Мерседес» и ее мировых рекордах, гонках века и ведерных кружках пива?
– Его глаза… они что, такими и останутся?
Джованни задал этот вопрос шепотом, отведя сестру в сторону.
– Да, – ответила Джульетта.
– Странно выглядит.
– Мама говорит, это знак.
– Какой знак?
– Знак того, что он видит больше, чем мы.
Джованни не слишком верил сицилийским предсказательницам вроде их матери. Но наружность Винченцо раздражала его, и скрыть это было трудно. Будто два разных человеческих лица совместились в одном. С другой стороны, в чем был виноват мальчик? В дальнейшем Джованни старался не касаться этой темы в разговорах с сестрой.
За ужином он поставил тяжелую коробку на стол и улыбнулся:
– Открывайте!
Винченцо помог матери распаковать подарок.
– «Зингер», – объявил Джованни. – Такая была у бабушки, помнишь? Только эта современная, электрическая.
Сдержанная реакция Джульетты удивила его. Сестра вежливо поблагодарила за подарок, поставила машинку на пол и принялась накрывать ужин.
Джульетта изменилась. Не то чтобы ее красота поблекла, но огонь в глазах, который так любил Джованни, потускнел, словно обратился вовнутрь. Лицо посерьезнело, в движениях появилась механическая заученность, как будто все, что она делала, было выполнением долга супруги и матери. Джульетта улыбалась, доставая из духовки горшочек с пастой. И только ему, ее брату, было видно, что она несчастна.
Внимание Винченцо переключилось на швейную машинку. Из непоседливого малыша он превратился в умного, любознательного мальчика, чей исследовательский дух не признавал границ. Напрасно Энцо звал сына к столу. Забыв про пасту, Винченцо озадаченно смотрел на белый штекер в своей руке. Очевидно, немецкие «Зингеры» не были рассчитаны на итальянские розетки.
– Папа, папа, мы должны переделать розетку! – закричал мальчик.
Джованни подвел племянника к столу. Мальчику предназначался другой подарок – серебристый «мерседес» с похожими на крылья дверцами.
– Мама! Мама, смотри! «Мерседес»… У тебя тоже такой есть, дядя Джованни?
– Нет.
– Но ты же писал маме, что у тебя есть «мерседес».
– Да, но у моего четыре дверцы… Так удобнее для пассажиров, понимаешь?
– Тогда почему ты все время приезжаешь на поезде?
– Потому что в Италии очень плохие дороги, мой «мерседес» может сломаться. Ты знаешь, какие автобаны в Германии? Прямые как струна и ни единой выбоины.
Тут пришел черед Энцо вмешаться.
– Ты слышал? У нас тоже строится автострада Дель-Соле между Миланом и Неаполем… Прямиком через По и горы… Они перемещают целые деревни!
– Возможно, но немецкие все равно прямее.
Энцо прикусил язык. Джульетта поцеловала Джованни в макушку:
– Я так горжусь тобой, братец! Я всегда знала, что ты далеко пойдешь…
– Еще бы, на шее-то никто не висит, – проворчал Энцо.
Джованни поразил его неприятный тон. Энцо явно завидовал Джованни, который, как и прежде, был для Джульетты самым близким человеком.
– Покажи дяде Джованни свои рисунки, Винче, – сказала Джульетта сыну, чтобы сменить тему.
Винченцо выбежал из кухни и вскоре вернулся с кипой рисунков.
– Вот, дядя Джованни, мои творения…
Автомобили всех мыслимых и немыслимых форм и расцветок на листках в клетку, вырванных из школьных тетрадей. Такие машины не ездят по улицам. Винченцо рисовал автомобили будущего.
– Вот это ракетомобиль, – объяснил мальчик, – спереди бензобак, посредине место водителя, а сзади ракетная установка.
– Браво, Винченцо! – восхищался Джованни и листал дальше. За ракетомобилем следовали автомобиль с крыльями, авторотор и автосубмарина.
– Почему ты не делаешь такие, папа? – спросил мальчик Энцо.
– Потому что таких не бывает, – отвечал тот.
– Ну и что? А ты знаешь, что ракетомобили уже есть в Германии? Правда, дядя Джованни?
– Чушь, – пробурчал Энцо.
– Не чушь, я читал!
– Лучше бы ты читал свои учебники. Ты уже сделал домашнее задание?
Не ответив, Винченцо снова убежал и вернулся с книгой, которую открыл на странице с черно-белым фото. Машина напоминала металлическую сигару на колесах, дымящуюся к тому же. Вдоль корпуса шла надпись белыми буквами: OPEL.
– Вот видишь…
– Ты прав, Винченцо, – сказала Джульетта.
– Вот видишь, папа, я прав!
– Иди делай уроки.
Винченцо показал язык. Джульетта хлопнула ладонью по столу:
– Как ты отвечаешь отцу! Марш делать уроки.
На этот раз мальчик послушался. Энцо молчал.
– Ну, Энцо, – заговорил Джованни, – рассказывай, как там на заводе… Ты все на той же работе?
Энцо кивнул.
Он солгал.
На следующий день Джованни отправился на завод вместе с зятем, чтобы повидать старых друзей. Была суббота, но Энцо заступал на смену. Они работали, несмотря на выходные и время летних отпусков. Винченцо бегал из цеха в цех, как у себя дома. Рабочие знали и любили мальчика. Когда же они оказались в цеху, где когда-то монтировали «изетты», Джованни остолбенел. Вместо неуклюжих «букашек» по конвейеру ползли современные спортивные автомобили невероятной красоты.
– Коммендаторе Ривольта инвестировал лицензионные деньги в новую модель, – объяснил Энцо. – Это «ИЗО-ривольта». Разве вы на «Мерседесе» о ней не слышали? Шеф представлял ее на ярмарке в Турине.
Джованни покачал головой, не в силах оторвать глаз от красавицы. Это была не просто машина. Произведение искусства, совместившее в себе лучшее, что могла предложить на тот момент инженерная мысль.
Шасси от гениального Биззаррини[65] с подвеской «Де Дион»[66]. Элегантный кузов «гран-туризмо» от «Бертоне»[67], спроектированный Джорджетто Джуджаро[68]. Немецкая коробка передач, вся обивка из кожи ручной выделки. Наконец, под капотом – американский восьмицилиндровый двигатель от «шевроле корвета» емкостью больше пяти литров и мощностью в три сотни лошадиных сил – достойная конкуренция таким королям автострады, как «феррари» и «мазерати». Ренцо Ривольта, над «букашками» которого смеялась вся Италия, представил миру образец автомобильной грации. И монтировал это чудо не кто иной, как скромный механик Энцо. Джованни не знал, что на это сказать.
– Ты ведь богатый, дядя Джованни, – дернул его за руку Винченцо. – Почему ты ее не купишь?
Ночью они с Джульеттой курили на старой деревянной скамье по другую сторону канала. Джованни не знал, какими словами объяснить сестре, что он лжец, шарлатан. Но Джульетта его опередила.
– Я обманывала тебя, Джованни, – сказала она. – На самом деле дела мои не так хороши, как я писала. (Джованни замер.) Мой брак с Энцо… В общем, ты знаешь, что говорит мама: любовь приходит с годами… Но мы вместе вот уже больше семи лет, Джованни, больше семи лет…
Сколько лет она молчала об этом, даже в церкви на исповеди, а тут как прорвало.
– Энцо хороший отец, но, боюсь… не для Винченцо.
– Почему?
– Винченцо слишком живой и любознательный мальчик. Он хочет знать о вещах, которые Энцо ему объяснить не может. Отец должен быть умнее сына, не так ли?
– Но они ведь понимают друг друга. В конце концов, у них общие интересы, Энцо берет его с собой на завод…
– Это ты не понимаешь меня, Джованни, – перебила брата Джульетта. – Они разные. Винченцо постоянно с ним спорит, иногда по делу, иногда просто так. Он смотрит на отца свысока. И тот это чувствует. Представь только, чтобы кто-нибудь из детей смотрел бы так на нашего папу.
Джованни задумался. С их отцом такое было совершенно невозможно. Он оставался на недосягаемой высоте, и после смерти тоже.
– Нет, – ответил он. – Наш папа был герой, не так ли? Трагический герой, заплативший жизнью за свое упрямство.
– Это было не упрямство, – возразила Джульетта. – Просто он остался верен себе.
– Да, но при чем здесь Энцо? Сын пререкается с отцом, это нормально. Ты напрасно беспокоишься, сестра.
Он замолчал и уставился в темноту.
– Энцо ревнует, – вдруг сказала Джульетта.
– Ревнует? К кому?
– Ни к кому.
– Как это?
– Он следит за мной, когда я отправляюсь за покупками, постоянно спрашивает, с кем я встречалась… Он думает, что у меня есть любовник… просто с ума сошел на этой почве.
– А у тебя… есть любовник?
– Ну конечно нет! Клянусь тебе, это правда. Энцо все-таки мой муж… (Джованни ей верил.) На днях вечером я спустилась в тратторию, потому что у нас закончилась петрушка. Энцо следил за мной. Он стоял у окна и смотрел на улицу. Потом спрятался – как видно, понял, что я его заметила. Вернувшись, я возмутилась: «Энцо, какого черта?» А он спросил, совершенно серьезно, нет ли у меня чего с хозяином траттории. Мадонна, откуда этот вздор!
Джованни сжал ее руку:
– А почему бы тебе не родить еще одного?
– Мы пытались, – вздохнула Джульетта. – Похоже, на роду мне написано посвятить жизнь одному Винченцо. Он и в школе лучше всех, представляешь? Хотя мы отдали его раньше срока. Ему завидуют.
– Когда собираешься вернуться на работу?
Джульетта пожала плечами:
– А зачем?
– Шить продолжаешь?
– С этим покончено.
– Почему? – Джованни сжал ее руку. – У тебя же так здорово получалось. Поехали со мной в Германию, Энцо и Винченцо тоже возьмем. Там нужны рабочие руки. Я пристрою тебя модисткой.
Джульетта смотрела куда-то в сторону моста и церкви.
– Ты собирался вернуться, Джованни. Почему не возвращаешься?
– Потому что… – Джованни запнулся.
Джульетта перевела взгляд на него:
– Ты изменился.
– Ты тоже, – отозвался Джованни.
Джульетта встала:
– Пойдем, мама ждет.
Джованни схватил сестру за руку:
– Хочешь всю жизнь проторчать на этом вонючем канале? Что с тобой случилось? Раньше ты мечтала путешествовать, учила языки, бредила Венецией…
Джульетта отвернулась и заплакала. Джованни не знал, как ее утешить, как убедить в том, что все будет хорошо.
– Ты прав, Джованни, – она посмотрела на него, – но я не могу поехать с тобой в Германию.
На следующий день Джульетта ушла из дома рано утром и вернулась в полдень с отрезом ткани в сумке. И вместо того, чтобы готовить обед, засела за выкройки. Вернувшись с работы, Энцо застал жену и сына за швейной машинкой.
Винченцо, сидя рядом с матерью, следил за согласованными движениями иголки, лапок, маховиков и шпулек. Первым делом он попытался объяснить отцу назначение нижней и верхней нитей. Когда же Джульетта отправилась готовить ужин, мальчик принялся разбирать механизм на составные части.
Энцо молчал, пока за столом Джульетта рассказывала о будущем платье. Фасон «футляр», с асимметрией, цвет белый, черная аппликация и большие пуговицы. Что-то в стиле парижских моделей Коко Шанель…
– И кто будет это носить? – спросила Кончетта.
– Я, мама.
– Но что скажут люди?
– А что они могут сказать?
– Они будут завидовать тебе… сглазят.
– Пусть завидуют, если им это нравится. Я ведь сошью его своими руками.
– Считаешь себя лучше других?
– Оставь ее, мама, – вмешался Джованни. – Помимо прочего, шитьем можно зарабатывать на жизнь.
– Ей это не нужно, – пробурчал Энцо. – Я получаю достаточно. Конечно, «мерседес» мы себе позволить не можем, но ни в чем не нуждаемся.
– Бог даст, будут у вас еще дети, – решительно вставила Кончетта.
За столом сразу стало тихо. Винченцо вопросительно посмотрел на родителей, но те отвели глаза.
Кончетта коснулась больной темы, потому что детей в любой из семей по соседству было не меньше двух-трех. Недостаточная плодовитость воспринималась как Божье проклятие. Энцо положил большую волосатую руку на плечо жены:
– Все хорошо.
В конце августа Джованни снова пересекал перевал Бреннер, так и не открыв семье правды. Теперь он острей, чем когда-либо, ощущал свое одиночество. У Джульетты, по крайней мере, есть ребенок, а у него?
Кроме того, у сестры призвание, талант. А Джованни с детства был никем – ни знаков судьбы, ни пророчеств. Его словно забросили в этот мир, предоставив выкручиваться самому. Оставили на пологих холмах маленького островка, которые он прочесал вдоль и поперек и пешком, и на коленках, собирая хворост, ягоды и ящериц, греющихся на вулканических валунах.
Положа руку на сердце, Джованни просто недоставало честолюбия. Он любил хорошо поесть и выпить. А вечером, вместо того чтобы корпеть над книгами, очаровывал немецких женщин на танцах. Джованни и сам не заметил, как стало поздно – и возвращаться в Италию, и копить на «мерседес».
«Каждый несчастен по-своему», – думал он. Джованни знал только одного человека, который ни на что не жаловался. Энцо. Тот как будто никогда и не мечтал о чем-то большем, чем имел. На работу он смотрел исключительно как на способ прокормить семью. Проблемы нереализованного таланта, недостижимого призвания для него просто не существовало. Наверное, только такие и живут в гармонии с собой и миром.
– А масло вы используете для салатов?
Голос соседки по купе вырвал Джованни из размышлений. Он поднял глаза: на скамье напротив расположилось приветливое немецкое семейство. Дети – в соломенных шляпах и цветастых шортах. Загорелая женщина показывала на многочисленные бутылки, баночки и коробки в багажном отсеке рядом с местом Джованни. В них было оливковое масло, сыр, макароны, песто и вино.
– Мы на нем готовим, – объяснил Джованни любознательной соседке. – Рыбу, мясо, овощи… на сковороде.
– И его действительно выжимают из оливок?
– Конечно. Это очень хорошее масло, – Джованни вытащил одну из бутылок и протянул женщине.
– Только посмотри, Герхард, – дама толкнула локтем своего супруга.
– Оливки «ночеллара» из Мессины, – продолжал Джованни, – не самый популярный сорт, но…
– Моя жена предпочитает маргарин, – нетерпеливо перебил его мужчина. – Деликатесный.
На вокзале в Мюнхене, как всегда, у одиннадцатого пути уже поджидали земляки. Джованни делился с ними новостями и продуктами, получая взамен сигареты, немецкие марки и пустые обещания.
Сумерки все сгущались. Скоро во дворе стало темно, зажглись фонари, и гости начали расходиться.
– Я единственный в семье не имею никаких талантов. – Джованни усмехнулся. – Но знаешь что? Только дураки и счастливы в этом мире. Умный видит жизнь такой, какая она есть, а потому живет в сумасшедшем доме и в конце концов сходит с ума сам.
Розария убирала со стола грязные тарелки.
– Хорошо, что ты не гений, – бурчала она. – Подвинься-ка…
Джованни подмигнул жене:
– А я гений, только у меня хватает ума никому об этом не говорить.
– Тайный гений.
– Именно. Ты одна меня понимаешь. – Он обнял меня за плечи и повернулся к жене: – А знаешь, что она известный модельер? У нее свой модный дом…
– Ты преувеличиваешь, – перебила я. – Ничего у меня нет, кроме долгов.
Меньше всего мне хотелось хвалиться своими успехами перед этими людьми. В глубине души я стыдилась, что явилась к родственникам с пустыми руками. О том, что судьба моего «модного дома», который в любой момент может перестать быть «моим», висит на волоске, говорить тем более не хотелось.
– Brava! – воскликнула Розария. – Бабушка на небесах гордится тобой.
Интересно, как сложилась бы моя судьба, знай я бабушку Джульетту при жизни? Вполне возможно, я выбрала бы другую стезю. Но сейчас мне было приятно осознавать, что я не одна.
– Джульетта зарабатывала шитьем? – спросила я.
Джованни кивнул:
– Да. Правда, дело она вела не с таким размахом, как ты.
– Но на это можно было жить?
– Она занималась этим не ради денег. Для Джульетты шитье было как отдушина.
Я понимала, что это значит. Хотелось бы мне иметь такого человека, как Джульетта, среди своих сотрудников.
– Тебе повезло, что ты выросла в Германии, – продолжал Джованни. – В Италии без raccomandazioni, связей, ты ноль. Будь хоть семи пядей во лбу. А здесь можно заниматься тем, что любишь.
Мне с детства внушали, что если человек остается верен себе и знает дело, то успех придет обязательно. Но после Милана я уже ни в чем не была уверена. «Похоже, лузерство в крови этого семейства, – сделала я вывод. – Что ж, утешусь тем, что я не одинока».
– Скажи, – Джованни лукаво прищурился, – а у тебя не было еще какого-нибудь папы?
– Их было много, – усмехнулась я. – Но настоящих – ни одного.
Я пролистала альбом, чтобы отвлечься от этой темы. Винченцо, на вид лет десяти, рядом с отцом в сборочном цехе. Разглядывает наполовину собранный спортивный автомобиль. Модель до боли напоминает серебристый раритет, в котором Винсент подвозил меня до ателье.
Вот Винченцо за обеденным столом вычерчивает свои футуристические авто. Если приглядеться, это сильно отличается от того, что обычно рисуют дети. Какая точность деталей! Есть все – от рамы до двигателя и наружного зеркальца. Не столько фантазия, сколько набросок, эскиз.
– И когда ты узнал, кто отец Винченцо?
Джованни молчал. Он не скрывал, что мой вопрос ему неприятен.
Потом притянул к себе альбом, пролистал и остановился на фотографии Джульетты на белом мотоцикле. Она сидела, прижимая к бедрам легкое платье. Джованни – в белых брюках, клетчатой рубашке и неизменной плоской кепке – придерживал одиннадцатилетнего Винченцо, вцепившегося в руль. Подпись внизу: «Август 1966».
– Думаю, это произошло тогда… на каникулах.
Как ни убеждал меня Джованни, что все это неважно, события того лета он помнил до мельчайших подробностей.
Глава 20
Это было лето локонов до плеч, коротких юбок, шифоновых блузок и серебристых «космических» костюмов. «Битлз» уже отыграли свой последний концерт. Русские запустили зонд на Венеру. Мир жил в предвкушении больших перемен.
Джованни перевалило за тридцать, а он по-прежнему ходил в молодых холостяках. И по этому поводу Кончетта все чаще досаждала святому Варфоломею молитвами – безнадежное дело, особенно в середине шестидесятых. Между тем в письмах домой Джованни поднялся в должности до управляющего мюнхенским отделением компании «Мерседес».
Тем жарким летом он катал сестру и племянника на мотоцикле по обезлюдевшему в сезон отпусков Милану. На авторадио царствовал Адриано Челентано – тоже потомок южан, но родившийся в Милане.
Прибыв ночным поездом из Мюнхена, Джованни оставил вещи в квартире на Лудовико и тут же поспешил на завод, проведать Энцо во время обеденного перерыва. Джованни привез ему светлого пива и венских сосисок в банке.
Винченцо изменился. Стал уверенней в себе, сдержанней. Он раньше срока окончил курс начальной школы и с программой первого класса средней ступени справился играючи.
Мальчик открыл для себя мир книг и днями напролет торчал в школьной библиотеке. Там, пока его друзья листали комиксы, с жадностью поглощал литературу о Леонардо да Винчи – человеке, про которого говорили, что он раньше других проснулся в темные времена.
Винченцо изучал эскизы флорентийского гения и с точностью до мельчайших деталей перерисовывал в свои тетрадки. Анатомические рисунки да Винчи и даже его живопись интересовали его куда меньше.
Мальчика восхищали эскизы машин – самолетов, субмарин, автомобилей, – далеко опередивших свое время. Представить только, что все это было просчитано и существовало в чертежах уже в пятнадцатом веке!
Он учился понимать, что мир управляется не всемогущими мистическими силами, а естественными законами, которые человек постигает и использует, постепенно превращая природу в собственный шедевр. И еще он понял, что в основе всего лежит идея, а назначение эскиза в том, чтобы перевести нематериальную субстанцию в двумерное изображение, на основе которого, в свою очередь, будет создан трехмерный объект.
Катаясь на велосипеде вдоль каналов и шлюзов, спроектированных да Винчи, Винченцо пытался проследить мысль великого флорентийца, много столетий тому назад придумавшего вывозить городской мусор по каналам на лодках.
Винченцо забрасывал родителей вопросами, на которые они не могли ответить. Он хотел знать имена изобретателей каждого прибора, механизма или машины, какие только приходили ему на ум, будь то тостер, кофеварка, ракета или акведук. И задавался вопросом: что до сих пор так и осталось неизобретенным и каков может быть его, Винченцо, вклад в развитие человечества? Мир несовершенен. Инженеры представлялись Винченцо таинственной кастой, которая, будучи вооружена тайными знаниями о законах природы, делает этот мир тем, чем он должен быть.
– Смотри, какая красивая машина! – Переступив порог сборочного цеха, мальчик устремился к наполовину собранному автомобилю и помахал рукой дяде.
Джованни в жизни не видел ничего подобного. Автомобиль походил на кошку, затаившуюся в полумраке перед прыжком. «ИЗО-грифо» – новый стиль, далекий от пуританской скромности первой спортивной модели. Изогнутый волной капот; напряженные, но обтекаемые линии корпуса и резкий, агрессивный перед. Воплощенный в металле эротический сон. Спортивное авто класса люкс от Джорджетто Джуджаро, совместившего американскую брутальность с итальянской грацией.
– 355 cavalli, 5,4 litri, 8 cilindri, cambio a 5 marce oppure automatico[69], – Винченцо с ходу выдал основные характеристики, как будто проектировал этот автомобиль лично.
Джованни провел рукой по хромированной оконной раме.
– Сколько это стоит?
– Забудь об этом, – засмеялась Джульетта. – Не меньше, чем «феррари».
– И такой же быстрый, – добавил Винченцо. – Только намного надежней. Лучший автомобиль в мире!
Джованни старался не задаваться вопросом, почему лучшие вещи в этом мире доступны очень немногим и далеко не всегда лучшим людям. Он смотрел в пространство зала позади Энцо. В этот момент у ворот цеха послышался мужской голос:
– О! Синьор Попометр, какая радость!
Ему ответил другой, заставивший Джульетту вздрогнуть.
– Эрменегильдо!
В проеме полуоткрытых ворот в льющемся снаружи свете нарисовались силуэты двух мужчин, впервые встретившихся после стольких лет, – инженера Эрменегильдо Прети, отца «изетты», и синьора Попометра, Винсента. Не успел Джованни опомниться, как Джульетта, подхватив сына, рванулась прочь:
– Пойдем, Винченцо, пора в столовую.
Джованни пошел следом за сестрой. Уже возле двери их настиг радостный голос Прети:
– Эй, Джульетта! Джованни! Смотрите, кто к нам пожаловал!
Винченцо обернулся.
– Ciao, Vincenzo, come va?![70] – крикнул Прети.
Ужас сестры Джованни почувствовал почти физически. Когда же послышались приближающиеся шаги Прети, она повернулась, вложила в ладонь брата руку Винченцо и прошептала сыну на ухо:
– Побудь с дядей, а я сейчас приду.
И быстро пошла к воротам, оставив Джованни в недоумении.
– Угадай, кто к нам приехал!
Эрменегильдо подхватил Джульетту за руку и повел к воротам, где рядом с машиной стоял Винсент.
– Только погляди, в кого превратился синьор Попометр! Он решил приобрести новый автомобиль.
Джованни смотрел, как Джульетта и немец пожимают друг другу руки. Что они говорят, он не слышал. Время будто остановилось, мир замер.
Винченцо дернул его за рукав:
– Кто этот дядя?
– Никто.
– Как это – никто?
– Он…
– Уф, какая машина!
Высвободив руку, мальчик кинулся к воротам. Джованни побежал следом, но мальчик был проворнее. В проеме ворот отливала темным серебром новенькая «ИЗО-ривольта-ГТ». Сдержанная, благородная модель – со сверкающими дисками от «Боррани»[71], убирающейся крышей и кожаными сиденьями. Винченцо не замечал ничего, кроме этой машины.
– Привет, малыш, как дела? – крикнул Прети.
Джульетта, не видевшая, что сын бежит в их сторону, вздрогнула.
– Винченцо, зачем ты тут? А ну марш в столовую!
Мальчик испуганно остановился. Но не ушел. Он смотрел, как незнакомый мужчина что-то говорит матери на непонятном языке. Джульетта чуть заметно кивнула.
– Ciao.
Мужчина улыбнулся ему. Винченцо уставился на протянутую большую ладонь.
Винсент зажмурился и снова посмотрел на мальчика. Обычно так поступали все, кто видел Винченцо впервые, чтобы убедиться, что разноцветные глаза – не оптический обман.
– Ты нашел папу? – спросила сына Джульетта.
Винченцо замотал головой, все еще не решаясь пожать руку незнакомца. Тут подоспел Джованни.
– Джованни!
– Ciao, Попометр.
Они пожали руки. Джованни похлопал Винсента по плечу, скрывая смущение:
– Какими судьбами? Ищешь работу в Италии?
– Нет, всего лишь машину, – рассмеялся Винсент.
– Вот как? Миллионером стал?
– Да не то чтобы… но пару патентов зарегистрировал.
Винченцо уже забыл про незнакомца, полностью поглощенный автомобилем: поглаживал корпус, заглядывал внутрь.
– Отойди от машины! – прикрикнула Джульетта.
– Ничего страшного, – успокаивающе сказал Винсент. – Хочешь посидеть в машине, малыш?
Мальчик кивнул. Джованни видел, что Джульетта вот-вот потеряет самообладание.
– Винченцо, мы уже уходим!
– Да пусть мальчик развлечется, – сказал Эрменегильдо Прети, – он же ничего не сломает.
Винсент открыл дверцу со стороны водителя и достал перфорированные кожаные перчатки. Такие носили только настоящие автогонщики, а ралли тогда считались благороднейшим видом спорта. У Винченцо вспыхнули глаза. Мальчик забрался на сиденье, оглядел хромированную приборную панель, деревянный руль и рычаг из черного бакелита, зажмурился и вдохнул запах кожи. В центре руля сиял серебряный грифон – мифическое существо с головой орла и лапами льва, герб рода Ривольта. Винченцо словно попал в сказку.
– Il motore![72] – Винсент, улыбаясь, сунул в прорезь серебряный ключ. – Давай же, не бойся.
Мальчик понял лишь первое слово, но схватился за ключ, подергал из стороны в сторону, будто осваиваясь, и повернул, пробуждая восьмицилиндровый двигатель к жизни. Сиденье под Винченцо задрожало, мальчик выжал педаль. Джульетта переводила взгляд с гостя на сына. Ее пугало, с каким выражением Винсент смотрел на мальчика.
Она, улыбаясь, повернулась к Винсенту:
– Как… твои дела?
– Хорошо. А у тебя?
– Хорошо, спасибо.
Они стояли друг против друга, оба словно защищены невидимыми доспехами. И разглядывали друг друга из-за спущенных забрал, высматривая уязвимые места. За каждой морщинкой, складочкой стояла история, каких немало накопилось за двенадцать лет. В памяти оживали картины – с такой удивительной четкостью, будто все происходило вчера.
Джованни сел на переднее пассажирское сиденье, чтобы отвлечь Винченцо. Вместе они нажимали разные кнопки и дергали рычаги, пока наконец не включили радио. Салон наполнил голос Фабрицио Де Андре.
– Ты все еще в Мюнхене?
– Да.
– Дети есть?
– Нет.
Взгляд скользнул на его руку – обручального кольца тоже нет.
– Я много работал, время летело незаметно. Как все изменилось с тех пор, когда я на мотоцикле пересекал Альпы… Теперь и до Нью-Йорка можно долететь за несколько часов.
Джульетта кивнула. Стыд, чувство вины, бессильная злоба – ничего этого не было видно со стороны. Винсент повернулся к мальчику:
– Хочешь прокатиться?
Винченцо не понял вопроса, заданного по-немецки, и Джованни перевел.
– Идем, мой мальчик, нам пора.
Винченцо сердито посмотрел на мать.
– Мы можем переговорить наедине? – Винсент смотрел на Джульетту.
Та медлила с ответом. Но затем, будто испугавшись, что Винсент может заговорить при всех, отошла от машины на несколько шагов. Джованни не спускал с сестры глаз. Он не слышал, о чем они говорили. Понял только, что Винсент задал вопрос, в ответ на который Джульетта энергично покачала головой. А потом развязался жаркий спор, в котором промелькнуло имя Винченцо.
– Нет! – крикнула она, подскочила к машине, схватила сына за руку: – Немедленно домой! Отвези его домой, Джованни!
И, не дожидаясь брата, выдернула мальчика из машины и потащила к воротам. Винченцо успел оглянуться, прежде чем они скрылись за воротами цеха. Винсент, Джованни и недоумевающий Прети переглянулись.
Винсент принялся натягивать перчатки. Прети повернулся к Джованни:
– Скажи Попометру, что коммендаторе Ривольта пригласил его на обед.
Джованни перевел. Винсент поблагодарил и ответил, что должен как можно скорее быть в Мюнхене. В другой раз.
– Но, dottore, от приглашений графа не отказываются.
Винсент еще раз извинился, сел за руль своего нового автомобиля и завел мотор. Джованни облегченно вздохнул. Но что-то подсказывало ему, что инцидент этим не исчерпан. Что жизнь дала трещину, которая пойдет дальше.
– Ты видела, какие у него перчатки? – кричал Винченцо. – С дырочками для вентиляции!
Они сидели у траттории на Виа-Лудовико-иль-Моро, за столиком, покрытым скатертью в красно-белую клетку. Вечер выдался душный. Милан колпаком накрыл смог. По все еще раскаленному асфальту разливался желтый свет уличных фонарей.
– Дядя Джованни, когда я вырасту, обязательно буду работать в твоей фирме в Германии.
Энцо пристально посмотрел на жену, и та отвела глаза. Джованни подозвал официанта:
– Принесите нам бутылку красного. Только не домашнего, оно безвкусное. Что-нибудь из французских, пожалуйста…
– Мама, а почему мы не едем в Германию? – не унимался Винченцо.
Он уже сообразил, что с этой темой что-то не так.
– Разве тебе здесь не нравится? – спросила Джульетта.
Энцо насупился.
– Нравится. Но в Германни все такие богатые…
– Довольно! – Все вздрогнули, когда Энцо стукнул ладонью по столу. Бокал упал, но Джованни успел его подхватить. – Что за разговоры? Или вы не видите, что сводите мальчика с ума своей Германией? Тебе мало Италии? – Он подался к Винченцо: – Это прекраснейшая страна в мире.
– Откуда ты знаешь, ты ведь нигде больше не был!
Джульетта сидела ни жива ни мертва. В отличие от матери, мальчик не испугался.
– Здесь твоя семья, – веско сказал Энцо. – Только представь себе, что будет с этой страной, если такие, как ты, дадут деру… Бросят ее бандитам на растерзание! Ты хочешь делать машины? Пожалуйста. Занимайся этим здесь, как твой отец. Мы производим лучшие машины в мире! Иначе зачем этому немцу приезжать к нам? Мог бы подобрать себе что-нибудь в Германии со своими деньгами.
Джульетта взяла Энцо за руку. Винченцо не унимался:
– Зачем же ты их делаешь, если не можешь купить?
Энцо схватил мальчика за ухо:
– А теперь послушай меня, сынок… Да, я не какой-нибудь там щеголь в кожаных перчатках… Я работаю голыми руками, вот этими…
– Отпусти его! – закричала Джульетта.
Энцо не слушал. Мальчик сопел от боли.
– Пусти его, Энцо! – вмешался Джованни.
– Убери лапы, миллионер! – Энцо притянул к себе сына, заглянул ему в глаза. – Мы сицилийцы. Terroni, понимаешь? Мы не боимся запачкать руки, но мы честные люди.
Винченцо пнул отца под столом:
– Неудачник…
Энцо отвесил сыну такую оплеуху, что тот чуть не слетел со стула.
– Как ты разговариваешь с отцом?
– Энцо!
Джульетта схватила мужа за руку, опрокинув бокал. Раздался звон стекла. Люди за соседними столиками уже перешептывались и косились в их сторону.
Винченцо дрожал всем телом, в глазах стояли слезы. Он молчал, но Джованни почувствовал, что в этот момент в мальчике будто что-то сломалось. Что-то хрупкое, что уже никогда не восстановить.
Винченцо вскочил, отшвырнул стул и кинулся через улицу в сторону моста.
– Вернись, Винченцо! Куда ты? – закричал отец.
Энцо выглядел растерянным. Он встал, но Джульетта удержала мужа.
– Оставь его в покое. Слишком поздно…
Вместо него за Винченцо поспешил Джованни.
Племянника он догнал уже на другом берегу канала, возле церковной ограды, залитой тусклым светом фонарей.
– Винченцо… постой.
Джованни положил руку на плечо мальчика. Винче отвернулся, не желая показывать дяде своих слез.
– Давай сядем. – Джованни увлек его на скамью. – Это скамья вздохов, ты знаешь? – Джованни сел рядом и достал сигарету. – Еще в детстве мы сидели здесь с твоей мамой и курили тайком. (Винченцо придвинулся ближе к дяде.) Папа любит тебя, не сомневайся.
– Он идиот.
– Вовсе нет. Просто он боится тебя потерять.
– Он идиот, Джованни.
– Ты не можешь говорить такое об отце.
– Это ты меня учить станешь? – Винченцо презрительно сплюнул.
– Стану.
– Да кто ты такой? Ты сам – лжец.
– Что ты такое говоришь?
Винченцо придвинулся к нему вплотную, заглянул в глаза:
– Ты говоришь, что работаешь директором на «Мерседесе», а сам ни черта не понимаешь в машинах. И вообще, почему ты каждый раз приезжаешь поездом?
Джованни молчал.
– Знаешь что, дядя Джованни? Нет у тебя никакой машины. И работаешь ты не на «Мерседесе».
Джованни не знал, что на это ответить. Его смущала не напористость племянника. Скорее взгляд, ясный, честный, под которым было невозможно солгать еще раз.
На мосту появилась Джульетта.
– Не дрейфь. – Винченцо взял у Джованни сигарету, затянулся и снова вложил ее дяде между пальцев. – Я не собираюсь выдавать тебя.
Винченцо перестал разговаривать с отцом. Энцо пытался, на свой лад, выправить ситуацию. Покупал канноли и даже разорился на подарок сыну – модель самолета. В результате Винче перекинулся с отцом парой фраз – и только. Прежняя доверительность была разрушена навсегда. У Энцо будто земля ушла из-под ног.
В следующие выходные Винченцо с соседскими мальчиками затеяли велосипедную гонку. Босые, они неслись на своих не по размеру больших железных скакунах вдоль канала. Некоторые из мальчиков крутили педали почти стоя, другим пришлось опустить седло пониже. До ближайшего моста и дальше – на тот берег. Энцо в эти выходные работал, Кончетта хлопотала на кухне, а Джованни с Джульеттой, стоя в дверях дома, наблюдали за Винченцо.
Тот пыхтел как паровоз. Физической силой мальчик не отличался, но упорства ему было не занимать. Он несколько дней возился со своим велосипедом: подкручивал, смазывал, до предела накачал шины. Винче ненавидел проигрывать. И сейчас он пытался обогнать двух мальчишек постарше на отрезке между мостами.
Соперники шли почти вровень, подгоняемые взглядами девочек, стоявших на противоположном берегу.
– Я все сделала не так, – сказала Джульетта.
Джованни удивленно посмотрел на сестру:
– Ты о чем?
– Я боюсь за Винченцо.
– Не говори так. У него своей путь. Он талантлив.
– О, это да… Только вот знаешь… Все восхищаются талантливыми людьми, теми, кто делает что-то необыкновенное… Актерами, модельерами, изобретателями, гонщиками… Теми, кто следует своему призванию, главной своей страсти.
– Но разве это так плохо, иметь призвание?
– Талант – это проклятье, Джованни. Он гонит тебя, он никогда не оставляет тебя в покое. Он владеет тобой. Многих убивает.
Винченцо был на финише первым. Он затормозил, описав петлю, и победно вскинул руку. Джульетта и Джованни зааплодировали: Bravo! Bravissimo!
Они единственные радовались его победе. Девочки бросились к своим проигравшим братьям. Но от Джованни не ускользнул восхищенный взгляд одной из первых красавиц квартала, украдкой брошенный на победителя.
Пока Винченцо с показным равнодушием принимал поздравления матери и дяди, из-за угла на мотоцикле вырулил Энцо. Его появление удивило Джованни: смена на заводе заканчивалась только вечером. Энцо остановил мотоцикл и быстро зашагал к Джульетте.
– Что случилось? – спросила она.
– Разве вы не слышали? Коммендаторе Ривольта умер.
Все, включая Винченцо, остолбенели.
– Инфаркт.
– Ужас! Такой молодой!
– Что будет с компанией?! – спросил Джованни.
– Перейдет к его сыну Пьеро.
– Но он еще студент.
– Он должен перенять отцовское дело.
Энцо исподлобья взглянул на сына, растерянно переминавшегося с ноги на ногу возле велосипеда.
Рабочие оплакивали своего capo как родного отца. После похорон Джованни уехал в Мюнхен. Был холодный сентябрьский день. По одиннадцатой платформе, где обычно ожидали поезда земляки, гулял холодный ветер.
Джованни мерз и чувствовал себя покинутым. Что у него было в жизни? Запахи и краски Сицилии – сокровища детства, которые он мог взять с собой в любую точку планеты. Но кроме этого? Ему уже тридцать три, но детей, которым он мог бы передать дело своей жизни, у него нет. Впрочем, и дела-то никакого не было. Ни призвания, ни родины, ни семьи, ни постоянного жилья. Дальше так продолжаться не могло, нужно было срочно обзавестись хоть чем-то своим.
«Жену и корову выбирай из своей деревни», – так говорили у него на родине.
Следующий отпуск Джованни провел не в Милане. Он отправился в Неаполь, где сел на корабль и поплыл дальше на юг, к островам своего детства. Остальное устроила мать. Розария была дочерью ее кузины Марии. Ее отец, владелец единственной в деревне продуктовой лавки, незадолго до того умер от воспаления легких. Перед смертью он взял с жены обещание пристроить наконец упрямую дочь.
Розария не была ни глупой, ни страшной. Просто не желала выходить замуж за рыбака, ведь ее жизнь нисколько бы не переменилась.
Другое дело Джованни, богатый кузен из Германии!
Глава 21
Где хорошо, там родина.
Марк Пакувий, римский поэтСалина
Свадьбу сыграли летом 1968-го.
Джованни был в белом костюме, в каких щеголяли богатые американцы в фильмах тридцатых годов. Что касается Розарии, ей не пришлось выходить замуж в свадебном платье матери, как это было с ее старшей сестрой, потому что платье для нее сшила Джульетта. Рюши и аппликация, которыми Розария дополнила модель своей «миланской кутюрье», на чей-то вкус смотрелись, пожалуй, аляповато. Зато подчеркивали индивидуальность невесты – яркой и шумной особы.
Впервые после смерти отца вся семья собралась на острове. Салина мало изменилась за эти годы. По-прежнему ни уличного освещения, ни газет, ни туристов. Появилась разве что пара «фиатов» да трехколесные грузовые мотороллеры – и ни одной бензоколонки. По обочинам дорог, среди диких кактусов и замшелых камней, все так же ржавели автомобильные останки. Все те же домишки белели по полям под бескрайними, сливающимися с морем небесами. Скалы оставались такими же черными, мужчины строптивыми, женщины суеверными. И все тот же сирокко африканских пустынь обветривал их крестьянские лица.
На поле перед домом, где выросли Джульетта с Джованни, установили длинные столы. Собственно, это был уже не дом, а руины: крыша провалилась, зимой ветер гулял в заплесневелых стенах, штукатурка осыпалась, из забитых досками окон и дверей пробивалась трава. Дом-призрак стоял на краю деревни Мальфа, в самом сердце зеленого острова. Когда-то семейство Маркони выращивало рядом каперсы и виноград, но землевладелец переселился куда-то в Мессину, а новых арендаторов так и не нашлось, все пришло в запустение.
Решив расставить здесь пиршественные столы, Джованни хотел в последний раз оживить дом своего детства. Вопреки неумолимому времени и старому дону. Отцу бы это понравилось.
Столы ломились от яств. Джованни должен был доказать, что не зря столько лет провел на чужбине. Он старался не ради себя – на кону стояли честь семьи и доброе имя отца, о котором на острове до сих пор шушукались с опаской. Одни втайне восхищались его мужеством, другие полагали, что он зашел слишком далеко и получил по заслугам. Но вот вернулся его сын – преуспевающий герой с севера, и бедность Маркони навсегда осталась в прошлом.
Они уехали поверженными, вернулись победителями.
При этом, разумеется, никто – включая невесту Джованни – не представлял себе, как у Маркони в действительности обстоят дела с финансами. Со слов Джованни мать Розарии знала, что ее будущий зять – крупный делец, uomo d’affari, с огромным casa moderna[73]. Что до крестьян, для них было достаточно одного слова «Мерседес». Будущей жене Джованни открывал свою тайну постепенно – дескать, он не только продает машины, но и занимается импортом-экспортом продуктов питания. Впрочем, выражение «Центральный рынок», мелькавшее в его речи время от времени, совсем не пугало ее, скорее наоборот.
Джованни хотел подготовить Розарию к тому, что ждет ее в Германии. Не без оснований надеясь, что для бедной островитянки, коротавшей девичий срок в еще более убогой хижине, чем та, что была у его родителей, двухкомнатная квартира в Мюнхене означает большой социальный прогресс.
Свадебное меню Джованни составлял лично. Ему хотелось не только отдать дань вековым традициям предков, но и приоткрыть сельчанам окошко в большой мир. Собственно, в этом и состояла отличительная особенность сицилийской кухни. За тысячелетнюю историю она благополучно усвоила «веяния большого мира», с которым знакомилась в лице многочисленных завоевателей, время от времени объявлявшихся на островах, а потом опять исчезавших. Греки научили сицилийцев обрабатывать оливы, давить вино и собирать мед. Римляне обогатили местную кухню мороженым, норманны – вяленой треской и мясными рулетами, испанцы – шоколадом, арабы – фисташками, миндалем и лимонами.
АНТИПАСТО: БУКЕТ ЗЕМЛИ
Фаршированные баклажаны;
сицилийская капоната
Сыры: формаджио майорчино
Пармиджана из баклажанов
ПРИМО: ВКУС МОРЯ
Ризотто с креветками и улитками под соусом маринара
Паста «Маргарита» с рыбой-меч
СЕКОНДО: ЗЕМЛЯ И МОРЕ
Бульон с говяжьими фрикадельками
Вяленая треска
Тушеная рыба-меч с зеленым салатом
Фаршированные анчоусы
ДЕСЕРТ
Бьянко-э-неро
Шоколад, конфеты
Свежие фрукты
Местные сыры
Рис Джованни привез из Милана, потому что на Эолийских островах его не было. Равно как и игристое вино, ведь излюбленную миланцами «Франчакорту» на юге не знали, здесь были в ходу только «Чинзано» и «Асти». Пасту пришлось закупать в Мессине, в пастифичо «Триоло» – только там и можно было купить настоящую, ручной работы, а не фабричную подделку, какими были завалены полки всех магазинов.
Столовое вино привезли из Липари – бочковое, не красное и не белое, какого теперь уже не найдешь. На островах Эолийского архипелага издревле мешали разные сорта винограда, по вкусу, и – согласно семейным традициям – для ферментации добавляли мед и кору рожкового дерева. Коронным номером винной программы была, разумеется, янтарная «Мальвазия» производства местной давильни в Мальфе.
Но абсолютной вершиной всего меню был десерт. Джованни расспросил всех, кто хоть что-то понимал в кулинарии, – нет и не было в сицилийской кухне блюда более нежного и утонченного, чем «бьянко-э-неро». Им бредила вся Сицилия, слухи о нем проникли и на Эолийские острова, при том что на всем архипелаге не нашлось ни единого жителя, кому доводилось бы пробовать легендарное лакомство. Его подавали только в одной пастичерии, в Мессине, и готовили лишь на заказ, потому что на жаре в течение часа оно превращалось в неаппетитное месиво.
Десерт «бьянко-э-неро» состоял из воздушных пончиков, наполненных особым кремом и покрытых темным шоколадом с нугой, рецепт лакомства оставался семейной тайной изготовителей. Миниатюрные пончики, каждый размером с ягоду клубники, укладывали пирамидой, чтобы десерт было удобно есть ложкой.
Джованни пригласил знакомых кондитеров из двух мессинских пастичерий, с тем чтобы они приготовили «бьянко-э-неро» на месте. И когда вечером накануне свадьбы знаменитые мастера, каждый со своим учеником, причалили к берегу Салины на шлюпке, спущенной с проходившего мимо острова корабля, их поджидала толпа сгоравших от любопытства местных жителей. Помимо многочисленных коробок и мешков с невиданными на Салине продуктами и специями, матросы при помощи подъемного крана спустили на воду живую корову. Ее привязали к шлюпке, заставив плыть с выпученными от страха глазами навстречу судьбе.
Весть о таинственном десерте в мгновенье ока разнеслась по острову, и каждый, кто еще не был зван на свадьбу, поспешил засвидетельствовать свое почтение жениху с невестой, будь то подарок или просто благое пожелание, в тайной надежде заполучить приглашение.
Джованни победил, и даже то, что он влез в долги, ничего не меняло. Мать приняла на себя командование кухней, чтобы никто не говорил потом, что Маркони забыли в Милане сицилийские традиции. Три дня с раннего утра и до позднего вечера Кончетта, Джульетта и мать Розарии метались между кухней и выставленными на поле столами. И когда утром в день свадьбы Джованни явился к матери в белом костюме, Кончетта поцеловала его в лоб.
– Это счастливейший день в моей жизни, – сказала она.
Джульетта выглядела до странности отрешенной. Она накрывала столы и готовила, при этом ее душа продолжала жить своей жизнью, о которой не имел ни малейшего понятия даже брат-близнец. Он думал, что сестра ревнует. До сих пор она оставалась самым близким ему человеком, а теперь на это место претендовала другая. Как было объяснить Джульетте, что ее опасения напрасны?
В последнюю очередь рассчитывал Джованни обрести в лице Розарии человека, с которым он мог бы откровенничать. Такой человек у него уже был. Многочисленным немецким подругам Джованни оставалось только удивляться, как мог этот игривый жизнелюб выбрать в жены дремучую деревенщину. Розария не имела ничего общего с эмансипированными немками, но Джованни нравилось в ней именно это. Она была матерью их будущих детей. И спустя десятилетия, окруженный толпой многочисленных внуков, Джованни мог с уверенностью утверждать, что это решение было самым верным в его жизни.
Что касалось Винченцо, для него родина предков была огромной игровой площадкой под открытым небом. Он вошел в подростковый возраст – уже не ребенок, которым может помыкать всяк кому не лень, и у него вся жизнь впереди. Впервые он проводил каникулы не в Милане. Путешествия семья Маркони себе позволить не могла, поэтому на лето они оставались в городе, где мальчик был предоставлен сам себе. Винченцо это вполне устраивало.
В отличие от большинства одноклассников, чаще всего он сидел в библиотеке, за книгами о Леонардо да Винчи и изобретателях Нового времени. Томас Джефферсон и Изамбард Брюнель, Карл Бенц и Фердинанд Порше, наконец, Вернер фон Браун, проектировавший в Америке ракеты для полетов на Луну, – он взахлеб читал о людях, изменивших мир, оставивших после себя нечто значительное. На Салине Винченцо также планировал не расставаться с книгами, которые взял с собой. Но красота острова заставила его забыть и об изобретателях, и о чтении.
Винченцо либо плескался в море, либо бродил по холмам с дядей Джованни, который научил его, как нужно вскрывать ножом морских ежей и доставать ложкой мякоть. В корзинах рыбаков Винченцо рассматривал gamberetti di nassa – креветок с голубовато-зелеными яйцевидными наростами на животе. Или парусниц, велелл, – диковинных морских обитателей с прозрачными «парусами». Но особенно его восхищали алискафы – суда на подводных крыльях, появившиеся совсем недавно. Их полет-скольжение над водой приводил его в восторг.
Именно такой и представлял Винченцо свою жизнь – как полет наперекор стихиям, победу над природой с помощью разума. Изобретение сицилийских инженеров, алискафы были гордостью островитян, а рыбакам, до сих пор ходившим в море под парусом, казались настоящим чудом.
На островах архипелага мало что изменилось за последние десятилетия. Настоящей сенсацией стало появление телевидения, а до того – электричества в домах и телефона, единственный аппарат был установлен в одном из баров на площади.
Но именно здесь, на забытом богом южном острове, в жизнь Винченцо вошло то, что перевернуло все его представления о мире.
Ее отец, дон Калоджеро, состоял в свойском родстве с семейством Чифарелли. Последние были богаче Маркони, жили и учились в Палермо. Дон Калоджеро держал адвокатское бюро и владел участком земли на окраине Мальфы, из-за которого в первую очередь и прибыл на Салину, и лишь во вторую – из-за свадьбы Розарии и Джованни.
Дон Калоджеро одним из первых понял, сколь богатые возможности таит местное виноделие. На протяжении столетий славу Салины составлял один-единственный сорт вина, производимый именно в Мальфе, – «Мальвазия-делла-Липари». Древние греки называли «нектаром богов» этот золотистый, сладкий напиток. За последние сто лет цены на него в Неаполе, Париже и даже в Нью-Йорке взлетели немыслимо. Но завезенная из Америки виноградная вошь, филлоксера, уничтожила большую часть виноградников, и многие островитяне постепенно покинули родину. Поначалу – на тех самых судах, что завезли вошь, – отправились в Америку и Австралию, а позже, подобно Энцо, Джованни и Джульетте, – на север Италии с его автомобильными заводами.
Оставшиеся крестьяне продолжали заниматься уцелевшими виноградниками, продавали вино на другие острова архипелага и на Сицилию. Но на международном рынке салинское вино практически забыли. И только Калоджеро понял, что у янтарной «Мальвазии» прекрасное будущее.
Адвокат принялся скупать заброшенные поля в окрестностях Мальфы, чтобы пробудить их к жизни. К тому времени чуть ли не вся молодежь подалась на заработки и население острова составляли одни старики, отдававшие земли за бесценок.
Ни о чем этом Винченцо не знал. Он видел лишь импозантного синьора, сходившего по трапу алискафа. Несмотря на жару, тот был в шляпе и костюме-тройке, из кармана жилетки свисала серебряная цепочка от часов; туфли ручной работы так и сверкали на солнце. Как только он сошел на берег, матросы принялись выгружать многочисленные тюки и чемоданы.
Этот старомодный синьор странно смотрелся на фоне судна на подводных крыльях. Но внимание Винченцо привлек не он, а сопровождавшая его девушка. Пока синьора Калоджеро ругалась с матросами, требуя быть бережнее с их багажом, девушка невозмутимо оглядывала берег. Дочь палермского адвоката звали Кармелой. Ей было четырнадцать лет.
На Кармеле была соломенная летняя шляпка, белое льняное платье и кожаные сандалии на босу ногу. Она была высокой, ростом почти с Винченцо, ее кошачьи глаза цвета морской волны смотрели на мир невозмутимо и загадочно.
Винченцо приехал в гавань вместе с дядей – встречать гостей. Джованни представил племянника Кармеле. Девушку окутывал дурманящий цветочный запах, в котором Винченцо не признал любимые духи своей матери. Скучающий вид Кармелы он принял за чистую монету. Винченцо был очарован – бирюзовыми глазами, пухлыми губами, грацией молодого гибкого тела. Неспешностью и мечтательностью, так гармонирующей со спокойствием стихии, из которой девушка явилась к нему.
Погрузив чемоданы на двух ослов, Винченцо помог Кармеле подняться в кузов грузового мотороллера, арендованного ради такого случая дядей Джованни. Сам дядя сел за руль. Рядом в открытой кабине устроилась синьора. Калоджеро остался в гавани дожидаться возвращения Джованни. Адвокату не хотелось марать дорогой костюм в пыльном кузове.
– Присматривай за ней хорошенько, – полушутя напутствовал Калоджеро Винченцо, кивнув на дочь.
Молодые люди устроились на сиденьях в кузове, привалившись к водительской кабине. Кузов нещадно трясло на каменистой дороге. Кармела подпрыгивала на сиденье, толкая коленками Винченцо, а он не мог оторвать глаз от ее бедер, очертания которых четко прорисовывались под летним платьем. Смуглая кожа Кармелы была словно пропитана солнцем. Сквозь легкую ткань Винченцо разглядел у нее на коленке крохотный шрам.
К ее духам примешивался аромат розмарина, росшего по обочинам дороги, и гарь мотоциклетных выхлопов. Волосы Кармелы развевались, задевали лицо Винченцо. Он сидел, стараясь не двигаться, чтобы не разрушить сказку, в которой вдруг оказался.
Считается, что на сицилийской свадьбе всегда сочетается не одна пара. Занятый приготовлениями Джованни не заметил, как Винченцо и Кармела оказались в центре внимания взрослых. И только после венчания, когда свадьба пировала на поле перед домом, увидел, что племянник с дочерью синьора Калоджеро, вместо того чтобы сидеть за общим столом, уединились на развалинах старого каменного забора.
Ветерок с моря трепал края белой скатерти. «Под столом прячется призрак», – хихикали в кулачок дети.
Взрослые воздавали должное экзотическому меню, не забывая нахваливать и местных кухарок, и поваров из Мессины. С часу дня и до шести вечера продолжалось пиршество, пока десерт «бьянко-э-неро» не заткнул рты самым привередливым.
Джованни ковырял носком ботинка сухую землю и вспоминал, как когда-то бегал по этим полям с урчащим от голода животом и не смел беспокоить жалобами родителей, чтобы не расстраивать понапрасну. А теперь его счастливая мать сидит за роскошным столом и налюбоваться не может на сына и новоиспеченную невестку.
Гроза разразилась внезапно. Началось с того, что аккордеонист Серджо подошел к жениху, вытащил из кармана мешковатых брюк ржавые ножницы и, смеясь, отрезал у Джованни кончик галстука. Гости разом оживились и захлопали. А Серджо достал столировую банкноту и сунул Джованни в карман рубашки.
Один за другим потянулись гости к жениху за остатками галстука. На столе быстро росла гора купюр. Последний кусочек достался Джульетте. Энцо ободряюще похлопал шурина по щеке. Винченцо ухмылялся, сидя на каменной стене.
Серджо заиграл тарантеллу, мелодию подхватили гитарист и старик с мандолиной. В считаные минуты застолье превратилось в танцы. Сначала в круг, ритмично хлопая в ладоши, ступили пожилые женщины. За ними вышли дети, потом мужчины. Беззубые рыбаки и горбатые крестьянки, разгоряченные вином и музыкой, показывали молодежи, что такое настоящая тарантелла.
Розария потащила в круг Джованни. Откуда ни возьмись между ними встала Джульетта. Джованни и не заметил, что Энцо остался сидеть на месте. Джульетта направилась к музыкантам, после чего тарантеллу сменила неаполитанская песня «Ты хочешь быть американцем», слегка в ускоренном темпе. Джульетта запела под восторженные возгласы танцующих. Джованни успел забыть, сколь звучный у его сестры голос. А ведь в молодости они днями напролет могли слушать этот шлягер по радио.
Серджо отложил аккордеон, предоставив гитаристу выкручиваться одному, и пригласил Джульетту на танец. Та не заставила себя упрашивать.
Пьяный от музыки и вина Джованни почти потерял сестру из виду, но вмиг протрезвел, когда увидел Энцо, подступившего к Серджо.
– Ты спросил разрешения?
Серджо растерянно заморгал:
– Да, конечно, я ее спросил.
– Не ее, а меня надо было спрашивать.
Джульетта схватила мужа за рукав:
– Энцо…
Не обращая на нее внимания, Энцо толкнул музыканта в грудь:
– Или ты забыл, как это делается?
– Прости, Энцо… – начал оправдываться Серджо. – Я не знал, что ты…
– Что я ее муж?
– Нет… просто я думал, что вы живете в Милане, и…
– Оставь его, Энцо, – уже решительнее вмешалась Джульетта.
– Думаешь, мы в Милане разучились отличать свое от чужого?
Серджо развел руками. И вернулся к своему аккордеону.
Энцо схватил жену за рукав, потянул в круг танцующих. Но Джульетта не сдвинулась с места, она сердито смотрела на мужа.
– Чего ты от меня хочешь?
– Пошли танцевать.
– Энцо, я танцую с кем хочу.
– Значит, тебе больше нравится с ним?
– Мы с Серджо друзья детства, вместе ходили в школу.
– И что? Разве это повод отказывать законному супругу?
– Энцо, когда ты наконец прекратишь…
В этот момент между родителями втиснулся Винченцо.
– Оставь ее, – сказал он отцу.
Энцо оттолкнул сына:
– Не твоего ума дело.
– Все хорошо, Винченцо, – ласково сказала Джульетта.
– Нет, не хорошо.
– Пошел прочь, я сказал, – зарычал на Винченцо Энцо.
– Ничего ты мне не говорил.
– Я твой отец, парень, имей уважение.
Уже никто не танцевал, хотя музыканты продолжали играть.
– За что мне тебя уважать?
Это было неслыханно – сын отказывал отцу в уважении. Такого на острове отродясь не бывало. Все затаили дыхание. Энцо отступил на шаг, чтобы влепить Винченцо пощечину. Она не должна была получиться слишком сильной, меньше всего он хотел сделать сыну больно. Воспользовавшись его замешательством, Винченцо увернулся, и рука Энцо встретила пустоту. Джульетта закричала. Энцо замахнулся вторично, но Винченцо ударил первым.
Энцо пошатнулся, но удержался на ногах. Гости в ужасе попятились: сын поднял руку на отца!
– Ты с ума сошел, – прошептала Джульетта.
Отец и сын, набычившись, стояли друг напротив друга. Губы Энцо дрожали, но он молчал. То ли еще не осознал происшедшее, то ли сумел совладать с гневом. Джульетта отвесила сыну затрещину:
– Что на тебя нашло? Что с тобой, Винче? Ты спятил?
Винченцо сорвался с места и в несколько прыжков скрылся за поросшими кустарником скалами. Джованни кинулся следом, ругаясь на чем свет стоит.
Праздник обернулся скандалом, таким и остался в истории острова. Музыканты суетились, убирая инструменты. Гости шушукались. Кондитеры из Мессины смущенно собирали со столов посуду. Кончетта что-то говорила Энцо, угрюмо сидевшему в стороне ото всех. Джованни увел сестру в запущенный виноградник.
– Иди к нему, Джульетта.
Джульетта затрясла головой. Джованни протянул ей носовой платок.
– Энцо не хотел ничего плохого.
– Это никогда не кончится. Энцо ослеплен ревностью.
– Но почему?
– Ему мерещатся призраки.
– Ты несправедлива к нему. Ревность сестра любви.
– Я больше этого не вынесу, Джованни. Я боюсь за Винченцо. Один из них сживет другого со света.
– Но почему?
– Я не знаю, Джованни… не знаю.
Поздно вечером, когда гости разошлись, а Джульетта и Розария помогали матерям на кухне, Джованни вышел во двор, чтобы убрать столы.
Скатерти белели в лунном свете. Ночной ветерок трепал их, покачивал столы.
Джованни отошел к старому оливковому дереву, чтобы помочиться, но не успел расстегнуть штаны, как увидел за сухими кустами парочку, сидевшую на камнях обвалившегося забора. Это были Винченцо и Кармела. Девушка подалась к парню и явно что-то говорила. Винченцо держал ее за руку. Они поцеловались.
В черном южном небе мерцали звезды. Где-то на холмах завыла собака.
На следующее утро Джульетта разбудила сына резким окриком:
– Одевайся!
– Что случилось?
– Никаких вопросов, пошевеливайся!
Озадаченный Джованни наблюдал, как сестра выставляет заспанного Винченцо из дома. Джованни после короткой и беспокойной брачной ночи занимался погрузкой приданого жены в кузов мотороллера. Расшитое постельное белье, скатерти, фарфор – всему этому в многочисленных сумках, тюках и чемоданах надлежало отбыть в Мюнхен, откуда молодые намеревались сразу отправиться в свадебное путешествие. Так Джованни обещал Розарии.
Энцо с Кончеттой наводили порядок.
– Паром отходит в полдесятого. – Джульетта решительно закинула свой чемоданчик в кузов. – Если поторопимся, успеем.
На пороге появилась заспанная Розария и удивленно посмотрела на мужа.
– Извини, Розария, – сказала Джульетта. – Мне жаль, что так получилось.
Винченцо устроился в кузове рядом с матерью. Джованни, так и не сказав ни слова, сел за руль.
– Куда мы едем, мама?
– Не волнуйся, сынок.
– Но я хочу остаться здесь.
– Вернешься позже.
– А папа?
Джульетта смотрела на дорогу, убегавшую назад.
– Вы разведетесь?
Она молчала.
– Куда мы едем?
– В Германию.
Винченцо посмотрел на мать. Она взяла его за руку:
– Я люблю тебя, остальное не имеет значения.
Когда судно отчалило, на причал вылетел мотороллер, с него соскочил Энцо. Поднятая паромом волна била о скалы. Винченцо смотрел на удаляющуюся фигуру отца, и сердце его стиснула жалость.
Глава 22
– Если бы не этот случай, твой отец не перебрался бы в Германию и ты бы не родилась. – Джованни лукаво усмехнулся.
На Зендлинг опустилась ночь. Музыка смолкла. Разошлись все, кроме Розарии, Джованни, меня и Марко, разбиравшего музыкальную сцену.
Подул ветерок, заморосило. Розария захлопнула альбом, Джованни раскрыл зонтик.
Я думала над его словами. Получается, предыстория моей жизни – это сплошная череда расставаний. Мужчины и женщины в моем роду не уживались. Инициаторами разрывов выступали женщины. А расплачивались дети.
– Где он теперь живет? – спросила я.
– В Италии.
– Где именно?
Джованни молчал. Розария смотрела на мужа.
– Хочешь его навестить? – наконец спросил он.
Ответа я не знала. Я думала о Винсенте, и Джованни угадал это.
– Может, кто-то другой хочет, не ты?
Меня начинали раздражать эти умолчания. Почему бы просто не сказать: твой отец живет в Милане, на улице такой-то, вот номер его мобильника. Извини, что тебе пришлось тридцать шесть лет дожидаться этого дня.
– Неужели вы никогда мной не интересовались? – не выдержала я. – Мы ведь столько лет прожили в одном городе… Или вы не знали, что у него есть дочь?
Последнее возымело действие. Я почти физически почувствовала стыд Джованни. Розария первой нарушила молчание:
– Он живет в Неаполе. – И с вызовом посмотрела на мужа.
– Но она не может просто так прийти и сказать: ciao, я твоя дочь… – оправдываясь, сказал Джованни. – У него семья…
– Джованни, мне ничего от него не нужно. У него своя жизнь, у меня своя. Но нам не помешало бы познакомиться, тебе не кажется?
Розария взяла мою руку и заглянула в глаза – слишком сочувственно. Плакаться кому-либо в жилетку – последнее, что входило в мои намерения.
– Позвони ему, Джованни, – велела она.
– И что сказать? – Джованни вопросительно посмотрел на меня.
– Что я здесь, – ответила я.
Пока Джованни стоял возле телефона в коридоре и набирал длинный номер, Розария караулила его в дверях, как сторожевая собака. Время от времени она бросала на меня подбадривающие взгляды. Она понимала, что в сложившейся ситуации мне приходилось во сто крат тяжелей, чем Джованни. Я не имела никакого права вторгаться в жизнь этих людей, какими бы отзывчивыми они ни были. Не говоря уж о человеке, волею случая оказавшемся моим биологическим отцом.
В квартире Джованни и Розарии необарочная пышность гармонично сочеталась с минимализмом «ИКЕА». Расскажи мне кто из знакомых о подобной мешанине стилей в сердце Зендлинга, ни за что не поверила бы. Ярко-зеленые подушки с красными шнурами на фоне золотых диванных подлокотников, антикварный шкаф в гостиной рядом с заставленными всякой всячиной стеллажами, китчевые репродукции неаполитанских морских пейзажей в золоченых рамах соседствовали с портретом Падре Пио[74] – улыбающегося, несмотря на стигматы, и с сиянием-нимбом вокруг тонзуры. В тот момент мне подумалось, что расхожие мифы об итальянцах не лишены реальной основы.
– Кармела? Oh! Sono Giovanni da Monaco. Tutto bene?[75]
Джованни начал с длинного монолога, из которого я не поняла ни слова. Потом задал вопрос и, выслушав ответ, издал возглас не то облегчения, не то разочарования. Наконец примирительное: «Нет-нет, это не проблема…» Он повернулся ко мне, все еще держа в руке трубку:
– Его нет.
У меня гора свалилась с плеч. Я даже не представляла, что буду говорить, если Джованни нас соединит. «Привет, папа»? Совершенно невозможно. «Здравствуй, Винченцо»? Но с каких пор к незнакомым людям обращаются по имени?
И все-таки после рассказа Джованни Винченцо стал мне почти родным человеком. Сколько ему теперь лет? Пока я подсчитывала, что-то произошло на том конце провода, и Джованни дернул меня за рукав:
– Он пришел!
Мы трое затаили дыхание. В трубке послышался тихий мужской голос:
– Алло.
– О, Винче, как ты? Все в порядке?
Джованни начал в нарочито веселом тоне, но потом понизил голос и отвернулся от жены, как будто решил посекретничать с неаполитанским собеседником. Я услышала свое имя и в следующий момент буквально почувствовала, как в тысяче километров к югу от Мюнхена разорвалась невидимая бомба.
Мы с Розарией переглянулись. Джованни ждал, было тихо.
– Винченцо! Pronto! Винченцо!
Рука безвольно упала, Джованни поднял на меня большие виноватые глаза:
– Он повесил трубку.
Я ждала чего-то другого?
Когда я вышла из машины возле супермаркета, дождь прекратился. По мокрому асфальту растекался холодный свет уличных фонарей. Лавка Джованни дремала в одном из темных переулков. К дверям супермаркета вырулил «холодильник». Грузовик для перевозки скота свернул в направлении бойни.
Никогда ощущение собственной никчемности не было таким невыносимым. Все усилия оказались напрасны. Само мое появление в этом мире представлялось бессмысленной прихотью природы. Что я здесь забыла, в конце концов?
Хотя почему природы? Я собственными ушами слышала голос человека, зачем-то вызвавшего меня к жизни и оставившего один на один с этим миром. Зачем? В детстве этот вопрос я задать ему не успела, поэтому со временем забыла о нем. И вот теперь несостоявшийся телефонный разговор разбередил старые раны.
Я села в машину, достала мобильник, который весь день не вынимала из сумочки. Две эсэмэски от мамы: «Все в порядке?» Она как будто что-то почуяла на расстоянии. Три сообщения, два пропущенных звонка и четыре имейла от Робина. Последние я оставила непрочитанными и направила машину через железнодорожные пути. В свой престижный квартал, в свою – такую чужую – квартиру, где можно упасть в холодную постель и попытаться уснуть, несмотря на дрожь во всем теле.
Как все-таки мало человеку надо, чтобы почва ушла из-под ног. Я ведь ничего не потеряла, осталась той, кем была. Но молчания чужого мне человека в телефонной трубке оказалось достаточно, чтобы где-то внутри образовалась дыра – брешь, которой раньше не существовало. Счастье и беда разделены тонкой перегородкой. Сейчас она прорвалась, и я это почувствовала.
В два часа ночи, осознав безнадежность попыток забыться сном, я приготовила двойной эспрессо, достала альбом и карандаши. Работа – лучшее лекарство. И единственный способ почувствовать себя на своем месте.
Я включила музыку и забыла обо всем. Если получится изобразить что-нибудь презентабельное, хотя бы Робин порадуется. Когда небо за окном стало светлеть, я поняла, что рисую костюмы к истории Джованни. Его клетчатый пиджак и плоскую кепку, свадебное платье, которое Джульетта сшила Розарии. Летнее платье самой Джульетты и шляпку Кармелы. Один Винченцо оставался белым пятном. Все остальные были уже здесь, незваные гости в моей квартире.
На кухонном столе лежало запечатанное письмо. Следует его вернуть. Дверь, приоткрытая Винсентом, снова закрывалась, теперь уже навсегда.
– Где ты была? – В ателье Робин набросился на меня с порога. – Ну и вид у тебя… – добавил он, прежде чем я успела ответить.
– Спасибо за комплимент.
– Так где ты пропадала? Случилось что-нибудь?
Я приготовила эспрессо. Все мысли крутились только вокруг Винсента.
– Ничего, если не считать того, что мы стремительно идем ко дну.
– Тогда все в порядке.
Я пила кофе, избегая встречаться с Робином глазами.
– Я организовал ужин с итальянцами… Знаю, знаю… Можешь предложить что-нибудь другое?
– Как хочешь.
– Мне нужны твои эскизы.
В обеденный перерыв я позвонила Винсенту – просто потому, что не могла держать его в неведении. Я должна была вернуть ему письмо. В конце концов, он может на словах передать сыну то, что там написано. Я же не войду в это львиное логово ни за какие деньги.
– Алло? – Женщина в трубке представилась.
– Простите, я могу поговорить с доктором Шлевицем?
– Ему что-нибудь передать?
– Нет, я хотела бы услышать его лично.
– К сожалению, это невозможно. – Голос сорвался.
– Почему?
– Кто вы?
– Я Юлия, его внучка.
Напряженная тишина.
– Что-нибудь случилось? – не выдержала я.
Когда я вошла в палату, она стояла рядом с кроватью Винсента, опутанной сетью разноцветных трубочек и проводков. Высокая худощавая женщина под пятьдесят, с узкими губами, собранными на затылке светло-каштановыми волосами и в бежевом костюме, как будто ее вызвали сюда прямо из офиса. На подоконнике стояла сумочка от «Луи Виттон».
Женщина подошла ко мне и протянула руку:
– Рада познакомиться, хотя обстоятельства не самые приятные. Клара Штробель.
Его дочь. Она смотрела мне в глаза, неприветливо улыбаясь. Я хотела подойти к нему, но женщина встала между нами, как сторожевая овчарка.
– Как у него дела? – спросила я.
– Ему нужен покой.
– Юлия… – Это был голос Винсента, слабый, но решительный. – Подойди…
Клара нехотя посторонилась. Я приблизилась к кровати. Винсент был очень бледный, в больничной пижаме. Взять свою из дома, наверное, не успел. Он протянул руку, привлек меня к себе. Я осторожно присела на край кровати. Глаза наполнились слезами. С тех пор как я узнала историю Винсента, он перестал быть мне чужим.
– Я крепкий… – Винсент улыбнулся, превозмогая боль. – Крепкий, но…
– Успокойся, папа. – Клара поправила подушку и повернулась ко мне: – Инфаркт. К счастью, я оказалась дома и вовремя его обнаружила.
Я кивнула, не вынимая руки из его ладоней.
– Врач сказал, его жизнь все еще под угрозой. Пожалуйста, не беспокойте его…
Она определенно хотела выдворить меня, но столь же определенно Винсент желал противоположного.
– Почему вы на «вы»? – прошелестел он.
Я вымученно улыбнулась Кларе – как-никак она приходилась мне тетей. Винсент крепче сжал мою руку:
– Ты нашла его?
– Да, я была у Джованни.
Он напряженно смотрел на меня.
– Мы звонили ему, он живет в Неаполе.
– И?
– Положил трубку.
На его лице проступило разочарование.
– Папа, побереги себя.
– Да, конечно… все хорошо.
Клара схватила меня за руку и потащила к двери:
– Могу я переговорить с тобой с глазу на глаз?.. Мы скоро вернемся, папа.
Я вышла за ней в коридор. В свете неоновых ламп лицо Клары выглядело еще строже. Она сразу перешла к делу:
– Буду с вами откровенна. Неприятно об этом говорить, но мы с сестрой знаем, что он хотел переписать завещание… Видите ли, не все так просто. И сейчас, в его состоянии…
– Мне ничего об этом не известно, честное слово. И… не беспокойтесь, мне не нужны деньги.
Последнее было откровенной ложью. Просто я ничего не хотела брать у Винсента.
– В таком случае все в порядке, – улыбнулась женщина. – Предлагаю тебе написать официальный отказ и…
– Но почему ты так уверена, что он умрет?
Я вошла в палату, она поспешила следом. Я села на стул рядом с Винсентом и достала письмо. Клара не сводила с меня глаз. Я же думала, что сказать. Какими словами объяснить Винсенту, что не могу выполнить его волю? Он предупредил меня и схватил за руку:
– Передай ему, чтобы он пришел. Я хочу поговорить с ним.
– Понимаю, как это важно для тебя, но я и Винченцо… в общем, это была неудачная идея.
– Это недоразумение, не более. И оно обязательно разрешится. Винченцо не расстанется с тобой, после того как увидит. Просто не сможет.
Винсент смотрел на меня одновременно требовательно и нежно. Я положила письмо на ночной столик.
– Он уже расстался.
– Если ты не увидишься с ним сейчас, потом будет поздно.
– Я бы увиделась, но…
– Не ради меня. Сделай это ради самой себя.
– Мне это не нужно, – улыбнулась я.
– Тогда ради Джульетты. Будь она жива, не желала бы ничего другого.
Мне редко приходилось встречать людей настолько целеустремленных. Примириться с Винченцо – вот все, что ему было нужно. Казалось, за саму жизнь он цеплялся меньше, чем за эту идею.
– У меня почти не осталось времени. – Винсент попытался улыбнуться.
– Все хорошо, папа, – вмешалась Клара. – Мы уже уходим.
Она умоляюще посмотрела на меня, а потом на письмо на ночном столике.
Даже не знаю, что меня заставило. Возможно, напористость Клары или сочувствие к Винсенту. Или меня вела незримо присутствующая среди нас Джульетта? А может, моя гордость, растоптанная так называемым отцом? Мне вдруг остро захотелось его увидеть, встать перед ним и объявить прямо в лицо: «Вот я. Знаю, что ты того не хочешь, но я существую».
– Я приведу его к тебе, обещаю, – сказала я Винсенту и взяла письмо с ночного столика. – Но и ты пообещай, что дождешься нас.
Винсент кивнул. Я никогда не забуду его благодарную улыбку.
Розария открыла мне в переднике, обтягивающем пышное тело, и с прижатым к уху мобильником. Увидев меня, она просияла от радости и тотчас дала отбой.
– Джулия! Заходи. Джованни в магазине. Есть хочешь?
– Мне нужен адрес, – сказала я вместо ответа.
Розария немножко подумала и предложила:
– Дождись Джованни. Может, он поедет с тобой.
Я покачала головой:
– У меня нет времени ждать.
Вечером я отправилась на Центральный вокзал с небольшой дорожной сумкой и письмом Винсента в кармане. Ночной поезд до Неаполя, одиннадцатый путь, – та самая платформа, на которой Джованни раздавал землякам салями. Сейчас здесь проходу не было от немецких туристов с рюкзаками и молодых итальянцев, ничего не подозревающих о бункере под их ногами, через который когда-то прошли миллионы гастарбайтеров.
Перед открытыми дверями поезда обнимались мужчина и женщина. Я представила себе Джульетту посреди этой толчеи. Вот она стоит в сшитом собственными руками платье и держит за руку тринадцатилетнего мальчика, который однажды станет моим отцом. Возможно, и сейчас Джульетта заглядывала мне через плечо. Во всяком случае, я чувствовала ее взгляд. Похоже, я даже заставила ее улыбнуться.
Не успела я войти в вагон, как за спиной послышался характерный треск. Я оглянулась: по перрону неслась «веспа». Марко. Сзади сидел Джованни с двумя пакетами в руке. Марко притормозил и с виноватой улыбкой пожал плечами: мол, против Джованни у него не было ни малейшего шанса.
Джованни спрыгнул – на удивление проворно, с учетом возраста и комплекции.
– О-о-о… – протянул он, но, опомнившись, спросил быстро: – Куда собралась?
– В Тимбукту, – буркнула я.
– Какое совпадение, мне туда же. Дела зовут. Ciao, Марко…
Джованни решительно шагнул в вагон и подал мне руку:
– Синьорита Маркони?
Часть вторая
Глава 23
У Джованни не было билета, зато в избытке имелось провизии в дорогу. Он ввалился в купе, бухнул пакеты на сиденье и указал мне на противоположное. После чего достал салями, столовый нож и принялся кромсать колбасу.
– Черт, я даже поужинать толком не успел. – Он протянул мне кусок салями: – Ешь, это из знаменитой черной свиньи Неброди[76].
Сопротивляться было бессмысленно. Еще до того, как поезд тронулся, Джованни разложил свои деликатесы на столике, точно на витрине.
Купе тут же пропиталось запахами колбасы, овечьего сыра и маринованных оливок. А Джованни выглядел так, будто находится дома, словно любой поезд, отходящий от одиннадцатого пути, для него родной.
За окном ухмылялся Марко, пока проводник не прогнал его с перрона вместе с его «веспой».
Поезд тронулся в ночь.
– Похоже, я сошла с ума.
Я посмотрела на часы. Отступать было поздно, разве что сойти на ближайшей станции. Через восемь минут я должна показывать Робину эскизы для завтрашней встречи с итальянцами.
Джованни открыл бутылку красного вина и понюхал пробку.
– Почему это ты сошла с ума?
– Потому что сейчас я должна спасать свою фирму.
– Иногда безумные поступки самые правильные.
Джованни налил вина в мой стакан. Разумеется, в стеклянный, никаких бумажных стаканчиков.
– Красное с Салины. «Неро д’Авола» и «Нерелло Маскальезе», в дорогу лучшее… Так что там с фирмой?
– Речь об инвесторе.
Он наклонился ко мне через столик:
– Я видел тебя в интернете, Марко показывал. Мадонна, что у тебя за жизнь… Лондон, Париж, Милан, Нью-Йорк… И собственная фирма! Вот бы Джульетте хотя бы половину твоего счастья…
– Джованни, все мое счастье висит на волоске. У нас нет денег. Мы либо продаемся концерну из Пармы, либо вылетаем в трубу.
Он посмотрел на меня с недоумением.
– Это как если бы твой магазин деликатесов купил «Макдоналдс», – пояснила я. – «Не стоит волноваться, все остается по-старому. Можете делать что хотите…» Но давай-ка подсчитаем. Что, если вместо твоей пармской ветчины добавить в панино готового фарша? Так оно будет быстрей и гораздо прибыльнее.
– Преступники! – Джованни понял меня сразу. – Международная мафия, они уничтожают мелких производителей. Скоро ничего не останется, кроме их сетей. Наши дети… что они едят… они не знают, что такое настоящий шоколад… настоящий, не этот фабричный. Я еще помню, как старики делали капонату, а вот дети… А политики? Все они жулики. Нам нужна революция.
Дитя фастфуда, я в жизни не пробовала ни капонаты, ни настоящего шоколада. Но то, о чем говорил Джованни, с легкостью распространялось и на мир моды. Исчезновение мелких предприятий, гибель ремесленничества, глобализация, диктат массового вкуса…
– Что думаешь делать? – спросил он.
– Пока не знаю.
– Иногда нужно просто выждать, решение придет само собой.
Знать бы еще какое…
– Винсент не обещал тебе денег?
– Нет.
– Сколько тебе нужно? Я дам.
Великодушным жестом Джованни отмел все недоразумения и недомолвки. Я не очень-то поверила ему, хотя была тронута.
– Спасибо, Джованни, но нет. Это очень большие деньги.
– Брось, пожалуйста. Нет таких денег…
– Триста тысяч марок.
Он запнулся на полуслове.
– Ты с ума сошла? У тебя такие долги? Так много у меня нет.
– Оставь, Джованни. Знаешь, я как ты, всегда хотела быть сама себе хозяйкой. И я этого добилась. Вот только это означает работу двадцать четыре часа в сутки и безденежье.
– Хорошо. А чем бы ты занималась, если бы не работала? Зачем тебе свободное время?
Я усмехнулась:
– Незачем.
– Тебе нужна семья. – Джованни отрезал кусок сыра. – Работа – это хорошо, но когда у тебя будут дети, ты поймешь, что они самое важное. Я уже сорок лет держу один-единственный магазин – и ничего… Я никогда не прогорал, не вылетал в трубу. И мне не нужны ни партнеры, ни инвесторы, на жизнь хватает, а больше мне и не надо. И главное – я сам решаю, что продается в моем магазине. Только самое лучшее, niente roba industriale[77], и баста. Богат ли я? Нет, ну и что с того? Разве это такая беда?
– Речь идет не о богатстве. Я просто хочу заниматься своим делом, а не идти в официантки, понимаешь? Я не представляю себе жизнь иной, потому что больше ничего не умею делать.
– Ты как Джульетта, только более удачлива.
– Думаешь? – Я горько усмехнулась. – Если мне чего и не хватало всю жизнь, так это удачи. С прилежанием у меня более-менее… и напор есть. Наверное, слишком наивна… Но я много лет жила в шаге от большого прорыва, до успеха рукой подать, а я… Это как проклятье, Джованни.
– Может, на тебе malocchio?
– Что?
– Черный глаз, так говорила моя мама. Тебе кто-нибудь завидовал?
От внезапной нелепой мысли по спине пробежал холодок. Джульетта завидует мне – оттуда, из своего времени. Джованни рассмеялся и протянул мне очередной кусок салями.
– Я пошутил… Так почему ты все-таки не заводишь детей?
Похоже, для него и в самом деле не существовало запретных тем. Пока речь не заходила о его семье, разумеется.
– Видишь ли, дизайнер, у которой я училась в Лондоне, сказала мне как-то одну вещь… В общем, это называется «Правило две из трех». Жизнь состоит из трех сфер: карьера, дети, отношения. Ты можешь выбрать только две из них, третьей придется пожертвовать.
Джованни задумался.
– Ты замужем?
Я покачала головой.
– А твой парень… что он думает по поводу этого… «две из трех»?
– У меня нет парня. Одна из трех.
– А… а если сейчас вылетишь в трубу, что останется? Ноль из трех?
Мы рассмеялись.
– Глупое правило, знаешь ли… – Джованни подлил мне вина.
– Три или ноль, жизнь – большое казино, – сказала я.
– Что?
– Казино. Проблемы. Деньги…
Джованни поднял бокал.
– А зачем тебе понадобился Винченцо?
Я пожала плечами:
– Похоже, пришло время податься в бега.
– Все-таки ты похожа на Джульетту. – Он печально улыбнулся.
– Потому что она тоже все время убегала от себя?
Джованни приподнял кустистые брови.
– Скажи, а почему ты со мной поехал?
Лицо Джованни стало серьезным.
– Просто подумал, что ты хочешь послушать продолжение истории Джульетты. Как сложилось в Германии у нее и твоего будущего папы…
– Она стала модельером?
Джованни промычал что-то неопределенное.
– И да и нет…
– То есть?
Он взял второй пакет и вытащил из него потрепанный фотоальбом в переплете в зелено-коричневую клетку.
– Сейчас я тебе покажу…
Это был не тот альбом, что я листала во дворе его дома. На первой странице в роскошной рамке – свадебное фото Розарии, с первого взгляда было ясно, кто заказывал музыку. Розария – сияющая, в подвенечном платье – победно улыбалась в камеру. Джованни скромно стоял рядом.
Вариаций этой темы в альбоме было множество. Джованни долго пришлось листать, прежде чем он наткнулся на фотографию Джульетты. Она стояла рядом с братом на все той же платформе одиннадцатого пути. Рядом – Винченцо, которого легко было принять за их сына. Мальчик выглядел удрученным. Джульетта, в джинсах и с чемоданом в руке, улыбалась.
Должно быть, снимок сделала Розария, сразу по прибытии семейства Маркони в Мюнхен. Я пыталась поставить себя на ее место. Молодая жена, последовавшая за мужем в землю обетованную, – что чувствовала она по отношению к Джульетте и ее сыну? А Винченцо, каково было ему после родительской размолвки, выбросившей его в чужую страну?
Я ткнула пальцем в Винченцо:
– Тяжело ему пришлось в Германии?
– Винче ненавидит Германию.
– Единственный из вас, в ком есть немецкая кровь?
Джованни отвернулся. Эта тема была ему явно неприятна.
– Джульетта хотела остаться в Германии навсегда или ей просто требовалась передышка?
– Она сама не знала. Никто ничего не знал… Жизнь – казино.
Глава 24
У каждого человека есть второй дом,
где он, что бы ни сделал, невиновен.
Роберт МузильМюнхен
Итак, Джованни – преуспевающий директор филиала компании «Мерседес» и оптовый торговец продуктами питания по совместительству – привез жену, сестру и племянника к себе в Мюнхен. На этот раз он не стал брать такси, как сделал это в день первого своего приезда, но удовлетворился трамваем. Станция конечная, Хазенбергль.
Путь от Штахуса[78] до дальней окраины был достаточно долог, чтобы семья успела осознать правду. И пока Розария медленно прозревала, смиряясь с тем, что социальный статус ее мужа в этой стране оказался ниже ожидаемого, Джульетта смотрела в окно, впитывая новый мир.
Она приготовилась к пасмурной погоде и нескончаемым дождям, а оказалось, что в Германии вовсю светит солнце. Женщины выше ростом, чем итальянки, стрижки у них более короткие, а каблуки ниже. Среди клерков в деловых костюмах мелькают лохматые личности в шортах, хиппи с массивными цепями на шее и в жилетках из овчины мехом наружу прямо на голое тело. Девушки в мини или цветастых индийских юбках до пят. Иные наряды смотрятся дико, безвкусно. Тут можно увидеть что угодно, только не элегантность, зато жизнь явно бурлит.
– Большой палаццо, так ты, кажется, говорил…
Розария разочарованно смотрела на безликую многоэтажку. Пригород, где проживал Джованни, состоял из одинаковых типовых домов. Прекрасный Мюнхен, с ренессансными и барочными дворцами, спроектированными итальянскими архитекторами, остался далеко позади.
– Большой… а кто скажет, что он маленький? – оправдывался Джованни. – Шестнадцать этажей, и все из бетона, по последнему слову техники. Или ты предпочитаешь сырые хижины? Вроде домика твоих родителей, где дует из всех щелей? А у меня здесь центральное отопление.
Джованни захлопнул дверь подъезда и повел всех к суперсовременному лифту. Розария видела такой впервые в жизни. И она предпочла бы умереть на лестнице, только не втискиваться в эту тесную, как гроб, коробку. Джульетта последовала за ней – вероятно, из солидарности. А Винченцо с дядей поехали на лифте.
Джованни недавно перебрался в эту двухкомнатную квартиру, дороговатую для него. Но, как «южанин», – а под эту категорию подпадали все смуглые, кроме совсем смуглых, которых называли «неграми», – Джованни должен был радоваться, что получил хоть такую. Хозяин квартиры лично знал его работодателя на рынке и только поэтому всерьез воспринимал Джованни как арендатора.
Пригород Хазенбергль, застроенный современным социальным жильем, одинаково устраивал как «южан», так и «северян». Первых – из-за доступного жилья для своих больших семей. Вторых – потому что так первые, выселенные на окраину, не мозолили им глаза. Город и пригород были как две отдельные галактики, связанные восьмым трамвайным маршрутом и разделенные невидимой стеной, преодолеть которую могли только деньги.
Следуя сицилийскому обычаю, Джованни на руках перенес жену через порог. Потом втащил чемоданы и шикнул на глазевших с лестничной площадки сестру и племянника:
– Ну, чего уставились как бараны? Заходите…
Джульетта подтолкнула сына. Джованни устроил всем экскурсию по квартире.
Тут имелось все необходимое: кухня, ванная, даже балкон. Электрическая плита, вместительный холодильник и современный туалет с унитазом.
На полу – ковровое покрытие, стены оклеены желто-бежевыми обоями. Вот только с потолка свисали голые лампочки. Джованни уже купил двуспальную кровать из ДСП, удобный матрас, обеденный стол, диван и телевизор. Он с гордостью щелкнул кнопкой на боку ящика из дубовой фанеры, и на экране медленно проступила заставка Второго немецкого канала.
– Фантастика, правда? На самом деле в Германии давно в ходу цветное телевидение. Это очень дорого, но через пару лет мы обязательно купим.
Винченцо скептически оглядывал пирамиды ящиков из-под фруктов. Он давно подозревал неладное и только не желая ронять дядю в глазах восторженной супруги не заговаривал о его машине.
А Джульетта? Она решила просто наслаждаться жизнью. Никто не понимал, почему она избегала этой Германии, почему ни разу не навестила брата. Но сейчас у нее в голове будто что-то переключилось. Теперь ей казалось, что эта страна, которую она исколесила вдоль и поперек в своих мечтах, перевернет ее жизнь. «Германия для меня как кислород, – призналась она позже Джованни. – Нигде мне не дышалось так легко».
Вечером Джульетта застелила диван в гостиной вышитым постельным бельем из приданого Розарии, а диванные подушки положила на пол, соорудив еще одну постель. Винченцо с подозрением следил за действиями матери.
– Это только на лето, – заверила она. – Когда начнется школа, ты вернешься домой.
На кухне Джованни и Розария мыли посуду после ужина.
– Где будет спать наш ребенок? – шепотом спросила Розария.
Джованни приложил ладонь к ее животу.
– Ой, уже толкается! – Он улыбнулся. – Не волнуйся, это временно.
– Macché[79], никто не толкается еще. Ты уже сказал ей?
Джованни покачал головой. Разумеется, он все сказал сестре, поскольку она же шила подвенечное платье. Никто не должен был узнать их тайну раньше времени.
Когда Джульетта вошла на кухню, он быстро убрал ладонь с живота жены.
– Прости нас, Розария, – сказала Джульетта.
Энцо позвонил тем же вечером. У Джованни, как только услышал в трубке его голос, в голове помутилось от злости, ну что за дурак этот Энцо, выставил себя на посмешище перед всей деревней. Мужчина, от которого ушла жена, на Сицилии навсегда ронял себя в глазах общества. Ведь сердце семьи – женщина.
– Успокойся, Энцо, твоя жена в порядке… Нет, ничего не случилось… Просто она вся в заботах… Подожди, я тебе ее дам…
Но Джульетта в ужасе отшатнулась и затрясла головой.
– Прости, Энцо, – сказал Джованни. – Она не хочет, я ничего не могу поделать.
Судя по характерным звукам, Энцо звонил из таверны на деревенской площади. Потом трубку взяла Кончетта – и на Джованни обрушилась самая пламенная из проповедей, какие ему только доводилось слышать в жизни. Черти, геенна, мрак преисподней и раскаленные сковороды для грешников – Кончетта огласила весь список, по временам срываясь на визг, как будто только так и могла докричаться до Германии.
Джованни представил себе таверну, где полдеревни собралось приобщиться к семейной драме Маркони, словно к греческой трагедии или опере Пуччини, и кровь бросилась ему в лицо. Превозмогая стыд, Джованни сунул сестре телефонную трубку.
Джульетта тщетно пыталась урезонить Кончетту: «Мама, у меня все в порядке, у Винченцо тоже!» – мать не оставила ей ни шанса быть услышанной.
– Я не знаю! – кричала Джульетта в ответ на вопрос, что станется с ее семьей и ребенком. – Мама! Я не знаю!
Джульетта швырнула трубку на рычаг телефона. Появился Винченцо в трусах и накинутом на плечи одеяле и вопросительно посмотрел на мать. Из гостиной доносился бубнеж телевизора: в Америке астронавты готовились к первому полету на Луну.
У Джульетты не было продуманного плана действий, она полагалась на интуицию. Обычно она была куда рассудительнее брата, но на этот раз понятия не имела, что делать. Знала только, чего нельзя делать ни в коем случае: возвращаться к Энцо.
Поздним вечером они с Джованни курили на балконе, как когда-то на скамейке перед церковью. Только теперь за их спинами была не церковь, а бетонная громада многоэтажки – темная, если не считать редких освещенных окон.
Ночь выдалась душной, где-то вдали громыхала летняя гроза.
– Наверное, я плохая жена, – сказала Джульетта. – И никудышная мать.
– Чепуха! – отозвался Джованни. – Просто ваш брак переживает сложный период.
– Тринадцатый год? Джованни, я уже столько лет жду, когда оно наконец «стерпится – слюбится».
– А что такое любовь? Чувства приходят и уходят. Семья – единственное, что остается.
Джульетта выпустила в темноту струйку дыма. Брат взял ее за руку:
– Послушай, я здесь ради тебя. Если только нужен тебе, конечно. Подумай о Винченцо. Кончится лето – ему ведь в школу.
Джульетта вспыхнула:
– Я думаю о Винченцо! И о маме тоже. Я делаю все, что от меня требуют, и все равно кругом виновата.
Она почти плакала. Джованни обнял сестру:
– Джульетта, милая, ты все делаешь верно.
– Последние тринадцать лет я жила в темноте, солнце сияло для других. Джованни, в мире произошла революция, а чем я в это время занималась? Стирала, готовила, ходила по магазинам. Водила Винченцо к врачу. И знаешь что? Этот сумрак вокруг меня был тенью мамы.
– При чем здесь мама?
– Это она привезла с собой старую Сицилию и держала меня в ней, как в клетке… «Мы маленькие люди… – передразнила Джульетта. – Крестьяне. Жертвенные агнцы… Мы не заслужили счастья». Она не могла позволить мне то, о чем сама не имела ни малейшего представления.
Джованни в задумчивости смотрел на сестру. Пожалуй, она права. Он оглянулся на гостиную, где перед телевизором сидел Винченцо, и плотнее притворил балконную дверь.
– Я постоянно слышу ее голос… – Джульетта тряхнула головой. – Стоит только решиться на что-нибудь – и он тут как тут… «Ты не смеешь! Знай свое место!»
– Джульетта, – Джованни посмотрел на сестру, – что ты задумала?
– Ты читал Маркса? – спросила вместо ответа Джульетта.
– Мадонна, он-то здесь при чем?
– В Милане я купила его книгу, «Капитал»… Так вот, Джованни, бытие определяет сознание… Понимаешь? Это все Сицилия, – во мне, в тебе, в нас… Я ни черта не понимаю в политике, но одно знаю наверняка: мы либо умрем, либо сами станем хозяевами своей судьбы, третьего не дано…
– Что ты намерена делать? – повторил Джованни.
– Если американцы летают на Луну, то мне уж точно позволено перебраться через Альпы.
– Не обольщайся, Германия далеко не рай.
– Мне не нужен рай, Джованни. Я просто хочу жить.
Глава 25
Впустите солнце. Впустите солнце внутрь себя[80].В зале стояла духота. Полицейские в форме не спускали глаз с публики – в основном с длинноволосых типов, от которых так и ждешь, что они вот-вот примутся дымить травкой.
Актрисы на сцене кувыркались под одеялом, на котором было написано «Цензура», а потом запели, выставив обнаженные груди. Розария отвела глаза. Уж очень неловко было за тех, кому природа, похоже, забыла даровать хотя бы намек на стыд.
Идея семейного похода в театр принадлежала Джованни, который хотел развеять мрачное настроение Джульетты. Заодно и показать себя светским человеком. Они выбрали «Волосы» – скандальный американский мюзикл на немецком и в исполнении немецких актеров. Винченцо оставили дома смотреть телевизор, вещающий на непонятном ему языке, потому что зрителей моложе шестнадцати лет на спектакль не пускали.
Джульетта никогда прежде не бывала ни в музыкальном театре, ни в опере, хотя с удовольствием слушала оперную музыку. Происходящее на сцене перевернуло ее представления о мире. Поначалу Джульетта отнеслась к действу скептически, но исподволь музыка увлекла, втянула ее в водоворот красок и звуков. Как будто кто-то распахнул дверь в потайную комнату – и в замшелой крестьянской хижине взорвался волшебный фейерверк.
В Германии мода не была искусством правильных пропорций, на нее смотрели исключительно как на способ самовыражения. Публику мало интересовало, какой школе следует модельер, комбинируя материалы и изобретая фасоны. Эмоциональная выразительность – вот что тут имело значение.
Для Джульетты, чей стиль сформировали миланская эстетика и сицилийские традиции, это было как глоток свежего воздуха.
– О чем они поют? – шепотом спросила Розария мужа.
Джованни пожал плечами:
– Хотят больше свободы… И трахаться друг с дружкой без помех.
– И ты хочешь здесь жить?
– Оставь, пожалуйста, это же шутка.
– Это так ты жил до нашей свадьбы?
Джованни загадочно улыбнулся:
– За кого ты меня держишь, любовь моя?
Джульетта постукивала ногой в такт музыке, чем нервировала мужчину в соседнем кресле, потного типа в роговых очках.
– Джованни, ты лучше меня понимаешь этих немцев, – прошептала она брату на ухо. – Сидят как студенты на лекции… Они всегда такие?
Джованни снова пожал плечами:
– Да, обычно такие.
После спектакля Джульетте с Розарией представилось еще одно доказательство странности немцев. Джованни повел женщин на Леопольдштрассе, в итальянское кафе-мороженое, где работали земляки из Венето. За столиками у входа группа студентов с прилизанными волосами вела дискуссию – настолько серьезную, словно речь шла о планах на ближайшую мировую революцию.
Джульетта заметила, что в немецких кафе не принято выставлять столики на улицу, как в Италии. Заглянув в окно баварской пивной, она увидела мужчин в странных шляпах с перьями и официантку в дирндле, державшую в руках сразу четыре огромные кружки. Совсем как в фильме, который они когда-то смотрели с Винсентом.
Когда компания вернулась домой последним трамваем, Винченцо спал перед включенным телевизором.
Он ненавидел Германию.
Винченцо скучал по друзьям, книгам, своему велосипеду. Он бы уехал домой – но только с матерью. Он видел, как тяжело дался Джульетте разрыв с Энцо, и не хотел создавать ей новых проблем. Только это и помогало ему терпеть, да и в конце-то концов, до начала учебного года оставалось не так много.
Дядя Джованни между тем продолжал разводить телефонную дипломатию, уговаривал Энцо не давить на Джульетту. Мол, он сам убедит ее вернуться. И она обязательно образумится, уж к концу лета – наверняка.
Энцо с трудом, но удалось обуздать чувства и послушаться шурина. Однако он взял с Джованни слово не спускать глаз с Джульетты. Даже пригрозил разобраться с ним, если с его женой что случится.
– Положись на меня, Энцо, – заверял Джованни. – Я люблю ее не меньше твоего.
Что до бизнеса, то Джованни решил оставить службу на «Мерседесе» и сосредоточиться на сфере продовольствия. О чем и сообщил Розарии, присовокупив, как же осточертели ему проблемы с экспортом машин. Мировая революция не за горами, а значит, у автомобилей класса люкс нет будущего. А вот апельсины, яблоки и бананы люди будут есть всегда, независимо от партийной принадлежности.
Джованни даже отвел Розарию на рынок и, воспользовавшись тем, что Розария не понимала по-немецки, а господин Римершмидт ни слова не знал по-итальянски, представил ей хозяина лавки, где работал продавцом, своим «деловым партнером». Добряк Римершмидт, страдавший от множества хворей, держался скромно, а Джованни старательно изображал из себя маршала торгового фронта.
Джульетта подстриглась. Однажды взяла и вернулась домой со стрижкой «боб», да еще и высветлила пряди. К новой прическе отлично подошли сандалии соломенного цвета и золотистое платье мини, на этот раз не сшитое, а купленное в бутике в Швабинге.
С того дня на нее начали оборачиваться мужчины. Джульетта словно помолодела на несколько лет, и не только внешне, она и чувствовала себя помолодевшей. Будто сбросила груз с плеч, будто стала видимой. В ней пробудилось желание жить, но только как она сама считала нужным. Поэтому она и решилась на шаг, о котором Джованни узнал слишком поздно.
Все началось с того, что они с Винченцо отправились в Немецкий музей. И пока мальчик глазел на самолеты, о которых до того читал только в книжках, – стальные «мессершмитты» с боевой окраской, но без свастики, и алюминиевые корпуса «юнкерсов», – Джульетта незаметно проскользнула в дверь и вошла в желтую телефонную будку у входа. Делая вид, будто собирается кому-то звонить, она пролистала лежавшую возле аппарата телефонную книгу, в которой сразу отыскала все, что было нужно, – и фамилию, и адрес.
Все тринадцать лет брака Джульетта жила тайной жизнью, протекавшей параллельно с реальной. И в этой второй жизни не было ни Энцо, ни чувства вины за то, что она отняла отца у сына и сына у отца. В этой жизни она обитала в цветущем саду, окруженном елями. В центре сада стоял дом с зелеными ставнями и красной черепичной крышей. А в доме – дубовый стол, крытый клетчатой скатертью, за которым Винченцо ужинал в компании братьев и сестер.
В том параллельном мире Джульетта действительно жила, даже если в этом умирала в миланской квартире. Вовсе не из-за того, что им с Энцо приходилось считать каждую лиру, а потому что наяву Джульетта так и не стала той женщиной, которой хотела стать. В Милане была не Джульетта, а лишь ее видимая оболочка, фантом, между тем как ее настоящее «я» продолжало жить своей жизнью. «Другая» Джульетта покупала новый диван в гостиную, водила детей к преподавателю фортепиано, танцевала с мужчинами, ездила в отпуск в Венецию. Это она открыла бутик в Швабинге, где продала золотистое модное платье одной итальянской туристке.
И теперь эта жизнь, до сих пор скрытая в самом потайном уголке ее души, разворачивалась перед ней. Она стала осязаемой, наполнилась звуками и запахами города, – его города. Сколько раз она вздрагивала на улице при виде мужчины его роста и комплекции. Встреча с ним оставалась единственным, чего Джульетта по-настоящему боялась и к чему стремилась всей душой. Она должна была хотя бы раз объявиться в той, параллельной жизни, отделенной от ее реальности лишь парой трамвайных остановок. Чтобы убедиться, что это просто мечта. Чтобы спустя тринадцать лет хотя бы на миг ощутить себя женщиной, какой она никогда не была. Наполнить жизнь любовью. Вернуться в точку, когда она пошла не в том направлении, и, наперекор здравому смыслу, повернуть в другую сторону.
В садах Богенхаузена пахло еще лучше, чем в ее фантазиях. Виллы тут были основательней, заборы выше, улицы безлюдней. Только птичий щебет и нарушал тишину.
Нарядившаяся ради такого случая в новое платье Джульетта сошла с трамвая. Ветер перемен, пронесшийся по дорогам Европы, погулял и здесь. Не так уж неприступны оказались для него огражденные каменными стенами цитадели бюргерского самодовольства.
Новые «мерседесы», старые «бугвард-шевроле» и футуристические «Rо80» – напрасно высматривала Джульетта у ворот в сад серебристо-серую «ИЗО-ривольту» с красными кожаными сиденьями. Похоже, он ее продал, – просто потому, что хотел навсегда похоронить прошлое. А Джульетта получила то, что заслужила.
Это был не тот дом, какой она ожидала увидеть по значившемуся в телефонной книге адресу. Никаких елей вокруг. Нет и каменного забора, лишь живая изгородь из туй, защищенная снаружи проволочной сеткой.
За изгородью – два особняка начала прошлого века в вильгельмианском стиле и втиснутое между ними бунгало шестидесятых годов с характерными лаконично-угловатыми линиями, стеклянной крышей и панорамными окнами. Дом совсем не из немецкой кинохроники. Зато идеален в качестве жилища преуспевающего инженера.
Джульетта приблизилась. Судя по фамилии на щитке, она не ошиблась. Дом за панорамными окнами как будто пустовал. В саду не было видно ни игрушек, ни трехколесных детских велосипедов. К бунгало примыкал двойной гараж. Входные ворота были заперты.
Прошла целая вечность, прежде чем Джульетта решилась нажать на белую кнопку звонка. Движение отозвалось пронзительным звуком в глубине дома, и сердце подскочило к самому горлу. Но ничего не произошло. Ворота оставались на замке. Похоже, никого не было дома. Джульетта решила ждать. Последние тринадцать лет она только этим и занималась, а значит, лишняя пара часов не играла никакой роли. Была суббота, около полудня. Если он отъехал за покупками, то скоро должен вернуться. В Германии магазины по субботам закрываются уже в двенадцать.
Джульетта достала зеркальце и поправила прическу. По небу бежали облака. Налетевший порыв ветра взметнул с земли цветочные лепестки. Тишина была осязаемой, вибрировала, как натянутая струна, в любой момент грозящая порваться.
Джульетта огляделась в поисках укрытия, но поблизости не обнаружила ни магазина, ни автобусной остановки. И она осталась у ворот.
Вскоре зарядил дождь, по крышам припаркованных машин забарабанили тяжелые капли, по желобу вдоль тротуара заструился ручеек. Прикрыв голову сумочкой, Джульетта спряталась под каштаном. И тут услышала его машину – приглушенное бормотание «ИЗО-ривольты» не спутаешь ни с чем. Машина приблизилась, проехала мимо Джульетты и остановилась у ворот. Сквозь омываемое дождевыми струями стекло Джульетта разглядела его силуэт.
Винсент открыл дверцу и скачками побежал к воротам. Потом вернулся к машине, так и не заметив Джульетту, въехал во двор и затормозил возле гаража. Красные огоньки фар заплясали на мокром асфальте.
Винсент вышел, обежал машину под проливным дождем и открыл дверцу переднего пассажирского сиденья. Потом снял бежевый пиджак, чтобы прикрыть от дождя женщину – рослую красавицу с короткими темными волосами, в знаменитом платье «Мондриан» от Ива Сен-Лорана. Просторный покрой не мог скрыть, что она беременна. Отмахнувшись от предложенного пиджака, дама раскрыла зонтик.
Джульетта наблюдала эту сцену, стоя в воротах. Когда Винсент ее увидел, женщина уже отперла дверь и оглянулась, недоумевая, почему он не идет в дом.
Джульетта развернулась и побежала прочь. В этот момент она ни за какие сокровища мира не приблизилась бы ни к нему, ни – тем более – к ней.
– Джульетта? – закричал Винсент.
Она обернулась. Мокрое платье облепило ее тело, как его – рубашка. Они стояли друг против друга и молчали. Джульетта чувствовала себя дурой. Как могла она всерьез поверить, что в его жизни все еще есть место для нее?
– Что ты здесь делаешь?
– Ничего. Просто приехала навестить брата.
Видеть его так близко оказалось шоком. И вовсе не потому, что вдруг воскресли старые чувства. Нет, на их месте зияла пустота. Этот Винсент больше ни о чем не мечтал. Юношеская неуспокоенность, чувствовавшаяся в нем еще два года назад, когда они виделись в Милане, исчезла. Перед Джульеттой стоял мужчина, который добился всего, чего хотел, – и в профессии, и в жизни.
– Винсент?
К ним подошла высокая женщина. Теперь она держала зонтик над Винсентом – не над Джульеттой. Он представил их, официальным тоном:
– Джульетта из Италии… Моя жена…
Винсент даже не назвал ее имени, точно боялся тем самым слишком близко подпустить Джульетту к своей жизни.
– О… Италия, – улыбнулась женщина. – Там всегда светит солнце.
Она была очаровательна, умна – первая секретарша Винсента. Женщина, которая всегда знала, чего хочет. Его.
– Давайте пройдем в дом, – предложила она. – А то так и простудиться недолго.
– Да, конечно, прости, – пробормотал Винсент, глядя на Джульетту.
– Нет, спасибо, – ответила та. – Мне пора. Ciao.
Стараясь не встретиться с ним глазами, она повернулась и быстро пошла прочь от дома. Она крепилась из последних сил, пока чувствовала на себе их взгляды. Но как только свернула за угол, ее затрясло – от холода, отчаяния, от невыносимого желания умереть.
Стоя на пороге гостиной, Джованни с Винченцо смотрели, как Джульетта рыдает, скорчившись на диване. Сначала тихо, а потом содрогаясь всем телом, завывая в подушку. Джованни приблизился, тронул ее за плечо.
– Что случилось, мама? – испуганно спросил Винченцо.
– Ничего, мое сокровище, ложись спать.
Винченцо с Джованни переглянулись. Джульетта села, размазывая по лицу слезы. Винченцо осторожно обнял мать.
– Что случилось, мама? – повторил он.
И тут она зарыдала с новой силой, уткнувшись лицом в его грудь. Винченцо принялся утешать ее, как отец утешает дочь. Но Джульетта высвободилась из его объятий и твердо посмотрела сыну в глаза:
– Обещай мне, Винченцо… сейчас же… что сам распорядишься своей жизнью. Что сам выберешь свой путь и не будешь обращать внимания на слова людей… даже на слова матери… Поклянись мне в этом, прямо сейчас.
Винченцо напряженно смотрел на нее, и Джованни понял, что слова матери врезались мальчику в память – навсегда.
Глава 26
В полночь наш поезд остановился на перевале Бреннер. Я не чувствовала усталости, совсем напротив. Всматриваясь в лицо отца на фотографии, старалась разглядеть в нем сходство с Винсентом. Во-первых, взгляд – пристальный, изучающий. Тонкие губы, худощавое телосложение… Тринадцатилетний Винченцо был выше матери, которая, как и большинство сицилийцев, была невысокой.
– Это тогда она тебе все рассказала?
– Да, той же ночью.
– И кто отец Винченцо – тоже?
Джованни задумался и тряхнул головой.
– Она знала, что это мне известно. – И остановил на мне полный значения взгляд.
– А Винсент что? – спросила я.
– На следующий день объявился на рынке. Искал Джульетту.
– И что ты ему сказал?
– Ничего. Он оставил визитку, чтобы она позвонила в офис.
– И?.. Ты передал визитку?
Джованни презрительно поджал губы.
– Нет. Я увидел кольцо у него на пальце. – Он вытащил из пакета термос. – Кофе хочешь?
Я кивнула.
– И знаешь, – продолжал Джованни, – только в то лето с Винсентом, в 1954-м, Джульетта и была счастлива по-настоящему. После того как попробуешь хорошее вино, quello buono, все другие сорта теряют вкус. И каждый раз, когда пьешь, невольно сравниваешь и разочаровываешься.
Он разлил кофе в чашки для эспрессо.
– Но воспоминания – это призраки. Нужно уметь забывать. Даже если я когда-то и был этим человеком на фотографии, теперь я другой. А того больше нет.
Джованни протянул мне чашку. Я задумалась. Не в моей привычке было оглядываться. Я всегда смотрела вперед и шла дальше.
– Но прошлое – часть нас самих, – возразила я ему. – И я наверняка была бы другим человеком, если бы однажды не познакомилась с вами. Если бы я только знала, кто…
Я оборвала фразу на полуслове. Как я должна была ее закончить? «Если б я только знала, кто мы такие…» – или все-таки «вы»? Можно ли объединять себя словом «мы» с людьми, которые еще пару дней назад были тебе совершенно чужими?
– Наверное, так просто удобнее, – продолжал рассуждать Джованни. – Ты остаешься свободным. Можешь делать что хочешь, или все же…
У меня зазвонил мобильник, и на этот раз я не решилась отклонить вызов.
– Привет, Робин.
– Где ты пропадаешь? Сколько тебя можно ждать?
Я молчала.
– Эскизы готовы?
– Я еду в Неаполь.
– Прости, не понял…
– Вернусь через сорок восемь часов. Семейные дела, объясню позже.
– Ты хоть понимаешь, что поставлено на карту?
– Да.
– Но ты не можешь бросить меня вот так… мы все-таки команда…
– Прости.
– И как я должен им это объяснить?
– Я не знаю, Робин… правда не знаю.
– Ты всегда знаешь, только чего не хочешь… Ты умеешь говорить «нет», но сейчас я хочу услышать от тебя «да».
– Робин!
– Приезжай… Если мы все еще команда, конечно.
Он дал отбой. Разумеется, я сильно разочаровала Робина. Я вела себя неправильно. Испытывая инстинктивное отвращение к сделке с итальянским холдингом, я просто не могла предложить ничего, что бы… Я вообще ничего не могла предложить.
Джованни достал мобильник из кармана пиджака и позвонил жене. Я почти ни слова не поняла из разговора, но речь, похоже, шла о еде и одежде для внуков. Дав отбой, Джованни продемонстрировал присланные ему на мобильник фотографии новокрещеной принцессы во всевозможных ракурсах.
– Bellissima, no?
Какой бы я выросла, если бы взрослые изливали на меня столько любви и восхищения? Внезапно я поняла, что впервые в жизни веду себя не так, как того от меня ожидают. Впервые я изменила своим приоритетам, поставив на место профессиональных интересов и бизнеса – кто бы мог подумать – семью. Сколько лет я забывала поздравить маму с днем рождения? Сколько рождественских вечеров провела в запарке из-за какого-то «дедлайна»? Работа была для меня всем. Как будто без нее меня не существовало. Отдых, личную жизнь – все принесла ей в жертву. И бесконечно твердила: «творчество», «независимость»… Не слишком ли это похоже на одержимость?
Но сейчас я свернула на правильный путь. Если в чем я и была уверена, пережив очередной сумасшедший день своей жизни, так только в этом. Мое место здесь, в замызганном купе, в ночном поезде посреди Альп, в компании Джованни и всех остальных, кто незримо находился с нами. И если правда, что человек умирает не целиком, то Джульетта в этот момент тоже была здесь и хотела, чтобы я вернула ее сына отцу и обрела отца сама. Я страшно боялась этой встречи, но что-то мне подсказывало, что дальше убегать не получится.
На перроне залаяли собаки, заговорили, перебивая друг друга, мужские голоса – по-итальянски и по-арабски. Пограничники выводили людей из австрийского поезда. Мужчин с огромными рюкзаками. Женщин, детей. Их чуть ли не пинками загоняли в здание вокзала. Жуткая, недостойная сцена, совершенно неправдоподобная в зловещем свете неоновых фонарей. Девочка в куртке с капюшоном и с плюшевым мишкой, прильнувшая к руке отца, была последней, кого я видела.
– Poveracci…[81] – Джованни покачал головой. – Этот мир – большой бордель.
Нашими паспортами так никто и не поинтересовался. Как все-таки важно родиться в нужном месте!
Джованни протянул мне альбом с фотографиями и подлил вина.
– Так что дальше с Джульеттой? – спросила я. – Она вернулась к Энцо или осталась в Мюнхене?
Глава 27
Той ночью Джульетта выложила брату все свои тайны. Или почти все. Потом Джованни ушел в спальню к Розарии, а Джульетта осталась плакать в гостиной. До утра ни Джованни, ни Розария не сомкнули глаз. Когда зазвонил будильник, Розария перевернулась на другой бок:
– Все, – сказала она, – баста. Я больше не могу.
Джованни обнял жену:
– Потерпи, любимая…
Но Розария села на кровати и включила настольную лампу.
– Сделай же что-нибудь, Джованни, – сказала она. – Ты единственный, кого она слушает.
– А что я могу, porco dio?[82]
Розария встала и, путаясь в полах ночной сорочки, побрела в гостиную.
– Немедленно прекрати! – Она встала перед диваном, на котором лежала Джульетта.
Винченцо сел на своем ложе из подушек, протирая глаза.
– У тебя есть все: квартира, муж, замечательный сын… И даже талант в придачу. И что ты со всем этим делаешь? Все время жалуешься, какая ты несчастная, и проклинаешь жизнь. Думаешь, ты такая особенная, да?
Джованни бросился успокаивать жену, но та уже вошла в раж и не слышала ни его, ни оправданий Джульетты.
– Все у тебя виноваты! – кричала она. – Общество, империализм, porca miseria. Знаешь, на кого ты такая похожа? На ворчливую сицилийскую бабку… свою мать!
Джульетта села, вытерла слезы и посмотрела на Розарию.
– Ты права, Розария, – сказала она.
Снаружи рассвело.
После той ночи Джованни не слышал от сестры ни слова жалобы. Джульетта укротила свое горе раз и навсегда. Она решила, что попросту не имеет права на то, что в этой жизни зовется любовью. «Нет ожиданий – нет разочарований», – думала Джульетта. Но вместо того чтобы вернуться в Милан, она решилась на то, что буквально ошеломило всех.
– Джованни, – сказала она как-то брату, когда тот возвратился после дневной смены, нагруженный овощами и мясом для ужина, – я решила открыть свое дело.
– Что за дело? – не понял Джованни.
– Модный бутик.
– Бутик? – поразился Джованни. – И где?
– Здесь.
Джованни разинул рот.
– Что, прямо здесь, на моей кухне? Джульетта, ты не можешь просто взять и открыть бутик только потому, что тебе так вздумалось. Нужен стартовый капитал, помещение, вид на жительство, наконец.
– Я знаю, Джованни. Начну работать и копить. Ты сам говорил, что если где и можно сделать что-то без связей, так это в Германии.
Для Джованни эти слова стали последней каплей. Он ощутил острое чувство вины перед сестрой, которой вбил в голову столь опасную чушь.
– Завтра устрою тебя на работу к себе, – пообещал он. – Посмотришь, как далеко можно здесь продвинуться за двенадцать лет.
На следующее утро Джульетта встала вместе с Джованни без четверти четыре. Они выпили эспрессо и первым трамваем поехали на рынок.
Под куполом центрального павильона уже вовсю кипела жизнь. У ворот теснились грузовики. Джованни выправил сестре разовый пропуск и мимо охранника повел ее в «утробу Мюнхена», как называли Центральный рынок.
Развивая эту метафору, Мюнхен следовало представлять в виде голодного великана с огромным животом, поглощавшим неимоверное количество говядины, бананов и прочей снеди. И не только продукты поступали сюда со всех концов света. Люди стекались тоже – мужчины и женщины, которые чистили, таскали, сортировали и продавали. Кроме итальянцев, здесь были испанцы и португальцы, югославы, греки и турки.
– Мое королевство, – Джованни показал на небольшой овощной прилавок в углу шумного павильона, по которому носились желтые погрузчики, – а это мой босс, господин Римершмидт.
Джульетта вспыхнула. Неулыбчивый баварец протянул ей руку и заговорил по-немецки, нимало не заботясь, понимают ли его. Он принял ее за жену Джованни. Потом выдал своему продавцу порцию указаний, посетовал на падение цен и перешел к другому прилавку, которых у него тут было несколько.
Остальное Джульетта прочитала в глазах брата. Стыд. Ложь. Джованни не пришлось ничего объяснять. Все было слишком очевидно. Такова судьба всех Маркони, и бесполезно замахиваться на большее.
– Зачем ты лгал?
Было девять утра, время первого перерыва. Джульетта не ела, только выпила кофе. Джованни же с наслаждением поглощал свиные ножки. Рядом перекусывали другие рабочие и продавцы – кто кровяной колбасой, кто взял «мюнхенскую тарелку» – мясное ассорти в жирном соусе. Некоторые запивали завтрак светлым пивом. Джульетта с опаской косилась на соседние столики, подобное меню было ей в диковинку.
– Потому что иначе не мог, – ответил Джованни.
– Что, все двенадцать лет?
– Раскрой глаза, сестренка. Здесь все магазины принадлежат немцам. Мы, иностранцы, в лучшем случае таскаем ящики или продаем апельсины. Мы здесь никто, таковы правила игры.
– Тогда нужно поменять правила.
Джованни устало улыбнулся. Он и не пытался никогда сделать шаг в этом направлении, потому что знал – ничего не получится, ни у него, ни у кого-либо еще.
– Сколько он тебе платит? – спросила Джульетта.
– Три с половиной марки за час.
Она пересчитала в лиры.
– Это меньше, чем Энцо зарабатывает на «ИЗО».
– Я знаю.
– Джованни, это грабеж.
– И что? Здесь везде грабеж. Такова жизнь, Джульетта. В Германии ты никогда не откроешь бутик. Возможно, у меня получится устроить тебя продавать овощи, ты же говоришь по-немецки, но…
– Я не торговка! – крикнула она.
– Ты что-то имеешь против торговцев? – Джованни начал забавлять этот спор. – Твой брат один из них.
– Нет, Джованни, пойми. Мне все равно, кем ты работаешь. Но мне больно видеть, что сталось с твоей мечтой. Ты хотел стать capo, достичь большего, чем отец. Ради его памяти.
– Это было давно. Но знаешь что? Возможно, я и в самом деле добился большего, чем отец. Ведь он-то всю жизнь вкалывал на кого-то. А работай на себя, может, и сейчас был бы жив.
– Я верила тебе, Джованни, – сказала Джульетта. – Ты был моей надеждой.
– А почему я должен быть лучше других? – Джованни вытер рот салфеткой и встал: – Пошли, мне пора работать.
– Подожди. – Джульетта схватила брата за рукав. – Я знаю, что нужно делать.
Но Джованни больше не хотел ничего слышать.
– У тебя есть вид на жительство, ведь так? – продолжала Джульетта. – У тебя есть работа, а значит…
– Ну есть.
– Открой свое дело, Джованни. И возьми меня на работу бухгалтером. Тогда у меня тоже будет вид на жительство.
Джованни закатил глаза.
– Сестренка, я только что объяснил тебе правила игры. И потом, какая бухгалтерия? Ты ведь бутик намылилась открыть?
– Я буду шить платья, это само собой разумеется. Просто мне нужно хотя бы маленькое помещение. Джованни, я не имею в виду магазин здесь, на рынке. Открой лавку в городе. И сам диктуй правила игры.
Джованни вздохнул.
– Но как ты себе это представляешь? Я нигде не учился и ничего не умею. А получать в моем возрасте образование поздно. Кроме того, я скоро стану отцом. Очнись, сестренка! Образумься наконец.
– Джованни, ты будешь делать то же самое, что делаешь сейчас. И то, что получается у тебя лучше всего.
Джованни в недоумении смотрел на нее.
– Сколько тонн сыра и вина перевез ты через Альпы за эти двенадцать лет? Ты знаешь, что такое качественные продукты. А не это… – Она с отвращением оглядела столы с грязными тарелками.
– Итальянскую еду я продаю только из-под полы, и в основном своим людям. Жить на это нельзя. Немцы ничего не понимают в еде. У кого есть деньги, покупают французское вино и французский сыр. Представь, они не знают даже, что такое моцарелла.
Джульетта не сдавалась.
– Вчера я была в магазине этой тетушки Эммы на твоей улице. Знаешь, что они там продают? Равиоли в банках! И суго в пластиковых стаканах. Это называется «Мираколи». И еще мороженое «Капри». Местные обожают итальянские названия. Немцы уже копируют нашу кухню. Они ездят в отпуск в Италию и хотят есть дома то же, что и там.
– Но ты когда-нибудь видела, что в тех банках? Страшная гадость…
– Именно, Джованни. Но ты-то будешь продавать совсем другое. Настоящие равиоли, ручной работы. Не эту фабричную дрянь.
Джованни задумался. Не то чтобы подобные идеи никогда не посещали его, но он не верил, что такое может получиться. И не из-за продуктов, в которых действительно понимал толк. Из-за немцев.
– А как же Винченцо? – спросил он. – Как ты будешь жить без него, когда начнется учеба и он вернется в Милан?
– Он будет учиться в Германии.
– Здесь? – Джованни поразился наивности сестры. – Как ты себе это представляешь? Он же ни слова не говорит по-немецки. Ты хоть понимаешь, что на меня вешаешь?
– Он научится, Джованни. Винченцо смышленее тебя.
Джованни достал сигарету. Он окончательно убедился, что сестра спятила.
Прослышав о затее Джульетты, Розария немедленно позвонила в бар на Пьяцца-дель-Мальфа и попросила бармена Альфредо пригласить к телефону мать.
Альфредо послал к Марии мальчика, и та примчалась едва ли не бегом. Поговорив с дочерью, Мария набрала горстку жетонов и позвонила в Милан кузине Кончетте. Посовещавшись, синьоры решили взять дело в свои руки. Джульетта определенно обезумела, требовалось немедленно ее образумить.
Когда вечером позвонили в дверь, Джульетта с Джованни удивленно переглянулись. Они ужинали и никого не ждали. Винченцо недоуменно пожал плечами. Одна только Розария догадывалась, кто это мог быть.
Открыв дверь, Джованни аж отпрянул. На пороге стояли мать и Энцо. Оба – воплощение упрека. Взмокшие, поскольку в разгар лета вырядились в пальто и зимнюю обувь, будто не в Германию ехали, а на Северный полюс. Энцо держал в каждой руке по чемодану. Джованни не успел и слова сказать, как Кончетта решительно оттолкнула сына и прошла в квартиру. Никакая сила не смогла бы ее сейчас остановить. Энцо быстро глянул на шурина и последовал за тещей.
– Какой позор! – воскликнула Кончетта и сняла пальто. – Что с вами, дорогие мои? Заставлять старую мать тащиться за тысячи километров… Вы совсем спятили?
Джульетта не могла вымолвить ни слова. Она встала и посмотрела в мутные глаза Энцо. Он был без сил – от путешествия, ожидания и злобы, терзавшей его. Вернуть семью – все, что он хотел.
– Винченцо! – Кончетта обняла ошарашенного внука. – Любовь моя, что они с тобой сделали?.. Разве это мать? Собирай вещи, мы едем домой.
Энцо поставил чемоданы и ждал в дверях кухни. Руки были сжаты в кулаки.
– Оставь его, мама, – сказала Джульетта.
Но Кончетта ее не слышала. Она оглядела тесную кухню:
– И это твой дворец? – Потом протиснулась мимо Энцо в прихожую и открыла дверь в ванную. – За какие грехи карает меня Господь? В чем я провинилась, если собственные дети мне лгут?!
– Успокойся, мама, – подал голос Джованни.
Энцо попытался взять Джульетту за руку, но она увернулась. А Кончетта продолжала разоряться:
– Что я тебе такого сделала, скажи на милость? Энцо – хороший муж, ты должна каждый день благодарить за него Господа. Посмотри на меня, у меня никого нет… Кем ты себя возомнила, в конце концов, принцессой Сорайей?
– Помолчите, мама, – пробубнил Энцо. – Я хочу поговорить с ней.
Но Кончетта не унималась:
– Подумай о других, если на себя наплевать! На кого ты бросила меня, старуху? И не стыдно тебе! Слышал бы отец…
– Хватит, мама!
Энцо решительно оттеснил Кончетту, и та нехотя уступила ему сцену. Он все-таки ухватил Джульетту за руку:
– Поехали домой.
Джульетта задрожала.
– Ты бы о сыне подумала! – выкрикнула из-за спины зятя Кончетта.
– Баста! – Джульетта вырвала руку, оттолкнула Энцо. – Это моя жизнь, мама! Только моя!
Наступила тишина. Все ошарашенно молчали. Джульетта открыла балконную дверь, знаком велела Энцо выйти наружу, вышла следом и плотно прикрыла за собой дверь, предоставив остальным наблюдать продолжение спектакля через стекло.
– Любовь моя. – Кончетта погладила внука по голове, но Винченцо увернулся.
И ему опротивела эта роль маленького мальчика.
– Ты моя жена, – сказал Энцо. – Или забыла? И в горе, и в радости…
Пожалуй, впервые Джульетта ощутила себя виноватой. Одно дело – убежать от Энцо, другое – стоять с ним лицом к лицу, почти физически ощущая его гнев и обиду.
– Ты ни в чем не виноват, Энцо. Только я одна. Я все надеялась полюбить тебя, но… дальше так продолжаться не может.
Было невыносимо видеть его лицо, ведь он-то любил ее. Но Энцо молчал, он никогда не был мастером по части излияния чувств. Он был человек дела, медведь с мощными лапами.
– Может, любовь – это мечта, Энцо, я не знаю. Но если я сейчас вернусь в Милан… Энцо, я не вправе делать из тебя запасной вариант.
– У тебя есть кто-то другой?
– Нет.
В его глазах мелькнуло и исчезло недоверие. Энцо почувствовал, что Джульетта не лжет. Но при этом явно что-то недоговаривает.
Он оглянулся на Винченцо, который сквозь стекло смотрел на родителей.
– Винченцо поедет со мной.
– Нет.
Джульетта затрясла головой, Энцо грубо схватил ее за плечи:
– Хочешь разлучить отца с сыном? Да что ты о себе возомнила…
Джульетта пыталась высвободиться, но Энцо был сильнее.
– Энцо, я нужна ему.
– Ему нужен дом. Ты отняла у него родину, семью, друзей. Ты думаешь только о себе. А теперь решила запихнуть его в немецкую школу, где он никого не знает! Он же не говорит по-немецки! В Милане Винче был отличником, а здесь?
В этот момент Винченцо открыл балконную дверь и вышел к родителям. Энцо оттолкнул Джульетту.
– Собирайся, – бросил он сыну. – Мы едем домой.
Но Джульетта встала между ними.
– Ты не можешь разлучить нас, Энцо. Винченцо найдет друзей и здесь. А хорошие отметки он будет получать в любой школе. Ты ведь хочешь остаться со мной, Винче?
Винченцо посмотрел на отца, потом на мать. Что бы он сейчас ни сказал, все было бы ложью. И вовсе не потому, что ему пришлось бы выбирать между отцом и матерью. Просто выбрав мать – а любой другой вариант был для него исключен, – он обманул бы сам себя.
– Разве ты не говорила, что мы вернемся после каникул?
Его ответ разорвал Джульетте сердце. Но отступать она не собиралась. Пусть делают что хотят. Она не станет обрекать себя на медленную смерть.
Джульетта хотела жить.
Поднимаясь в вагон поезда до Милана, Кончетта не удостоила дочь и взглядом. По платформе, с песнями и барабанным боем, двигалась группа кришнаитов в оранжевых одеждах. Измученный, небритый Энцо нес за тещей чемоданы, – крепкий мужчина с глазами беззащитного ребенка.
Джульетта попыталась обнять мать, но та отстранилась.
– Не будет тебе счастья в Германии, – дребезжащим голосом возвестила Кончетта. – И Винченцо вернется.
Это прозвучало как проклятье.
– Не надо, мама, – сказал Джованни. – Ты только подливаешь масла в огонь. Лучше поцелуй меня…
Но Кончетта не унималась:
– Кого соединил Бог, да не разлучат люди. Бог ее накажет.
Джульетта опустила голову, спрятала лицо в ладони.
– Хватит уже! – не выдержал Джованни. – Или она мало страдала?
– Пойдем, Энцо, – приказала Кончетта.
Энцо поставил чемоданы и обнял сына – так крепко, что Винченцо чуть не задохнулся.
– Я люблю тебя, сын, – сказал он.
И отвернулся, стараясь не смотреть на жену. Он не хотел показывать Джульетте свои слезы.
– Вы позвоните мне? – спросила она.
Энцо кивнул, взял чемоданы и шагнул в вагон.
Глава 28
Никто не вправе забывать свои корни, они – начало нашей жизни.
Федерико ФеллиниNapoli
Неаполь – как удар в лицо. Слишком много света, солнца и уже с утра духота. Мозги кипят, как наваристый суп, изнутри давящий на череп.
На вокзале царила страшная толчея. Где-то ухал пневматический молот. Мне почудился затхлый запах водорослей и соли, но он едва ли свидетельствовал о близости моря. Похоже, неподалеку мусорные баки. Воздух так и вибрировал от голосов – резких, страстных и мелодичных. И на всем этом лежала тень нездоровой нервозности, депрессии, окутавшей край, который пребывал в затяжном кризисе.
Публика в пиццерии Bella Napoli напрочь развенчивала все представления о «веселых итальянцах», бытовавшие где-нибудь в Оберменциге или Реклингхаузене. Они и одеты были как-то небрежно, все эти люди с пластиковыми папками, прибывшие пригородными электричками. И дело было вовсе не в стиле, а в деньгах. И все говорили по телефону. Если когда-нибудь Южную Европу поразит экономическая катастрофа, выживут только мобильные операторы.
Джованни устремился вперед, я за ним. Мы пересекли на удивление современное здание вокзала и вышли на площадь, являвшую собой одну большую стройку. Обнесенные дощатыми заборами котлованы и измотанные сумасшедшим движением carabinieri[83] в окружении palazzi – памятников иной, более утонченной эпохи.
– Cazzo![84] – выругался Джованни. – Hanno cambiato tutto![85]
Он ринулся прямо наперерез машинам, едва не угодив под колеса маленькой раздолбанной «ланчии». Впрочем, тут все плевали на правила уличного движения. Никто не считал себя обязанным предупредить другого об опасности. Если водители и сигналили, то только чтобы возвестить о своем прибытии.
Увидеть Неаполь и умереть… Вероятно, я была единственным немецким ребенком, который никогда не бывал на пляжах Римини, не бродил по римским руинам и по тосканским тратториям. Разумеется, я видела фильмы с Марчелло Мастроянни, Моникой Беллуччи и сицилийскими мафиози. Такие образы остаются с нами на всю жизнь, но они скорее заслоняют действительность.
По каким отсекам в моей голове я могла рассортировать то, что бушевало вокруг? Неаполь оказался много больше, прекрасней и уродливей, чем я себе представляла. Гигантский ведьмин котел из выхлопных газов, солнца и шума – стремительный и равнодушный, роскошный и грязный, подлинный триумф жизни над смертью.
Внезапно кто-то с силой дернул за ремень моей сумки, и я, потеряв равновесие, упала. Лежа на асфальте, я смотрела, как Джованни гонится за двумя мальчишками на «веспе», но те уже скрылись в толчее вместе с добычей. Я попробовала подняться – острая боль пронзила колено. Разорванные джинсы быстро краснели от крови. Конечно, я слышала, что такое бывает, но с другими же, не со мной.
– Porca Madonna! – запричитал вернувшийся Джованни. – Тебе больно?
Я потрогала локоть – тоже ссадина. Только сейчас до меня дошло, чего я лишилась. В сумочке были не только деньги и паспорт, но и письмо Винсента!
Меня будто раздели донага.
– Проклятье…
– Benvenuta in Italia![86] – Джованни криво усмехнулся и помог мне подняться. – Все окей?
– Да.
Но ничего не было окей. Мне захотелось уехать домой ближайшим поездом.
Заявиться в таком виде к отцу казалось невозможным. И дело было не в порванных джинсах, просто теперь мне было нечего ему предъявить. Без письма я просто не чувствовала за собой права на эту встречу, как бы абсурдно это ни звучало. Без него я была никто. И, как всегда, проклинала собственную наивность.
– Это была глупая затея, Джованни. Я возвращаюсь.
– Нет-нет… – запротестовал он. – Рука болит?
– Нет, все в порядке.
Я развернулась к вокзалу, но Джованни остановил меня:
– Джулия! Прошу тебя, не делай глупостей.
– В сумке было письмо!
Он пожал плечами:
– Так что с того? Ему не нужно письмо, это совершенно неважно. Что действительно важно, так это ты. И если ты сейчас убежишь, будешь раскаиваться всю жизнь.
Я покачала головой.
Джованни по-отечески взял меня под руку. И тут меня накрыла такая волна отчаяния и боли, что слезы сами собой хлынули из глаз. Джованни обнял меня, и рубашка его тут же намокла.
– С чем я теперь к нему заявлюсь? – всхлипывала я.
Его круглые глаза излучали сочувствие.
– Ты ведь у меня смелая, да?
Дорога до дома Винченцо заняла вечность. Автобус трясло по узким улочкам, мимо прокопченных выхлопными газами palazzi. Я смотрела сквозь грязное стекло, постепенно собираясь с мыслями.
За окном уличные торговцы предлагали дешевое постельное белье, и ветер, словно паруса, раздувал развешанные простыни. Стильные женщины в деловых костюмах пробирались на «веспах» через бесконечные пробки мимо испещренных траурными рамками стен – с указанием дат рождения и смерти и имени погибшего. В просвете переулка блеснула лазурная гладь моря. Это был его город.
Невольно взгляд цеплялся за каждого мужчину, чей возраст приближался к шестидесяти. Он, наверное, совсем седой, а то и вовсе лысый. Остался ли он таким же худощавым, как на старом фото, или расплылся, как тот тип на «веспе» с прижатым к уху мобильником? Как сложилась его жизнь? Счастлив ли он в браке или со злостью вспоминает прошлое? Напомню ли я ему мать, и если да, насколько приятными будут эти воспоминания? Как мне называть его, на каком языке с ним говорить?..
– Он вообще когда-нибудь спрашивал про меня?
Джованни чувствовал мою нервозность.
– Он любит тебя. Ты была его семьей.
– Почему же он меня бросил?
Джованни лишь многозначительно шевельнул бровями.
Многоквартирный дом Винченцо стоял в темной узкой улочке неподалеку от гавани. Дом был старый и, похоже, лучшие времена пережил еще в позапрошлом веке. Некогда роскошный фасад потемнел от копоти и грязи, охряная краска облупилась. Над дверью нависал разноцветный клубок спутанных проводов.
Джованни нажал на кнопку звонка рядом с табличкой, на которой от руки было написано: «Чифарелли». Не Маркони. Мы переглянулись.
– Чифарелли? Разве не так звали твоего богатого дядю из Палермо?
– Ну… не то чтобы дядю, дальнего родственника.
– Фамилия той девушки, которая на свадьбе…
– Pronto?[87] – спросил голос в динамике, женский, хрипловато-чувственный.
Я представила себе постаревшую Брижит Бардо.
– Pronto, Carmela? Sono io, Giovanni!
– Giovanni? Ma che fai qui?
– Vincenzo c’è?[88]
В домофоне зажужжало.
– Кто это? – спросила я.
Джованни пожал плечами и толкнул тяжелую дверь.
В подъезде пахло сыростью и плесенью. Но дом вдруг предстал во всем величии своего поблекшего благородства. Сквозь мутные оконные стекла пробивался золотистый свет. Мы поднялись по витой лестнице с коваными перилами, местами подпорченными временем или местными вандалами, но все еще прекрасными. У меня слегка кружилась голова, сказывались усталость и голод.
– Послушай, – Джованни обернулся ко мне с заговорщицким видом, – скажем его жене, что ты моя подруга, ладно?
– Зачем?
– Не будем нагнетать обстановку, ситуация и без того щекотливая.
Я остановилась:
– Нет, Джованни.
Даже ради него я не стану лгать, Джованни должен усвоить это раз и навсегда. Да и кто меня подбил на эту авантюру?
Я двинулась дальше по лестнице, Джованни растерянно остался внизу, осознавая, что уговаривать меня бесполезно. Сердце трепыхалось уже где-то в горле, но я была настроена пройти этот путь до конца.
Уже на самом верху Джованни догнал меня и, задыхаясь, схватил за плечо. Я оглянулась. По-моему, его тоже подташнивало от страха. Тяжелая зеленая дверь была приоткрыта. Я поправила прическу – точнее, то, что оставалось от нее после ночи в поезде. Джованни постучал, и дверь распахнулась.
Женщине было около пятидесяти, возможно, под шестьдесят, – поблекшая красавица с насмешливыми складками в уголках полных губ. Зеленый шелковый халат смотрелся одновременно изысканно и буднично. Темные волосы отливали рыжиной, зеленые глаза так и искрились чувственностью. Ногти покрыты свежим лаком. Женщина пахла «Шанелью» и ментолом.
– Giovanni, che fai qui? – повторила она, покосившись в мою сторону.
– Bella come sempre[89].
Джованни обнял и поцеловал ее. Женщина рассмеялась, высвободилась и посмотрела на меня:
– Buongiorno.
Это прозвучало как вопрос.
– Buongiorno, – ответила я.
Джованни объяснил, что я немка и не говорю по-итальянски. Потом несколько неловко представил нас друг другу:
– Джулия… Кармела.
Она с улыбкой протянула мне руку. Прекрасная островитянка, очаровавшая молодого Винченцо, женщина его жизни, до моей матери. И после тоже.
– Vincenzo c’è? – снова спросил Джованни.
– Нет.
Она уже поняла, что мы явились не просто так, пригласила нас войти и осторожно притворила дверь.
Светлая, современная квартира контрастировала с давно запущенным подъездом. Дизайнерскую мебель дополняли барочные аксессуары – пожалуй, несколько затейливые на немецкий вкус, но идеально подходившие стилю хозяйки. С потолка свисала хрустальная люстра, стены украшали пышные цветочные натюрморты в стиле барокко, диван – разноцветный плед и подушки с золотыми кистями и причудливыми орнаментами.
За панорамным окном открывался вид на террасу. Джованни и Кармела о чем-то заговорили. Я не поняла ни слова, кроме того, что речь шла обо мне. Кармела повернулась ко мне, ее глаза округлились не то в ужасе, не то в удивлении. Я почувствовала себя преступницей, застигнутой с поличным.
– La figlia di Vincenzo?[90] – шепотом спросила женщина.
Он кивнул, и тут она рассмеялась. Я покосилась на Джованни: он тоже не понимал, что происходит.
– Scusate, – извинилась женщина и, как будто пристыженно, что-то шепнула Винченцо на ухо. Теперь и он рассмеялся.
– Она подумала, что ты любовница Винченцо, – сообщил мне Джованни.
– Sorry, – еще раз извинилась Кармела. – I am sorry…
Джованни спросил, где сейчас Винченцо. Кармела разразилась возмущенной тирадой и достала мобильник.
– I will call him![91]
Джованни вполголоса перевел мне ее монолог. Оказалось, после нашего звонка из Мюнхена Винченцо и Кармела поссорились. Он уверял ее, что молодой женский голос в трубке не принадлежит его любовнице, но она не желала слушать. В результате Винченцо сбежал. И она не знает, где он сейчас. Судя по будничной интонации Джованни, подобные размолвки были у супругов делом обычным.
Между тем Кармела все говорила в трубку. Я пыталась понять, что именно, но разобрала только имя Джованни и ragazza – девушка, а также что, по всей видимости, она беседует с голосовой почтой.
Я огляделась. Семейные фотографии на полках в шкафу первыми бросились мне в глаза в этой комнате.
Семья, которой у меня не было. Я увидела постаревшего Винченцо, и это повергло меня в состояние легкого шока. На фотографиях, которые я видела прежде, Винченцо был моложе меня нынешней. А на этих был мой отец. Лицо с заостренными чертами, беспокойный взгляд, темные кудри – все осталось. Вот только худощавость исчезла – очевидно, сыграли роль кулинарные способности сицилийской жены.
И выглядел он куда увереннее. Обаяние молодого парня сменилось уверенностью зрелого человека, глядящего в лицо передрягам. На одной фотографии Винченцо обнимал детей, сына и дочь. На других они с Кармелой были на пляже – судя по всему, где-то в конце восьмидесятых. Кармела в бикини лежит под зонтиком, дети, словно мукой, обсыпанные песком, играют с раковинами.
Она была ослепительно красива.
На другом снимке, сделанном на пару десятков лет позже, семья стояла у входа в университет. У сына в руках диплом, Винченцо, уже седой, растроганно смотрит в камеру. Юноша был его копией, и это почти невероятное сходство почему-то напугало меня.
На следующей фотографии его дочь сидела в этой самой гостиной, с младенцем на руках, рядом – улыбающиеся Винченцо и Кармела. Моя единокровная младшая сестра уже сама мать. Я вглядывалась в ее лицо, пытаясь найти сходство с собой или с Винченцо, но девушка походила на мать. Отца ребенка на снимке не было.
Наконец Кармела дала отбой и отложила телефон.
– Bevete qualcosa? Drink something?[92]
Я покачала головой, все еще под впечатлением от семейных фотографий. Остановленные мгновенья, заключенные в рамки чувства, которые мне были неведомы. Думал ли он обо мне хотя бы изредка? О моей маме, другой, несостоявшейся семье? Что, если у него была вторая жизнь, которая ускользнула от объективов камер, шаг за шагом запечатлевших первую? И оставшаяся тайной, что вовсе не отменяет ее важности.
– Vincenzo will come. Don’t worry[93].
Но я ей не поверила и ждать не хотела. Ее взгляд был непроницаем, так что не понять, друг она мне или враг.
Кармела вышла на кухню, чтобы принести Джованни воды.
– Но почему он сбежал? – вопросил Джованни. – Почему не объясниться с женой по-человечески? Знаешь, я тебе кое-что скажу. Vincenzo è schizofrenico[94]. Две личности. Когда он вернулся из Германии, то будто захлопнул крышку, забыл прошлое. Точно его никогда и не было.
Интересно, счастлив ли он? – подумала я. Джованни показал на белый стеллаж, где на верхней полке выстроились в ряд золотые и серебряные кубки. Ниже – модели машин, дипломы в рамках и фотографии мужчины в белом комбинезоне гонщика с мокрыми от пота волосами и шлемом в руке рядом со спортивным автомобилем. Я подошла к полкам.
– Твой отец был известной личностью, – восхищенно заметил Джованни.
Я возмутилась. Не знаю, кому он там был известен, только не мне. Для меня этот человек по-прежнему фантом. Да и «был» тоже разозлило меня. Дипломы и вправду оказались датированы восьмидесятыми – девяностыми годами, а мужчине на фотографии было за тридцать, мой ровесник. Но взгляд, такой живой и сосредоточенный, был словно обращен в будущее.
– Великий пилот, – продолжал Джованни. – Вот, смотри… здесь он победитель чемпионата Европы, на «альфа-ромео».
Винченцо на пьедестале, на верхней его ступеньке, с огромным кубком, который сейчас пылится по соседству с фото. Я потрясенно молчала. Мой отец явно не лишен талантов, но как бывший террорист оказался победителем европейских автогонок? И как талантливый мальчик вообще угодил к террористам, как потом стал чемпионом?
Я вгляделась в зернистый черно-белый снимок – ни малейшего сходства с тонкими чертами мальчика из альбома Джованни. Разве что взгляд остался прежним, этот хитроватый прищур: «я не тот, кого вы видите на снимке, я другой…»
Меньше всего он ассоциировался у меня с нынешними гонщиками – безликими белозубыми парнями с глянцевых обложек. Он был из той же породы, что Пол Ньюман или Стив Маккуин. Лихач с бакенбардами, горючим вместо крови и новой красоткой каждое утро. Белый комбинезон с круглым вырезом, рекламные логотипы, на рукавах нашивки клуба. На снимках он был среди механиков и товарищей по команде, среди болельщиков на трибуне. Всегда среди людей и в то же время сам по себе, отстраненный. На лице его я читала не только устремленность к победе, но и какую-то мрачную обреченность, словно он осознавал, что каждая следующая гонка может стать последней. И надо отдать должное – он был чертовски сексуален.
Джованни показал еще на один кубок. «Чемпионат Европы 1986 года. Винченцо Маркони», – сообщала гравировка. Я замерла. Внутри сделалось пусто, мысли лихорадочно заметались, пытаясь собрать кусочки пазла.
Джованни, похоже, ожидал, что я запрыгаю от восторга, но я смотрела на этот трофей и чувствовала себя как никогда обманутой. В 1986 году мне было девять лет, именно в тот год я убежала из дома и направилась в Италию, имея в кармане пятьдесят марок. Меня тогда отловили на вокзале и вернули домой, а мать сказала, что папа умер. А он был живее живых, ушел от женщины, которая не сделала его счастливым. И как мне не злиться на него за это? Уж лучше бы он так и оставался неведомым. Я не могла принять реальности, не могла примириться с ней.
– Счастливый человек, – саркастически заметила я.
– No, – серьезно возразил Джованни. – Винченцо никогда не был счастлив по-настоящему.
– По этим снимкам такого не скажешь.
– Это скрытая несчастливость. Мы, итальянцы, мастера по части fare bella figura[95], но на самом деле вечно в депрессии… Пойдем на террасу.
Джованни обнял меня за плечи и вывел на крышу.
– Красиво, да?
Ветер с моря ласкал лицо, шелестел в кронах пальм, лимонных деревьев и бугенвиллий, что росли в терракотовых кадках. Под нами лежал город – море черепичных крыш. Поодаль на фоне лазурного моря темнели силуэты кранов и кораблей. Внизу шумела улица, стрекотала тысячами мотоциклетных моторов, звенела детскими голосами. Джованни закинул голову:
– Quant’è bella, Napoli…[96] Какую страну разорила банда правительственных ублюдков, ’sta banda di criminali![97]
Появилась Кармела с белым подносом, предложила устроиться за белым столиком под белым же зонтом. Поставила на стол графин с водой и три чашки эспрессо. Она обращалась ко мне по-английски, со смущавшей меня вежливостью, которую я не понимала, как толковать.
На подносе лежала также старая книжка, «Страдания юного Вертера», на немецком. Кармела достала из нее фотографию:
– Это вы.
На снимке – молодой Винченцо в кожаной куртке и расклешенных брюках и маленькая девочка в красной гоночной машине. За их спинами вздымалась Мюнхенская телебашня. Девочка улыбалась. Я.
Джованни поинтересовался, откуда у нее это фото, но Кармела только покачала головой. Тогда я спросила, слышала ли она обо мне раньше. Кармела улыбнулась. Винченцо действительно не подпускал ее к своим тайнам, но за двадцать пять лет брака она узнала его куда лучше, чем ему, наверное, хотелось.
Я смотрела на снимок, и он оживал. Это был другой Винченцо, молодой, смеющийся, не тот настороженный чемпион с фотографий в гостиной. Зачем он оставил одну семью и завел другую? Джованни будто угадал мои мысли.
– Винченцо был человек крайностей. Или вверху, или внизу. Побежденный или победитель – середины для него не существовало… Но так было не всегда.
Джованни покосился на Кармелу. Та закурила тоненькую сигарету с ментолом. Предложила мне, я отказалась. Джованни достал фотоальбом и спросил, узнает ли Кармела его.
Нет. Она пролистала несколько страниц с непередаваемой смесью заинтересованности и отстраненности. Эти фотографии я видела впервые и даже ощутила нечто сродни уколу ревности. Джованни, заметив это, развернул альбом ко мне.
На снимке Винченцо было лет тринадцать, он стоял, привалившись к «фиату-500», сзади вывеска «Овощи и фрукты юга. Маркони». Футболка, джинсы, сандалии.
– Винченцо единственный из нас, в ком течет немецкая кровь, и он ненавидит Германию.
– Почему?
Глава 29
Без родины – страдание, ей-богу!
Ф. М. ДостоевскийВинченцо
Итальянский подросток курил, прислонившись к стене дома. Он не понимал, что кричали его немецкие сверстники, гонявшие мяч на площадке между домами. Мальчик слонялся без дела, пока мать и дядя работали в лавке. Конечно, ему тоже следовало быть там, но ведь бродить по городу и глазеть на людей куда интересней.
Он не выбирал эту страну, она была не его. Пожилая фрау с таксой на поводке подозрительно покосилась в его сторону. Он знал, что ее мужа убили на войне.
В Германии люди сторонились друг друга, никто тут не улыбался. Он тоже перестал улыбаться. Бредя по исполосованной светом фонарей ночной улице, он мечтал об оранжевом спортивном автомобиле, какие делают только в Милане. С досады пинал мусорные баки. А когда ночи становились слишком холодными для прогулок, глазел на улицу из окна немецкой квартиры.
Однажды, когда они ужинали, по телевизору шла первая в истории человечества прямая трансляция из космоса. Мелькали фантастические черно-белые кадры, слышались обрывки английских фраз. Трое американских астронавтов преодолели силу земного притяжения.
Мать отдала его в немецкую школу – бетонная коробка тут же, в Хазенбергле. В среднюю школу принимали всех подряд, даже иностранцев, ни слова не понимавших по-немецки. Так что и Винченцо должен был туда ходить.
Должен? Но для Винченцо школа никогда не была повинностью. В Милане он готовился в технический лицей. Здесь такое называлось гимназией, и о ней Винченцо мог разве что мечтать, потому что не знал немецкого языка. Он обязательно будет учиться в гимназии, пообещала мать, но потом. Всему свое время.
Винченцо посадили на галерке, рядом с Педро – мускулистым испанцем. Даже тетради выдали, но толку-то, Винченцо все равно не понимал, что говорит учитель. На уроках он рисовал танки и самолетики и только на математике включался. Язык цифр одинаков для всех, но, возвращая тетрадь с проверенной контрольной, учитель спросил, у кого Винченцо списал. В следующий раз Винченцо сел один.
На большой перемене все курили. У Винченцо денег на сигареты не было, поэтому он украл пачку в ближайшем супермаркете. Просто стянул с прилавка. Он прекрасно понимал, что делает, в морали он ориентировался не хуже, чем в математике. Но одно дело родной квартал в Милане, где, украв в магазине, ты не можешь быть уверен в том, что украл не у родственника, и совсем другое – чужая страна, где тебя держат как бы не вполне за человека. Кассирша – толстая, коротко стриженная тетка – даже погналась за ним, но куда там…
Что-что, а бегать Винченцо умел, в любой компании был самый быстрый. Он вообще не терпел над собой никакого превосходства. В Милане восхищал друзей тем, что знал длину экватора или расстояние до Луны. Там он был Винченцо – маленький принц, лучший ученик в классе, с которым каждый норовил сесть на экзамене. В Германии же – беженец и сын беженцев, жалкий гастарбайтер, макаронник.
На родине он запросто очаровывал девушек остроумием и обаянием. Здесь, лишенный языка, был для них пустым местом. Местные девчонки в упор не замечали его, разве что поглядывали иногда искоса, устав от немецких парней, задействовавших все регистры пубертата. Винченцо презирал здешние плебейские манеры, глупые шутки. Но его место было с краю, среди таких же отверженных гастарбайтеров – греков, испанцев, турок. Их языка он также не понимал, да и не слишком искал их дружбы, потому что ощущал свое превосходство над ними.
Вот чем только было ему это превосходство доказать? Лишенному языка оставались разве что кулаки, но по этой части Винченцо было особо нечем похвастать. Жилистый и сухопарый, как отец, он не отличался мощью. И главное, друзей у него не было, так что никаких шансов против своры местных парней.
И те не упускали возможности поставить его на место. Сам учитель едва ли понимал, какой подарок сделал местным острякам, когда впервые произнес его фамилию перед классом. С тех пор и пошло: «Эй, Макарони! Вали отсюда, Макарони!» – это когда он пытался прикурить у них на большой перемене. А когда Винченцо хотел угостить их сигаретами, ни один не взял. Потому что Винченцо был вор, тупой и подлый, как и все иностранцы, на которых немцы смотрели, не различая лиц.
Однажды Винченцо, к немалому удивлению Джованни, объявился на рынке.
– Дядя, а кто такие гастарбайтеры?
Винченцо и в самом деле не понимал это немецкое слово.
– Это мы, – ответил Джованни.
– Итальянцы?
– Оглядись вокруг. Все, кто здесь не немцы, и есть гастарбайтеры.
Винченцо обвел взглядом шумный торговый павильон. Иво, тщедушный водитель вилочного погрузчика, с дипломом социолога; коренастый мясник Пепе, у которого больная мать; Али Мусташ, который в обеденный перерыв мог запросто разделать для коллег рыбешку-другую. А когда после полудня все начинали расходиться, появлялись турчанки, которых никто не знал по именам, – уборщицы.
– Но я не гастарбайтер, – возразил Винченцо.
– Нет, но ты гастарбайтеркинд[98].
Джованни рассмеялся. Винченцо безуспешно пытался повторить длинное немецкое слово.
– Немцы любят из нескольких слов делать одно, – пояснил Джованни. – Просто цепляют одно слово к другому, и получается новое. И никаких тебе пробелов, никаких союзов и соединительных звуков – а чего пыжиться-то. Что-то навроде тоста «Гавайи», очень эффективно.
И Джованни объяснил племяннику, что буквально значит это составное слово. Ни одна из его частей не имела к Винченцо ни малейшего отношения, потому что он не желал быть ни «гостем», ни «рабочим», ни – тем более – «ребенком».
В тот день Винченцо понял, что с какого-то момента жизнь его взяла не тот курс. Германия, в которой они с матерью оказались, не имела ничего общего со «страной неограниченных возможностей» из рекламных брошюр. Работать на немцев – вот единственная возможность, которую здесь предоставляли чужаку.
– Теперь ты понимаешь, почему я хочу открыть свой магазин? – Дядя Джованни наставительно ткнул племянника пальцем в грудь: – Никогда не будь ничьим слугой.
Винченцо кивнул. Рядом громоздились штабеля ящиков с лимонами. Джованни взял один и сунул племяннику.
– Когда-нибудь мы все вернемся на юг.
– Хватит врать, дядя, никуда ты не вернешься.
Джованни так и застыл.
– Откуда тебе знать, малыш?
Винченцо пожал плечами и достал сигарету.
– И потом, то, что ты здесь говорил про немцев, полная чепуха.
– Правда? А с каких это пор ты куришь? Мать знает?
Винченцо проигнорировал вопрос.
– Что именно чепуха?
– Они не любят нас, – ответил Винченцо. – И имеют против нас кучу предубеждений.
– Вот как? Ну конечно, ты один судишь обо всем непредвзято. Да, собственно, эти твои слова и есть предубеждение, – Джованни вздохнул. – Но ты обязательно избавишься от него, когда вырастешь.
– От своих ты, я вижу, уже избавился.
– Я работаю круглые сутки, остряк. У меня нет времени на предубеждения… Ну-ка, помоги…
Джульетта имела слабое представление о том, что за мысли занимали ее сына. Щадя мать, Винченцо избегал с ней откровенничать. А сама она была слишком занята собой, чтобы приставать к нему с расспросами. Джульетта всей душой любила своего маленького принца, но сейчас она сосредоточилась на своих интересах.
И пока Винченцо после школы бесцельно бродил по окрестным кварталам, в голове его матери созревал план, на этот раз вполне определенный. Можно сказать, Джульетте выпал шанс, которым она не могла не воспользоваться.
Бывшая слесарная мастерская напротив рынка, которой со временем суждено было стать лучшим магазином деликатесов в городе, представляла собой донельзя захламленный сарай. Джульетта обнаружила ее случайно в лабиринтах замусоренного торгового квартала. В окнах, лишь наполовину прикрытых ржавыми рольставнями, были выбиты стекла, стены заросли плесенью, из труб сочилась ржавая вода, и все вокруг кишело мокрицами. Никакая сила не заставила бы Джованни переступить порог подобного помещения.
Но Джульетта сразу разглядела главное. Она вообще обладала даром прозревать в настоящем будущее. От соседей она узнала, что владелец помещения умер, и в конце концов вышла на его наследницу, некую Эрну Баумгартнер. Вдова жила отшельницей по соседству и не имела намерения сдавать мастерскую мужа в аренду. Ведь Херберт пропадал там сутками напролет – Господь да помилует его душу, – и она охотно продала бы лавочку, но это ведь память о муже. Если бы еще Господь послал им с Хербертом детей…
Джульетта слушала, не перебивая. Она пила с вдовой кофе – точнее, ту водянистую дрянь, которую в Германии выдают за кофе, – и ее терпение сотворило чудо. Возможно, она была первым человеком, кто проявил сочувствие к этой сухонькой мюнхенской старушке, жившей затворницей после смерти мужа. Или же Джульетта так хорошо ее поняла, потому что сама долгое время жила затворницей. Так или иначе, фрау Баумгартнер, – неспроста называемая в квартале не иначе как Баумгарпия, – подписала договор об аренде с незнакомым итальянцем с Центрального рынка. Правда, всего на год – кто знает, что взбредет в голову этим иностранцам? Сегодня они платят, завтра нет, а потом и вовсе могут исчезнуть.
Джульетта стерла в кровь колени и пальцы. Но ей казалось, она способна сдвинуть, вручную выкорчевать вековые деревья. Словно сила, накопленная за годы вынужденного бездействия, отчаянно рвалась наружу. Розария только диву давалась, глядя на золовку, и скребла и драила вместе с ней, как будто и не была на шестом месяце. Джованни, который с половины пятого утра и до половины третьего работал на рынке, а потом допоздна возился в будущей лавке, куда больше волновало состояние сестры, нежели беременной жены.
Никто не слышал от Джульетты и слова жалобы. В отличие от большинства гастарбайтеров, прибывших в Германию подзаработать денег и уехать домой, она возвращаться не собиралась. Она была обречена двигаться только вперед. В уединенной комнатушке, подсобке не больше уборной, она оборудовала ателье. Столик, стул и вешалка для одежды – больше ничего не поместилось. Розария одолжила ей утюг.
Джованни, которого совершенно разорила «свадьба века», не мог, как ни желал, купить сестре швейную машинку. Поэтому столик в ателье до поры пустовал. В передней комнате, будущем торговом зале, покрасили стены, установили витрину-холодильник, смонтировали полки и развесили картины, которые Джованни принес из дома, – живописные морские пейзажи и виды неаполитанской гавани.
К удивлению Джульетты, он поставил на полку статуэтку Мадонны, не на разукрашенном алтаре, как это делала его мать, а скромно, в уголке. Не в последнюю очередь ради Кончетты, которая рано или поздно объявится в лавке.
– Зачем это? – спросила Джульетта.
– Ну… она такая красивая…
– Но ты говорил, что не веришь ни во что подобное.
Джованни пожал плечами:
– Как знать.
И снова взялся за молоток. А Розария поставила рядом с Мадонной букет ромашек, которые собрала у дома.
Когда пять недель спустя все было готово, Джульетта с облегчением сняла грязный рабочий халат и тяжелые сапоги, влезла в джинсы-клеш, расшитые цветами. В комнате пахло свежей краской, лаком для полов и октябрьским дождем. Под потолком болталась лампочка без плафона. Джульетта прибавила звук в радиоприемнике, который Джованни установил за витриной. Было воскресенье, незадолго до полуночи, когда бывшую слесарную мастерскую огласила музыка, тотчас наэлектризовав все вокруг, включая Джульетту. Эти звуки были такими новыми, такими проникающими внутрь, такими чувственными, словно прибыли на Землю из другого измерения.
There must be some kind of way out of here Said the joker to the thief There’s too much confusion I can’t get no relief. No reason to get excited The thief – he kindly spoke There are many here among us Who feel that life is but a joke. But you and I, we’ve been trough that And this is not our fate So let us not talk falsely now The hour’s getting late[99].Джульетта подпевала, не понимая ни слова. Достаточно было, что эту музыку чувствовало тело. Босая, она раскинула руки в стороны, подскочила к брату и потащила танцевать. Но у Джованни ноги будто свинцом налились после долгого рабочего дня, он был слишком уставшим для Джими Хендрикса. Спать – единственное, чего ему сейчас хотелось.
Тогда Джульетта повернулась к невестке, которая полировала витрину, ухватила ее за руку и не отпускала, пока Розария не положила тряпку. Поначалу робея – как-никак она носила ребенка, – Розария быстро влилась в танец, уж очень заразителен был пример Джульетты.
А та кружила по залу, вертелась на месте, зажмурившись, – вылитая взбалмошная девчонка. Джованни налюбоваться не мог на нее и Розарию. Они подхватили его под руки с двух сторон и заставили забыть об усталости, а заодно возблагодарить Мадонну, пославшую ему этих самых замечательных в мире женщин, – после матери, разумеется. Если бы не они, Джованни ни за что не сотворил бы это чудо – собственные торговые апартаменты, где никто не смел ему приказывать и откуда его никто не смог бы выгнать.
Кроме Баумгарпии, как оказалось. И та не замедлила объявиться на пороге – с раскрытым зонтиком, в плаще, наброшенном поверх ночной сорочки, и с обвязанным вокруг головы платком. Бедняжка бежала под проливным дождем, посреди ночи, чтобы положить конец неслыханному безобразию.
– Что вы здесь себе позволяете… – прошипела она. – Сейчас же прекратите этот бедлам!
Джованни уже считал договор аренды подписанным. За годы жизни в Германии он успел усвоить, что с немцами шутки плохи. Они имели ужасную привычку говорить то, что действительно думают, поэтому «да» означало у них «да», а «нет» – «нет».
А Баумгарпия бушевала. Соседи давно попрекали ее тем, что сдала помещение иностранцам. Теперь не будет покоя и ночью, не говоря о чесночной вони, а там и до криминала недалеко. Поначалу она игнорировала их предупреждения, потом задумалась, ну а теперь все прояснилось окончательно.
Джованни пустил в ход весь свой шарм – без толку. Потом хозяйка обнаружила вешалку и утюг в задней комнате и сказала Джованни, что об ателье разговора не было, только о колбасной лавке. «Теневой бизнес», «обманщики», «пройдохи» – ее недовольство отыскало новое русло.
Джованни чувствовал, что больше не выдержит. И уже был готов швырнуть ключи к ногам фурии, но тут вмешалась Джульетта. Все это время она оставалась на удивление спокойной. И пока Джованни урезонивал Розарию, чья сицилианская гордость была ущемлена, сестра рассказывала Баумгарпии, как давно увлекается шитьем. Слово за слово – и вот уже она снимала с хозяйки мерки для нового зимнего пальто. А потом они все вместе сидели на прилавке и Джованни объяснял разницу между фабричным сервелатом и мортаделлой с тосканской фермы.
Собственно, фрау Эрне были безразличны преимущества итальянского мясного производства, она все повторяла, что после смерти мужа обедает исключительно в компании волнистого попугайчика и за эти годы оценила, сколь важно простое человеческое общение, которое было нормой в благословенные довоенные времена.
С полки, украшенной букетом ромашек, смотрела Мадонна.
На следующий день фрау Баумгартнер с трудом приволокла швейную машинку – громоздкое черное чудище венгерского производства, предположительно из переплавленных танков.
Так Джульетта получила первый заказ.
Глава 30
Пока Джованни днем торговал на рынке, Джульетта заправляла в лавке. А ночами шила в своей каморке. Торговля шла ни шатко ни валко. Покупателями в основном были итальянцы, немцы забредали разве что случайно. Гастарбайтеры любили выпить эспрессо из свежесмолотого кофе, а вот продукты предпочитали покупать где подешевле, в супермаркетах. Но Джованни из последних сил поддерживал лавку, ограничивая семью в самом необходимом.
Между тем по мере приближения срока росла нервозность Розарии. Одна Джульетта была исполнена оптимизма. Когда все ложились спать, она садилась за швейную машинку. Любовно гладила пальцами отрезы – будущие платья, существовавшие пока только в ее воображении. Все происходило как бы само собой, без страха и напряжения, словно по мановению волшебной палочки.
Джульетта работала как одержимая, будто чувствовала, что осталось недолго. Вставала с восходом солнца, готовила кофе и выходила на балкон вдохнуть свежего осеннего воздуха. Ветер гнал по улице жухлые листья, которые гастарбайтер-турок убирал при помощи специальной машины. Улыбнувшись ему, Джульетта снова уходила в дом. Она была счастлива, не имея ни пфеннига в кармане.
Однажды вечером в лавку, отчаянно ругаясь, ввалился Винченцо. Рубашка залита кровью, хлеставшей из разбитого носа. Джульетта пришла в ужас. Она принялась хлопотать вокруг сына, а Джованни постарался выудить из племянника, что стряслось.
Винченцо избили в школе – во время урока и на глазах учителя. Трое на одного. Учитель спросил его что-то о Священной Римской империи, о которой Винченцо, как наследник латинян, должен был знать больше, чем остальные. Но мальчик не понял вопроса. Тогда один из одноклассников сунул ему шпаргалку, которую ни о чем не подозревающий Винченцо тут же прочитал вслух, после чего учитель влепил ему пощечину. Взбешенный Винченцо подошел к тому, кто передал шпаргалку, и ударил его с такой силой, что тот слетел со стула. Завязалась драка, в которой у Винченцо не было ни малейшего шанса. В довершение всего «гастарбайтер» оказался единственным, кто получил выволочку от учителя.
Джульетта корила себя за то, что так пренебрегала делами сына. На следующий день, не слушая возражений Винченцо, она пошла в школу, вызвала учителя в коридор и прилюдно учинила ему разнос. Багровый Винченцо стоял рядом. Теперь он еще «доносчик» и «маменькин сынок», как будто мало всего остального. Но учитель отреагировал на несдержанность Джульетты с улыбкой: мальчишки – это мальчишки, а взросление – процесс бурный. Он не стал скандалить с женщиной, говорил рассудительно и спокойно. Насколько Винченцо понял, учитель полагал, что эта школа – не самое подходящее место для мальчика.
– Но где ему место в таком случае? – удивилась Джульетта.
Учитель пожал плечами: дома, в Италии. Сам он бывал в Римини – настоящий рай.
Обозленная Джульетта отправилась к директору и спросила, где ребенку гастарбайтеров можно выучить немецкий язык. Пожилой господин тоже пожал плечами: он едва ли способен чем-то помочь. Руки у него связаны, финансы ограничены. Все учительские ставки заняты, а дополнительных ресурсов от государства не дождешься. Быть может, имеет смысл обратиться в частную школу? Как будто перед ним стояла Жаклин Онассис.
– Что же это за страна такая? – возмущалась за ужином Розария. – Неужели у них совсем нет национальной гордости?
Винченцо задумчиво возил ложкой в zuppa di fagioli[100].
– Зачем они позвали нас сюда, если ничего не хотят делать для наших детей? – продолжала Розария. – Да немцы вообще не любят детей, если хотите знать мое мнение. Вы видели вывеску на детской площадке? После шести вечера гулять запрещено. Ходить по газонам запрещено. Ездить на велосипеде тоже запрещено! Dio mio, это не страна, а казарма!
– Успокойся, Розария, – сердито сказал Джованни. – Немцы ведь тоже были детьми и все это пережили… А язык он, так или иначе, выучит.
Как выучил его Джованни – «так или иначе». Его языковыми курсами были иллюстрированные немецкие журналы, которые печатались крупным шрифтом и стоили пару пфеннигов. При том, что он сам слышал свой чудовищный акцент и сознавал, что непозволительно пренебрегает правилами грамматики. На Центральном рынке, где хозяева держали их за дрессированных шимпанзе, этого хватало. Там был свой немецкий, в рамках «принеси-подай». Да и Розария, ограниченная миром в четырех стенах, даже немецкое телевидение не смотрела.
Но Джульетта и тут не впала в уныние. Кому, как не ей самой, заняться образованием собственного сына? Она понимает логику немецкого языка, восхищается его точностью. Быть может, в ее сознании он все еще был неотделим от голоса Винсента и каждая немецкая фраза задевала в душе одну и ту же струну.
Отныне после ужина Джульетта садилась с сыном за кухонный стол и начинала урок. Винченцо узнал много интересного, пока другие дети гоняли во дворе мяч. Например, что «машина» в немецком языке не женского и не мужского рода, а нечто среднее. Что у слова «страх» нет множественного числа, а спичечный коробок по-немецки называется одним словом, да таким, что от него полагается всем валиться с ног от хохота. Вскоре подоспели и другие ученики. Итальянский мальчик Пиппо из Бари и Василис с Корфу, имевший привычку заливисто смеяться, выкрикивая неприличные немецкие слова. Пугливая турчанка Нейлан усваивала материал быстрее мальчиков, чем разжигала в Винченцо дух соперничества. Джульетта видела, что девочка неравнодушна к ее сыну, но Винче, чье самолюбие оказалось уязвлено, думать ни о чем не мог, кроме уроков.
Дети любили эти вечера. От души потешались над длинными немецкими словами, но главное – им нравилось, что о них заботятся, ведь родители-гастарбайтеры целыми днями пропадали на работе. Со временем Джульетта стала готовить на всех. Она радовалась, глядя на счастливые детские лица, но из-за уроков, готовки и хлопот в мясной лавке времени на шитье почти не оставалось.
И снова, вот уже в который раз, мечта глохла под натиском повседневности. Все как обычно: шаг вперед, два назад. Но вера Джульетты – в Германию и собственное будущее – не иссякала.
Неожиданно исчезло солнце. Зарядили дожди, и свинцово-серый туман поглотил все краски. Промозглый ноябрь проникал сквозь одежду и щели в оконных рамах. Джульетта сшила Винченцо демисезонное пальто, связала шерстяные носки. В двух чемоданах, которые они привезли из Италии, не нашлось места для теплых вещей.
Розария некстати простудилась перед самыми родами. Когда начались схватки, она лежала в постели. Джованни позвонил в больницу, но не в Хазенбергле, нет, – его ребенок должен был появиться на свет в более приличном месте. Он вызвал такси до Швабинга. У Джованни имелась медицинская страховка, которой могла пользоваться и его жена, а потому любая больница обязана была принять их наравне с немцами.
Вот такое больше всего нравилось Джованни в Германии. В Италии говорили «Ложишься в государственную больницу – не забудь составить завещание». Но Джованни знал, что немецким врачам можно доверять.
Розарию увезли в палату, а он остался ждать в коридоре, в те времена не было принято держать жену за руку во время родов. Будущие отцы томились в коридоре, нервничали, курили сигарету за сигаретой.
Джованни решил позвонить сестре, на которую оставил лавку. Он увидел его как раз в тот момент, когда Джульетта взяла трубку. Мужчина сидел на стуле, аккуратно сложив на коленях пальто и шляпу. Заметив Джованни, он как будто смутился, но потом встал и направился к нему.
– Попометр!
– Джованни!
– Можно поздравить?
– Скоро управится. Твоя тоже?
– Может, придется делать кесарево.
Джованни достал пачку «MS», протянул Винсенту. Тот кивнул, взял сигарету, щелкнул зажигалкой.
– Первый? – спросил Джованни.
– Да, лучше поздно, чем никогда.
Они курили, ни словом не упомянув имя, которое у обоих вертелось на языке. Джованни украдкой поглядывал на «Попометра» – что ему известно? Тот как будто хотел что-то сказать, но не решался. Тут к ним подошла медсестра, улыбнулась Винсенту:
– Поздравляю. Девочка. Все в порядке.
Винсент закрыл лицо ладонями. Рассмеялся. По щекам его текли слезы, шляпа покатилась по полу.
– Девочка! – Джованни обнял Винсента и похлопал по плечу. Медсестра не уходила. – Скрести пальцы за мою! – шепнул Джованни в ухо счастливому отцу. – Capisci?[101] – И рассмеялся, глядя в испуганное лицо Винсента. – Auguri, Vincent, auguri…[102]
Винсент растерянно подобрал с пола шляпу.
– Пойдемте, посмотрим на ребенка, – сказала медсестра.
И Винсент удалился с ней, не попрощавшись.
Джованни проводил его взглядом, закуривая следующую сигарету.
Два дня спустя Джованни стоял над кроваткой новорожденной дочери и мурлыкал сицилийскую колыбельную. В окна барабанил дождь. Розария, измученная и гордая собой, лежала в постели.
– Мы назовем ее Мариэтта, в честь моей мамы Марии, – сказала она.
– Как тебе будет угодно, дорогая.
Сквозь неплотно задернутые шторы Джованни увидел мужчину и женщину, пересекавших под дождем больничный двор. На руках женщины был младенец. Когда пара подбежала к припаркованной поодаль «ривольте», мужчина поднял глаза, как будто кого-то высматривая в окнах больничного корпуса. Потом сел в машину и уехал.
Джованни чувствовал себя счастливейшим отцом в мире. Но по возвращении он понял, что отныне главой семьи будет не он, а новоиспеченная мать. Случилось то, чего боятся все мужчины – сицилийцы, во всяком случае. Он перестал быть главой семьи.
– «Позже, позже…» Как я устала это слушать… – ворчала Розария, с ребенком на руках разбирая грязное белье. – Это не дом, а постоялый двор.
– Я знаю, дорогая, – защищался Джованни, – вся эта жизнь – временное пристанище.
На кухне ученики во главе с Джульеттой постигали секреты немецкого условного наклонения. Больше всего Джованни сейчас хотелось исчезнуть из дома.
– А знаешь что? – продолжала Розария. – Я возвращаюсь на Салину. Вместе с Мариэттой.
– Не так громко, дорогая, – испугался Джованни. – Что подумают дети?
– Ты бы лучше о собственном ребенке подумал. Решайся, Джованни. Кто твоя семья?
Джульетта приоткрыла дверь в спальню.
– Не уезжайте на Салину, – сказала она.
Джованни и Розария смутились.
Вечером Джульетта читала объявления в газетах, а Винченцо заодно упражнялся в сокращении составных немецких слов. Рубрика «Недвижимость» так и пестрела ими: ЦО – центральное отопление; СПК – совместное пользование кухней. Примеров множество, но это нисколько не упрощало положения. Строительство новых домов шло полным ходом, но квартиры либо сдавались по заоблачной цене, либо «вот только пять минут назад отдали ключи…»
Обычно стоило Джульетте представиться, как хозяин шел на попятный. Тогда она перестала с ходу называть свою фамилию, но акцент выдавал ее с головой. Наконец один мужчина признался, что ничего не имеет против иностранцев, но квартиру им не сдаст. И Джульетта решилась спросить, прежде чем положила трубку: «Это почему же?» Ответом ей было молчание, разрядившееся пламенной проповедью об аморальных южанах, запахе чеснока и громкой музыке в подъезде, а в завершение о том, как «после он еще притащил туда больную мать, безработного дядю и пятерых детей».
– Знаешь, почему я живу в такой дыре?
Джованни усмехнулся, подливая Джульетте кьянти. Квартиру в бетонном «палаццо» он получил только благодаря протекции шефа с Центрального рынка, тем самым окончательно развенчав миф, что в Германии нет кумовства.
– Чертовы немцы! – Винченцо вышел из комнаты, хлопнув дверью.
– Я поговорю с Розарией, – пообещал Джованни сестре. – Вы будете жить здесь столько, сколько понадобится.
– Джованни, я приехала сюда не затем, чтобы снова от кого-то зависеть. Я найду нам жилье, пусть даже это будет телефонная будка.
И она нашла. Джованни не поверил собственным ушам, когда молодой мужской голос в телефонной трубке пригласил ее «познакомиться поближе».
Жилье и в самом деле оказалось почти с телефонную будку – отдельная клетушка в квартире с соседями. Ими оказались три студента – троцкисты-подпольщики, как они сами представились, «не путать с ленинистами!», – которые из чувства интернациональной солидарности охотно пошли на сближение с представителями итальянского пролетариата. То, что эти представители были малоимущими, лишь добавляло им очков. Студенты постоянно повторяли, что это важнейший политический акт, и эту их убежденность разделял даже Джованни.
Ветхая многоэтажка на западной окраине города насквозь провоняла пивом и гашишем. Туалеты здесь, похоже, также давно не чистились. Молодое поколение разбивало вдребезги легенды о немецкой чистоплотности и пресловутой прусской дисциплине. Половицы лежали косо. Стены все в подтеках. Полки – положенные на кирпичи фанерные доски. И только проигрыватель с самопальными колонками выглядел солидно.
Взгляд на содержимое холодильника дополнял портрет обитателей квартиры – томатная паста в тюбике, банка консервированной фасоли и пудинг «Вальдмейстер». Открыв такой холодильник, сразу понимаешь, почему поражение коммунистов в холодной войне было предопределено.
Для Джованни же главным было убедиться, что соседи не имеют к его сестре никакого другого интереса, кроме политического. К тому же один из революционеров оказался девушкой лет двадцати. Ее звали Алекс, она носила норвежский свитер с оленями и была матерью-одиночкой, дочь спала с ней на одном матрасе. Двух других звали Роланд и ХП – ох уж эти немецкие сокращения! Кто с кем спит, понять было невозможно.
– Что скажет на это Винченцо? – шепотом спросил Джованни сестру.
– Думаю, ему даже понравится.
– Что понравится? – не понял Джованни.
– Ах, не будь таким пессимистом.
Джованни тяжело вздохнул и внес свой первый вклад в дело мировой революции – плату за три месяца вперед.
Два дня Джульетта только и занималась тем, что скребла и драила. Она натянула поперек комнаты простыню, разделив на свою половину и половину Винченцо. Вешалок для одежды не было, зато имелось два матраса. Джованни забил холодильник сыром, соорудив в нем итальянскую зону. А когда Джульетта приготовила пасту, троцкисты капитулировали окончательно. Еще бы! Это ведь были не какие-нибудь там пропитанные кетчупом из тюбика студенческие макароны. Настоящая путтанеска с сицилийскими анчоусами, свежим тимьяном и каперсами с Салины. А уж после десерта – тирамису со свежим эспрессо – Джульетту единогласно утвердили в должности заведующей кухней. И даже мытье посуды защитники интересов рабочего класса согласились взять на себя.
Поздно ночью, когда Джульетта вязала при свете ночника, Винченцо незаметно выскользнул из комнаты к соседям. Алекс и Роланд куда-то слиняли, девочка посапывала на диване, а ХП курил перед мерцающим телеэкраном, на котором демонстранты опрокидывали полицейскую машину.
ХП предложил Винченцо затянуться – тот отказался. Бесцельно перебрал пластинки в психоделических конвертах, пытаясь разобрать английские названия. Cream, Procol Harum, Jim Morrison, Jimi Hendrix… Физиономии музыкантов его пугали. Нет, не в благостных посланиях заключалась правда, которую несли миру «дети цветов». Ее вместилищем были мрачные коннотации, леденящие душу смыслы – не менее жестокие и разрушительные, чем войны, против которых они боролись.
Винченцо взял с полки пластинку. Janis Joplin. Summertime. Острожно держа пластинку между ладонями, положил ее на диск проигрывателя и опустил звукосниматель. Послышался треск, из которого словно тоненькой струйкой вытекла светлая гитарная мелодия. А голос… Винченцо не приходилось слышать ничего подобного. Чистый и хриплый разом, глубокий, он вдруг срывался пронзительным криком, от которого внутри все начинало дрожать.
Девочка на диване проснулась и посмотрела на Винченцо большими блестящими глазами. ХП храпел на матрасе подле дивана. Винченцо подошел к малышке и поправил сползшее одеяло.
Глава 31
Родина там, куда влечет сердце.
ПлинийЭнцо
С начала декабря всю Италию охватывает предвкушение Рождества, а «вся Италия» охватывает и Сидней, и Нью-Йорк, и мюнхенский Хазенбергль – любое место, где есть итальянцы. В отвоеванной у родственников гостиной Розария поставила деревянную колыбель, которую мать переправила почтой. Мария тосковала по дочери, да и Розарию, по мере того как опускался столбик уличного термометра, все сильнее тянуло на родину.
– Давай отпразднуем Рождество дома, – предложила она Джованни.
И под «домом» здесь имелась в виду не мюнхенская квартира. «Дом» означал Италию, а Италия – Салину.
– Каким образом ты собираешься везти ребенка? – отозвался Джованни.
– Поездом, а как еще.
– Но это двое суток. А при плохой погоде может не быть парома.
– Но моя мама так и не видела внучку, и твоя тоже. Как так можно!
– А как же Джульетта? Ты собираешься бросить ее одну?
Нечего было и думать, чтобы Джульетта отправилась с ними. У нее дома в Италии больше не было.
– А Винченцо? Неужели мальчику придется отмечать Рождество без отца и бабушки?
– Я не поеду, basta!
Джованни часами висел на телефоне, отчаянно цепляясь за последнее, что еще могло спасти семью, – за Рождество. Быть может, хотя бы праздник сблизит Джульетту с Энцо. Но его благие намерения были бессильны перед перекрестным огнем взаимных обвинений. Кончетта оставалась категорична, держа сторону зятя, и не упускала случая лишний раз напомнить Джульетте, что та ей больше не дочь. Джульетта же обиды никак не выказывала.
– Что мне делать, Джованни? – жаловался по телефону Энцо. – Чего стоит семья, если ее можно сбросить, как надоевшее платье? Почему она больше не любит меня?
– Я не знаю, Энцо, не знаю… – бормотал Джованни.
Дождливым вечером 9 декабря 1968 года в дверь позвонили. Никто не услышал, потому что праздник был в самом разгаре. В динамиках грохотали «Роллинги». В озаренной свечами гостиной человек тридцать студентов пили пиво, курили травку и покачивались в загадочном полусонном танце. Юноши были в брюках клеш и рубахах на голое тело – разумеется, никаких галстуков. Девушки проявили большую изобретательность по части костюмов – от кожаных юбок «ультрамини» с отороченными бахромой жакетами до комбинезонов в обтяжку и индийских сари.
На стене появилась новая надпись: Free your mind[103]. Джульетта надела платье выше колена с психоделическим узором. Винченцо наблюдал праздник со стороны. В последнее время он стал немногословен и все больше замыкался в себе. Волосы его отросли, он больше не позволял матери их стричь. Когда кто-то из гостей протянул ему бутылку пива, Винченцо взял не сразу. Потом глотнул, разглядывая девичьи ноги, но думал он только о Кармеле и ее маленьких грудках, которые так приятно накрывать ладонями.
Именно он расслышал звонок, встал и пошел к двери. На пороге стоял Энцо – с чемоданом и оранжевым гоночным велосипедом Винченцо.
Мальчик оторопел. В первый момент он перепугался, что отец сейчас все разгромит, но тут заметил, как тот бледен, просто призрак. Сильно похудевший Энцо едва держался на ногах. В запавших, потускневших глазах не было и намека на гнев.
– Я привез тебе велосипед.
Губы у него дрожали. Винченцо не нашелся что ответить.
Поставив чемоданы, Энцо крепко прижал сына к себе. Вдохнув знакомый запах пота, оливкового масла и лосьона для бритья, Винченцо вдруг понял, какой же Энцо маленький и беззащитный. Как брошенный ребенок.
Увидев мужа, Джульетта застыла посредине танца. А Энцо, как был в рабочих башмаках, прошел в центр комнаты. Студенты не замечали его. Только маленькая девочка на руках матери с любопытством уставилась на странного гостя.
Джульетте вдруг сделалось стыдно – за свое не по возрасту игривое платье, за туфли на каблуках, в которых она была выше Энцо. И тут же разозлилась на себя за это.
– Что ты тут делаешь?
Вопрос прозвучал резче, чем она того хотела. Энцо не ответил. Он стоял перед ней, и по его щекам текли слезы. И тут она поняла, что он явился сюда не с попреками, а с тоской и любовью. Но тотчас подавила подступившую волну жалости.
– Выслушай меня, – сказал Энцо, – не прогоняй сразу.
За музыкой никто не слышал его голоса, кроме Джульетты. Та оглянулась на сына, но Винченцо не больше матери понимал, что происходит. Кто-то из гостей в танце толкнул Джульетту, да так, что она чуть не упала.
– Я не могу без тебя, – продолжал Энцо. – Давай попробуем еще раз – ты, я и Винче…
– Энцо, я не вернусь.
– Но как ты одна поставишь его на ноги?
Джульетта отвернулась, оглядела толпу студентов и уставилась в окно. Винченцо проследил за ее взглядом. Энцо взял жену под локоть, но та отстранилась.
– Я прекрасно справляюсь, я работаю! Здесь я могу свободно дышать, понимаешь?
Энцо утер вспотевший лоб.
– В Италии будет то же самое, обещаю. Там все меняется. И студенты там такие же – нет для них ничего святого.
– Италия никогда не изменится, – возразила Джульетта. – Для этого она слишком стара… Сначала итальянские студенты выходят на площадь в поддержку Хо Ши Мина, а потом возвращаются домой и говорят: «Мама, положи пасты».
– Немцы не такие, ты полагаешь?
– Я не такая! Я приехала в новую страну за новой жизнью, Энцо… В страну, которая действительно устремлена в новое.
Энцо оглянулся на Винченцо, который стоял среди танцующих девочек.
– В таком случае я перееду к тебе. Я тоже начну новую жизнь.
Джульетта опешила:
– Что?
– Я не могу без тебя, Джульетта. И без сына. Моя жизнь развалилась. Вы единственное, что у меня есть, и я всегда буду вас защищать.
Джульетта ощутила, как ослабели ноги.
– Нет, – сказала она. – Кто будет заботиться о маме?
– Ты меня спрашиваешь? – возвысил голос Энцо. – Это же твоя мать.
На его возмущенный возглас отозвалась маленькая девочка, спросившая, а как зовут дядю. Винченцо подхватил ее на руки и отошел в сторону.
– Я люблю тебя такой, какая ты есть, – сказал Энцо. – Я всегда восхищался твоим характером и талантом. Занимайся чем хочешь. Теперь мой черед ломать себя.
Джульетта молчала, едва сдерживая слезы.
Тут их наконец заметил Роланд.
– Все в порядке?
Он подозрительно смотрел на Энцо. Джульетта кивнула. Роланд отступил.
– У тебя кто-то есть? – спросил Энцо.
Джульетта покачала головой. Подбирая слова, Энцо даже зажмурился:
– Это… как болезнь, понимаешь? Ревность… я ничего не могу с собой поделать.
Он взял ее руку, поцеловал. Джульетта почти физически ощущала его стыд.
– Ты и в самом деле изменилась. В твоих глазах жизнь… Я все сделаю, чтобы этот огонь не погас.
Джульетта отвернулась. Не желала показывать Энцо слез, которые так и не смогла сдержать.
Винченцо видел, как его родители вышли из гостиной, оставив чемодан Энцо посреди комнаты. Малышка было кинулась следом, но Винченцо поймал ее, отнес к ее матери, уложил на матрас, укрыл одеялом. Потом вернулся в коридор, подошел к закрытой двери их комнаты, не зная, что делать. Из уборной вышел незнакомый парень, предложил косячок. Винченцо взял.
Лишь около полуночи Энцо вернулся за чемоданом – пробрался к нему через гостиную, осторожно перешагивая спящих, стараясь не наступить на переполненные пепельницы, не споткнуться о пивные бутылки. Пластинка все крутилась, издавая шипение. Послышался женский стон. Энцо огляделся, увидел сына, – тот спал, свернувшись калачиком между телами. Энцо взял его на руки и отнес в комнату.
Глава 32
Энцо остался. Винченцо не знал, как к этому относиться. Отец был непривычно ласков, баловал маленькими подарками и возился с его оранжевым велосипедом. Джульетта и Джованни смотрели в окно, как отец и сын, оба в теплых пальто, по очереди катаются на велосипеде по мокрой жухлой листве. Джульетта озабоченно покачала головой:
– Беда в том, что я не уверена в себе.
– О чем ты? – не понял Джованни.
– Даже не знаю, смогу ли дать ему то, чего он заслуживает.
– Ты говорила с ним?
– Да. Энцо сказал, что его любви хватит на двоих. – Ее глаза наполнились слезами.
– Ты не можешь знать, как все сложится, Джульетта. Мы давно уже не дети. По-моему, мы слишком много слушали Адриано Челентано… Не стоит ждать от любви так много.
Джованни усмехнулся. Джульетта поняла, о чем он. В комнату ворвался холодной ветерок. Энцо в дверях потирал замерзшие руки.
– Джованни, поможешь мне найти работу?
Они отправились на Центральный вокзал. Джованни не спускался в бункер со дня своего первого приезда в Мюнхен. Но здесь мало что поменялось за минувшие годы. Разве что нынешние «гости» говорили на других языках. Итальянцев почти не было. Теперь рабочую силу поставляли североафриканские пустыни и просторы Анатолии. Пробираясь с Энцо к стойке администратора, Джованни улавливал знакомые арабские и турецкие слова, которые часто слышал на рынке.
– Дай ему паспорт, Энцо.
И пока немец в широком галстуке и роговых очках изучал документы Энцо, Джованни разъяснял ему, что новый соискатель не какой-нибудь малограмотный бродяга, а квалифицированный механик, много лет монтировавший лучшие автомобили в мире.
– Есть вакансии на «Фольксвагене», – предложил немец.
– В Мюнхене?
– Нет, в Вольфсбурге.
– Нет, он не может уехать из Мюнхена, у него здесь жена и дети.
– У нас не турагентство.
– Что?
Еще одно незнакомое Джованни составное слово. Энцо спросил, что происходит. Джованни перевел:
– Он хочет, чтобы ты ехал в Вольфсбург.
– Где это?
– Далеко.
Энцо покачал головой:
– Monaco[104].
Администратор нервно поправил очки:
– Послушайте, немецкие фирмы передают нам вакансии. Если хотите работать в автомобильной промышленности, вам придется выбирать между «Фольксвагеном» в Вольфсбурге и «Фордом» в Кёльне… Colonia[105], – повторил он, возвысив голос. – На сегодняшний день только это…
– Monaco, – упрямо повторил Энцо.
– Отойдите в таком случае и не мешайте мне работать. Не заставляйте людей ждать.
Немец повернулся к следующему в очереди – уроженцу Туниса лет двадцати с небольшим. Тот решительно положил бумаги на стойку:
– «Фолькесваген».
По-видимому, это было его единственное немецкое слово. Немец тиснул штемпель, решив тем самым судьбу человека, чье имя он едва ли смог бы выговорить. Быть может, этот тунисец встретит в Вольфсбурге женщину своей жизни, построит дом, заведет детей, станет членом местного футбольного клуба и со временем упокоится на городском кладбище. И все это – одним движением – определил ему чиновник в роговых очках. Энцо не выдержал.
– Сначала вы говорите нам, что у вас сотни тысяч рабочих мест… – по-итальянски сказал он человеку за стойкой. – И вот теперь, когда я здесь, стою перед вами…
Джованни оттеснил его в сторону.
– Простите, а в Мюнхене ничего больше нет?
Но чиновник, как видно, решил игнорировать двух навязчивых итальянцев. Ему не было дела до их «особых пожеланий», тем более что сзади напирала целая толпа. Джованни понял, что скоро все переменится. Рынок труда уже близок к насыщению, еще немного – и число соискателей превысит количество вакантных мест. Далее эта разница будет нарастать лавинообразно.
Джованни поговорил с шефом, и два дня спустя Энцо водил вилочный автопогрузчик на Центральном рынке. С машиной он освоился куда быстрее, чем с ее немецким названием. Неделю спустя Энцо отослал в «ИЗО» заявление об увольнении. Теперь он, столько лет собиравший грациознейшие в мире спортивные автомобили, составлял в штабели ящики с фруктами. Но семья снова была с ним, и остальное не имело значения.
– Если ты все еще в нем сомневаешься, тебе уже никто не поможет, – ворчал Джованни, когда они с сестрой распаковывали коробку со свежей пармской ветчиной.
– Я знаю, что несправедлива к нему.
– Так дай Энцо еще один шанс. Ты уже разлучила Винче с друзьями, не лишай же его и отца.
– А если у меня не получится?
– Нам с тобой не шестнадцать лет, сестренка. Любить или нет – это наше решение.
На внеочередном собрании жильцов квартиры студенты вынесли на голосование вопрос о судьбе Энцо. Долго не могли определиться с тем, имеет ли Винченцо право отдельного голоса, – это вылилось в жаркую дискуссию о правах женщин и детей. В последовавших затем дебатах интернациональная солидарность схлестнулась с частными интересами квартиросъемщиков, в результате политический идеализм уступил, не выдержав напора, а Энцо получил всего лишь право беспрепятственного посещения.
Отныне обеспечение жилплощадью мужа Джульетты легло на плечи Джованни, воспринявшего эту новость со стоическим спокойствием. Джованни знал, что трудности с квартирой должны быстро разрешиться, иначе просто не могло быть. Но Розария заупрямилась.
– Basta! – вскричала она, узнав о подселении Энцо. – Нет и еще раз нет!
– Не будь же такой бессердечной, – упрекнул жену Джованни.
– Это я-то бессердечная? А кто все это время готовил на твою сестру?
– Это же ненадолго, – уговаривал Джованни. – Энцо будет только здесь спать время от времени, пока не подыщет себе что-нибудь по карману.
– Все у тебя ненадолго… А знаешь что? Уеду-ка я, пожалуй, ненадолго домой.
– Но, Розария, любовь моя…
А потом, словно всего этого было недостаточно, Джованни был вынужден пересказать всю историю Кончетте по телефону.
– Неужели тебя это совсем не радует? – кричал он в трубку. – Они вместе, разве ты не этого хотела?
– Но не там, не в Германии! – завывала Кончетта. – Скажи ему, чтобы привез ее домой.
– Он пытался, мама, но ты же знаешь Джульетту. Упряма как сицилийский осел.
– А я? – разрыдалась Кончетта. – Обо мне вы подумали?
– Мы обязательно выкрутимся, – пообещал Джованни. – Это временно…
– То же самое ты говорил, когда уезжал в Германию. И что получилось? До сих пор не вернулся.
– Когда-нибудь, мама, – продолжал Джованни, – мы накопим достаточно денег, чтобы построить дом на Салине. И будем жить там все вместе, и ты с нами.
С каждым разом получалось все сложнее верить собственным обещаниям. За мечту о доме на Салине Джованни цеплялся, как за соломинку, но все больше отдалялся от ее воплощения.
– Что такого сделали с вами эти немцы, что вы забыли старую больную мать? – голосила Кончетта. – Что за времена, что за люди…
– Мама, Рождество мы отметим вместе, я тебе это обещаю.
Джованни знал, что после размолвки с матерью Джульетта ни за что на это не пойдет. Но что у него было, кроме обещаний?
Потом выпал снег, о чем Джованни не преминул поведать матери. Разумеется, в его рождественской сказке город сверкал, словно присыпанный серебряной пыльцой, праздничные ярмарки благоухали глинтвейном, а улицы оглашал смех катающейся на санках детворы. На самом деле никто из «гастарбайтеров» не подозревал, что будет настолько холодно, и менее всех – Розария. Ведь если северянам миланцам доводилось видеть снег хотя бы день-два в году, после чего он обращался в слякоть, для южанки Розарии он был чем-то мифическим из жизни в далеких странах. Из-за влажного воздуха зимы на Салине были холодные, приходилось даже растапливать камин, но снег был экзотикой, вроде как пальмы в Германии.
Два дня валили крупные хлопья, настолько густо, что ничего не разглядеть на расстоянии вытянутой руки. Снег поглотил все: гидранты, машины и звуки. На битву с ним выползли тяжелые снегоуборщики, и вдоль обочин выросли настоящие снежные валы. Мало кто отваживался высунуть нос на улицу, даже школьников освободили от занятий.
Энцо с Джованни сходили в лес и срубили елку.
– Неужели они ставят такое в каждой квартире? – удивился Энцо. – Мадонна, сколько же надо елок…
Джованни пожал плечами:
– У нас есть море, у немцев – елки.
Но стоило им втащить дерево в квартиру Джульетты, как ХП отложил своего Адорно и поднялся с софы. В белом овечьем свитере, с бородой и длинными волосами он как никто другой подходил на роль Рождественского Деда.
– А это я прошу немедленно вынести!
– Почему? – удивился Джованни.
– Потому что это буржуазный символ!
Джованни перевел для Энцо. ХП смотрел на итальянцев зверем: мол, вы не пролетарии, а буржуазные прихвостни. Но Джованни не сдавался. Пока он препирался, Энцо втащил елку в комнату Джульетты, и ХП ринулся за подмогой к Роланду.
– Видал? (Энцо слышал его голос из коридора.) Да проснись ты! Это же мафия, это они убили Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. А теперь еще заигрывают с ЦРУ!
Пока Джованни разбирался с разбушевавшимися леваками, Энцо устанавливал первую в своей жизни рождественскую елку.
Винченцо был единственный, кто провожал семейство Джованни на рождественские каникулы. Юноша был молчалив, даже слишком, как показалось Джованни. Больше всего на свете Винче хотелось отправиться в Италию вместе с дядей. Но он не мог, из-за матери. Им впервые предстояло провести Рождество в Германии. Джованни же с Розарией везли внучку на смотрины сначала в Милан, а потом на Салину.
Вплоть до 23 декабря Джованни простоял за прилавком, продав землякам невиданное количество panettoni[106], и лишь перед самым отъездом передал дела сестре. Закрыться в разгар праздничной торговли их маленький магазинчик позволить себе не мог. Прощаясь, Джульетта прижала брата к груди. Теперь он отправлялся на юг, она оставалась на севере. Оба спрашивали себя, когда наконец семья сможет снова сойтись за одним праздничным столом. И оба понимали, что «временное» обернулось постоянным, а то, что прежде представлялось незыблемым, обратилось в дым.
Если бы только Джованни знал, что произойдет за время его недолгой отлучки. Если бы только мог предвидеть, сколь неожиданно и необратимо перевернется жизнь сестры, то ни за что не оставил бы Джульетту.
Но Джованни ничего не предвидел и ни о чем не догадывался. Он метался между родными, суетился, переживал, из последних сил стараясь навести мосты между сторонами.
Накануне свадьбы Джованни полагал, что создает семью, в которой станет полновластным хозяином. Эта вселенная будет вращаться вокруг него, дети и жена будут восхищаться им, угадывать его желания с полуслова. Мог ли он вообразить, как отдалится от него Розария после переезда в Германию? И сейчас, когда семейство Маркони, включая приболевшую Кончетту, в окружении набитых подарками чемоданов стояло на пароме, готовом причалить к берегам Салины, Джованни как никогда остро ощущал, что центр его вселенной сместился.
Мать Розарии, в теплом пальто и с толстым шерстяным шарфом вокруг шеи, осыґпала внучку поцелуями и благословениями. Потом обняла Розарию, заблудшую дочь, и – вздохнув – сестру Кончетту. Наконец подошел черед зятя.
– Bentornati[107], – всхлипывала Мария, – теперь вы точно никуда не уедете, слышишь?
Вся процессия, возглавляемая Розарией с ребенком на руках, двинулась в сторону грузового мотороллера – местного такси, беззубый водитель которого дымил самокруткой в сторонке.
Как будет по-итальянски «центр вселенной»? «Мать». Все остальные – ее спутники. Итальянскому мужчине нужны десятилетия, чтобы преодолеть силу притяжения матери, но достаточно девяти месяцев, чтобы войти в новую орбиту. А образ мачо не столько утверждение якобы присущей традиционному обществу патриархальности, сколько подсознательный бунт против реального матриархата.
Но то, что ясно женщинам едва ли не с рождения, мужчины узнают слишком поздно. Лишь ступив на берег своего детства, Джованни понял, сколь бесповоротно застрял в этом капкане. И ощущение было куда хуже детского чувства беспомощности. Ненужность – вот что он чувствовал, и не только как кормилец и глава семьи. Никчемность всего опыта, что приобрел он в Германии.
– Слышишь, как пахнет тимьян, Джованни?
Воздух зимней Салины – это соленый запах взбитого в пену моря, смешанный с ароматом трав, целебная сила которых известна только древним старухам. А еще – плесневелый запашок глинобитных домишек, скособочившихся в гулкой тишине давно обезлюдевших переулков.
Жители деревни высыпали встречать семейство Маркони. Стоял солнечный декабрьский день, перед баром на площади старики пили кофе и играли в карты. Ветер трепал белье, развешанное на веревках между домами, в запущенных дворах шныряли тощие кошки, то там, то здесь на заколоченных окнах мелькали вывески: Vendesi[108].
– Здесь тебе обязательно полегчает, – сказала Мария Кончетте.
Розария молчала.
Все понимали, что Кончетта не сможет долго одна оставаться в Милане. Да и Энцо не в состоянии оплачивать две квартиры. Самое подходящее место для Кончетты – дом Марии, которая готова принять кузину. Им будет хорошо вместе, двум вдовам, чьи дети подались на заработки на север.
За ужином на террасе под старыми оливами Розария неожиданно объявила:
– Джованни, я остаюсь здесь.
– Да, да, я тоже думаю так каждый раз, когда возвращаюсь в Италию, – отозвался Джованни, не воспринявший ее слова всерьез.
– Здесь хорошая еда, – сказала Мария.
– Хорошая еда есть и в Германии.
Никто так и не поинтересовался, как там его магазин.
– Дело не только в еде, Джованни, – сказала Розария. – И не в холоде. Здесь другие люди.
– Немцы тоже хорошие люди, – возразил Джованни. – Только открываются не сразу.
– Возможно, но лишь по отношению к своим. Мы всегда будем там чужими.
– Тебе надо учить язык и выходить на люди, как Джульетта…
– Кто мы для них? Гастарбайтеры! Если я приглашаю к себе гостя, то не заставляю его работать. Я даже не знаю, как зовут наших соседей, можете себе это представить?
Мария покачала головой. Розария принялась расстегивать платье, чтобы покормить Мариэтту.
– Я хочу, чтобы мою дочь уважали в школе, а не так, как с Винченцо.
– С Винченцо особый случай, – заметил Джованни.
– Ты же обещал, что мы вернемся, что построим дом.
– Непременно. Но позже. Где взять денег на дом?
– Но дом уже есть, Джованни, и он достаточно большой. Нужно разве чуть его подновить.
Мать кивнула:
– Конечно, когда-нибудь этот дом станет твоим.
– Но ты же сама хотела отсюда уехать! – воскликнул Джованни.
– Ты обещал нам дворец. А куда привез?
Разговор подошел к опасной черте.
– Как, скажи на милость, я смогу зарабатывать в этой дыре? – вскричал Джованни. – Здесь же нет работы!
– Джованни, – строго заметила мать Розарии, – поля твоего отца ждут тебя. Это плодородная земля.
– Но это не наша земля.
– Так купи ее, дорого не запросят. Ты же богач.
– Но я не крестьянин! – Тут Джованни разозлился не на шутку. – Я торговец.
Последний аргумент повис в воздухе. Здесь не имело значения, кто ты. Человек брался за ту работу, какая имелась.
– Тогда возвращайся в Германию один, – сказала Розария. – Мы с малышкой остаемся здесь.
– Ты шутишь?
Она встала и принялась убирать посуду. Ветер шелестел серебристыми листьями оливы. «Некоторые люди как деревья, – подумал Джованни. – Их питают только корни».
Позже он позвонил сестре из бара на площади, но Джульетты не оказалось дома. К телефону подошел Винченцо.
– Где мать? – спросил Джованни.
– В церкви, с Энцо.
– А ты почему не там?
– Смотрю телевизор.
– На Рождество?
– Ты ничего не понимаешь, дядя Джованни. «Аполлон-8»! Американцы высадились на Луне! Неужели на вашем острове нет ни одного телевизора?
– Да ты что, сегодня?
– Прямо сейчас. Прямая трансляция из космоса.
Джованни кивнул бармену:
– Включи-ка телевизор. И еще жетонов, пожалуйста.
Джованни вытащил тысячную купюру, потому что жетоны сыпались в автомат как песок. Бармен включил старый телевизор, который стоял в углу на вязаном покрывале с изображением Девы Марии. Послышался шум – больше ничего.
– Ну что, дядя Джованни, видишь? – кричал в трубку Винченцо.
– Нет, – отвечал Джованни. – Что ты копаешься с этой рухлядью? – разозлился он, глядя, как бармен отчаянно пытается отрегулировать изображение. – Ему давно место на помойке.
– В Мессине буря, – буркнул хозяин бара. – Сигнал идет оттуда.
– Черт… – выругался Джованни в трубку. – И что, они действительно высадились на Луне?
– Нет, Джованни, пока нет… Они облетели вокруг, чтобы сфотографировать ее обратную сторону.
– Обратную сторону? Да ты что!.. И… как это выглядит? Там красиво?
– Пустыня. Серая пустыня.
– Мадонна… Но ведь Луна белая.
– Что он говорит? – спросил бармен и тоже припал к трубке.
– Тсс…
– Он смотрит… нет, это невероятно…
– Что они делают?
– Они фотографируют Землю, – ответил Винченцо. – Оттуда это…
– Нашу Землю? С Луны?
– Да.
– И как это выглядит?
– Шарик… А вокруг все черное.
– Какого она цвета?
– Я не знаю, телевизор черно-белый.
– Зеленая, – подсказал бармен. – Как леса.
– Нет, она голубая, как море. Ты когда-нибудь видел глобус?
– Что-что?
Джованни был в отчаянии: американцы уже на Луне, а он все торчит в этой дыре.
Но первые в истории человечества кадры с видами Земли из космоса были не единственным, что пропустил в тот вечер Джованни. Уже после того, как кончились жетоны, астронавты читали в эфире начальные строки Книги Бытия: «…да будет Свет – и стал Свет…» А потом Винченцо услышал стук в дверь. Джованни в это время стоял в церкви, в толпе старух, чей неумолчный кашель перебивал хрипы не менее простуженного священника. О том, что в тот момент происходило в Мюнхене, Джованни узнал много позже.
Итак, Винченцо поднялся с потрепанного дивана. Взрослых никого, компанию ему составляла малышка, давно почитавшая его за лучшего друга. Поначалу Винченцо подумал, что это родители вернулись из церкви, но за дверью стоял незнакомый мужчина. Немец в синем пальто, явно дорогом, поверх серого костюма, в шляпе и дорогих ботинках. На вид ему было около сорока; высокий лоб, голубые глаза. Под мышкой он держал два пакета, большой и поменьше. Очевидно, с подарками.
– Добрый день.
Лица как окна, бывают закрытые и открытые. Лицо незнакомца было нараспашку, и в этом он сильно не походил на других немцев.
– Мама дома?
Где-то Винченцо уже слышал этот голос.
– Нет.
– Когда вернется?
Винченцо пожал плечами.
Мужчина с опаской заглянул в квартиру. Потом посмотрел на юношу – пристально и будто пристыженно, так что тому стало не по себе.
– А ты, должно быть, Винченцо?
Винченцо кивнул.
– Можешь передать ей кое-что?
Мужчина протянул Винченцо маленький пакет, в котором оказался зеленый конверт, перевязанный золотой лентой.
– А это для тебя…
За маленьким пакетом последовал большой. Винченцо смутился.
– Бери, бери… – широко улыбнулся незнакомец. – Счастливого Рождества.
Он прикоснулся к шляпе и начал спускаться с лестницы. Площадкой ниже он оглянулся на Винченцо, который продолжал стоять в дверях. Улыбки на лице незнакомца уже не было, только грусть.
Винченцо положил пакеты на диван и отвел руку малышки, в нетерпении дергавшей золотой бант. Внутри большого пакета явно было нечто интересное. И значительное, на что явно указывала его величина. Поначалу Винченцо решил не открывать свой подарок до прихода матери, но любопытство пересилило. Мальчик попытался заглянуть под оберточную бумагу – и не удержался, сорвал ее.
Внутри был «Автодром» – мечта его миланского детства. Родители дарили Винченцо исключительно практичные вещи – носки, школьный ранец или зимние ботинки. А этот подарок был нереален и совершенно незаслужен. В коробке обнаружились белый «порше» и красный «феррари», Винче видел такие по телевизору. Модели воспроизводили оригиналы до мельчайших деталей. К машинам прилагался трансформатор, регулятор скоростей и множество прямых и изогнутых пластин, из которых можно было сконструировать модели известных гоночных трасс – Монцы, Сильверстоуна, Хоккенхайма.
Когда родители появились на пороге комнаты, Винченцо и ХП сидели на полу. Они соорудили автобан посреди гостиной и устроили гонки. Винченцо, разумеется, в красном «феррари». Джульетта и Энцо подумали было, что это ХП принес «Автодром». Но тут Винченцо показал матери другой подарок, который так и лежал нераспечатанный в зеленом конверте.
– От кого это?
– Я не знаю… какой-то немец. Он сказал, что это подарки к Рождеству.
Родители переглянулись, Энцо пожал плечами. Джульетта открыла конверт и побледнела.
– Что там такое? – спросил Энцо.
– Где ты с ним встретился? – набросилась на сына Джульетта.
У Винченцо возникло чувство, будто он совершил какую-то серьезную оплошность.
– Здесь, он сам пришел. Кто он такой?
Мать будто испугалась. Отца – как показалось Винченцо. Но Энцо стоял неподвижно.
– Это мой клиент, – торопливо объяснила Джульетта. – Просил сшить ему кое-что на лето, но я отказала.
Энцо не реагировал.
– Упакуй как было, – велела Джульетта сыну. – Мы отнесем все обратно.
– Но, мама…
– Немедленно, я сказала!
Винченцо подчинился.
– Что происходит? – спросил Энцо.
– «Что происходит, что происходит…» – передразнила мужа Джульетта. – Ты, кажется, собирался начать все сначала, не так ли?
Небо густо сыпало белыми хлопьями, когда Джульетта в красном пальто, обмотанная шарфом, ждала трамвай на остановке. Оба пакета были при ней. Уже стемнело, она дрожала от холода, но сердце ее дрожало еще сильнее. К месту встречи Джульетта прибыла на десять минут раньше назначенного времени, решив ни под каким видом не садиться в его ИЗО, которую узнала по гулу мотора. Немецкие автомобили не издают таких звуков. Винсент остановился возле тротуара и открыл дверцу со стороны пассажирского сиденья. Джульетта не двинулась с места.
– Ты садишься?
Зимой Винсент выглядел иначе – старше, серьезнее. До сих пор Джульетта видела его только летом. В сущности, она ничего о нем не знала, за исключением одного коротенького эпизода из его жизни. Но откуда, в таком случае, возникло это чувство, будто он всегда был ее частью? Словно, встретив его, она обрела потерянную половину себя?
Джульетта положила «Автодром» на заднее сиденье, а сверху конверт с билетами в оперу. Винсент пригласил ее не в мюнхенский театр, а в венецианский театр «Ла Фениче»… Совершенно невозможно.
– Спасибо за подарки.
Она собиралась уйти сразу. Не разговаривать с ним. Не отвечать на вопросы.
– Джульетта. Сядь в машину, холодно же.
Она захлопнула дверцу и двинулась прочь. Автомобиль медленно ехал рядом, Винсент опустил стекло.
– Прошу тебя, Джульетта. Все, чего я хочу, – поднять тебе настроение.
Она остановилась. Он открыл дверцу, она не села.
– У тебя семья, зачем ты меня преследуешь?
– Ты получила мои письма?
Это прозвучало с обидой, и Джульетта ощутила укол вины. Коротко оглядевшись, она опустилась на сиденье. Внутри было тепло и тихо. Никаких звуков, кроме гула мотора и тиканья аварийной сигнализации. Салон равномерно вибрировал.
– Так ты их читала? – громче спросил Винсент.
Ясный взгляд, изящная линия рта – все, во что она влюбилась, было при нем. И главное – это его вечное стремление все расставить по местам. Представить невозможно, чтобы этот человек когда-нибудь что-нибудь сделал не так.
– Винсент, у тебя своя жизнь, у меня своя.
– Почему ты мне не ответила?
Винсент был не из тех, кто так просто отступает. Ох уж эта немецкая привычка во всем разобраться до конца, даже если это не имеет никакого смысла… Джульетта собиралась промолчать, но слова вырвались сами собой:
– Я прочитала их все, Винсент, но чего ты он меня хочешь? Все решено.
Он взял ее за руку, и Джульетта узнала прикосновение теплой ладони. Она хотела высвободиться – не получилось. Винсент притянул ее к себе, поцеловал в щеку. Знакомый запах.
Винсент поцеловал ее раз, потом еще… Осторожней, чем тогда, но с той же нежностью.
– Не надо, – сказала Джульетта.
Он вдохнул запах ее волос. Все было как прежде, будто они вчера расстались. За окнами не существовало ничего, кроме снега. В машине, словно внутри снежного кокона, плыли воспоминания о жарком лете, сухой траве и накрахмаленных простынях в маленьком миланском отеле.
– Зачем ты приехала в Мюнхен?
– У тебя семья, Винсент…
– А я все время думал, неужели я в тебе обманулся?.. Как ты могла оборвать все, как будто ничего не было? Я пытался забыть тебя, я пытался, но…
Джульетта смотрела на свои колени.
– Al cuore non si comanda.
– Что это значит?
– Сердцу не прикажешь.
Винсент понял, что его чувство не безответно. И она захотела, чтобы он это знал. Он крепче сжал ее руку.
– Слишком поздно, Винсент.
– Но мы не можем и дальше делать вид, будто ничего нет.
Джульетта почувствовала себя загнанной в угол. Ну почему он всегда прав? Это сводило ее с ума, ведь на самом деле Винсент ничего не понимал.
– Ты любишь мужа?
– Это не из-за Энцо!
– Тогда почему?
Джульетта поняла, что сказала слишком много. Инстинктивно потянулась к ручке дверцы. Винсент перехватил ее пальцы.
– Из-за Винченцо? Но он поймет, он достаточно взрослый. Посмотри на меня, Джульетта.
Она попыталась. Не моргая. Она надеялась, что Винсент ни о чем больше не станет ее спрашивать, видела, каким усилием дается ему каждое слово.
– Мне пора.
– Но ведь… Винченцо наш сын, да? Скажи мне правду, Джульетта.
Она хотела качнуть головой, но мышцы словно парализовало. Тогда она попыталась отвернуться, но Винсент взял ее голову в ладони и заглянул в глаза. Джульетте не оставалось ничего, только ответить на его взгляд. Он отпускал ее постепенно, по мере того, как постигал ее ответ. Но и когда Винсент опустил руки, Джульетта не шевельнулась. Лишь глаза ее набухли слезами.
Ее захлестнуло беспросветное отчаяние. Раздавленная, не помня себя от стыда и чувства вины, Джульетта наконец нащупала ручку дверцы и шагнула наружу. А потом, как слепая, побежала через улицу. Вокруг визжали тормоза, сигналили машины. Джульетта остановилась и снова рванулась с места – прямо наперерез автобусу. Винсент кинулся за ней. Автобус остановился. Джульетта постучала в окно, и водитель открыл дверь. Подбежавшего Винсента окатило грязной водой.
– Джульетта…
Он бежал за автобусом, в заднем окне которого бледным пятном маячило ее лицо, пока не выдохся. Он остановился посреди улицы – темная тень на фоне падающего снега. И постепенно растворился в этой всепоглощающей белизне.
Джульетта вернулась домой насквозь продрогшая. Винченцо, лежа на диване под тусклой лампой, что-то царапал в тетради по немецкому языку. Скинув на пол мокрое пальто, она подбежала к сыну и обняла его столь порывисто, что мальчик испугался.
– Я люблю тебя, Винченцо… – шептала Джульетта. – Больше всех на свете… ты знаешь?
– Я тебя тоже, – ошарашенно пролепетал он. – Что случилось?
С ее волос капала вода. Шарф пропитался как губка. Джульетта разрыдалась, еще крепче прижала к себе сына. Винченцо осторожно отстранился, опасаясь причинить ей боль.
– Мама, кто был этот человек? – спросил он.
– Так… один знакомый… Это было еще до твоего рождения.
Она ждала его реакции, но Винченцо лишь растерянно смотрел на нее.
– Но мой муж – Энцо… – пробормотала Джульетта. – Он хороший отец… правда?
– Да…
Сзади скрипнула половица. Джульетта притиснула к себе мальчика, будто так надеясь остановить готовую обрушиться на нее лавину.
Глава 33
Джованни захлопнул фотоальбом. Неапольская бухта в лучах закатного солнца выглядела фантастически. Между тем место Винченцо во главе стола на террасе оставалось свободным. Я устала его ждать. Захотелось уйти, побыть одной, собрать впечатления последних дней в более-менее связную картину. Жизнь дала трещину. Целостность моего «я» оказалась нарушена, потому что изначально была мнимой. Все летело к черту.
Мое сходство с Джульеттой поразило меня с самого начала. Но и итальянский мальчик из Хазенбергля обнаруживал на удивление много общего с девочкой, какой я себя помнила. Я ощущала в себе ту же бесприютность, при том что имела полноценный немецкий паспорт и немецкую мать. Я словно носила на себе невидимое клеймо чужака, свидетельство ущербности, не позволяющей мне стать членом какого бы то ни было общества.
Лишь годы спустя я научилась понимать свою отчужденность как проявление того, что можно назвать талантом. Поначалу я не видела ничего особенного в том, что рисовала одежду и сама шила для своих кукол. Меня скорее удивляло, что другие не занимаются этим. То, что это увлечение – часть моей идентичности, я узнала по реакции окружающих, и это открытие позволило мне увидеть свое место в мире и перестать бояться других. Платой за науку оказалось вечное отчуждение, отказ от того, к чему стремится каждый ребенок, – стать «своим».
До сих пор помню тот день, когда впервые показала маме Барби, которой сама сшила платье. Я долго копила карманные деньги, подбирала лоскуты и обрезки – все ради того, чтобы моя Барби отличалась от других. Но мама, долго не желавшая признавать в роскошной модели дело моих рук, заметила только что-то насчет пластикового американского китча, внушившего целому поколению ложное понятие о красоте. Короче говоря, моя Барби оказалась злом, а я сама – жертвой индустрии игрушек. А вовсе не юным художником, чей творческий импульс впервые нашел себя в адекватном воплощении.
Именно в тот день наша с мамой близость дала трещину, которую не удалось залатать по сей день. Но то, что когда-то казалось главной трагедией моей жизни, воспринимается сегодня как мое второе рождение, первое утверждение моей идентичности и разрыв духовной пуповины. Однако ощущение ущербности никуда не исчезло – я осознала это, уже когда мода стала моей профессией. Оно как бы переместилось на другой, более глубинный уровень, поскольку его источник до сих пор оставался от меня скрыт.
Что еще роднило меня с итальянским мальчиком из Хазенбергля, так это его непоседливость. Нечто подобное я с детства ощущала в себе, но связывала с хаотичным образом жизни матери. Теперь же я чувствовала, что внутреннее беспокойство, возникающее у меня от долгого сидения на одном месте или длительного общения с одним и тем же мужчиной, равно как и тяга к путешествиям и вечная неукорененность, каким-то непостижимым образом связаны именно с Винченцо. Как будто существуют некие подземные токи, соединяющие людей одного корня. Их различаешь инстинктивно, как запах, мелодию или тайный код, известный лишь посвященным. Это наследство, которое мы получаем, сами того не замечая, как гены или вирусы, – неуловимая для посторонних перекличка поколений.
И тут мы услышали, как открылась дверь и кто-то вошел в квартиру. Я обернулась, но зеркало в гостиной отражало только нас троих на террасе. Я выглядела потрепанной и уставшей. Потом за стеклом мелькнуло что-то светлое. Должно быть, Винченцо увидел меня до того, как я успела его заметить. Я была спокойна. Волнение давно уже улеглось. Так в какой-то неуловимый момент исчезает страх сцены, и дальше все идет будто само собой.
Винценчо вышел на террасу – и сразу состарился на несколько десятилетий. Во всяком случае, с мальчиком из рассказов Джованни этот мужчина не имел ничего общего. Туфли из дорогой кожи, рубашка под светлым блузоном наполовину расстегнута. Темные кудри, загорелое лицо с тонкими чертами и беспокойные глаза – один карий, другой серо-голубой, не знаешь, в который смотреть. Под мышкой зажат скомканный грязный комбинезон, какие носят автогонщики. Вблизи оказалось, что ткань пропитана кровью.
Заметив это, Кармела вскочила с места: что случилось? Винченцо ответил с явной неохотой, а Джованни мне перевел: машина перевернулась, пришлось ехать в больницу. Пустяки, всего лишь царапины. Джованни подошел к племяннику, осмотрел ссадины на руке. Я одна осталась сидеть. Винченцо избегал смотреть в мою сторону, хотя его волнение было очевидно. Так уж получилось, что в центре внимания оказался он, а не я. Я уже начинала чувствовать себя лишней, когда он вдруг обратился ко мне:
– Когда ты приехала?
Вопрос прозвучал на хорошем немецком.
– Сегодня утром.
На самом деле за этим «когда» стояло «зачем». Нас все еще не представили друг другу. К чему, если роли давно распределены. Вместе с тем решился вопрос вины, которого я больше всего опасалась. Ведь, признай он себя виноватым, я оказалась бы в положении жертвы, что мне нужно было меньше всего.
Только не это. Я хотела предстать перед ним взрослой независимой женщиной – полной противоположностью тому, что он во мне, судя по всему, видел. Тягостную паузу нарушила Кармела, предложив ему сесть. Он остался стоять. Джованни сказал что-то, я разобрала только имя Джульетты. Мое присутствие на террасе было невыносимо для Винченцо, я могла только догадываться, что творилось у него в душе.
Пауза затянулась до бесконечности. Никаких объятий, никаких приветствий – ничего. Я была непрошеным гостем, заявившимся к тому же не по своей воле. Последнее следовало подчеркнуть особо.
– Твой отец хочет тебя видеть, – сказала я и добавила, чтобы было ясно, который из двух: – Винсент.
– Что ему нужно?
– У него инфаркт, он в больнице. Положение критическое.
– И что?
Он дернул плечами. Его холодность обескуражила меня.
– Он хочет с тобой поговорить.
– Почему он сам не приехал ко мне?
– Он приехал ко мне.
– Вот как… – За этим уничижительно-саркастическим тоном крылась ревность.
– Он хочет тебя видеть, как можно скорее. У него мало времени.
– Мне не о чем с ним говорить.
Винченцо повернулся и ушел. Мы услышали, как щелкнул замок в ванной. Вот и встретилась с исчезнувшим папочкой. Кармела смотрела на меня виновато и дружелюбно, как будто говорила: «Он не такой, дай ему время». Но с меня было довольно. Я сняла жакет со стула, подхватила чемодан и вышла.
Джованни пытался меня остановить, но я уже выскочила на лестничную площадку. Они не должны видеть, как я разрыдаюсь, точно ребенок. Что именно стояло между Винченцо и его отцом, что заставило его отказаться от своей дочери – все это меня больше не интересовало. Я сдержала данное Винсенту обещание. В такси я впрыгнула, прежде чем Джованни успел схватить меня за руку. Велела таксисту ехать на вокзал – может, успею сесть на какой-нибудь поезд, идущий в сторону Мюнхена. И лишь тогда сообразила, что при мне ни цента.
Глава 34
Водитель вышвырнул меня из машины прямо посреди большой улицы. К счастью, я не поняла выразительной тирады, которой он сопроводил это. Иначе в ответ мне пришлось бы высказаться о его соотечественниках. Солнце садилось. Я стояла на разделительной полосе отвратительной портовой улицы. Мимо проносились автомобили. Вдали прозвучал корабельный гудок. Сразу за домами прожекторы посылали в небо гигантские снопы света.
И как добраться до дома? В моем чемоданчике на колесах не было ничего, кроме смены нижнего белья, джинсов, пары рубашек и косметички. Зазвонил мобильник – Джованни. Я проигнорировала вызов и зашагала в сторону моря.
На берегу дышалось легче. Темная вода плескала в каменную стену набережной. Вечерний воздух пах водорослями и машинным маслом. Я набрала номер Робина, но звонок перебросило на голосовую почту. Наверное, ужинает с итальянскими инвесторами.
«Привет, Робин, я в Неаполе. Ты оказался прав, идея была крайне неудачной. Я возвращаюсь, но денег на билет у меня нет. Позвони мне, пожалуйста. Спасибо, чао».
Об итальянском холдинге я не упомянула. Да и что я могла сказать? Я стояла на берегу Средиземного моря, и моя жизнь лежала в руинах.
– Oh, signorina! Americana?
Я вздрогнула. Из темноты скалилась пьяная рожа.
– Dove va?[109]
Инстинктивно сунув мобильник в карман, я быстро пошла прочь. Пьянчуга увязался следом. Я побежала. Его слова летели мне в спину комьями грязи. Только на улице мне удалось оторваться: такие типы не выносят яркого света.
Трасса стояла. Мотороллеры, автомобили, – похоже, вся Италия ездит в маленьких, помятых легковушках. И сегодня они так и заночуют в пробке. После неприятной встречи я избегала неосвещенных мест.
Робин не отзывался. Мне уже было подумалось, что ему на руку мое отсутствие и что теперь он может распоряжаться нашей компанией в одиночку. Но я тут же отогнала эту мысль: мы ведь равноправные партнеры. Он нужен мне так же, как и я ему. Ожидание звонка затягивалось. И я позвонила единственному человеку, на которого всегда могла положиться, независимо от того, в ссоре мы или нет, – матери.
– Где ты, мое сокровище?
– Ты была права, у меня ничего с ним не получилось.
– Что произошло?
– Ничего. Совсем ничего. Можешь прислать мне денег?
Она бы с радостью примчалась сама, чтобы спасти свое дитя. К счастью, мне удалось удержать ее от этого порыва. Она обещала перезвонить мне, как только погуглит, как лучше всего перевести деньги. А мне нужно было продержаться до утра, пока не откроются банки. Можно посидеть на вокзале или просто бродить по городу, чтобы не уснуть.
– Спасибо, мама.
– Всегда к твоим услугам.
Последняя фраза тронула меня до слез, и я тут же возненавидела себя за это. Глядя в черное небо над черным же морем, я почувствовала себя как никогда одинокой. Люди заводят семью, только бы заглушить в себе этот голос одиночества. Быть может, это самое экзистенциальное из всех состояний. И никто – сколько бы детей, жен и родителей человек ни имел – не может отрицать того, что, в сущности, всегда был одинок.
В ярко освещенном баре на углу надрывался телевизор. Футбол. Улицу огласил боевой клич, но пьяных не было видно. Джованни окликнул меня в тот момент, когда я собиралась войти в бар.
Он весь взмок, дышал тяжело. Еще бы, рыскать по городу столько часов подряд! Джованни схватил меня за руку, будто боялся, что я убегу, не позволив ему тем самым выполнить долг семейного миротворца. Я рванулась. После недолгой перебранки выяснилось, что оба мы считаем Винченцо deficiente[110]. Слова этого я не знала, но догадаться было нетрудно.
– Так ты пойдешь со мной? Я поговорю с ним.
– И что ты ему скажешь? Здесь не о чем говорить, ты сам видел.
– Только не надо делать такое обиженное лицо. Можешь дать ему хоть немного времени?
– Джованни, я и вправду благодарна тебе за все, но мне пора возвращаться.
Он молчал. Само его молчание было красноречивее любых слов. Наконец он заговорил:
– Тебе нужны деньги. Поездов на Мюнхен сегодня больше не будет, придется снять номер в отеле.
Он полез за бумажником. Деньги его мне были не нужны. Ни при каких обстоятельствах я не желала быть хоть чем-то обязанной этой семье.
– Я выкручусь. Ciao, Джованни.
У него зазвонил мобильник. Джованни вытащил его из кармана брюк, и глаза его блеснули.
– Винченцо!
Он протянул мне трубку. Я покачала головой. Джованни сказал, что нашел меня и что Винченцо должен передо мной извиниться. Потом прижал телефон к моему уху.
– Джулия! – Голос Винченцо звучал озабоченно. – Джулия? (Я молчала.) Мне жаль, что все так получилось. (Я молчала.) Это старая история, ты здесь ни при чем. (Джованни сунул мобильник мне в руку. Я взяла, только чтобы от него отвязаться.) Я все объясню, только ты вернись, пожалуйста.
Я дала отбой. Лицо Джованни огорченно вытянулось.
– Ты не можешь так поступить с отцом.
– Прекрати. Ты дашь ему телефон Винсента, и пусть разбираются сами.
Я вытащила свой мобильник.
– Винченцо, конечно, человек непростой, но ведь и ты, скажем прямо, не подарок. – Джованни улыбнулся. – Быть может, он и не лучший папа на свете, но ведь другого у тебя нет. – И снова ехидная ухмылка.
– Вот номер, записывай.
Джованни взял у меня мобильник.
– У тебя ведь когда-нибудь тоже будут дети. Что ты им скажешь, когда они спросят тебя о дедушке? Давай поезжай с ним в Мюнхен, всего-то несколько часов вместе, а потом ciao e via…[111] Что ты теряешь, в конце концов? Или вдруг заговорила фамильная сицилийская гордость?
Четыре огня – словно глаза вдруг пробудившегося животного. Оно урчало, хрипело и вибрировало, прежде чем послать в мою сторону конусы слепящих лучей. Я отошла на обочину. Винченцо лавировал на дорожке, выруливая из подземного гаража. Глядя на него, становилось ясно, что он всю жизнь провел за рулем. Когда Винченцо стянул с рук перфорированные перчатки, мне невольно вспомнился его отец.
– Che bella macchina…[112] – восхищенно присвистнул Джованни.
Этот автомобиль не принадлежал нашей эпохе. Каждым чувственным изгибом он излучал нечто, окончательно утраченное в эпоху глобализации, – характер. Никакого компромисса, ни малейшей уступки массовому вкусу. Владелец такого автомобиля представлялся мне человеком из семидесятых – рыжие баки, сигара и пергидрольная блондинка на пассажирском сиденье. Сегодня такую машину может водить либо богатенький пижон, либо человек с обостренным чувством стиля, не вписавшийся в современность.
– «Альфа-ромео-монреаль»… настоящий зверь. Ты только послушай…
По правде сказать, мотор заботил меня в последнюю очередь. Меня пугала собственная храбрость. Винченцо взял у меня чемодан и положил в багажник рядом со своей кожаной сумкой. Придержал дверцу со стороны пассажира. В салоне пахло кожей, табаком и бензином. Я увидела множество блестящих стальных ручек, черных тумблеров и кассетную магнитолу. Такими представляли автомобили будущего в те времена, когда в это будущее еще верили. Винченцо простился с Кармелой. В коротком обмене репликами прозвучало мое имя.
Я достала мобильник и позвонила в Германию. Клара, дочь Винсента, взяла трубку. Я сказала ей, что мы выезжаем.
– Положение критическое, – предупредила она.
– Что случилось?
– Он все еще в сознании, но…
– Передайте ему, что мы будем через двенадцать часов.
– Уже передала. Поторопитесь.
Джованни открыл дверцу, с заговорщицким видом сунул мне какой-то пакет. Нечто завернутое в немецкие газеты.
– Вот что я нашел… Проглядишь по дороге, va bene? Ciao. И будь настороже, водитель он так себе.
Последнюю фразу Джованни произнес громко, чтобы Винченцо услышал, его круглые глаза так и сияли. Я положила пакет рядом с сиденьем и пожала Джованни руку:
– Спасибо, Джованни.
Он осторожно захлопнул дверцу.
Винченцо бросил на приборную панель солнечные очки и пачку сигарет.
– Послушай, – сказал он, – нам необязательно быть друзьями, но…
Он покосился на меня, повернул ключ зажигания и точными, выверенными движениями вывел машину на дорогу.
Время заполночь, около половины второго. Жизнь на улицах не замерла, хотя стало и потише. Пробок, во всяком случае, не было. Ночной Неаполь выглядел призрачным городом. Мы почти не разговаривали. Это не было проявлением недружелюбия, просто каждый думал о своем. Винченцо сосредоточенно смотрел на дорогу. Я открыла окно и наслаждалась ночной прохладой.
– Сколько ему сейчас лет? – неожиданно спросил Винченцо.
– Не знаю. Восемьдесят или больше.
Он вырулил на шоссе. Я вспомнила про пакет и открыла. Между газет обнаружилась толстая серая тетрадь. Картонный переплет оформлен в минималистском стиле шестидесятых. Прямоугольное окошечко для имени владельца пустовало. Я неуверенно открыла первую страницу. На самом ее верху, слева, тонкими синими чернилами было выведено: «Джульетта Маркони». Почерк женский – изящный и четкий, буковка к буковке. Так пишут люди, специально упражнявшиеся в чистописании. Я перелистнула. Первая запись была датирована тридцатым декабря шестьдесят восьмого года.
– Что это? – спросил Винченцо.
– Дневник Джульетты.
Он притормозил, машина вильнула к обочине и остановилась. Винченцо в недоумении смотрел на тетрадь. Потом взял ее у меня из рук и пролистал. Он явно не верил своим глазам. Записи перемежались эскизами одежды, сделанными цветными карандашами. Стиль поздних шестидесятых – начала семидесятых.
– Откуда у тебя это?
– От Джованни.
– А у него откуда?
– Не знаю.
Джульетта вела дневник по-немецки. Разумеется, чтобы Энцо не смог прочитать.
Винченцо сунул тетрадь в карман кожаной куртки и нажал на газ.
– Эй! – возмутилась я. – Джованни дал ее мне.
– Разве она принадлежит ему?
– Верни немедленно!
Винченцо молча вел машину по бетонному лабиринту туннелей, мимо мелькавших в просветах уродливых многоэтажек и рекламных щитов. Наконец вытащил тетрадь и протянул мне:
– Ладно, она ничья.
Мне показалось, что лицо его омрачилось. Машина вывернула на автостраду Дель-Соле, ведущую в Рим. Я положила тетрадь на колени и открыла первую страницу.
Глава 35
Родина – это человек, сущность которого мы воспринимаем и постигаем.
Макс ФришДжульетта
30 декабря 1968
После поцелуя все изменилось. В-т хочет меня видеть. Желает знать все о своем сыне. Как долго я еще смогу удерживать их на расстоянии друг от друга? Э. не простит меня. В. тоже. Я чувствую себя предательницей.
14 января 1969
Его письма становятся все более агрессивными, звонки – более частыми. Даже в присутствии Э., как сейчас. Я повесила трубку, солгала. Я лгу В. и не знаю, сколько еще лжи может выдержать человек, чтобы не утонуть в ней. Особенно сейчас, когда Э. и В. начинают медленно прозревать.
Вчера они вместе ремонтировали велосипед – трогательная картина. Любая мать радовалась бы, глядя на такое. Но мое сердце болезненно сжималось. От стыда, наверное.
19 февраля 1969
Я должна с ним встретиться. Если он расскажет Э. или В., моя жизнь разрушена.
Обрывки мыслей, моментальные снимки переживаний – из всего этого мне предстояло воссоздать картину событий. Записи Джульетты были чем угодно, только не связным повествованием. А безупречный немецкий и каллиграфический почерк были не чем иным, как попыткой обрести хоть какую-то опору – в правильной форме, коль скоро того не позволяло сделать разорванное, продиктованное страхом и отчаянием содержание.
Ее не пугало, что она полюбила не того человека. Джульетта винила себя за то, что разлучила отца с сыном. Она готовила, гладила и шила, как будто ничего не происходило. Первой забирала письма из почтового ящика, первой подходила к телефону. Если звонил Винсент, тут же клала трубку и объявляла, что ошиблись номером.
Джульетта убеждала себя, что это ложь во спасение, пока не поняла, что обманывается. Рано или поздно Винсент прорвется к сыну, она не сможет оберегать их друг от друга до бесконечности. И это подтолкнуло ее к встрече с ним.
И вот настал тот ветреный мартовский день, когда она, пока Энцо работал на рынке, села на трамвай и отправилась на другой конец города, где ее никто не знал. В вагоне Джульетту отчаянно трясло, хотя она и сидела рядом с батареей. Промозглый холод этой зимы, которая никак не желала кончаться, пробирался через подошвы. Потому что чем больше Джульетта заботилась об одежде, тем меньше оставалось денег на добротную обувь.
Вплоть до Рождества Джульетта собиралась купить себе пару зимних сапог, а потом решила, что зима и так скоро закончится и вполне можно доходить в легкой демисезонной обувке. И такое повторялось из года в год. Рано или поздно весна, конечно, наступала. Джульетта знала, что и этот год не станет исключением, хотя ожидание затянулось.
Выходя на остановке, она поймала себя на том, что бормочет «Отче наш». «И прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим…» Сколько раз она нараспев повторяла эти слова вместе с другими прихожанами маленькой, вечно битком набитой церкви. Она ничего не забыла – ни женщин в перчатках и зимних пальто, ни опущенных глаз, ни дыхания, вырывающегося паром. Ни – тем более – материнского голоса и пристального взгляда – сверху вниз – на них с Джованни. Мать следила, чтобы они отчетливо произносили каждое слово. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе…» Мы – ничто, грешники, и хлеб наш насущный – милостыня.
«Как и мы прощаем должникам нашим…»
Уже тогда Джульетта думала, сможет ли когда-нибудь простить людей, убивших ее отца. И если нет, как тогда Бог простит ей ее грехи или то, что она в то время считала грехами, – вранье и невымытые перед сном ноги. И запретные желания, те самые, что выводили ее за рамки материнского «мы» – тесного, словно церквушка, в которой эти «мы» молились. Джульетта думала, что навсегда оставила прошлое в прошлом. Но сейчас она чувствовала его точно саднящее клеймо, которое ей суждено носить всю жизнь.
Место встречи выбрал Винсент. Телевышка – самое высокое и современное здание в городе. Довольно популярное, но для Джульетты риск встретить здесь кого-нибудь из знакомых был минимален. Гастарбайтеры сюда не ходили, хотя именно они возвели этот устремленный в небо гигантский карандаш, у подножия которого у Джульетты закружилась голова.
Строение заметно контрастировало с бюргерским духом баварской столицы. Здесь, на насыпных холмах Обервизенфельда, на развалинах последней войны, пройдут Олимпийские игры, покажут миру новое лицо Германии.
В лифте – новом, только что открытом – Джульетта была одна. Она вспоминала свой первый день в Мюнхене, как они с Розарией поднимались по лестнице на восьмой этаж высотки для мигрантов в Хазенбергле. Этот лифт в считаные секунды катапультировал ее вверх на сотни метров. И даже голова не закружилась, разве что в желудке сделалось щекотно. Джульетте невольно вспомнилась немецкая поговорка о сердце, соскользнувшем в штаны. В ее родном языке сердце в таких случаях подскакивало к горлу, и это лучше соответствовало тому, что на самом деле она сейчас чувствовала. Почему у немцев от страха оно устремлялось в противоположном направлении, было загадкой.
Винсент стоял у окна смотровой площадки, сунув руки в карманы пальто, рядом с подзорной трубой, приводимой в действие монетой в пятьдесят пфеннигов. При виде его четкого профиля Джульетта затрепетала. На мгновенье ей показалось, что любовь того жаркого миланского лета жива, но иллюзия длилась недолго. Стоило Винсенту повернуться – и его лицо поразило ее своей холодностью. Он был как скала, даже не поздоровался. Джульетта невольно отпрянула от окна, ей почудилось, что она летит в пропасть.
Она ожидала чего угодно – что он призовет ее к ответу, обольет презрением с превосходством человека, сумевшего навести порядок в своей жизни. Чего она ни в коей мере не предвидела, так это бесчувственности. Голубые глаза, некогда ласковые, обратились в две ледышки. Джульетте даже почудилось, что их давнишний роман был не более чем ее грезой, глупой сказкой, которую навоображала себе наивная девчонка.
– Здравствуй, Винсент.
– Фотографии при тебе?
– Винсент, мне жаль…
Она пыталась разглядеть в его глазах хоть какой-то намек на былые чувства.
– Как ты могла?
– Прошу тебя, Винсент, я не имела такого намерения…
– Имела.
– Но я не хотела лишать тебя…
– Ты отняла у меня сына.
– У меня в мыслях не было причинить кому-либо боль.
– Тем не менее причинила.
– Я боялась.
– Меня? Германии? Я дал бы вам все… Тебе и… Винченцо… – Голос Винсента дрогнул. – Дом, будущее…
– Мне не хватило мужества, Винсент. – Она опустила глаза, чтобы не встречаться с ним взглядом. – Я – не ты.
Он молчал. За окном вдали можно было даже разглядеть Альпы, но Джульетта не смотрела в ту сторону.
– Я часто думала о тебе, Винсент, даже по ночам, рядом с Энцо… Я никогда тебя не забывала. Ты не представляешь себе, какой одинокой можно быть в браке.
Он молчал.
– Винченцо ничего не должен знать, Энцо тоже… Пожалуйста, Винсент… Семья – все, что у меня есть.
– Ясность в отношениях – вот что мне нужно. Так будет лучше для всех, включая мою семью.
Джульетта была обескуражена, хотя и почувствовала облегчение.
– Но при одном условии: я хочу, чтобы он учился в гимназии, чтобы поступил в университет. Он должен получить хорошее образование.
– Но, Винсент, мы же…
– Ты можешь отнять у него отца, но не будущее. В школе для мигрантов у него нет никаких шансов. Он должен учиться в гимназии.
– Он учился в гимназии в Милане. Здесь ему сначала надо выучить немецкий, а это нелегко. У Винченцо хорошие способности к математике и физике, но языки даются ему тяжело.
– Найми частного учителя, я оплачу.
– Нет, я не возьму от тебя ни пфеннига.
– Это не для тебя, для сына. – Винсент был непреклонен. – И еще я хочу видеть его фото. Регулярно, иначе все ему расскажу.
Джульетта поразилась его настойчивости, она оказалась не готова к торгу. У нее не было другого выхода, кроме как принять условия. При том что она совершенно не представляла себе, как объяснит Энцо, каким образом вдруг появились деньги на домашнего учителя.
Джульетта чувствовала себя совершенно беспомощной. Откуда такая жестокость? Ведь Винсент, как бы странно это ни звучало, все это время оставался ее мужем. Отцом ее ребенка.
«Включая мою семью…» Эти слова преследовали ее всю обратную дорогу, Джульетта не замечала, что вымокла до нитки. «Моя семья». А ведь под этими словами Винсент мог бы иметь в виду ее, Винченцо… и даже Джованни.
Глава 36
16 апреля 1969
Винченцо не понимает, почему его жизнь вдруг так изменилась. Я лгу ему, мужу, брату. И делаю это не ради Винсента, а ради Винченцо.
Книги, книги повсюду – от пола до потолка. Никогда еще Джульетте не приходилось видеть ничего подобного. Прямыми рядами, как оловянные солдатики, выстроились они в книжном шкафу во всю стену. «В этой квартире не нужны обои, – подумалось ей. – Книги – весь ее интерьер». Под ковром поскрипывал паркет, мягко пробили напольные часы, когда Джульетта с Винченцо ступили в кабинет господина Гримма. Это был приветливый старик с окладистой белой бородой, живыми глазами и крепким рукопожатием.
– Здравствуй, Винченцо.
Его голос вселял покой, вызывал доверие, но Винченцо смотрел на господина Гримма скептически. Лишь настойчивость матери заставила его переступить порог этой квартиры. Здесь была настоящая Германия, не то что в лавке дяди Джованни. Все дышало духом немецкой культуры. На фортепиано, прикрытом вязаной салфеткой, стоял бюст Бетховена. Обстановка вовсе не была роскошной, но в ней чувствовалось благородство, какое придает дому причастность его хозяина к науке.
Гримм всю жизнь преподавал в гимназии – немецкий, греческий, латынь, – но уже не один год был на пенсии. Когда Винсент беженцем прибыл в Мюнхен, Гримм с женой пустили его на постой, а со временем заменили родителей.
Хозяин предложил гостям сесть и сразу перешел к делу. Школа в Хазенбергле – позор отечественного образования. Они все еще полагают возможным насильно вбивать знания детям в головы. Едва ли не палками. Но учение должно приносить радость. Non scholae, sed vitae discimus![113]
Винченцо был не особенно силен в латыни. Гримм приветливо улыбнулся:
– К сожалению, я не знаю итальянского, хотя, конечно, бывал в Риме. Но, думаю, мы поймем друг друга.
Джульетта надеялась на это. А что ей еще оставалось? У нее не было выбора. Винченцо сохранял бесстрастность. Он не хотел выглядеть бедным родственником, выказывать благодарность за помощь, в которой не нуждался бы у себя на родине. Но Джульетта видела, что Гримм ему понравился. Иначе мальчик ушел бы сразу.
Гримм поднялся и достал с полки книгу, «Итальянское путешествие» Гёте. Джульетта не знала о ней. Оказывается, великий немец был еще и поклонником Италии.
– Корни европейской культуры в Средиземноморье, – сказал Гримм. – Ее создали древние афиняне и римляне… твои далекие предки. Думаю, у нас гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд.
В следующий раз Джульетта проводила сына только до двери, а потом вернулась домой ждать его возвращения. Винченцо каждый раз приносил с занятий новую книгу. Готовя ужин, Джульетта донимала сына расспросами. Что говорил Гримм? Какие новые слова выучил Винченцо? Понравился ли ему урок?
За порогом квартиры Гримма был другой мир, куда Джульетте доступа не было. И задача Винченцо выведать все его секреты, кроме одного: того, что этот мир – его, по праву рождения. И этот мир был бы закрыт для Винченцо, будь он действительно сыном итальянского гастарбайтера.
Обслуживая за прилавком итальянок, гречанок и турчанок, Джульетта думала об их детях, которым навсегда суждено остаться по ту сторону невидимой границы, разделяющей немцев и мигрантов. Одаренность ничто, если ее не развивать, а для этого нужны деньги. Завернув горгондзолу, Джульетта пожелала покупательнице удачного дня и вдруг обнаружила, что шов на рукаве распоролся. Неудивительно – сколько лет этому платью? Когда она вообще в последний раз шила? С тех пор как Розария приняла решение провести зиму вместе с малышкой на Салине, а Джованни постоянно был в разъездах в поисках лучших поставщиков, Джульетте пришлось взять торговлю на себя. Швейная машинка в «ателье» так и стояла без дела.
Винченцо каждый день после школы садился на велосипед и ехал из Хазенбергля в Швабинг. Поначалу дорога занимала минут тридцать, но потом время заметно сократилось. Нетерпение Винченцо в предвкушении урока росло, по мере того как он постигал чужой язык. За порогом квартиры Гримма начиналось царство немецкой грамматики. Иногда Винченцо казалось, что эта неприветливая страна лишь на два часа в день открывается перед ним.
В отличие от многих других детей, он ел вдоволь, имел крышу над головой, родители его любили. И все же только у старика Гримма он чувствовал себя по-настоящему дома. И дело было не столько в языке, служившем скорее оружием против недоброжелателей на школьном дворе. Дома Винченцо не с кем было поговорить о том, что он прочел в книгах господина Гримма. Книги перемещали его в сферу идей, доступную лишь тем, кому недостаточно мира материального. Лишенный общения со сверстниками, Винченцо нашел друзей в лице Фауста и Парсифаля, Эйхендорфа, Овидия и Гомера.
Гёте и Шиллер открыли Винченцо другую Германию, гражданами которой были философы и поэты. И ему, смуглому мальчишке с юга, тоже нашлось в ней место. И выражение «немецкий дух», которое он затруднялся перевести на итальянский, не связывалось больше в его сознании ни с чем враждебным, но выражало нечто, свойственное и ему самому.
Душа, расправив крылья, Летела той страной, Спокойно, без усилья, Как будто в дом родной[114].В некоторые дни, пока Винченцо нежился в лучах высокой культуры, Джульетта спешила на встречу с его настоящим отцом. Свидания проходили в половине восьмого вечера, на продуваемой всеми ветрами трамвайной остановке. Винсент забирал у Джульетты фотографии сына – и уезжал. Никогда, даже если лил ледяной дождь, он не приглашал ее сесть в машину. Джульетта возвращалась домой вымокшая до нитки. А ночью выбиралась из постели, чтобы тайком от Энцо вытащить из семейного альбома новую фотографию.
Вооружившись ножницами, она вырезала фигуру Винченцо из семейных снимков. Так, по частям, Джульетта передавала Винсенту единственное сокровище, которым владела. Тем больней было ей видеть, что сын с каждым днем все больше отдаляется. Винченцо отгородился от них книгами, от которых теперь не мог оторваться, даже когда Энцо звал его повозиться с велосипедом или играть в футбол. Энцо не знал, что и думать. Когда же Джульетта спрашивала сына, что тот читает, Винченцо только показывал ей обложку с названием, словно не видел смысла обсуждать прочитанное с малограмотной итальянской портнихой и продавщицей мясных деликатесов.
Однажды Джульетта решила за ним проследить, ее интересовало, не пытается ли Винсент встретиться с сыном. В теплом пальто, повязав голову шалью, она на трамвае доехала до Швабинга и затаилась неподалеку от дома Гримма за десять минут до появления мальчика. Джульетта выбрала пунктом наблюдения угловой дом на противоположной стороне улицы, откуда просматривался не только гриммовский подъезд, но и его окрестности. Завидев Винченцо, она отвернулась. Мальчик привязал велосипед к фонарному столбу и вошел в дом. Ни Винсента, ни его машины в поле зрения не было. Она выждала положенные два часа, промерзнув до костей. Наконец Винченцо снова появился на улице, оседлал велосипед и уехал.
Джульетта проклинала свою подозрительность. Откуда у Винсента время торчать под чужими окнами? До чего надо дойти, чтобы вообразить себе такое? Но по дороге к трамвайной остановке вдруг увидела его. Винсент стоял в телефонной будке, глядя в ту сторону, где скрылся Винченцо. Он не двигался – пока женщина с ребенком на руках не постучала в стекло будки. Джульетта спряталась за припаркованными неподалеку автомобилями. Винсент прошел совсем близко – она слышала его шаги по мостовой, – не заметив ее.
В июле люди высадились на Луну. Джульетта, Винченцо, Энцо в шумной студенческой компании полуночничали, глядя репортаж по черно-белому телевизору. На экране мелькали нечеткие кадры первых в истории шагов человека не по Земле.
– Porca miseria… – довольно ворчал Энцо. – Ну, теперь американцы точно обставили русских.
Даже троцкисты не нашлись, что на это возразить.
– А как зовут этих американцев? – подал голос Винченцо. – Это же немцы. Вернер фон Браун, он конструировал ракеты еще для Гитлера.
Для студентов это был настоящий подарок. Но Энцо не поддался на провокацию.
– Немцы, говоришь? Разве твой учитель не рассказывал тебе, кто изобрел телеграф? Маркони – слышал такую фамилию? И что твой Гитлер делал бы без телеграфа, а? Пускал почтовых голубей?
– Учил бы ты лучше немецкий, папа.
– Вот бездельник… Когда мне, если я вкалываю на рынке в две смены?
Джульетта замерла от страха: в воздухе запахло грозой.
– Они высадились на Луне! – закричал Винченцо. – А ты все возишься со своим погрузчиком. Неужели не надоело?
– Но я делаю это ради тебя! – завопил Энцо. – Ни пфеннига не заработал, а уже рот на отца разеваешь.
Энцо встал, чтобы налить себе пива. Он понимал, что сыну давно не о чем с ним разговаривать, и стыдился своего невежества. Джульетта поспешила на помощь мужу:
– А ты, что ты хочешь сделать из своей жизни?
Винченцо молчал. Что бы он ни ответил, было бы только хуже.
Но именно Винченцо нашел отцу работу получше. По дороге в Швабинг ему довелось проезжать мимо новой строительной площадки. Здесь возводили очередную станцию метро – Мюнхен готовился к Олимпийским играм. Требовались рабочие, крепкие парни, не боящиеся испачкать руки. Винченцо проводил отца до самой конторы управления и даже поработал переводчиком. Энцо выложил на стол свидетельство мастера из «ИЗО», но нанимателя больше впечатлили широкие плечи соискателя, нежели итальянские бумажки.
Так или иначе, спустя четверть часа Энцо имел на руках новый трудовой контракт. Здесь платили куда лучше, чем на рынке. Полагались хорошие надбавки за риск для здоровья и жизни, а также за ночные смены. Знания немецкого языка не требовалось. Интернациональные бригады гастарбайтеров сутками напролет надрывались в туннелях под мюнхенскими домами и улицами. Объект требовалось сдать к летним Олимпийским играм 1972 года. Энцо гордился новой работой. Строить, создавать что-то своими руками – это совсем не то что переставлять ящики с места на место. Но на такую роскошь, как курсы немецкого языка, у него не оставалось ни времени, ни сил. А чтобы заслужить уважение коллег, было достаточно одних крепких кулаков.
Джульетта чувствовала: что-то назревает. За ужином Энцо в рубахе, покрытой уже неотстирываемыми разводами от пота, поглощал pasta e fagioli[115]. На другом конце стола Винченцо, не отрываясь от еды, учил наизусть «Лесного царя».
В вечерних новостях показывали, как одиннадцатая платформа Центрального мюнхенского вокзала за какую-нибудь пару часов превратилась в концертную площадку. Кого здесь только не было – политики и дипломаты, представители федерального министерства труда и музыканты. Встречали молодого турка по имени Исмаил, прибывшего специальным поездом из Стамбула. Ни о чем не подозревающий виновник торжества прямо из вагона шагнул под лучи софитов и в объятия министра, вручившего ему телевизор.
Только потом Исмаил узнал, что он миллионный гастарбайтер. На самом деле все обстояло не совсем так. Миллионным был один португалец, который прибыл в Кёльн в 1964 году, за что и получил в подарок мопед. Но Кёльн не Мюнхен, а рабочих рук по-прежнему не хватало везде. Поэтому политики и решили назначить нового «миллионера». Исмаил стал «миллионным гастарбайтером» из южноевропейского региона, куда простоты ради определили не только Турцию, но и Тунис. Теперь эти две страны числились первыми поставщиками рабочей силы на немецкий рынок.
Министр произнес долгую речь, в которой пригласил в Германию новых гастарбайтеров и отметил как особую заслугу иностранных рабочих высокие показатели экономического роста, позволившие обеспечить немецким пенсионерам достойную старость.
Перепуганный Исмаил таращился в камеру, не понимая ни слова. Ни один из выступавших ни разу не помянул, что и «миллионера», в свой черед, не церемонясь, выпроводят домой, невзирая на заслуги перед немецкой экономикой. И проводы будут далеко не такими торжественными, как встреча.
Пока Энцо вкалывал под землей, Гримм устроил Винченцо в Луизианскую гимназию. Джульетта тоже отправилась с ними, нарядившись в лучшее платье. Директор гимназии, старый друг Гримма, пожал руку новому ученику. Винченцо даже не заставили сдавать вступительные экзамены. Хотя он и настаивал, желая продемонстрировать знания. Вместо этого директор поведал гостям о своей любви к Риму. Винченцо уже понял, что чудесные перемены в жизни, по крайней мере отчасти, объясняются его происхождением. При этом он по-прежнему не догадывался, кому на самом деле обязан такой удачей.
Прощаясь с учителем во дворе, Винченцо решился на вопрос:
– Скажите, сколько мама платила вам за урок? Я надеюсь вернуть ей долг.
Джульетта побледнела.
– Ничего не платила, – ответил Гримм. И добавил, видя изумление на лице мальчика: – Ведь преподаватель гимназии – не только работа, но и призвание.
Винченцо стыдливо опустил глаза:
– Я верну вам долг.
– Непременно, – улыбнулся Гримм. – Мы будем в расчете, если сумеешь применить в жизни то, чему научился.
На другой стороне улицы от дерева отделилась тень.
Глава 37
Солнце взошло сразу после того, как мы выехали из Рима. Тело отяжелело – только сейчас дала о себе знать бессонная ночь. За окнами мелькали городские окраины, кучи мусора под ржавым дорожным ограждением. Похоже, мы попали в другую эпоху.
Винченцо молчал, я тоже. Нам обоим требовалось время освоиться в этом новом мире. Я подняла голову от дневника. Винченцо курил. Обветренное лицо с тонкими чертами, кудрявые темные волосы. Дневник его матери стал для меня ключом к нему самому. Не узнай я, каким Винченцо был в детстве, он бы так и остался для меня чужим – человеком, который не мог быть моим отцом.
– Может, почитаешь мне вслух? – предложил он.
– Не знаю, надо ли.
– Как-никак она моя мать.
Впервые в голосе его послышалась обида. Это меня неожиданно тронуло. Винченцо вытряхнул сигарету из помятой пачки и опустил стекло. В лицо пахнуло утренней свежестью. Желтые страницы дневника зашелестели, и что-то упало на пол. Я нагнулась – фотография. Винченцо, лет пятнадцати, с растрепанными темными волосами, сидел на скутере. Из-под воротника дафлкота выглядывал медальон-сердечко – символ Октоберфеста. Скептический взгляд устремлен прямо в камеру. Но я никогда не верила показному бунтарству, уж очень часто им прикрывают неуверенность в себе.
На плече Винченцо лежала большая рука – все, что осталось от вырезанного из снимка мужчины. Без сомнения, это Энцо. И еще одна фигура рядом с мальчиком была вырезана.
Я протянула снимок Винченцо. Он зажал его в пальцах руки, лежавшей на руле. Некоторое время фотография прыгала перед его носом, словно интригуя. Между тем и этим Винченцо пролегло полжизни. Знать бы, в какой момент человек из одного становится другим.
– А это что?
Винченцо кивнул на бумажку, приклеенную к странице дневника.
Я развернула листок. Письмо.
Глубокоуважаемая фрау Маккарони,
С радостью сообщаем Вам, что вашему эскизу платья присуждено первое место в нашем читательском конкурсе. Он будет опубликован в следующем номере журнала.
Винченцо улыбнулся.
– Ты помнишь? – спросила я.
Он кивнул. Вытряхнул еще одну сигарету.
– А почему это тебе так интересно?
– Тебе разве нет? – удивилась я.
– Я давно оставил это в прошлом.
Оставил в прошлом. Да, конечно, ведь это его жизнь. Это для меня все словно происходит сейчас, впервые. Чтобы событие стало прошлым, его надо пережить.
– Она повесила это письмо в лавке. Как диплом или сертификат.
– И она двинулась дальше? Ну… я имею в виду клиентов и все такое.
Винченцо молчал, думая о чем-то.
– Она все время проводила за прилавком, – наконец сказал он. – Джованни постоянно уезжал… Они с Розарией жили то там, то здесь. А клиенты… к ней ходили одни гастарбайтеры – кому укоротить брюки, кому сшить свадебное платье… Это было не то, о чем она мечтала. К тому же у них с Энцо не было лишних денег на ткани, они все откладывали на свое жилье.
– А ты? Ты хотел уехать или остаться?
Винченцо посмотрел на меня:
– А с какой стати тебя это интересует?
Стоило заговорить о нем самом – и сразу барьер.
– Да просто так.
– Мы жили там и в то же время не жили.
– И Джованни?
– Да.
Разговор стопорился. Винченцо явно не был настроен откровенничать. А я не хотела ему показывать, что уже воспринимаю его семью как свою. Я снова углубилась в чтение дневника, но Винченцо вдруг заговорил:
– Лето семидесятого, вот когда они начали воспринимать нас всерьез.
Я вопросительно смотрела на него.
– Матч века, слышала о таком?
– Я тогда еще не родилась.
– О да… – Он усмехнулся. – Полуфинал Италия – Германия. В Мехико. Ты любишь футбол?
– Скорее то, что его окружает. Шум, публика…
– Лучшая игра всех времен. Весь город сидел перед телевизорами, ни души на улицах. Кроме гастарбайтеров, конечно. Мы вынесли из лавки Джованни телевизор и стулья. В Германии тогда было запрещено сидеть на тротуарах. В немецких ресторанах столики ставили только внутри, так что мы стали пионерами. Взяли и сделали это… – Он усмехнулся. – Времена, когда немцы питались яичной лапшой и «сырными ежами»[116], а Тоскану считали рассадником снобов от культуры… В общем, мы сидели на улице и громко болели за Италию. Мы проигрывали, счет сравняли незадолго до финального свистка. Потом – дополнительное время. Бекенбауэр со сломанным плечом ковылял по полю – это надо было видеть! Но в результате 4:3 в нашу пользу. Можешь представить себе, что это для нас значило! В ресторанах официанты срывали передники и танцевали на улицах. Мы праздновали всю ночь. Из окон кричали: «Заткнитесь!» – но нам было начхать. В мгновенье ока из презренных «макаронников» мы стали победителями. Все изменилось, в первую очередь мы сами. Теперь мы гуляли по улицам с высоко поднятой головой. А потом мы изменили Германию, и здесь открылись приличные кафе. Это в то лето в Мюнхене появился настоящий капучино, не со сливками, а, как положено, со взбитым молоком. И на школьных дворах установились другие порядки. Из последних мы стали… ну, не то чтобы первыми… просто теперь кое-кто оказался под нами. Прежде всего, турки, которые появились позже. «Тминные турки»[117], как называли их мы, бывшие «макаронники», и вымещали на них все то, что в свое время терпели от немцев.
Мне оставалось только удивляться. Каким же речистым мог быть Винченцо, когда говорил о чем-то, непосредственно его не касавшемся.
– Ну а ты сам? – спросила я.
– А я получил свою первую «веспу», подержанную и желтую, но в очень приличном состоянии. Энцо откладывал на нее с каждой зарплаты… Без нее было не произвести впечатление на девчонок.
Он произнес это сухо. Несомненно, у девушек Винченцо пользовался успехом. Он и сейчас вполне привлекательный мужчина, однако, похоже, воспринимает это как нечто само собой разумеющееся. Возможно, именно потому, что успех не стоил ему ничего. Как правило, люди гордятся достижениями. Можно предположить, что таинственная отчужденность Винченцо и делала его желанным в глазах женщин. Он не выпрашивал их внимания. Таким я себе его и представляла: юноша на отшибе, никогда не в центре, молчаливый, ускользающий и тем интересный. Его хотелось раскусить.
– Любовник-латинянин, – улыбнулась я.
– О да… это было наше время… Девчонки просто вешались на смуглых парней.
– А ты так и не догадывался о существовании Винсента?
Он молчал. При упоминании этого имени дверь, которую он вроде бы приоткрыл передо мной, захлопнулась.
Винченцо встряхнулся:
– Так ты почитаешь мне вслух?
Глава 38
13 сентября 1970
В-т хочет знать все до мельчайших деталей. Я вырезаю нашего сына из старых фотографий и чувствую себя воровкой. В-т настолько ожесточился, что я не представляю себе, как вообще могла любить его. И все же я тоскую по нему. Несмотря на наше «прагматическое соглашение», как он выражается, – как будто чувствами можно управлять, как техникой. Я не жду от всего этого ничего хорошего.
Винсент пригласил Джульетту в ресторан. В дневнике не говорилось, почему они перестали встречаться на трамвайной остановке, просто атмосфера встреч вдруг переменилась. Он решился показаться с ней в публичном месте, – возможно, потому, что речь шла всего лишь о передаче очередной партии фотографий. Или же Винсент полагал, что держит свои чувства под контролем. Похоже, ошибочно.
Ужин в «Тантрисе» стоил столько, сколько Джульетта зарабатывала за неделю. Но она согласилась с тем, что Винсент назначает место встречи, предоставив тем самым ему оплачивать расходы.
Ресторан был только что открыт и выглядел впечатляюще. У входа посетителей встречали скульптуры мифических животных. Голые бетонные стены были подсвечены красным, а над столами нависали круглые желтые светильники. Здесь ели не для того, чтобы утолить голод, – богатая Германия входила во вкус новой жизни. Это можно было бы назвать революцией, только не «снизу», а «сверху», в отличие от большинства революций.
Джульетта непременно рассказала бы об этом брату, если бы только могла. Ресторан ее впечатлил, правда, чувствовала она там себя не в своей тарелке. Винсент не предупредил, что «Тантрис» – самый роскошный ресторан в городе, иначе она надела бы другое платье, более скромное. Это притягивало к ней взгляды состоятельной публики.
Женские взгляды смущали ее гораздо больше мужских. Джульетта все еще была очень красива, поэтому мужчин интересовало скорее не платье, а то, что под ним. Но женщины были еще опаснее, они безошибочно отличали «люкс» от дешевой подделки, и здесь не спасал даже самый безупречный пошив. Под перекрестным огнем оценивающих и завистливых взглядов Джульетта следом за Винсентом пробиралась к зарезервированному столику. Пианист негромко играл джаз.
За одним из столиков поднялся мужчина в костюме-тройке и несколько официально поприветствовал Винсента. Важная птица, доктор-того-сего из какого-то там наблюдательного совета. Он представил жену, Винсент – Джульетту. Просто по имени, никакой «хорошей знакомой», тем более «моей жены». Но с такой естественной уверенностью суверена, что ей захотелось исчезнуть.
О чем думал Винсент в этот момент? Откуда взялась эта уверенность? Возможно, спутница доктора тоже не приходилась тому женой. Насколько спокойней чувствовала бы себя Джульетта, если бы Винсент представил ее как супругу.
Он выдвинул стул, вежливо поприветствовал соседей. Все шло так, как и полагалось идти согласно незыблемому и непонятному Джульетте порядку.
Первым делом Джульетта вытащила конверт с фотографиями и протянула Винсенту. Тот молча сунул его во внутренний карман пиджака и заказал вино, не поинтересовавшись ее предпочтениями.
– В следующий раз отправлю почтой, – сказала Джульетта.
Винсент посмотрел на нее удивленно.
– Если решил наказать меня, необязательно приглашать в ресторан. Просто скажи, что больше не хочешь меня видеть.
– У нас соглашение, – спокойно напомнил он, – и ты должна его соблюдать.
От его менторского тона Джульетта каждый раз чувствовала себя жалкой замухрышкой.
– Я держу свое слово, – продолжал Винсент. – Мой сын учится там, где он хочет, независимо от того, сколько это стоит.
Но Джульетте вдруг поперек горла встал весь этот спектакль, в котором ей отвели роль статистки.
– Как угодно, – сказала она, вставая.
Публика за соседними столиками насторожилась.
– Куда ты? Джульетта, останься… прошу. – Он тоже встал, взял ее за руку.
– Зачем? Мне больно, Винсент.
– Прошу тебя…
Его голос изменился, в нем проступили нотки нежности. Она продолжала стоять.
– Сама сшила? – Винсент оглядел ее платье.
– Да.
– Превосходно.
Джульетта не отреагировала на комплимент.
– Муж позволяет тебе шить?
Джульетта помешкала с ответом, села, чтобы дать дорогу официанту.
– Я не шью, – ответила она. – Я продаю сыр и колбасу. Подменяю Джованни, который ремонтирует дом в Салине.
– Почему ты опять позволяешь собой управлять?
Это был удар в больное место. И все же Винсент впервые выказал интерес к ее жизни.
– Джованни я обязана тем, что живу здесь и работаю. Винченцо я обязана тем, что я его мать. Мы, итальянцы, живем не только для себя, а вы?
Винсент долго смотрел на нее.
– Многие годы ты была моей семьей. Помнишь, что мы обещали друг другу?.. Я ведь принял все за чистую монету.
Винсент по-прежнему был невозмутим, но Джульетта уже видела, каких усилий ему это стоило. Она вдруг взяла его за руку.
– Это никак не связано с тобой. Я не хотела расставаться. Ты должен понять меня, Винсент, иначе на всю жизнь останешься несчастным.
Их беседу прервал официант, который принес вино, разлил по бокалам и предложил фуа-гра в качестве закуски. Винсент наклонился к своему портфелю и вытащил пластмассовую гондолу черного цвета с золотым орнаментом, украшенную разноцветными лампочками. Ширпотреб, каким торгуют в Венеции на каждом углу.
– Вот привез тебе кое-что. Она мигает, если…
Он щелкнул выключателем и поставил игрушку рядом с тарелкой Джульетты. Лампочки замерцали, гондола переливалась всеми цветами радуги. Винсент улыбнулся, на мгновенье обратившись в того юношу, каким Джульетта знала его много лет назад. Она рассмеялась.
– Ты ездил в Венецию?
– Да.
Джульетта ощутила укол в сердце, ведь в Венецию не ездят в одиночку. Она так и не побывала в городе, куда Винсент когда-то давно собирался ее отвезти.
– Что такое? – забеспокоился Винсент. – Тебе не нравится?
– Нравится.
До сих пор ему не приходило в голову, что этот подарок может ранить ее.
– Я думал там о тебе, когда бродил по венецианским улочкам. Марианна перебрала с фруктами, она плохо себя чувствовала и осталась в отеле. Над каналами висел туман, совсем как в Милане.
Джульетта больше не опускала глаз.
– Ты не представляешь, сколько раз я думала о Венеции и нашем с тобой разговоре. Как бы все сложилось, если бы я тогда сказала «да»?
Ее искренность тронула Винсента, он смягчился.
– Какой была бы наша жизнь, ты хочешь сказать?
– Думаю, ты не был бы так суров по отношению к себе… и ко мне. – Она усмехнулась.
– А ты?
Джульетта пожала плечами. Она даже представить боялась то, о чем он спрашивал.
– Ты была бы такой же красивой, как сейчас, – сказал за нее Винсент.
– А ты… скорее всего, ты не был бы таким романтичным, как сейчас, но уж точно был более расслабленным. – Она улыбнулась.
– А ты, – он тоже улыбнулся, – не думала бы, что счастье – это то, что случается только с другими.
– И?
– И мы сидели бы здесь, как сидим сейчас, и пили бы вино… Вот только кольца на наших руках были бы одинаковые.
Его кольцо с самого начала кололо ей глаза. Конечно, оно было красивее, чем ее. Подступили слезы, но Джульетта сдержалась. Потом они пили вино и беседовали о том о сем, как будто и в самом деле были парой, одной из тех, что сидели за другими столиками, и жизнь их была нескончаемым праздником. Они ни разу больше не помянули ни Энцо, ни Марианну. Оба искали спасения во лжи и делали вид, что ничего не изменилось, что они остались прежними, невредимыми и молодыми, что выбор, решивший их судьбу, до сих пор не сделан, что их прошлое, их семьи – всего лишь одна возможность из многих. Но это было не более чем опьянение моментом.
Когда около одиннадцати они уходили из ресторана, Винсент набросил пальто на плечи Джульетты, а она взяла его под руку, не задумываясь, что делает. Он посадил ее в свою «ИЗО-ривольту».
– Винсент, – сказала Джульетта, – я не верю, что это происходит на самом деле. Завтра утром я буду думать, что это был сон.
– А что, если нам прямо сейчас отправиться в Венецию? К восходу солнца успеем вернуться.
Это прозвучало совсем как тогда.
– Прекрати, не мучай меня, – взмолилась Джульетта.
– Я отвезу тебя домой.
Машина неслышно скользила в ночи – теплый кокон, защищающий их от всего жестокого и неразрешимого. По авторадио крутили последний альбом «Битлз» – Let it be. Джульетта положила гондолу на колени и вспоминала прогулку на мотоцикле по летнему Милану, запах кожаной куртки, прохладный ветер в лицо и мелькающие по сторонам дороги огни.
Винсент остановился неподалеку от ее дома, на углу, – вновь совсем как тогда, на Виа-Лудовико-иль-Моро. Он выключил мотор, их взгляды встретились – и дальше все случилось само собой. Первый шаг сделал не он, но и не она, обоих одновременно подхватило нахлынувшей вдруг волной. Она закрыла глаза. Поцелуй казался самой естественной вещью на свете. Запах его кожи, руки, гладившие ее по волосам, – медленнее, тяжелее, чем тогда, – все казалось ей до боли знакомым и в то же время было впервые. Винсент осторожно снял с Джульетты шарф и поцеловал в шею. Она приложила пальцы к его губам, но вовсе не потому, что не хотела продолжения. Просто подумалось вдруг, что уже поздно, что Винсента ждет разочарование, если он надеется встретить ее ту, двадцатилетнюю. Она давно не та, она мать семейства и жена другого. Джульетта все не открывала глаза – чтобы не выдать своего страха. Но, ощутив на висках его ладони, его губы, касающиеся ее лба, успокоилась. А потом оба они стали одним целым.
Джульетта очнулась от резкого звука. Она открыла глаза. Голубой луч скользнул по лицу Винсента. Два полицейских «фольксвагена» пронеслись мимо с включенными сиренами и затормозили. Призрачный голубой свет разливался по улице. Четверо вооруженных мужчин устремились к дому Джульетты.
– Что случилось, Винсент?
– Оставайся здесь.
Он взял ее за руку, но Джульетта высвободилась и выскочила из машины.
На лестничной площадке она услышала крик. Потом глухие удары, приказы, снова крик. Дверь в квартиру была взломана. Полицейские волокли студентов в прихожую, хватали их за длинные волосы, щелкали замки наручников.
– Чертовы фараоны… – извиваясь, ругался Роланд.
Джульетта увидела Энцо в пижаме. Он явно не понимал, что происходит, и старался закрыть собой Винченцо.
– Не понимать… – бормотал он.
Винченцо тоже выглядел не вполне проснувшимся.
Полицейский приказал Энцо стать лицом к стене, но тот не желал отходить от сына.
– Они не коммунисты, простые гастарбайтеры, – бросилась объяснять Джульетта.
В результате полицейские ограничились обыском.
В соседней комнате отчаянно вопила малышка – мать сама была слишком напугана, чтобы успокоить ее. Винченцо взял девочку на руки, принялся утешать.
– Тсс… не бойся… Ничего они нам не сделают.
Когда полицейские повели студентов в наручниках к машинам, Джульетта кинулась следом. Перед домом, в толпе заспанных соседей в пижамах, стоял Винсент. Увидев Джульетту, он было направился к ней, но она жестом велела ему остановиться. Подошедший сзади Энцо обнял жену. Винченцо уже мчался по улице – подальше от устремленных на него слишком внимательных взглядов.
– Винченцо! Вернись! – закричала Джульетта.
Винсент повернулся и исчез в темноте.
Глава 39
Винченцо резко затормозил на автозаправке в Тоскане. Молча вышел из машины, хлопнув дверцей, и направился к придорожному магазинчику. Я смотрела ему вслед. Машина потрескивала, словно загнанная, в моторе что-то урчало. Я вытащила ключ зажигания, взяла дневник и пошла следом за Винченцо.
Потом мы стояли возле окна и пили эспрессо. Среди современных автомобилей на освещенной солнцем парковке его «альфа» выглядела призраком из иной эпохи.
– Так что ты против него имеешь? – спросила я. – Он ведь и в самом деле любил твою мать. Она его тоже.
Винченцо молча пил кофе. Потом взял дневник, который лежал передо мной на подоконнике, пролистал. Между страниц обнаружилось еще одно фото, заставившее Винченцо замереть. Джульетта и Винсент в мюнхенском кафе – судя по фасону костюмов, начало семидесятых. Оба смотрели в камеру несколько растерянно, будто в последний момент передумали фотографироваться, но фотограф уже успел спустить затвор.
– Знаешь эту фотографию? – спросила я.
Винченцо покачал головой. Он все не мог оторвать взгляд от снимка. Я видела, что с ним что-то происходит.
– Ты впервые видишь их вместе?
Он покачал головой и вложил фотографию обратно в дневник. Я не сводила с Винченцо глаз.
– Что такое? – спросил он.
– У меня тоже не было твоих с мамой фотографий.
Винченцо отвернулся и уставился за окно. Трудно сказать, насколько глубоко он переживал то, что было у него с матерью, – точнее, то, чего не было. Он выглядел растерянным, даже расстроенным.
Я вытащила из сумки фотографию, которую Кармела дала мне на террасе.
– Откуда это у тебя?
– От твоей жены.
У него задергалось веко. Не определить, что за мысли роились в его голове в этот момент. Может, он злился на жену, может, клял себя. На парковке за окном счастливое семейство делало селфи с мороженым и карнавальной мишурой.
На заднем плане наверняка можно будеть разглядеть и нас. «Второе наше с отцом совместное фото за последние тридцать лет», – подумала я.
Когда Винченцо заправлял машину, я позвонила Робину. На этот раз он ответил.
– Я возвращаюсь. Буду сегодня вечером.
– Прекрасно.
– Как там с итальянцами?
– Все отлично.
– Послушай, Робин, я понимаю, что вела себя…
Он не дал мне договорить:
– Я все подписал.
– Что?
– Договор.
– Что за договор?
– Юлия, им понравились твои эскизы. Конечно, придется кое-что подправить, но этот ретростиль…
– Эскизы?! Но это только наброски, Робин… И потом, я не продаюсь, я же тебе говорила…
– А теперь послушай меня. Все, что ты делаешь, принадлежит компании. Ты не хочешь с ними сотрудничать – ради бога, никто не заставляет. Но в таком случае я буду делать это один.
– Но ты не можешь, это моя…
– Я могу.
– Мы равноправные партнеры, Робин.
– Можешь оспорить свои права в суде, но этим ты ничего не добьешься. Так что придется смириться.
На мгновенье я утратила дар речи. Я ожидала от Робина чего угодно, только не этого.
– До сих пор мы все решали вместе, Робин.
– Да, пока ты не уехала. The show must go on[118]. – Последняя фраза прозвучала как вызов. О неприятных вещах Робин предпочитал говорить по-английски. – Разумеется, это твоя коллекция. Бренд и дальше будет носить твое имя.
– Но ты не можешь отнять у меня мое имя!
– Придумай новое – вот все, что я могу тебе посоветовать.
– Но это моя коллекция!
– С коллекцией все будет так, как мы с тобой обговаривали. Сменится лишь команда дизайнеров. Незаменимых нет.
– Ты самый большой подлец, каких я только встречала в жизни.
– Это бизнес, Юлия. Ничего личного.
– Fuck you!
Винченцо смотрел на меня.
Я дала отбой. Больше всего на свете хотелось запустить этим мобильником в стекло. Меня трясло.
– Что случилось? – спросил Винченцо.
Не глядя на него, я села в машину.
Некоторое время мы ехали молча. Автомобиль накручивал километр за километром. Я едва сдерживала слезы. Сейчас главное – не показывать свою слабость.
– Что-то личное или бизнес?
– Бизнес.
Это было не совсем так. До сих пор моя фирма и я были единым целым.
Я чувствовала себя собакой, которую хозяин вышвырнул на улицу. Я выла перед дверью собственного дома. Пусть он и не совсем мой, но все же в большей степени мой, чем Робина. Потому что это мои эскизы и мои планы. Как он вообще собирается обойтись без меня? Неужели всерьез думает просто клонировать то, что делает мои коллекции моими? До прихода нового дизайнера, разумеется, который займет уютное гнездышко и будет выполнять то, что прикажут новые хозяева.
Я никогда не считала, что Робин разбирается в искусстве, но до сих пор он понимал, что лицо коллекции – единственное, чего нельзя купить за деньги. И вот теперь он продал наше с ним общее дитя чужим людям, для которых индивидуальность не более чем маркетинговый инструмент. Нечто вполне заменимое.
– Надрываешься с утра до вечера, выворачиваешься наизнанку, чтобы тебе просто похлопали. И это весь итог?
Слова вырвались у меня сами собой. Я проклинала и Робина, и всю индустрию моды и уже помышляла о мести. Нет, я не стану сидеть под дверью, как побитая собака. Я отстою свое дитя, пойду на все, если потребуется. Робин будет умолять меня не покидать фирму, но в конце концов уйдет он, а не я. В Мюнхене я первым делом найму адвоката. Но чем сильнее подхватывала меня волна гнева, тем острее я понимала свою беспомощность. Если реально смотреть на вещи, в суде против Робина я не боец.
Под моими ногами разверзалась пропасть. Я злилась на себя, стыдилась отца. Надо же так распуститься именно при нем! Еще подумает, будто мне нужна его поддержка.
Но Винченцо был здесь, рядом. Он просто выслушал меня. Без осуждения и без жалости – просто выслушал.
– Ты похожа на Джульетту, знаешь об этом? Ты пошла в нашу семью. Талант не дар, талант – проклятие.
Я поняла его. Винченцо имел в виду не меня, не Джульетту. Он говорил о себе.
– У нее получилось?
– Что получилось?
«Прорыв», хотела сказать я. Проклятое слово, как я его ненавидела.
– Стать счастливой.
Он молчал. Достал дневник, протянул мне.
– Почему ты сам не хочешь мне рассказать?
– Потому что знаю об этом не больше твоего. Джованни все время прятал от меня этот дневник. Невероятно.
– Но у вас с ней были хорошие отношения?
– Мы были одним целым, я и она.
– А про Винсента… неужели ты совсем не догадывался?
Он покачал головой:
– Только после ее смерти.
– Когда она умерла?
Об этом Винченцо говорить не мог.
– Почитай мне, пожалуйста.
Глава 40
Мюнхен, 21 марта 1971
Вот уже который день я думаю только о Винсенте. Чем упорнее стараюсь от него освободиться, тем больше привязываюсь к нему. Я чувствую себя мухой в паутине.
После прерванного поцелуя в машине у Джульетты не было времени на свидания. Им с Энцо пришлось бороться за то, чтобы остаться в квартире. С арестом студентов, основных квартиросъемщиков, их договор аренды был аннулирован.
И однажды утром, в понедельник, на кухне появился крепкий баварец в шляпе и кожаном пальто и осведомился у Энцо, что тот здесь делает. Представился он домовладельцем.
Энцо только что вернулся после ночной смены и стоял перед незнакомцем в одном нижнем белье. Его немецкого явно не хватало, чтобы разобрать баварский господина Платтнера, законного арендодателя, которого он собирался было вышвырнуть за дверь.
Когда позвонил Энцо, Джульетта была в лавке. Она тотчас поспешила домой. Ко времени ее прихода Энцо успел успокоиться. При виде человека, способного его понять, домовладелец пришел в еще большее негодование.
Его возмутило состояние квартиры – это первое. Второе, и главное: он ничего не знал и не хотел знать о субаренде, которая не предусматривалась его договором со студентами и, таким образом, не была законной.
Джульетта даже не подозревала о том, что студенты ничего не сказали о них домовладельцу. Равно как и о том, что ушлые троцкисты брали с них половину всей арендной платы – это за одну-то комнату! Платтнер дал «нелегалам» время до конца месяца, все же он не был зверем.
Когда Джульетта перевела его слова для Энцо, тот немедленно пошел собирать вещи. Он не хотел от этого человека никаких одолжений.
– И куда ты намерен идти? – спросила Джульетта.
– В крайнем случае будем спать в магазине. Господь нас не оставит.
Джульетта снова бросилась к господину Платтнеру:
– Мы порядочные люди… Никакой политики, никаких наркотиков. Мы семья, католики… Вы ведь тоже католик?
Разумеется, он был католиком, так что с того? Платтнер не понимал, почему должен разыгрывать из себя доброго самаритянина. Шнапс был шнапсом, бизнес – бизнесом, а иностранцы – иностранцами. Он ничего не имел против Джульетты, но квартиры предпочитал сдавать немцам. Так оно надежнее.
Джульетта достала из шкафа разрешение на работу и вид на жительство.
– Мой муж работает на строительстве метро, мой сын учится в гимназии…
Джульетта была столь убедительна, что Платтнер засомневался. Но Джульетта хотела, чтобы он подписал договор с Энцо как с основным арендатором.
– Но это вам не по карману, – пробормотал Платтнер.
– Нет проблем, коллега, – буркнул Энцо, оттесняя Джульетту в сторону.
Все что угодно, только не унижения. Супруги удалились к себе в комнату паковать вещи. Домовладелец последовал за ними.
– Ну хорошо, раз уж вы на этом так настаиваете… – Обращался он исключительно к Джульетте. – Для начала на год… И чтоб никакого чеснока, понятно? И размер платы мы немного подкорректируем… скажем, на двести марок меньше. Согласны, фрау…
– Маркони, – подсказала Джульетта.
Энцо подписал договор тут же, на кухонном столе, и Джульетта пообещала следующим же утром внести предоплату за три месяца.
После ухода Платтнера Джульетта скрылась в ванной, чтобы Энцо не видел ее слез. Так заканчивалась любая ее попытка прорваться к счастью. Только казалось, что она вот-вот ухватит его, как происходило то, что отбрасывало ее назад, в трясину семьи. Словно ее и в самом деле кто-то сглазил. Уж не ее ли собственная мать?
Когда вернулся Винченцо, она объявила, что отныне у него своя собственная комната. Удивленный Винченцо захотел знать, откуда у них деньги на аренду всей квартиры. Энцо успокоил сына: пока они с матерью работают, квартира им по карману. Джульетта не сказала Винченцо, что на их счете недостаточно денег, чтобы внести плату за три месяца вперед. Придется влезть в долги.
Энцо не сомневался, что она рассчитывает на помощь Джованни. Он откупорил бутылку хорошего вина – что случалось не так часто, – чтобы отметить удачу. Даже Винченцо налили бокал. Редко когда доводилось видеть Энцо таким счастливым. И Джульетта больше радовалась за него, чем за себя. Мыслями же она была с Винсентом. Поднимая бокал с мужем и сыном, она представляла себе гостиную в бунгало, где ужинали в этот момент Винсент и его жена.
На следующий день Джульетта узнала истинную причину человеколюбия Платтнера. Дозвониться Джованни на Салину она так и не смогла, зимой телефонная связь барахлила по причине непогоды, когда единственный кабель, соединяющий остров с Сицилией, оказывался поврежден. Наутро связь появилась, но бармен, у которого по-прежнему был единственный телефонный аппарат в деревне, сообщил, что Джованни в отъезде – отправился на Сицилию договариваться с поставщиками. Джульетта подумала, не одолжить ли денег у Винсента, но тут же отогнала эту мысль.
Следующей, о ком она подумала, была Эрна Баумгартнер. Как только Джульетта рассказала Эрне, что случилось, та не сомневалась ни секунды. Тут же отправилась в банк и сняла нужную сумму.
– Просто переведи на мой счет, когда сможешь. – Потом спросила имя арендодателя. – Платтнер? Kruzitürken[119].
– Он турок? – удивилась Джульетта.
– Ну… скользкий тип, во всяком случае… Узнаю своих паппенгеймцев[120].
– Паппенгеймцев?
И тут Эрна открыла ей глаза. Платтнер, благодетель, пускавший иностранцев в квартиру лишь в исключительных случаях, не просто так связался со студентами. Все другие квартиры в доме, где проживали турки и греки, тоже принадлежали ему. Весь дом принадлежал чистоплюю Платтнеру, который так неохотно терпел иностранцев, но почему-то сдавал жилье только им.
Он специально изыскивал таких арендаторов для своей развалюхи, подпадающей под распоряжение об охране жилищного фонда Мюнхена, чтобы как можно быстрее получить разрешение на снос. И на ее месте выстроить новое здание – потолки пониже, этажей побольше, планировка получше – и сдавать квартиры более платежеспособной публике – немцам, разумеется. А этот южный народец, который рано или поздно уберется восвояси, не слишком заботится о временном жилье.
– И что мне делать? – растерялась Джульетта.
– Отправляться в банк и перевести предоплату, ведь договор-то вы подписали. А потом собирать вещи… – И Эрна невесело рассмеялась.
В тот же вечер Джульетта и Эрна переговорили с соседями по дому – турчанкой Хатис и греком Гиоргосом. Только совместными усилиями арендаторы могли предотвратить снос здания.
На следующий день Джульетта принялась приводить в порядок квартиру. Им предстояло обновить старый дом, прежде чем об этом узнает Платтнер. Заменить пришедшие в негодность полы, обветшавшую электрику и обросшие известковым камнем и ржавчиной трубы. Нечего и говорить, что все за свой счет. А потом заняться загаженной и разбитой лестницей.
Днями напролет Джульетта драила полы и стены, выносила на помойку кипы пожелтевших газет, утепляла окна обрезками тканей из своего ателье. Лавку она закрыла на неделю. Джульетта знала, что Винсент будет искать ее там, и отправила ему письмо на адрес офиса, указанный в телефонной книге. Номер домашнего телефона он ей так и не сообщил.
Джульетта просила Винсента набраться терпения. Всего неделя – и все вернется на круги своя. Ей требовалась отсрочка, чтобы сориентироваться и принять решение. На самом деле Джульетта поступила так, как обычно и поступают люди, которых жизнь подталкивает к роковой черте, – просто предоставила событиям идти своим чередом. И мир, как ни странно, не полетел в тартарары.
После полудня она встречалась с Винсентом в отеле. В каком именно, в дневнике умалчивалось. Упоминалось только, что отель был безумно красив. И что по радио, пока они с Винсентом лежали в постели, передавали Que será[121]. А по пути домой она покупала свежую рыбу на рынке Виктуалиенмаркт. В лицо летел снег, горели фонари, а Джульетта Маркони, маленькая жена итальянского гастарбайтера, чувствовала себя – прежде чем ее успевало накрыть волной раскаяния – счастливейшей женщиной на земле.
Они встречались когда только могли – в обеденный перерыв, после работы, ночью, в зависимости от рабочего графика Энцо. Ни одна душа на свете не знала о них. Эти часы они воровали у жизни, не упуская ни малейшей возможности, словно наверстывали упущенное. Они были так стары. И так молоды.
Иногда, лежа в постели рядом с Энцо, Джульетта думала, что должна сказать ему правду. Но потом жизнь снова входила в привычную колею. Они покупали мебель и красили стены. Винченцо приносил из гимназии табель за полугодие, и они радовались успехам сына.
Джульетта не допускала и мысли, что будет вечно держать Энцо в неведении. Просто откладывала тяжелый разговор, опасаясь разрушить хрупкое свое счастье. Она наслаждалась каждым его мгновеньем, ради него продолжала жить в двух мирах, переход между которыми походил на лунатический сон.
Быть может, думала она, возвращаясь в омываемом дождем автобусе, в этом нет ничего необычного. Логично предположить, что большинство людей, что сейчас мечутся за окнами под хлещущими струями, живут в нескольких мирах одновременно. Похоже, единственный способ выдержать безысходность действительности состоит в том, чтобы ускользнуть из нее в другой мир. Который представляется не менее реальным, стоит только переступить его границу, даже если пребывание в нем мимолетно как сон.
Удивительно, но Джульетта больше писала в дневнике о Винченцо, чем о своих встречах с Винсентом. Возможно, из страха, но более вероятно, что в ней говорила материнская любовь. Каждая запись в дневнике была пронизана этой любовью, как и нарастающим удивлением по поводу того, что с годами сын все больше походил на отца.
Переезд в первую в жизни отдельную комнату подействовал на Винченцо самым благоприятным образом. В школе он был одним из первых – наконец-то его немецкая жизнь налаживалась. Не то чтобы Винченцо был со всем согласен, но теперь он был настроен поменять то, что его не устраивает или раздражает, а не бежать прочь.
В отношениях с Энцо недолгое перемирие сменилось новой фазой противостояния, причиной которому стала война. И не минувшая война, бушевавшая в Европе меньше трех десятков лет назад, а новая – та, что Америка вела во Вьетнаме. Винченцо всерьез увлекся книгами, оставшимися после студентов. Поначалу заинтересовался из чистого любопытства – за что же их все-таки забрали? Но вскоре обнаружил в этих книгах ответы на многие вопросы, которыми до сих пор не решался задаться, но которые словно бродили у него в крови как неизжитое наследие предков.
Когда однажды за ужином Винченцо процитировал «Манифест Коммунистической партии», Джульетте невольно вспомнился ее отец. Речь зашла о непрекращающейся борьбе рабов и свободных, богатых и неимущих, будь то на древнеримских латифундиях или автомобильных заводах Детройта, строительных площадках Западной Германии или в разрушенных вьетнамских деревнях. Энцо слушал, пока его терпение не лопнуло:
– Иди и поработай сам, прежде чем клеветать на пролетариев.
– Да я ничего не имею против пролетариев, совсем напротив. Я считаю, вы не должны позволять эксплуатировать себя.
– А про эксплуатацию вот что я скажу тебе, мой мальчик. В отличие от римского раба, я имею надбавки за ночную смену, медицинскую и пенсионную страховку. И если со мной что-нибудь произойдет, вы с мамой не умрете с голоду. То, что американцы творят во Вьетнаме, я не могу назвать иначе как свинством. Но при этом я не забываю, что это американцы освободили Сицилию от фашистов.
– Но как ты, рабочий, можешь голосовать за христианских демократов? Ты же сам себе копаешь могилу!
– Потому что твои коммунисты безбожники, – отвечал Энцо. – Ты же сам их видел, этих студентов. Они не работали ни дня. А как они обращались с той малышкой! Для них нет ничего святого. В Советском Союзе таких отправляли в ГУЛАГ. Ты знаешь, что такое ГУЛАГ?
– Откуда ты все это знаешь, из газеты «Бильд»? За всю жизнь ты не прочитал ни одной нормальной книги. Ты и говорить-то по-немецки как следует не умеешь, хотя живешь здесь больше двух лет.
Энцо вырвал из его рук Маркса:
– Вспомни, куда завели студентов твои книги. Хочешь кончить как они, да? Это же отрава, яд! Читал бы ты лучше свои учебники, математику, физику, билогию… то, что действительно пригодится тебе в этой стране.
Энцо швырнул Маркса в стену. Винченцо поднял книгу и бросил отцу в лицо. Джульетта закричала:
– Немедленно прекратите! Вы что, с ума посходили?
Ее вмешательство возымело действие. Энцо взял себя в руки. Винченцо выбежал из комнаты. Джульетта заплакала.
Подобное повторялось почти каждый вечер. И дело было, конечно, не в ГУЛАГе и не в несчастных вьетнамских детях. Это всплывали старые обиды, неизжитые споры, невысказанные упреки. Энцо можно было понять. Он защищал свой статус отца, право на авторитет, который Винченцо попирал. Мальчик же чувствовал свое интеллектуальное превосходство, но о том, что на самом деле отдаляет его от Энцо, он не имел ни малейшего представления.
Поэтому Джульетта до известной степени понимала чувства сына. Война, которую он вел с Энцо, являлась отражением бурливших в душе мальчика неразрешимых противоречий. А их причиной была взрывоопасная генетическая смесь. И чем старше становился сын, тем меньше Джульетта могла контролировать то, что с ним происходит.
Собственно, он уже и не был мальчиком. Винченцо исполнилось шестнадцать, а Энцо все еще рассчитывал совладать с его юношеским бунтарством посредством силы. До сих пор Джульетта полагала, что не существует вражды, которую не преодолеть любовью. Теперь она в этом сомневалась. Иногда и любви недостаточно, чтобы остановить распадающуюся жизнь.
Сколько себя помнила, она стремилась к свободе. И потому предоставила сыну право выбора. Даже если это означает позволить ему больше, чем ей хотелось. Все равно Винченцо не остановить. Она даже позволила бы ему уйти – куда и с кем пожелает. И приняла бы любую девушку, с которой Винченцо вздумалось бы запереться в своей комнате.
Правда была единственным, от чего ограждала сына Джульетта. Ее семейная жизнь и без того висела на волоске. Джульетта думала, что так будет лучше для всех. Она заблуждалась. Ибо ложь, даже невысказанная, – все равно грех. И даже не в том смысле, что за нее придется расплачиваться на том свете. Ложь подобна проникающей в кровь капле яда, она отравляет изнутри и уже в этой жизни требует возмездия. Джульетта же бежала от правды, потому что слишком хотела жить.
Глава 41
Летом ее авантюра с Винсентом – а это было не что иное, как авантюра двух семейных людей, которые обманывали своих супругов, чтобы в темноте гостиничного номера увидеть свет счастья, – казалась бесконечной. Это все равно как распахнуть окно в душной комнате, как тогда, в Милане. Словно действительность и в самом деле исполняла обещание, уже представлявшееся обоим несбыточной мечтой.
Свидания почти всегда проходили в отеле «Холидей Инн» на Леопольдштрассе – слишком дорогом для знакомых и родственников Джульетты и непозволительно экстравагантном для окружения Винсента. Консервативный мюнхенский истеблишмент избегал этой бетонной громады. Чего стоил один подводный ночной клуб, где гости развлекались в окружении настоящих акул.
Винсент и Джульетта никогда не спускались в ресторан, предпочитая заказывать еду в номер. Уходили и приходили в разное время и тут же договаривались о следующей встрече, чтобы лишний раз не звонить друг другу. По пути в отель Джульетта на трамвае пересекала площадь Свободы, которую строительство метро обратило в огромный кратер. Трамвай грохотал на деревянных подпорках, подобно ходулям вздымавшихся из черного жерла. Из окна седьмого этажа «Холидей Инн» открывался вид на крупнейшую в Европе строительную площадку – гигантскую футуристическую палатку стадиона «Олимпия». А глубоко под землей Энцо и его компания, как неутомимые кроты, рыли туннель от площади Свободы до Олимпийского парка.
Так перетекали секунды в минуты, минуты в часы, часы в вечность. Незаметно наступил ноябрь. Однажды вечером Винсент стоял у окна на фоне темнеющего неба, а Джульетта на кровати надевала чулки.
– Как долго это будет продолжаться? – спросил он. – Когда я возвращаюсь домой и Марианна снимает с меня пальто, я чувствую, что изменяю тебе с ней. Не ей с тобой.
Джульетта подошла, прильнула к нему сзади.
– Но ведь ты никогда не решишься на это.
– На что?
– Не оставишь жену и дочь.
Винсент оглянулся.
– Но мы не можем и дальше делать вид, будто ничего нет.
В тот вечер Джульетта, как обычно, ушла первой. Решительно пересекла темный вестибюль. Она откроется Энцо, прежде чем это успеет сделать Винсент. И она давно бы сделала это, если бы не Винченцо. Надо брать жизнь в свои руки, пока та окончательно не вышла из-под контроля.
Обговаривать свое решение с Винсентом Джульетта не стала. Просто поняла, что не вправе и дальше обманывать мужа. Энцо этого не заслужил, и она должна рассказать ему все.
Дома навстречу ей выскочил Винченцо.
– Где ты ходишь, мама? – На сыне лица не было. – Я звонил Джованни в лавку, и он не знал, где ты.
– Что случилось?
– У папы на работе авария.
Они поехали в больницу. Время ожидания, пока врачи пустили их в палату интенсивной терапии, тянулось бесконечно. Энцо лежал весь загипсованный, лицо в кровоподтеках. В шахте рухнули леса, несколько человек оказались под обломками. Рабочий-турок вытащил из-под них Энцо и его напарника. Напарник был мертв. У Энцо множественные переломы ног, поврежден позвоночник. Чудо, что он вообще остался жив.
Джульетта взяла руку мужа. Энцо смотрел на нее с признательностью. Он выглядел почти счастливым.
– Любовь моя, – прошептала она.
Он кивнул. Вид отца поверг Винченцо в состояние шока. Бывало, он злился на Энцо, даже презирал, чувствуя свое над ним превосходство. Но никогда Энцо не выглядел слабым. Он был Энцо-медведь, с которым никогда ничего не случалось. И сейчас Винченцо смягчился, забыл о всех своих претензиях к отцу. Он первый бросился помогать Энцо, когда тому разрешили встать.
А Джульетта отправила Винсенту письмо. Исписанный чернильной ручкой тетрадный лист в клетку – его ответ, – сложенный вчетверо, хранился в ее дневнике.
Мюнхен, 28 апреля 1972
Моя дорогая Джульетта,
Твое решение делает тебе честь. Разумеется, в сложившихся обстоятельствах ты должна быть с мужем. Бросить его в беде было бы непростительно. Романтическая любовь – не все, здесь ты права. Равно как и плотская. Только товарищеская любовь побеждает все. И она означает поддержку в трудные времена.
То же касается нас с тобой. Я ждал тебя восемнадцать лет, буду ждать и дальше. Это не более чем испытание, потому что мы с тобой – две половины одного целого.
С любовью, твой Винсент
8 мая 1972 года они смотрели по телевизору открытие Олимпийской линии метро. Энцо надел свой лучший и единственный костюм. Он странно выглядел в нем, сидя на диване, но никто не осмеливался пошутить на этот счет.
Бургомистр Ханс-Йохен Фогель держал речь. Репортер брал интервью у строительного руководства. Диктор говорил о тяжелых ночных сменах, неразорвавшихся снарядах времен Второй мировой, о пяти погибших рабочих и завершении строительства в рекордные сроки.
Он говорил об Олимпиаде, гостях со всего мира и новой, открытой миру Германии. Но ни словом не помянул безымянных кротов с юга, обеспечивших этот праздник.
Джульетта еще встречалась с Винсентом – иначе она не смогла бы. Но свидания раз от раза проходили все тяжелее. Энцо лежал дома, Джованни был в лавке. Когда он уезжал в Италию, Джульетте приходилось его подменять. Джованни оплатил сестре водительские права, чтобы возить Энцо на лечебную гимнастику.
Винсент ждал.
Джульетта держалась, но со временем стала чувствовать, что стойкость изменяет ей.
– Тебе надо шить, – посоветовал Винсент. – Доставь себе хотя бы эту радость.
– Я шью, – отвечала она, – не беспокойся.
На самом деле платьев она давно не шила. Иногда оказывала землякам услуги по мелочи: подшить брюки, подрубить низ юбки или обработать швы. Не особый труд и какой-никакой приработок.
Женщины в их роду всегда работали. Джульетта могла бы вспомнить свою бабушку, которая ночами выходила с рыбаками в море. Или мать, которая на Салине обрабатывала поля вместе с отцом, а в Милане подрядилась полоскать в канале белье за пару сотен лир. А dolce far niente[122] – выдумка для немецких туристов.
В целом это было время, когда менялись стили. Эпоха хиппи осталась в прошлом. Силуэты становились прямее и строже, цветы все чаще уступали место строгой клетке. Революция миновала стадию детской невинности, и борьба стала жестче, противостояния бескомпромиссней. В воздухе запахло черной меланхолией. Напалм во Вьетнаме, бомбы в американских казармах, полицейские патрули на ночных улицах. В новостных сводках все чаще мелькало слово «террорист». В июне на обложке журнала «Бильд» появилась фотография поверженного полицейским голого мужчины. «Нагой террорист больше не опасен», – гласила подпись. Баадер, Майнс и Распе[123] были арестованы.
– Вы видели его тачку? – кричал Винченцо, приклеившийся к экрану телевизора. – Там, в гараже, где была стрельба?
Изрешеченная пулями машина Баадера была «ИЗО-ривольтой». Угнанная, конечно. Как видно, преступник питал слабость к шикарным автомобилям, даром что коммунист. Джульетта едва не потеряла сознание. Она пыталась угадать цвет машины в черно-белом изображении, и с облегчением поняла, что та не серебристо-серая, как у Винсента, а белая. Невероятно, их ведь всего-то выпустили семьсот девяносто два экземпляра! И вот одну из этих машин водил самый дорогой для Джульетты человек, а другую – террорист номер один в Германии.
У Энцо были сломаны кости, но не дух. Самым невыносимым для него в этой ситуации стала невозможность кормить семью. Энцо боролся. Превозмогая боль, делал лечебную гимнастику. Каждое утро он поднимался в половине седьмого, завтракал с Джульеттой и Винченцо и вместе с ними выходил из дома. Винченцо, оседлав свой «мофа»[124], уезжал в школу, а они с Джульеттой отправлялись в лавку к Джованни. Энцо проделывал тот же путь, что и она, только на костылях. И у Джованни для него всегда находилось дело, пусть даже не приносившее прямого дохода. Главное не сидеть сложа руки.
26 августа 1972 года Энцо впервые вышел из дома без костылей, в сопровождении Джульетты и Винченцо. В этот день тайный роман Джульетты с Винсентом чуть было не открылся.
Глава 42
Джованни, только что вернувшийся из летнего отпуска на Салине, решил немного пошиковать. На то был достойный повод. С утра семейство Маркони, обрядившись во все лучшее, спустилось в метро – детище Энцо! – и отправилось на открытие летних Олимпийских игр.
В переполненном до отказа вагоне Энцо с гордостью рассказывал, как работает в метро система сигнализации и в каких местах они откапывали неразорвавшиеся бомбы. Бетонные стены станции, на которой поезд атаковала разношерстная многоязыкая толпа, были выдержаны в серо-розовых тонах. Вместе с людским потоком Маркони миновали телевышку и направились к стадиону – огромному шатру, серебрившемуся в лучах летнего солнца. Джованни собирался снять семью на фоне башни, но получалась либо семья, либо башня. И то и другое вместе не входило в кадр. А Джульетта вспоминала, как ноябрьскими вечерами бежала сюда под проливным дождем с очередной фотографией, выкраденной из семейного альбома.
– Пойдем снимешь нас где-нибудь в другом месте, – сказала она брату.
Над стадионом, куда устремилась публика, развевались флаги ста двадцати двух стран. Мюнхен напоминал старый затхлый дом, в котором вдруг распахнули все окна. В толпе говорили на всевозможных языках. Мелькали самые немыслимые одеяния. Стены, как невидимые, так и вполне материальные, разделявшие мир на Восток и Запад, Север и Юг, словно перестали существовать.
Первой по овальному стадиону шествовала Греция. За ней последовали остальные страны в алфавитном порядке. Названия некоторых из них Винченцо слышал впервые. Афганистан, Гана, Уганда – одни эти слова звучали как экзотическая музыка. Над трибунами разносились песни под аккомпанемент самых невероятных инструментов. Гигантская симфония народов – вот на что больше всего походило это действо.
А потом над их головами взвились белые голуби. СССР и США, Куба и Канада – все были здесь одинаково желанными гостями. Когда вышла Италия, Джульетта, Энцо и Винченцо принялись подпевать. Последними шли немцы, хозяева праздника. Впервые Германия не выставила единой сборной. Команды ГДР и ФРГ шли под разными флагами – федеральный орел против серпа и молота. Сопровождающие колонну девушки были в небесно-голубых, желтых и пронзительно-зеленых костюмах. Яркие цвета для яркого праздника. Мюнхен, новая олимпийская столица, восторженно аплодировал гостям, упиваясь разноцветием мира и возможностью продемонстрировать ему свое новое, дружелюбное лицо.
И Джульетта мысленно благодарила город за этот день, когда не было никаких гастарбайтеров и люди всех национальностей на равных отмечали общий праздник. Все были просто людьми.
– Клара!
Джульетта вздрогнула – она узнала голос. Девочка лет четырех, в голубом платье, белых чулках и с белым бантом в волосах, сбегала по ступенькам мимо зрительских рядов. Ее догоняла высокая блондинка – мать. На одной из верхних ступенек появился Винсент.
Все произошло слишком быстро. Их взгляды встретились, и в его глазах мелькнул испуг. Мать поймала девочку, которая бежала к продавцу мороженого, остановившегося в паре метров от Джульетты.
– Мама, я хочу «капри».
Джульетта инстинктивно отвернулась. Энцо ласково улыбнулся девочке. В матери, которая купила ей мороженое, Джованни узнал Марианну, бывшую секретаршу Винсента. Джованни оглянулся на сестру – и оба замерли. Мать взяла девочку за руку и повела вверх по лестнице. Когда минуту спустя Джульетта все же решилась на них оглянуться, семья Винсента уже исчезла.
Джульетта осталась сидеть. Винсент же повел себя так, как она и ожидала, – вернулся на место рядом с женой и ребенком и лизнул мороженое, которое, смеясь, протянула ему Клара. Джульетта попыталась снова сосредоточиться на олимпийском параде, но теперь это получалось плохо. Она поминутно оглядывалась, ища глазами Винсента. Тот был совсем рядом и в то же время будто в другой галактике.
В последующие дни Винченцо заглядывал в лавку Джованни после школы смотреть Олимпиаду по телевизору. Больше всего его впечатлили соревнования по плаванию, победителей которых впервые определяло электронное устройство. Когда американец Макки и швед Ларссон одновременно пришли к финишу в заплыве на 400 метров, электронный судья усмотрел разницу во времени в тысячные доли секунды.
4:31.981 шведа Ларссона против 4:31.983 американца Макки, с недоумением уставившегося на электронное табло. Винченцо подсчитал: за две тысячные доли секунды швед опередил соперника на три и одну десятую миллиметра. Этот случай наглядно демонстрировал, какое ничтожное расстояние отделяет победу от трагедии – всего три и одна десятая миллиметра.
А утром пятого сентября в новостях сообщили, что террористы захватили в заложники израильских атлетов.
В первой половине дня соревнования шли своим чередом, словно ничего и не случилось. Винченцо включил телевизор сразу, как только вернулся из школы. На экране появился человек в маске с «калашниковым» в руках. Так Винченцо впервые услышал слово «террорист». Спортсменов похитили на глазах у всего мира – уму непостижимо… Но еще больше Винченцо волновал вопрос, что творилось в мозгах у людей, угрожавших смертью в разгар мирного праздника?
– Почему они это сделали? – недоумевал Джованни.
– Потому что их лишили родины.
– Кто лишил?
– Евреи, которые захватили Палестину.
– А почему они ее захватили?
– Потому что их преследовали в Европе.
– То есть евреи тоже потеряли родину?
– Да.
– И что, теперь палестинцы придут в Европу?
– Видимо. Никто не живет дома.
Ночью история с заложниками закончилась кровавой катастрофой. Все спортсмены погибли в перестрелке в аэропорту Фюрстенфельдбрук. Город был потрясен. Хозяева не сумели защитить гостей. Лучшие за всю историю Олимпийские игры вмиг обернулись несмываемым черным пятном на разноцветной мюнхенской жилетке. Публика на трибунах оделась в траур. Вместо веселых песенок звучала «Героическая симфония» Бетховена.
Никогда еще в лавке Джованни не было такого тихого телевизионного вечера. Гастарбайтеры из арабских стран понимали, что их ждут тяжелые времена, – даже тех, кто совершенно не причастен. Другое дело итальянцы, которые, как члены Европейской рабочей группы, были защищены куда лучше. Неевропейцам же в самое ближайшее время угрожала высылка на родину. В основном в страны, где правила диктатура, – в страны, ставшие бедолагам чужими за годы эмиграции.
Никто не живет дома.
Записи в дневнике раз от раза становились немногословнее и суше. Безнадежность нагнеталась. Джульетта продолжала встречаться с Винсентом, все так же тайно и без прежнего оптимизма. Ее заметки перемежались вырезками из газет, отражавшими мрачные настроения того времени, причем не только среди арабов. Энтузиазм пятидесятых иссяк. Воодушевление шло на убыль, пока наконец к 1973 году страна не затаилась в напряженном ожидании будущего.
Энцо стал искать работу сразу, как только освободился от костылей. Джульетта помогала ему рассылать запросы. Она не могла оставить Энцо, пока приходилось одной кормить семью. В глубине души Джульетта надеялась на лучшее, но работодатели отказывали Энцо. Прежде всего, по причине проблем с позвоночником, из-за которых отбойный молоток был ему теперь не по силам.
Энцо имел право подать на пособие по инвалидности, но это шло вразрез с его принципами. Он не хотел быть нахлебником у государства, считал, что должен зарабатывать на хлеб своими руками. Поэтому он уговорил Джульетту сходить с ним к врачу, с тем чтобы заручиться справкой о полном выздоровлении. Но и после этого работодатели не спешили с предложениями. Метро было построено, а Олимпиада здорово подкосила экономику страны. К тому же Энцо интересовали места с умеренной физической нагрузкой – например, механика или водителя вилочного автопогрузчика на рынке. Но его никуда не брали.
– Вот видишь, – сказал Винченцо, – тебе все-таки придется выучить немецкий язык.
– Дело не в этом, – отмахнулся Энцо. – Мотор я могу починить хоть у китайца.
– Прекратите! – испугалась Джульетта.
– И вообще дело не во мне, – добавил Энцо. – Здоровых нынче тоже никуда не берут.
И действительно, даже немецкие рабочие впервые за долгое время не чувствовали уверенности в завтрашнем дне. Когда в шестидесятые кто-то терял работу, то лишь пожимал плечами, потому что знал, что скоро найдет новую. Чего-чего, а работы было в избытке. Нынешняя ситуация удивляла многих. И если «революционеры-68» признавались, что их идеалы разбились о реальность, то рабочие вдруг почувствовали, что все они заменимы. Неужели капитализм победил?
На самом деле все обстояло куда хуже. Это было начало процесса, ныне называемого глобализацией. Если в 1955 году Германия открыла границы для иностранных рабочих, то в 1973-м Европа впервые осознала свою зависимость от остального мира. И все опять оказалось связано с машинами.
Собственно, все началось с войны, в которой ни Джульетта, ни Энцо, ни Винченцо не участвовали, но последствия которой ощутили на себе в полной мере. Она получила название «Войны Судного дня» и разгорелась на восточном побережье Средиземного моря. Семь арабских государств ввели эмбарго на продажу нефти сюзникам Израиля – странам Западной Европы и втрое повысили цену на сырую нефть. Черная кровь остановилась в жилах мировой экономики. Бензин, до тех пор бывший дешевле минеральной воды, подорожал почти вдвое.
25 ноября Джульетта с Джованни, Энцо и Винченцо прогуливались вдоль пустого автобана в направлении Италии. Было воскресенье, на дороге попадались только пешеходы да одинокие велосипедисты. Царило странное настроение, что-то между народным праздником и апокалипсисом. Полицейская машина со слабым мотором, пыхтя, преследовала промчавшийся мимо мятежный «порше» – с минимальными шансами на успех.
– Будущее принадлежит электромобилям, – заметил Винченцо.
– Оставь, пожалуйста, – оборвал его Энцо. – Войны начинаются и заканчиваются. Бензин, так или иначе, будет.
Федеральное правительство отреагировало на кризис мерой, которая потрясла всех, а именно запретом на импорт рабочей силы. Германия закрыла границы для гастарбайтеров. Бюро по найму выходцев из Южной Европы, Турции и Северной Африки закрылись. Это означало конец целой эпохи.
С 1955 года на работу в Германию прибыло в общей сложности около сорока миллионов человек. Многие, как и было запланировано, уехали обратно. Но многие остались – около трех миллионов.
Джульетта готовила эспрессо, когда на телеэкране возникло лицо Вилли Брандта. В лавке, в слабом неоновом свете, сидели Джованни, Винченцо, Энцо и их друзья с рынка – Йоргос, Мустафа, Алема. Они курили дешевые сигареты. Отопление не работало, поэтому оконные стекла запотели.
– Пришло время проявить социальную ответственность, – говорил федеральный канцлер, – и всерьез задуматься, сколько еще иностранцев в состоянии принять наше общество.
Другими словами, «гости» стали нежелательны.
– Как в Турции с работой? – спросил Энцо Мустафу.
Тот покачал головой:
– Чертова Турция.
Мустафа был курд. Поэтому ни он, ни его жена, ни двое детей не имели будущего в родной стране. Йоргос также не испытывал большого желания возвращаться в Афины, где к власти пришла военная диктатура.
– Теперь того из нас, кто куда-нибудь уедет, немцы назад не пустят, – заметил Энцо.
– Так забирай сюда жену и детей, пока не поздно, – сказал Йоргос Мустафе. – И ты, Джованни.
Винченцо задумчиво смотрел на взрослых.
Никто не живет дома.
В тот же вечер Джованни позвонил на Салину и добрых полтора часа пререкался с Розарией. Кто-то из них должен был уступить, кому-то пришлось бы покинуть место, которое он считал домом. В полночь Джованни пришел к Джульетте. Винченцо не спал – помогал матери составлять объявления о поиске места для Энцо. Отопление не работало, поэтому мать и сын сидели в шерстяных свитерах. Винченцо впервые увидел слезы в глазах дяди, запас шуток и оптимизма которого только казался неисчерпаемым.
– Переезжай к нам, Джованни, – предложила Джульетта. – Нам все равно придется искать соседа. Это дешевле, чем снимать целую квартиру.
– Спасибо, но нет.
– Она не приедет сюда, Джованни.
– Если я сейчас оттуда съеду, это будет означать полный крах всех моих усилий. Нет и нет, Джульетта. Лучше я буду неделями питаться одной pasta e fagioli, чем оставлю нашу квартиру. А Розария когда-нибудь вернется, и мои дети будут ходить в немецкую школу. Она упряма как сицилийский осел, но и я упрямый. Подожду, пока эту чертову Салину не поглотит морская пучина.
Энцо оставил безнадежные поиски. Он не жаловался, но стал позже вставать, целые дни проводил у радиоприемника. В те времена в эфире безраздельно царствовала Angie[125]. Даже «Роллинги» прониклись общим меланхолическим настроением.
Ты прекрасна, Энжи, Но не время ли сказать нам «прощай»…Винченцо блестяще закончил полугодие, и это была едва ли не единственная радость в семье. Он стал приводить домой друзей – замечательных немецких мальчиков, боязливо озиравшихся в итальянской квартире. Бывали, впрочем, и девочки, некоторые из которых, как замечала Джульетта, проявляли к Винче повышенный интерес.
Она была рада, что сын наконец нашел общий язык с одноклассниками. Но боялась, что теперь двое ее мужчин – а Винченцо больше нельзя было считать ребенком – совсем отдалятся друг от друга и любая попытка наведения мостов потеряет смысл. Однако, к немалому удивлению Джульетты, отношения Энцо и Винченцо, напротив, наладились. Сын старался помогать отцу и даже перестал отпускать в его адрес язвительные комментарии. Они вместе возились во дворе с «веспой» Винченцо, иногда даже гуляли по снегу. Как будто Винченцо надо было стать опорой Энцо, чтобы признать в нем отца. А Энцо был благодарен сыну за то, что тот не самоутверждался за счет его слабости.
– Наконец я снова обрел в нем сына, – признался он как-то Джульетте, перед тем как идти спать.
Джульетта спрашивала себя, как такое могло получиться. И решила, что Винченцо сочувствует отцу, потому что увидел в нем самого себя. Не преуспевающим гимназистом, а жалким, презираемым всеми «макаронником» в школе средней ступени, каким был совсем недавно.
Встречи с Винсентом проходили словно бы на другой планете. Он, конечно, тоже был озабочен кризисом, но потерять место ему не грозило. Совсем напротив, Винсента повысили до должности технического директора. Теперь он работал в другом корпусе, совсем неподалеку от Олимпийской деревни. На восемнадцатом этаже, откуда можно было увидеть даже Альпы. В мире Винсента все желания исполнялись. Джульетте оставалось только недоумевать, зачем он вообще до сих пор с ней встречается.
– Я не нужна тебе, – сказала она как-то в тишине гостиничного номера. – У тебя есть все.
– Ты нужна мне, – возразил Винсент.
– Зачем? Я только жалуюсь тебе на жизнь. А для этого у тебя есть жена. Любовниц заводят с другой целью.
– Ты не любовница, – ответил Винсент. – Ты моя Джульетта.
– Я уже не та. У меня такое чувство, будто за последний год я состарилась лет на десять.
Она отвернулась. Хорошо, что в номере всегда стоял полумрак, позволявший Винсенту забыть о ее возрасте. Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза.
– Ну и что? – спросил он. – Я тоже старею. Разве это не прекрасно, стареть вместе?
– Висент, возможно, нам придется вернуться в Италию.
Он испугался:
– Почему?
– Потому что все изменилось. Мы больше не нужны этой стране. Энцо здесь никто. Дома, на «ИЗО», его, по крайней мере, ценили. Наши сбережения подходят к концу. Если он ничего не найдет, то мы уедем.
– А Винченцо?
– Он продолжит учиться в Италии.
– Ты этого хочешь?
– Не знаю.
Она уткнулась ему в плечо, вдохнула знакомый запах. Захотелось забыться, закрыть глаза.
А потом они любили друг друга и никак не могли насытиться.
Глава 43
В феврале 1974-го Энцо уехал в Милан ночным поездом. На Центральном вокзале сел на трамвай до Брессо, где находился завод «ИЗО». Солнце едва просачивалось сквозь утренний туман, но Энцо был счастлив слышать вокруг родную речь – миланский диалект, когда-то казавшийся ему, уроженцу юга, таким чужим и холодным. Энцо вернулся домой. Предложи «ИЗО» прежнее место, он не стал бы раздумывать ни секунды. Джульетте, так или иначе, придется смириться. В конце концов, она должна понять, что ее мечта о карьере модистки и в Германии останется мечтой.
Как только Энцо сошел с трамвая и полной грудью вдохнул воздух предместья Брессо – запах угольных печей и утреннего тумана, с нотками свежемолотого кофе из ближайшего бара, – на сердце сразу полегчало. Он прошел в заводские ворота и обомлел. В предбаннике перед цехом, где раньше стояли мотоциклы рабочих, было пусто. Часы показывали девять, утренняя смена давно началась. Снаружи щебетали птицы – непривычный звук для этого места. В следующий момент Энцо понял его причину: изнутри, где находился сборочный цех, не доносилось ни привычного стука, ни голосов, ни скрежета. Зловещая, мертвая тишина.
Энцо толкнул металлическую дверь и вошел. Сквозь огромные окна пробивался тусклый утренний свет. Энцо огляделся – вокруг не было ни души. На конвейере стояли два шасси с двигателями и коробками передач, без кузовов. На полу валялись винты, ящики, слесарные инструменты. Раньше здесь было чисто как в больнице.
– Энцо! – Он узнал голос Пьерлуиджи из монтажной бригады. – Что ты здесь делаешь?
Пьерлуиджи вышел из огороженной травленым стеклом комнаты для совещаний и раскрыл объятия старому другу. Он заметно прибавил в весе, раньше выглядел лучше.
– Что здесь случилось?
– Так ты ничего не знаешь?
– Я слышал, что у вас трудности, но…
– Трудности? Это катастрофа!
– Но в чем дело? Новые модели… «Фидиа», «леле»… это же хорошие машины.
– Отличные, я бы сказал, – синий металл плюс белая кожа…
Пьерлуиджи показал на только что смонтированный лимузин «ИЗО-фидиа», по габаритам и скорости превосходящий «мерседесы» S-класса:
– Даже у Джона Леннона есть такая. Но знаешь, сколько мы их продали за последний год?
Энцо покачал головой.
– Двадцать штук.
– Но у вас вроде бы появился инвестор… из Нью-Йорка?
– Ах, оставь, пожалуйста… Он сделал из Пьеро Ривольты марионетку и уничтожил нас. Американский менеджмент! Черт его подери! В автомобилях они разбираются, как монашка в Камасутре.
Энцо так и застыл.
– Мы были одной семьей, – продолжал Пьерлуиджи, – но под конец стали слишком слабы. Сегодня мы не можем производить лучшие автомобили в мире, только самые востребованные. Массовая продукция – вот что нам остается. – Пьерлуиджи дернул плечами. – Кто сегодня может позволить себе машину, которая потребляет бензина как океанский лайнер? Это при нынешних-то ценах на топливо! Спортивные автомобили стоят разве что в витринах. Нефтяной кризис сломал нам хребет.
Энцо молчал. Прекрасная «фидиа» была не по карману ему и Пьерлуиджи. Но они гордились, что производят такие машины.
– Золотой век «гран-туризмо» стал историей. – Пьерлуиджи подобрал с пола болт. – И это прискорбно. Через два-три года наши дороги заполонят безликие азиатские колымаги.
Энцо подошел к лимузину. Какой дерзкий, уверенный в себе контур! Провел пальцами по сверкающему логотипу на радиаторе – грифон, фамильный герб Ривольты.
– Так зачем ты приехал, Энцо? – спросил Пьерлуиджи.
– Просто приехал.
– Надолго?
– Нет.
Вскоре после возвращения отца Винченцо после школы зашел в лавку к Джульетте. Она подшивала брюки в своей комнатушке.
– Голодный? – спросила Джульетта, не поднимая глаз от швейной машинки.
– Я бросаю школу, мама.
Джульетта сняла ногу с педали.
– Пойду работать. Мне не нужен университет, аттестата о среднем образовании вполне достаточно.
– Что ты такое говоришь? Ты же хотел учиться!
– Ты тоже хотела стать Коко Шанель.
Джульетта чуть не заплакала. Винченцо подошел к ней и положил руку на плечо.
– Мама, мы не можем жить на одно твое рукоделие. Ты делала для меня все, теперь моя очередь.
Джульетте стало стыдно. Ведь это она не открыла ребенку всей сложности ситуации. Но как теперь быть?
– Тебе остался год, потерпи!
– В восемнадцать лет ты уже работала, мама.
– Только для того, чтобы у тебя все сложилось лучше.
И снова она винила лишь себя. В том, что в свое время не предоставила сыну лучших возможностей. Винченцо угадал ее чувства.
– Мне скучно в школе, мама. Сейчас я пойду к папе и…
– Нет, Винченцо. – Она поднялась со стула. – Ты останешься и закончишь курс в гимназии.
Джульетта испугалась резкости собственного голоса, тут же вспомнила Винсента. Он не одобрил бы ее вспыльчивости.
– Мне жаль тебя огорчать, мама…
– Пока тебе нет двадцати одного года, решать буду я. И меня совсем не огорчает то, что мне приходится зарабатывать деньги. Хочешь видеть меня счастливой – поступай в университет. Знаешь, какой из грехов самый непростительный? Зарыть талант в землю.
В глазах Джульетты стояли слезы. Винченцо поцеловал мать в щеку.
– Спасибо за все, что ты для меня сделала, но пришло время отдавать долги.
Винченцо повернулся и вышел из лавки. Джульетта не смогла его остановить. Ей было больно. Это ведь родители должны заботиться о детях, не наоборот. Кроме того, она чувствовала гордость – горькую гордость. Сын неожиданно стал взрослым.
Когда она рассказала обо всем Винсенту, тот выпалил:
– Невозможно!
Они лежали в постели.
– Он настроен решительно, Винсент. Мне не удалось его уговорить. Конечно, я попробую еще. Хотя бы не бросать гимназию. Вот если бы он мог в твоей фирме…
– Исключено.
Винсент выбрался из постели.
– И что мне делать?
– Приходи завтра в мой кабинет.
– С Винченцо?
– Нет, с Энцо.
Джульетта посмотрела на него с недоумением.
– Я устрою Энцо на работу.
– Но…
– А Винченцо будет продолжать учиться.
Она была поражена его великодушием. Винсент был готов позаботиться даже об Энцо. Но Джульетта не могла принять такого подарка.
– Молчи… – Он угадал ее мысли.
– Собственно… мы писали запрос в прошлом году… но в «БМВ» нам отказали… Тебе известно, что после того случая… Энцо уже не может работать, как раньше…
– Не беспокойся. Я поговорю с директором по персоналу. Он мне кое-чем обязан.
Джульетта не нашла слов. Просто взяла его за руку.
– Ты ведь хочешь, чтобы у нашего сына было будущее?
У входа в главный корпус «БМВ» дул сильный ветер. Был один из тех мартовских дней, когда в воздухе не чувствуется и намека на весну. Деревья стояли голые. Разве что зимний вороний грай сменился неумолчным щебетом. Перед футуристическим строением развевались флаги. Здание располагалось рядом с Олимпийским парком, и закладывали их примерно в одно время. Четыре цилиндрические башни – воплощенная в бетоне, стекле и стали вера в будущее автомобильной промышленности. Или же просто в будущее, которое наступит благодаря автомобилям.
Энцо надел костюм. Джульетта выбрала скромный синий жакет с юбкой – и никаких украшений. Она надеялась, что Энцо не заметит ее волнения. Объяснила ему, что случайно встретила Винсента в магазине, ingegnere della Isetta[126].
– В Милан он приезжал совсем мальчиком, – удивился Энцо.
– А сейчас он главный технический директор.
Энцо пробежал глазами по ряду припаркованных у входа спортивных автомобилей. Джульетта подталкивала его ко входу.
– Этот кузов, – ткнул пальцем Энцо, – проектировал итальянец. Микелотти. А этот от Бертоне…
– Идем же, Энцо!
Но Энцо не нужно было толкать в спину. Невозмутимый и исполненный достоинства, он приблизился к воротам.
Джульетта не понимала, что у него в голове. Предложение от «БМВ» Энцо принял подозрительно легко. Как мог он, мужчина, так спокойно согласиться на посредничество жены в таком деле? Куда подевалась его сицилийская гордость?
Вестибюль выглядел как декорация фантастического фильма. Энцо подошел к изогнутой стойке, за которой сидела дама в клетчатом костюме с огромным воротником.
– Добрый день, – улыбнулась она. – Чем я могу вам помочь?
– Я Маркони, Энцо.
– У вас… назначено?
Джульетта решила молчать, предоставляя Энцо в полной мере насладиться триумфом.
– Да, встреча с доктором Шлевицем.
Дама прижала к уху телефонную трубку:
– Здесь господин и госпожа Маркони.
Секретарша Винсента проводила их в кабинет.
«Винсент всегда предпочитал хорошеньких секретарш», – подумалось Джульетте. Эта годилась ему в дочери.
Винсент поднялся из-за стола и шагнул им навстречу. Все выглядело настолько официально, что Джульетте стало не по себе. Кроме того, смущали детали обстановки, которые Джульетта заметила прежде, чем он успел протянуть ей руку.
На полке модель «изетты». На столе фотографии в рамках, которые она могла видеть только с обратной стороны. Но главное – сам Винсент в сером костюме-тройке, непривычно холодный и властный. Джульетта явно была здесь лишней – во всяком случае, в своей будничной, дневной ипостаси. Еще хуже вписывалась в этот антураж фигура Энцо.
Приветствие Винсента показалось Джульетте чрезмерно официальным. Он лучше, чем она, умел скрывать чувства. Сначала протянул руку ей, потом Энцо.
– Рад, что вы нашли для меня время. Кофе?
Джульетта кивнула.
Винсент подвел гостей к креслам из зеленого корда и попросил секретаршу принести кофе. Потом подсел к ним.
– Я знаю о продаже завода «ИЗО», – начал он. – Какая потеря! Я свою не поменяю ни на что другое, великолепная машина.
Энцо молчал. Джульетта полезла в портфель за бумагами Энцо. Она чувствовала, как воздух вокруг них с Винсентом буквально вибрирует. Один Энцо выглядел невозмутимым. Он забрал у Джульетты папку с бумагами.
– Сегодня вся производственная сфера испытывает трудности, – продолжал Винсент. – И в том, что мы все-таки расширяемся, несмотря на нефтяной кризис, безусловно, есть заслуга и иностранных сотрудников.
Он говорил и говорил. Очевидно, это было ему нужно.
– Мы научились использовать их потенциал. У нас есть переводчики, прямо на производстве, языковые курсы, заводская газета на нескольких языках… У нас появились иностранные мастера и бригадиры.
Энцо молчал. Вошла секретарша, поставила чашки на стол. Эспрессо – не какой-нибудь фильтрованный кофе.
– Можете считать его моей слабостью, – улыбнулся Винсент.
Джульетта поднесла чашку к губам. Энцо к своей не притронулся. Он не спешил, давал Винсенту возможность высказаться. Джульетте становилось не по себе все сильнее. Такое впечатление, будто это Винсент пришел к Энцо наниматься на работу, не наоборот.
– Прекрасный кофе, – похвалила она.
– Но вы ведь уже пытались устроиться на «БМВ»? – спросил Винсент.
– Да.
– Мы принесли отказное письмо… – Джульетта взяла папку из рук Энцо и вытащила бумагу.
– Я объяснил в отделе по персоналу, на каком уровне вы работали на «ИЗО». Если они там вообще что-нибудь слышали о ручной сборке… У нас, конечно, все автоматизировано.
Энцо внимательно изучал Винсента – или Джульетте так казалось? Все это было невыносимо. Она уже жалела, что свела их. Винсент и Энцо принадлежали разным мирам. Нельзя смешивать реальность и мечту, иначе рискуешь окончательно потерять ориентацию. Разучиться отличать действительность от фантазии.
Винсент взял у Энцо письмо, читать не стал. Джульетта протянула ему удостоверение мастера.
– У нас открылся новый завод в Дингольфинге, – сказал Винсент, пробежав глазами удостоверение. – Мы можем предложить вам там место в монтажном цехе. Контракт на один год.
Джульетта улыбнулась и покосилась на Энцо. Тот оставался дружелюбен, но особой радости не выказывал.
– Всего полтора часа езды отсюда, – продолжал Винсент, – на электричке. Хотя, конечно, там есть общежитие.
Винсент остановил на Энцо вопросительный взгляд. Джульетта начинала терять терпение. Наконец раздался голос Энцо:
– Нет, спасибо.
У Джульетты перехватило дыхание.
– Конечно, если вы предпочитаете работать в Мюнхене… – спохватился Винсент.
– Нет, спасибо, – повторил Энцо. – Я возвращаюсь в Италию.
– Энцо! Che dici![127]
Энцо поднялся и протянул Винсенту руку:
– До свиданья, dottore. Piacere[128]. – И по-итальянски обратился к Джульетте: – Мы уходим.
Та не сразу смогла сдвинуться с места. Потом поднялась, чтобы вернуть Энцо, и многозначительно посмотрела на Винсента. Энцо уже прощался с секретаршей.
– Что с тобой случилось? – спросила она мужа. – Или есть предложения из Италии?
Двери лифта закрылись. Энцо нажал на кнопку первого этажа.
– Нет.
– Тогда почему ты отказался? Если не хочешь в Дингольфинг, он готов подыскать тебе место в Мюнхене. Мы должны радоваться, что у них вообще есть вакансии.
Энцо молчал.
– Тогда зачем ты сюда приехал?
Энцо молча смотрел на нее, пока лифт не остановился.
– Я хотел его увидеть, – ответил он. (Желудок Джульетты сжался.) – Винченцо не слишком похож на него.
Двери разъехались, Энцо вышел в вестибюль. Джульетта осталась стоять в лифте.
На улице она побежала за ним, не замечая сломанного каблука. Схватила за руку:
– Энцо! Что ты такое говоришь?
Он развернулся:
– Хватит врать, Джульетта. – Он смотрел ей в глаза. Его буквально трясло от гнева. Но откуда он мог это узнать? – Я пошел к врачу, когда мы никак не могли завести второго малыша…
Она затаила дыхание.
– Врач сказал, что у меня вообще не может быть детей.
– Но почему ты мне ничего не сказал?
– Потому что… – Энцо отчаянно пытался с собой совладать, – потому что другая семья мне была не нужна.
Земля уходила из-под ног, Джульетта искала опору. Краем глаза она заметила выходящего из ворот Винсента. Он остановился и посмотрел на них. Энцо схватил жену за рукав:
– Я хочу одного… Чтобы эта история закончилась, раз и навсегда.
Следующие несколько дней Джульетта жила в аду. Когда тайное становится явным, стыд обращается в боль. В чувство, будто с тебя сорвали всю одежду. Винченцо так ничего и не узнал, но не мог взять в толк, что случилось с матерью. За столом Энцо вел себя как обычно – говорил о погоде, обсуждал последние новости и предстоящий на следующей неделе день рождения Джульетты.
Ей было бы легче, если бы он орал на нее, устроил скандал, тогда можно было бы наконец освободиться от невысказанного. Нужен был взрыв, чтобы испепелить это мерзкое показное благодушие. Но Энцо не давал ей ни малейшего повода, а сама она скорее откусила бы себе язык, чем открыла правду Винченцо. Разве простит он мать, которая лгала ему всю жизнь? Потерять Винченцо Джульетта боялась больше всего.
Она позвонила Винсенту из телефонной будки на рынке. Дрожащим пальцем набрала его служебный номер.
– Энцо все знает. – Она слышала дыхание Винсента на другом конце провода. – Я ничего не говорила ему.
– Но как он узнал? И когда?
– Он не говорит.
– А Винченцо?
«Он думает о своем сыне, не обо мне», – пронеслось в голове Джульетты.
– По-прежнему ни о чем не догадывается.
– Я на вашей стороне. Я позабочусь о нем, обещаю.
Джульетта не понимала, что Винсент имеет в виду. Он ведь всегда заботился о сыне.
– Я разведусь, если хочешь, – продолжал Винсент. – Но ты должна быть мужественной.
Ее едва держали ноги.
– В пятницу вся семья соберется на мой день рождения. Что я должна им сказать?
– Правду.
Глава 44
Джульетта этого не сделала – ни в день рождения, ни до. Пронесшийся над Мюнхеном сумасшедший мартовский шторм смел остатки зимы. В пятницу утром Джульетта ходила в парикмахерскую и заглянула к Винсенту. Семья ждала ее дома, Джованни даже испек торт.
На пустой парковке перед главным корпусом «БМВ» весенний ветер трепал флаги. Земля под деревьями была покрыта сломанными сучьями. Джульетта поплотней закуталась в шарф. День для свидания был самый неподходящий, но Винсент сам попросил о встрече. Он волновался, но глаза заблестели, стоило ей только появиться.
– Я хочу показать тебе кое-что, идем.
– Меня ждут дома.
– Это ненадолго. Подарок… Закрой глаза.
Джульетта вздохнула и прикрыла глаза ладонью. Винсент повел ее через парковку. Всего несколько шагов – но она сгорала от нетерпения. Пробовала подглядывать сквозь пальцы, но ничего не различала за бьющим в глаза светом.
– Можно! – послышался наконец голос Винсента.
Джульетта отняла ладонь от лица. Винсент что-то держал в руке, какую-то металлическую штуку, сверкавшую на солнце. Поначалу Джульетте показалось, что это украшение, кольцо или браслет, которое она сможет носить лишь втайне от семьи. Винсент улыбался. Она посмотрела на него вопросительно. Он сделал шаг в сторону – и тут она поняла все.
За спиной Винсента между темно-серыми лимузинами стоял ярко-красный «шевроле-альфа-ромео». Чувственные изгибы, сверкающий хром – по виду модель пятидесятых, когда дизайн не был таким функциональным и каждая машина имела свое лицо.
– С днем рождения. – Он протянул ей ключи.
Джульетте потребовалось несколько секунд, чтобы прийти в себя.
– Нет, Винсент, я не могу… Ты сошел с ума.
Он подвел ее к машине. Верх был поднят, хромированные детали, черный лак, красная кожа – все поблескивало.
– Посмотри, что здесь написано…
Он показал на трехспицевое рулевое колесо. В центре золотился герб Милана – змея, крест и полумесяц. Под ним изящным шрифтом было выведено: «Джульетта».
Имя машины.
– Год выпуска 1955-й.
Год, когда родился Винченцо.
Винсент улыбался.
– Ты с ума сошел…
Кровь бросилась Джульетте в лицо. Винсент кивнул на конверт, лежавший на приборной панели. Дрожащими руками Джульетта взяла его и вытащила два билета. «Волшебная флейта» – и не в Мюнхене, а в «Ла Фениче», в Венеции.
– Ты с ума сошел, – повторила она.
– Мы с тобой давно хотели там побывать. Сумасшествие – столько лет мечтать о том, что так просто сделать.
Джульетта посмотрела на дату – завтра вечером.
– Но, Винсент… как я это объясню?..
– Вчера вечером я все рассказал Марианне. Так лучше для всех.
Джульетта ужаснулась. До сих пор любая попытка сблизиться с Винсентом оборачивалась какой-нибудь катастрофой, вроде несчастного случая с Энцо. Джульетта была суеверна – наследие матери-сицилианки. От себя не уйдешь, вся ее жизнь казалась тому подтверждением.
Винсент обнял ее. Джульетта вдохнула его запах и вдруг вспомнила, что особенно нравилось ей в Винсенте. Именно то, что он напрочь отвергал это проклятое убеждение о неизбежности предначертанного.
Джульетта обхватила его шею, прильнула к лицу, поцеловала.
– Я хочу жить с тобой, Винсент.
– А я с тобой… И я не намерен ни с кем тебя делить. Либо мы вместе, либо нет.
Она кивнула.
– Значит, завтра в семь утра, – сказал он. – Здесь, возле машины.
Вся семья была в сборе. Джованни украсил лавку гирляндами. Розария, приехавшая по такому случаю с Салины, привезла лучшую «Мальвазию». Винченцо и Энцо подарили Джульетте оранжевый радиобудильник. Все обнимали ее, желали счастья. Но Джульетта слышала только, как бьют часы в церкви неподалеку.
Ночью, лежа в постели рядом со спящим Энцо, она смотрела, как сменялись белые цифры на табло радиобудильника. Ноль – единица – пятьдесят восемь, ноль – единица – пятьдесят девять, ноль – двойка – ноль – ноль… Словно один за другим опадали листья с осеннего дерева. Жизнь уходила, утекала сквозь пальцы.
Джульетта поднялась, тихо вышла на кухню, села за стол и открыла дневник. Через час сварила себе кофе, сразу стало легче. Никто не слышал ее. Только на мгновенье стало не по себе от ощущения, будто некая сторонняя сила обрела над ней власть. Джульетта прошла в ванную, собрала самое необходимое. Захватила два платья из шкафа – легкое весеннее и вечернее; туфли, чулки и белье. Все уместилось в небольшом чемодане. Наконец положила в сумочку дневник.
На пороге спальни бросила на Энцо прощальный взгляд. Во взгляде ее не было раскаяния, лишь сожаление, что она не смогла дать мужу того, что он заслуживал. Открыла дверь в комнату Винченцо, подошла к кровати, поцеловала сына в лоб. Его кожа была теплой, дыхание ровным. Сердце разрывалось от нежности.
Она открыла входную дверь и выскользнула на лестницу. Спускалась, прильнув к перилам, чтобы не шуметь. Оглянулась на почтовые ящики и вышла из подъезда. Снаружи было темно, прохладный воздух пах апрелем. Джульетта побежала, все быстрее и быстрее.
Восход они должны были встретить в машине, по пути в Венецию.
Глава 45
Теплый ветер гулял у меня в волосах. За наполовину приспущенным окном поднималось над холмами солнце, золотилось в силуэтах кипарисов. Мы проезжали Флоренцию. Я закрыла дневник и посмотрела на Винченцо:
– Неужели она ничего не оставила? Ни записки, ни прощального письма…
Винченцо покачал головой, не сводя глаз с дороги. Похоже, это и у него по-прежнему вызывало вопросы.
– Она и в самом деле решила его бросить?
– Что она пишет? Читай!
Я снова открыла дневник. Следующая страница оказалась чистой. И следующая.
– Ничего. Записи обрываются на полуслове.
Я показала пустой разворот. Винченцо глянул и тут же перевел взгляд на дорогу.
– Так что случилось?
– Я не знаю.
– Как это не знаешь?
– Не знаю, черт тебя подери! – И ударил по рулю.
Я испугалась. С чего это он вдруг так разозлился?
Некоторое время мы молчали. Потом Винченцо нервно рванул бардачок и вытащил несколько компакт-дисков. В этой машине плеер был, пожалуй, единственной деталью из нашего столетия. Правда, песня оказалась старой. Я вроде бы уже слышала ее, только не вспомнить где и когда. Но она меня тронула. Когда я снова повернулась к Винченцо, у меня в глазах стояли слезы.
If I could save time in a bottle The first thing that I’d like to do Is to save every day till eternity passes away Just to spend them with you[129].– Как раз тогда вышел сингл, – сказал Винченцо. – Я заслушал его до дыр. Джим Кроче, знаешь?
Я покачала головой.
– «Кроче» по-итальянски «крест». Его родители были итальянцами.
Чего он от меня хочет?
If I could make days last forever If words could make wishes come true I’d save every day like a treasure and then Again, I would spend them with you[130].– Он написал это для сына, когда узнал, что жена беременна. Джиму Кроче было двадцать восемь или около того. Он водил грузовик и был не очень успешным музыкантом. Никто не хотел записывать его пластинку. А потом он вдруг ворвался в хит-парады, с другими песнями, не такими печальными. И все стало замечательно, до той авиакатастрофы. Никто так и не понял, что случилось. Видимость отличная, и самолет в порядке – и вдруг врезался в дерево. Джиму было тридцать, и…
Винченцо замолчал. Я похолодела. До меня медленно доходило, что он хотел сказать. Ведь глядя на меня, Винченцо видел ее.
Часть третья
Глава 46
Джульетта так и не доехала до Венеции. Домой она тоже не вернулась, хотя, наверное, была счастлива в последние часы и минуты своей жизни.
Был солнечный мартовский день. Теплый ветерок гулял в Альпах. В воздухе стоял запах цветов и талой воды. Они ехали с открытым верхом. Джульетта сидела за рулем, так Винсент позже говорил в полиции. «Альфа-ромео» не издавал никаких подозрительных звуков. Он был в идеальном состоянии, несмотря на свои девятнадцать лет, и двигался на вполне безопасной скорости.
Поднимаясь по серпантину к перевалу Бреннер, автомобиль вел себя как отлаженный часовой механизм. Они предпочли эту дорогу новому туннелю, потому что по ней ехал в Италию Винсент больше двадцати лет тому назад. Джульетта петляла, как заправский гонщик, обогнала неуклюжего «жука», наслаждаясь приглушенным пением мотора. Такие «оперные» звуки издают только итальянские машины с небольшим объемом двигателя.
Потом похолодало – как-никак на скалах еще лежал снег, пусть и быстро таявший на весеннем солнце. По асфальту бежали серебристые ручейки.
На вершине, укутавшись во все, что у них имелось, они не стали тратить время на отдых на автостоянке, а сразу продолжили путь дальше, на юг. Свет изменился, как будто кто-то вдруг вкрутил другую лампочку. Все стало прозрачнее, чище. Это был свет вечности. Винсент сфотографировал Джульетту, улыбающуюся в лучах солнца, с волосами, выбившимися из-под пестрой косынки, и сияющими от счастья глазами. Он не подозревал, что это ее последний снимок.
Состояние блаженства мимолетно. Уверенность и чувство твердой почвы под ногами – противоположность ему. Но счастливое лицо Джульетты излучало покой, это было мгновенье, слившееся с вечностью.
Тому, что произошло на перевале, не было свидетелей. Только снимок, который Винсент позже демонстрировал в суде, словно счастливая улыбка Джульетты могла служить доказательством его невиновности. Она не заметила поворота. Или нет, Джульетта нажала на педаль, Винсент услышал характерный сухой стук, хлопок, а потом непривычный скрежет. Тормоза у «альфа-ромео» были хорошие. Джульетта закричала, отвратительно заскрежетала жесть. Ржавое заграждение было плохо закреплено, но выдержало, машина скользила вдоль него еще несколько метров. Но потом железо подалось, автомобиль покачнулся, перевалился через край, и будь Винсент пристегнут, как его спутница, вместе с ней он полетел бы в пропасть.
Его выбросило из машины – так он объяснил в суде. Можно сказать, повезло. Куст, за который Винсент успел зацепиться, спас ему жизнь. Огромный красный паук, грохоча о выступы скалы, полетел вниз, потом все стихло. Никаких звуков, лишь гул ветра. И эта тишина из бездны небытия ужаснула его больше всего. Он знал, что Джульетта падала в полном сознании и без малейшего шанса на спасение.
Обо всем этом Винченцо узнал в зале суда. Проснувшись в день ее смерти, он удивился только, что мать до сих пор не встала, чтобы приготовить ему, как было заведено, завтрак. Но подумал, что она допоздна засиделась, и решил ее не будить. Однако, вернувшись из школы, Винченцо заподозрил неладное. Энцо спросил, не знает ли он, где мать. Они позвонили Джованни, подругам, но Джульетту в тот день никто не видел.
Она не объявилась и к вечеру, тут уже забеспокоился и Джованни. Винченцо не понимал, почему отец отказывается обращаться в полицию. Позже он узнал, что причиной тому было не обычное в подобных случаях недоверие иностранца по отношению к немецким властям, а нежелание обманутого мужа выставлять себя на посмешище. Энцо догадывался, что Джульетта сбежала, догадывался, с кем.
Но все оказалось гораздо страшнее. Энцо велел сыну оставаться дома и ушел, не сказав куда. Вернулся он бледный как сама смерть.
– Что случилось?
Энцо только тряс головой.
– Что произошло, папа?
Энцо подошел к сыну, обнял. Так крепко, что Винченцо испугался. Большое отцовское тело тряслось. По лицу катились слезы.
– Авария, – с трудом выговорил Энцо.
О Винсенте ни слова.
У Винченцо потемнело в глазах. Джульетта была солнцем, вокруг которого вращался его мир. Жизнь без нее была невозможна.
Далее была прозекторская, куда их пригласили опознать тело. Ладонь Энцо на глазах сына, виноватый взгляд доктора – все это прокручивалось в памяти Винченцо как дурной фильм, в котором сам он не участвовал. Имя Винсента все еще не упоминалось. Если о нем и говорили, то это ускользнуло от сознания Винченцо. «Автомобильная авария» – вот все, что он слышал в те дни.
Так оно, вероятно, и осталось бы, если бы не суд. Но и сам Винсент выглядел столь же беспомощным и не больше их понимал, что за лавина уничтожила семью Винченцо. Он отказывался верить тому, что видел и слышал, и еще на месте отрицал перед полицейским вину Джульетты в случившемся. Должно быть, все дело в неисправности машины. В каком-то техническом дефекте. Он назвал имя человека, у которого купил «альфа-ромео», бубнил что-то о халатности, ответственности и подотчетности. Как будто надеялся, уличив виновного, что-то изменить.
После того как санитары унесли изуродованное тело Джульетты, чтобы доставить его в Мюнхен, Винсент переправил обломки машины в автомастерскую своего адвоката. Он хотел доказать, что ни Джульетта, ни он не виноваты. Тормоза проверили с особой тщательностью: колодки, барабаны, шланги – все. Когда разобрали на части, выяснилось, что продавец ни в чем не виноват. Тормоза были в полной исправности. Мастера уже собирали инструменты, когда Винсент подошел к ним в промасленном халате, держа в грязной руке небольшой шланг.
Тоненький тормозной шланг не больше двадцати сантиметров в длину… И дырочка в резине не была следствием износа. Ее сделали совсем недавно – похоже, ножом. Капля за каплей тормозная жидкость вытекала из гидравлической системы, так что на перевале Бреннер давления в тормозных колодках почти не было. Равно как и шансов на спасение. Кто-то желал им смерти. Кто-то, кто знал об их планах. Кто предпочел бы видеть Джульетту мертвой, нежели в объятиях другого.
Зазвонил телефон. Дрожащий голос Джованни в трубке велел Винченцо немедленно явиться в лавку. Полиция собирается арестовать его отца. Энцо появился на пороге кухни и спросил, кто это.
– Но это неправда! Он здесь ни при чем! – закричал Винченцо.
– Приезжай сейчас же!
Энцо вырвал трубку из рук сына. Винченцо ошарашенно смотрел на отца:
– Скажи мне, что это не ты…
– С ума сошел, Джованни? – закричал Энцо в трубку.
И тут в дверь позвонили, еще и еще раз. Винченцо побелел. Энцо сделал ему знак открыть.
На пороге стояли двое полицейских.
– Добрый день. Энцо Маркони дома?
– Нет… – Винченцо хотел захлопнуть дверь, не вышло. – Убирайтесь! – закричал он.
Отец уже стоял в прихожей. Винченцо всем телом навалился на дверь.
– Помоги же мне, папа!
Энцо смотрел как приговоренный к смерти. Винченцо все-таки удалось закрыть дверь.
Снаружи заколотили. Энцо взял сына за плечи, развернул к себе:
– Послушай.
Винченцо попытался оттолкнуть его.
– Assassino![131] – закричал он и ударил Энцо по лицу.
Тот стерпел, но не отпустил.
Когда полицейские вломились в квартиру, отец и сын, обнявшись, сидели на полу.
Глава 47
Винченцо нес гроб матери, Джованни шел перед ним. Двое других носильщиков были незнакомые пожилые мужчины из деревни. Винченцо был выше остальных, поэтому, чтобы гроб держался ровно, шагал, чуть согнув колени. Дорогу он почти не видел – мешали слезы. Он двигался, приноравливаясь к семенящему шагу Джованни. Подошвы шаркали по асфальту. Винченцо различал этот звук сквозь плач и причитания женщин.
Беспрерывно всхлипывала Розария, ее мать монотонно бубнила молитвы, а Кончетта пронзительно голосила. Они шли и шли, а улица никак не хотела кончаться. За последними домами в деревне дул ветер, равнодушно кричали чайки. Вот и кладбище на берегу. Набежали облака, вода пошла серебристой рябью, будто море тоже плакало.
Белые надгробия потемнели от времени, кресты и гипсовые Мадонны покосились по сторонам глинистой дорожки. Краски быстро блекли под соленым ветром. Впервые Винченцо побывал здесь тринадцатилетним мальчиком, с Кармелой, в день свадьбы Джованни. Тогда это было приключение, страшное и романтическое, и камни белели в лунном сиянии на фоне моря. Но теперь Винченцо увидел их при невыносимо ярком дневном свете, от которого некуда было деться.
Джованни выбрал место на самом краю кладбища, у обрыва. «Это море ее детства, – объяснил он священнику, – с которым она так надолго была разлучена».
– Мы приходим в этот мир с пустыми руками, с пустыми руками уходим из него, – говорил священник. – Все, что от нас здесь остается, – любовь, которую мы посеяли в сердцах наших близких.
«Это не так, – мысленно возразил Винченцо. – Остается боль, которую никто не может у нас отнять. Остается невысказанное, и оно болит, как открытая рана».
Портрет Джульетты висел на каждом доме в деревне. Джованни явно перестарался, некрологи были расклеены повсюду. С черно-белых фотографий улыбалась прекрасная молодая женщина. Лишь внимательный взгляд мог заметить укрытую в глубине сияющих глаз печаль, будто Джульетта что-то предчувствует. Жизнь, которая так и не началась.
На piazza о покойной судачили старики, в сущности ничего о ней не знавшие. Зато они хорошо были знакомы с ее семьей. И теперь недруги безбожника-отца бубнили о проклятии, тяготеющем над Маркони. Не он ли покусился на законы, на которых от века держалось сицилийское общество? Так стоит ли удивляться, что дочь пошла в него?
И каждый вспоминал, как шесть лет назад Джульетта бросила мужа, сбежав со свадьбы брата в Германию. Опозорила достойного человека, единственного члена семьи, не бывшего на похоронах.
Чтобы сплетники не слишком разевали рты, Джованни строго-настрого запретил жене, матери и племяннику говорить что-либо об аресте Энцо.
– Это была авария, поняли? Несчастный случай.
Но шила в мешке не утаишь, тем более на Салине.
Слухи как блохи, они путешествуют на кораблях от острова к острову и рано или поздно доберутся до любой деревни.
Отсутствие Энцо было подобно бездонной дыре, которую тут же принялись заполнять домыслами. Причем те из них, что казались Винченцо самыми невероятными и ужасными, деревенским представлялись наиболее правдоподобными. Для них супружеская измена, насильственная смерть и отсутствие обманутого мужа на похоронах вполне естественно увязывались в отработанный веками сценарий, в котором они – и это было самое страшное – не усматривали со стороны Энцо никакого преступления.
Но чем дальше, тем чаще и сам Винченцо стал ловить себя на том, что принимает их точку зрения. Как она только могла? С немцем! Это было больше чем измена мужу – предательство. Конечно, Энцо не ангел, но всегда оставался ей верен, а под конец потакал любым ее капризам.
И что стояло за ее мечтой о моде? Не была ли мода прикрытием для чего-то другого? Как она могла заниматься делами семьи, одновременно изменяя мужу? И почему именно с немцем? Кто вообще этот человек, вскруживший ей голову? Или всему причина – неустроенность Энцо, его нищета? Но если муж оказался в затруднительных обстоятельствах, не должна ли жена тем более его поддерживать? У ее любовника так и не хватило смелости прийти после аварии ни к нему, ни к Энцо. Как вообще получилось, что он выжил, а она погибла? Если бы Винченцо сейчас с ним встретился, он бы точно исправил это недоразумение. Око за око…
Юноша стыдился этих мыслей. Мог ли он судить собственную мать, которой обязан всем? Что знал он о ее тайных страстях и печалях? Или не слышал, как она плакала по ночам? Спохватись он вовремя, был ли шанс ее образумить? Возможно, ему следовало уделять больше внимания семье, а не сидеть за книгами. Оказать матери поддержку, которой она не нашла у Энцо…
Но сочувствие быстро сменялось гневом. Мысленно Винченцо обзывал ее словами, которые никогда не решился бы произнести вслух. Он был готов признать за матерью даже право на любовника, но не мог простить ей лжи. Разве не она учила его всегда говорить правду? И после этого у нее хватило духу разыгрывать из себя мать семейства, в существование которого сама она не верила.
Проходя по деревне, Винченцо чувствовал на себе взгляды. Ему выражали соболезнования, но за сочувственными словами угадывалась насмешка, презрение к сыну убийцы и шлюхи.
Ночью он стоял на крыше старого дома и смотрел на звезды. Ветер к тому времени стих. Только сейчас Винченцо ощутил голод – он не ел целый день. Было холодно. Из головы не шли слова священника – беспомощная попытка придать смысл тому, что смысла не имело. Бог, столь равнодушно бросающий свои создания на произвол судьбы, не мог быть Богом любви.
На крышу поднялся Джованни, встал рядом.
– Почему так, Джованни?
Они смотрели на черное, как смола, море.
– Я не верю. Папа любил ее, он не мог этого сделать.
– Когда люди говорят «я люблю тебя», – ответил Джованни, – они обычно имеют в виду «ты принадлежишь мне». Как будто человек – это надел земли. Только ведь и земля тоже не наша. Мы всего лишь обрабатываем ее, используем в своих целях. Посмотри на этот дом. По бумагам он принадлежит матери Розарии. Но эти камни переживут ее. Мы временные хранители и должны в целости передать все это следующему поколению. Энцо не мог удержать ее. А если так, то она не должна была достаться и другому.
– И ты знал? – У Винченцо голова шла кругом. – Ты знал, что она хочет оставить нас? Ради немца?
Джованни беспомощно покачал головой. Море молчало. Вдали мерцали огни Стромболи.
В Мюнхене выпал снег – в середине апреля, на Пасху. Винченцо замерз, пока ставил свою «веспу» у входа в зеленое здание полицейского управления на Эттштрассе. Смеркалось. Колокола Фрауэнкирхе звонили к мессе. Охранник на входе жевал булочку с ливером и сыром, и Винченцо возненавидел его за одно это.
Комиссар вызвал его «для беседы» в Страстную пяницу. Винченцо не знал, будет ли Энцо присутствовать на допросе. Для себя он решил, что ничего им не скажет. Длинный коридор, по которому его вели, пах воском для полов. Где-то пела «Абба» – «Ватерлоо»…
В кабинете витали другие запахи – одеколона и легкая нотка жареной колбасы. Фамилия комиссара была Унглауб. Он крепко, почти по-дружески пожал Винченцо руку, но во взгляде сквозила очевидная смесь сочувствия и подозрительности. Последнее Винченцо готов был стерпеть и даже принять как должное, но сочувствие… Жалеть его не надо. Пусть комиссар прибережет жалость для голодных детей Африки.
Унглауб пригласил юношу сесть. Энцо в кабинете не было.
– Примите мои соболезнования, – сказал комиссар.
Винченцо сел за стол и достал сигареты. Унглауб услужливо поднес зажигалку, но Винченцо взял ее и прикурил сам.
– Я вынужден задать вам кое-какие вопросы.
Винченцо молчал.
– Речь пойдет о ваших родителях. Ваш отец когда-нибудь бил вашу мать? Бывал ли он груб по отношению к ней?
– Нет.
– Может, угрожал?
– Нет.
– Ревновал?
– Не все ли теперь равно, она мертва.
– Ваш отец категорически отрицает свою вину.
– И что?
– На его месте я не был бы столь категоричен.
Унглауб подошел к шкафу, вынул фотографию из папки и положил перед Винченцо:
– Вам знаком этот человек?
Винченцо глядел мимо, словно боялся снимка. Но потом все-таки взглянул и узнал немца, подарившего ему игрушечный автодром.
– Он вам знаком?
Винченцо будто задумался, а потом покачал головой.
– Он сидел в машине с вашей матерью, когда произошла авария.
Винченцо молчал, кровь стучала в висках.
– Это он первым высказал подозрение, что кто-то намеренно испортил тормоза.
Унглауб всматривался в его лицо. Винченцо был бесстрастен.
– Покажите мне этот шланг.
Комиссар помедлил и вытащил из дела другое фото. На нем была нижняя часть «альфа-ромео» и увеличенное изображение тормозного шланга.
– Как предполагают наши криминалисты, на тормозном шланге кто-то сделал надрез острым предметом. Возможно, ножом.
– Но это могло быть следствием аварии.
– Едва ли, судя по расположению пореза. (Винченцо закрыл лицо руками.) Именно к моменту аварии из системы вытекла вся тормозная жидкость.
Винченцо неуверенно взял снимок.
– Понимаю, что вам больно это признавать, но у вашего отца определенно был мотив…
– Не переживайте. Как только он выйдет, я сведу с ним счеты. – Он погасил сигарету в пепельнице Унглауба, на которой было написано «Октоберфест-73». – Где вещи матери? Платье, сумочка… Вы должны мне все вернуть.
– До окончания следствия я не имею права отдать вещественные доказательства.
Винченцо встал и направился к выходу. Он уже взялся за дверную ручку, когда комиссар его окликнул:
– Господин Маркони! – Голос звучал мягче, почти просительно. – Прошу вас, задержитесь.
Уже одно это «прошу» насторожило Винченцо. Он застыл, не отпуская дверную ручку.
Унглауб подошел к шкафу и вытащил сумочку Джульетты. У Винченцо кольнуло сердце. Сумочка была в идеальном состоянии – ни единого пятнышка крови. Унглауб поставил ее на стол и попросил Винченцо приблизиться. Юноша медлил. Унглауб вытащил из сумочки светло-серую тетрадь, перевязанную лентой.
– Ваша мать вела дневник, вы знаете об этом?
Винченцо вернулся к столу. Унглауб протянул ему тетрадь, но отдавать не спешил, смотрел в глаза юноше, будто хотел удостовериться в серьезности его намерений. Винченцо вырвал у него тетрадь. Открыл. На первой странице синими чернилами были написаны имя, фамилия, адрес. Далее начинались записи. Словно чья-то железная рука сдавила Винченцо горло. Он закрыл дневник. Никто не имеет права это читать. Унглауб смотрел ему в глаза, он явно что-то знал. Винченцо сел и снова открыл тетрадь. Прочитал и задохнулся.
Винченцо не понимает, почему его жизнь вдруг так изменилась. Я лгу ему, мужу, брату. И делаю это не ради Винсента, а ради Винченцо.
Винченцо уставился на комиссара, который так и не спускал с него глаз. Только сейчас Винченцо понял почему.
Он вскочил, рванул дверь, промчался по коридору, выбежал в ночь. Струи мокрого снега хлестали по лицу, но он ничего не чувствовал.
Ничего, кроме черной пустоты внутри.
– Так ты знал?
Винченцо схватил Джованни за воротник. Дневная выручка, которую дядя только что извлек из кассы, разлетелась по полу.
– Нет!
– Но она рассказывала тебе все.
– Винченцо, есть вещи, о которых лучше умалчивать.
– Прекрати же наконец мне врать!
В лавку вбежала испуганная Эрна Баумгартнер.
– Что ты делаешь, Винченцо!
Он не обратил на нее внимания.
– Иди в полицию, Джованни! – кричал Винченцо, захлебываясь слезами. – И прочти это!
– И что это изменит? – спросил Джованни. – Воскресит твою мать?
Винченцо толкнул дядю прямо на винные полки. Бутылки полетели на пол. Эрна истошно завопила.
– Ты трус, – прошипел Винченцо в лицо поднимающемуся на ноги Джованни. – Ты обманываешь сам себя.
Эрна схватила парня за рукав:
– Мне так жаль, Винченцо. Если тебе что-нибудь нужно…
– Вон отсюда!
– Это мой магазин, Винченцо! – закричал Джованни. – Немедленно извинись перед Эрной!
– Вон! – неистовствовал Винченцо. – Оставьте меня!
Эрна, испуганно выпучив глаза и спотыкаясь, поковыляла к двери.
Он взбежал по ступенькам респектабельного особняка в Швабинге и ударил кулаком в дверь Гримма. Тот открыл, облаченный в полосатую пижаму. У старика был грипп.
– Винченцо? Что с тобой?
– Вы знали об этом?
Гримм понял, хотя и не сразу. Во всяком случае, это отразилось на его лице прежде, чем он успел опомниться. Винченцо стоял перед ним насквозь промокший и дрожал.
– Войти не хочешь? – спросила фрау Гримм из-за спины мужа.
– Вы знали, кто мой отец?
– Да, – ответил Гримм, помедлив.
Это было как удар кулака. Винченцо догадывался, что Гримм знает. И его признание сейчас только усугубляло предательство. Жалкий старик!
– Заходи, Винченцо.
– И вы знали все это время? И все равно втюхивали мне весь этот гуманистический вздор?
За спиной Гримма мелькнуло испуганное лицо его жены.
– Что случилось?
– Наверное, самым правильным сейчас будет немедленно позвонить твоему отцу, – сказал Гримм.
– У него не хватило духу даже прийти ко мне! – Голос Винченцо катился по лестнице эхом. – Он спал с моей матерью, пока я учил наизусть вашего сраного Гёте.
Гримм положил руку на плечо Винченцо, но тот сбросил ее, как птичий помет.
– Лжец! Подлый лжец! Все вы лжецы!
Винченцо бросился вниз по лестнице, выскочил под мокрый снег.
Глава 48
Проносившиеся мимо автомобили принадлежали другой эпохе. Встречный ветер бил в лицо. Я была не здесь, в другом времени, задолго до моего рождения. Винченцо остановился между двумя туннелями в Апеннинах и вышел покурить. Он стоял, опершись на ржавое заграждение, обратив небритое лицо к стоявшему в зените солнцу, и выглядел почти стариком – жилистым, худощавым и страшно одиноким. Воспоминания разбередили старые раны. Раздражающе мигала аварийка.
– И ты никогда не искал своего отца?
– Нет.
– Ты ждал, пока он тебя отыщет.
Винченцо посмотрел на меня. Почему я так хорошо его понимала? Потому что сама в детстве похоронила отца, но не тоску по нему.
– Это проклятие, – сказал Винченцо.
– Что-то вроде наследственной болезни?
Он чувствовал свою вину передо мной, хотя и не собирался извиняться.
– Поздно, – добавил он. – Ты уже не ребенок.
– Но у тебя совсем другая история, – возразила я. – У меня не было отца, а тебя опекали сразу двое. И каждый из них делал для тебя все.
– Им был нужен не я, а моя мать.
Некоторое время мы молчали.
– И что ты делал потом? – спросила я.
– Потом? Бросил школу, угнал машину, пристрастился к наркотикам… Ударился во все тяжкие, короче говоря.
Он отбросил сигарету и направился к машине. Я прикинула: март семьдесят четвертого. Три года спустя родилась я.
– А что с Энцо? Вы еще виделись?
Он покачал головой.
– Он убил мою мать, понимаешь? Persona non grata – для всей семьи.
– То есть вы никогда больше с ним не встречались. Ты знаешь, что с ним сталось?
– Один раз встретились, – поправил Винченцо. – На суде.
Глава 49
Энцо сидел перед судьей прямой, как свеча. Распятие на стене да на столе венок Адвента – единственное, что оживляло спартанскую обстановку зала. Он был в костюме и проволочных очках, которыми обзавелся во время следствия, когда посадил зрение.
Энцо не сводил глаз с человека, который должен был вынести ему приговор. Тот утирал со лба пот, пока сидевший рядом мужчина переводил показания подсудимого:
– Я любил свою жену Джульетту Маркони и никогда не причинил бы ей зла. Я, Энцо Маркони, отрицаю свою вину.
Энцо бросил умоляющий взгляд на сына. Винченцо отвел глаза. Он обзавелся длинными волосами, бородкой и футболкой Led Zeppelin. Он выглядел старше своих девятнадцати лет. В суд его вызвали в качестве свидетеля. С утра он выкурил основательный косяк, иначе просто не выдержал бы этот день. Единственное, что их связывало с Энцо, было нежелание выносить на всеобщее обсуждение семейные тайны. Только теперь Винченцо осознал, в чем причина их вечных конфликтов с отцом: их семья держалась на лжи, а правда состояла в том, что Винченцо в ней не было места. Он не выдержал бы – сбежал, сошел с ума, – если бы не Джованни. И все же его понесло, даже любимый дядя не мог удержать его. Винченцо пристрастился к травке. Забил на учебу. Стал воровать, влился в плохую компанию. Невыносимый для всех, кто пытался ему помочь, Винченцо походил на судно с разодранными в клочья парусами посреди штормящего моря. Один на один с неуправляемой стихией, но ему было все равно.
Его вызвали последним. Перед ним выступала женщина из приемной главного офиса «БМВ». Винченцо понравились ее коричневые сапоги из натуральной кожи и костюм в черно-красную клетку. Государственный обвинитель – чинуша в бежевом – показал на Энцо:
– Вы уверены, что видели на парковке именно этого человека?
– Да, – подтвердила дама. – У меня был перекур, такие люди часто стоят перед воротами.
– Кого вы имеете в виду под словом «такие»?
– Ну… южане. Этот прятался за машиной, что смотрелось довольно комично. Наблюдал за доктором Шлевицем и дамой.
– Госпожой Маркони?
– Да. Там еще стояла потрясающая машина, «альфа-ромео».
– А когда вы выходили из офиса вечером, машина все еще была там?
– Да.
– Мог ли кто-нибудь пробраться к ней ночью?
– Да. На парковку может пройти любой.
Винченцо бросил презрительный взгляд на отца. Тот молчал.
Потом вышел Винсент – человек, который был виноват во всем. Не будь его, Джульетта и сейчас была бы жива. А Винченцо вообще бы не родился.
Юноша внимательно вглядывался в лицо немца – ни малейшего сходства. Разве что телосложение – оба они худощавые. Да еще, пожалуй, тонкие губы и манера говорить – взахлеб. В остальном этот серьезный тип, обычно наверняка властный и уверенный в себе, но сейчас выглядевший напуганным, не имел с ним ничего общего.
Он тоже смущался, вынося на люди свою личную жизнь, но, очевидно, привык к публичным выступлениям. Он говорил за себя сам, предоставив адвокату отдыхать на скамье. На взгляд Винченцо, судья и немец были одного круга – им бы встретиться после заседания за кружкой пива. Гимназия… Мюнхенский университет. Мыслить либерально, жить консервативно. Это как дух конюшни, который чувствуешь, не успев включить обоняние. Для таких в немецком языке существует особое слово, «бюргер», соответствия которому нет в итальянском.
– Клянетесь ли вы говорить правду и ничего, кроме правды?
– Клянусь.
Государственный обвинитель встал – еще один бюргер, только без либеральных замашек. Честный, по крайней мере, хотя и придурок.
– Господин Шлевиц, знал ли господин Маркони о ваших отношениях с его женой?
– Да.
– Об этом вам рассказала госпожа Маркони?
– Он сам говорил мне об этом.
– То есть вы с ним встречались?
– Да, я предлагал ему место в нашей компании.
Энцо сжал кулаки.
– И тогда он вам это сказал?
– Да.
– Он угрожал вам?
– Нет. Он сказал, что только хотел посмотреть на меня, потом встал и ушел.
– И что было потом?
– Потом? Вскоре после этого и случилась эта… авария.
– Как долго продолжалась ваша связь с госпожой Маркони?
– Около трех с половиной лет. Но мы были знакомы с 1954 года.
– Но если вы общались так давно, почему госпожа Маркони не оставила мужа раньше?
Винсент обдумывал ответ.
– В дневнике госпожа Маркони пишет о вас как о самой большой любви своей жизни, – подсказал прокурор.
Энцо заерзал на скамье. Он держался из последних сил, это было видно.
– Вы боялись реакции господина Маркони?
– Что вы имеете в виду?
– Разве госпожа Маркони не говорила о своем муже как о ревнивом человеке?
Винсент повернулся в сторону Винченцо, на какой-то миг их взгляды встретились.
– Да, но также и как о любящем отце.
Винченцо передернуло. Какое право имеет этот тип судить о делах его семьи? Винченцо ненавидел сейчас мать. Что еще она ему рассказала?
– Но в конце концов она решилась на развод? – продолжал адвокат. – Или ваша поездка в Венецию была для госпожи Маркони лишь попыткой на время вырваться из семьи?
– Этого я не знаю.
Похоже, он не врал.
– Тем не менее сами вы решили развестись?
– Это не имеет отношения к делу!
Впервые ему изменило самообладание. Обозленный Винсент обвел глазами зал. Очень быстро, но Винченцо понял, кого высматривает немец, – жену, эффектную блондинку. Она сидела прямо, положив на колени сумочку, и неплохо держалась для брошенной жены. Скорее все выглядело так, будто она явилась в суд поддержать мужа.
– Большое спасибо, господин Шлевиц.
Реплика судьи вырвала Винченцо из состояния задумчивости.
В перерыве он подошел к Джованни. Немцы сгруппировались в другом конце коридора. Пытаясь отвлечь племянника от тяжелых мыслей, Джованни заговорил о грядущем Рождестве – не хочет ли Винченцо отметить его с семьей на Салине? Потом рассказал, какое замечательное «Бароло» получил на днях из Пьемонта. Предостерег от общения с радикальной молодежью и участия в демонстрациях. Помянул активистов РАФ, объявивших в заключении голодовку, смерть Хольгера Майнса, Сартра, навестившего Андреаса Баадера в тюрьме.
Винченцо был рад, что он не один. Он ждал, что немец подойдет к ним. Но тот куда-то пропал.
Возвращаясь из туалета, Винченцо услышал, как на лестничной площадке разговаривают мужчина и женщина – негромко, но яростно. Обернувшись, Винченцо узнал немца и его эффектную жену. Только сейчас он заметил, что она беременна.
– Мы давали клятву, – говорила женщина. – И в горе, и в радости…
Винсент смотрел в пол. Очевидно, они жили порознь и встретились только здесь, в суде. «После аварии, когда интрижка открылась, он съехал», – подумал Винченцо.
– Я не смогу этого забыть, – покачала она головой. – Но вот ты должен оставить это в прошлом, раз и навсегда. Иначе у нас нет будущего. Обещаешь?
– Обещаю, – ответил Винсент и взял ее руку.
Потом склонился, ткнувшись лбом в ее плечо. И тут звонок возвестил о конце перерыва.
23 декабря судья объявлял приговор. Все присутствовавшие, кроме Винченцо, встали. Ему с самого начала было ясно, чем все кончится. Надежда оставалась разве что на Верховный суд, потому что отныне видеть Энцо было выше его сил.
– Подсудимый Энцо Маркони, – читал судья с легким мюнхенским акцентом, – имеет бесспорный мотив к совершению преступления и не имеет алиби. Кроме того, будучи профессиональным автомехаником, он располагает знаниями, позволяющими спровоцировать отказ тормозов, ставший причиной аварии.
«Тебе хорошо говорить, – думал Винченцо. – После суда ты пойдешь домой, к жене и детям, и возблагодаришь Господа за то, что не сделал тебя одним из тех несчастных, с которыми тебе приходится иметь дело каждый день».
– Ревность безработного гастарбайтера к благополучному во всех отношениях сопернику-немцу эмоционально вполне понятна, – продолжал судья.
Энцо сжал зубы, выслушав перевод.
– Нельзя не принять во внимание и сицилийских обычаев, до сих пор, к сожалению, поощряющих так называемые «убийства чести».
Все взгляды были устремлены на Энцо. В этот момент Винченцо даже проникся состраданием к отцу – или бывшему отцу, если говорить начистоту. Хотя, возможно, то было отвращение к самодовольству, с каким этот бюргер осудил вековые сицилийские традиции. Они были чужаками для него, равно как и он для них. И теперь судьба Энцо в руках этого ничего не понимающего чужака!
– Принимая во внимание вышеизложенное, суд пришел к следующему решению. Поскольку государственному обвинителю так и не удалось со всей неопровержимостью доказать вину подсудимого, то в соответствии с принципом dubio pro reo[132] признать подсудимого Энцо Маркони невиновным в совершении предумышленного убийства.
Винченцо не верил своим ушам. По залу пробежал возмущенный ропот, прокурор в недоумении затряс головой. Сам Энцо тоже ничего не понимал и смотрел на судью как на ангела искупления. Тот пожелал всем счастливого Рождества, собрал со стола бумаги и вышел из зала. Обрадованный переводчик жал Энцо руку, а тот высматривал среди оживившейся публики сына. «Видишь, меня освободили», – говорил его взгляд.
«Черт разберет это немецкое правосудие, – злился Винченцо. – Сажают безобидных наркоманов и оправдывают убийц».
Утром 24 декабря Энцо с чемоданом в руке появился на пороге их квартиры. Первое, что он сделал по возвращении, – купил рождественскую елку. Винченцо слышал, как открывается дверь, потом стук ботинок и шелест еловых лап по полу.
– Винче, ты здесь?
Он втащил елку в гостиную. Винченцо с маленьким чемоданчиком вышел из своей комнаты. Энцо выглядел растерянным, хотел обнять его.
– Здравствуй, сын…
Винченцо прошел мимо него, прижавшись к двери.
– Подожди, Винченцо, любовь моя…
Винченцо оставил его стоять с раскинутыми в стороны руками. Энцо выиграл процесс, но проиграл семью.
Куда теперь идти, Винченцо не знал. Слякотная жижа пробиралась сквозь тонкие подошвы летних ботинок ледяным холодом. Прохожие спешили сделать последние покупки к Рождеству, прежде чем закроются магазины. Праздничного настроения, впрочем, не чувствовалось. Все суетились, раздраженно толкали друг друга в бесконечном людском месиве. «Праздник любви, – думал Винченцо. – Какая ложь!»
Он зашел в универмаг «Хертие», чтобы согреться. Бесцельно бродил по отделу женского белья. Никто не обращал на него внимания. На весь универмаг гремел шлягер сезона – «Греческое вино»[133].
Однажды и мне довелось возвращаться Домой закоулками темных предместий. На тротуар из окон пивной Лился печальный свет. Там были мужчины – смуглы, кареглазы, Из «ящика» страстные песни звучали. Южане меня, как заметили, сразу Подсесть пригласили к столу.«Ну вот, – подумал Винченцо, – они уже поют о нас. Они хотят избавиться от нас, не дают денег на школы. Зато мы годимся для пошлых куплетов. Мы – ленивые южане, пьем вино по кабакам, а потом танцуем сиртаки и пристаем к немецким девушкам. Или же расправляемся с ними согласно сицилийским традициям».
Греческое вино – это кровь Земли, Я налью и тебе, подожди, подожди. Я если и загрущу, то, конечно, о доме, Ты уж прости, прости. Греческое вино – это старый танец, Плесни-ка еще на глоток. В этом городе я навсегда иностранец И навсегда одинок, одинок.Но Винченцо не грустил по дому, он лишь хотел знать, где это. Только не здесь… и тем более не там. Нигде! Кто вообще таков этот Удо Юргенс и с какой стати он поет о греках? Мы ведь прибыли сюда раньше греков… Хотя кто такие «мы»? Винченцо больше не считал себя сицилийцем, но и причислить себя к немцам не мог.
Потом они мне рассказали о море, О ветхих домах, где тоскуют их жены, О детях, не знавших отцов. И все как один повторяли: вернемся, вернемся, Когда заработаем денег на скромное счастье, Никто не хотел вспоминать, Каково-то живется им здесь.Неожиданно для себя Винченцо расплакался. Он ненавидел себя за эти слезы, но не мог сдержать их. Когда продавщица спросила, все ли в порядке, он со всех ног устремился к выходу.
Но если он больше не хотел причислять себя к тем, кого считали здесь чужаками, тогда кто он? И может ли он вообще выбирать или это всего лишь вопрос крови? Если он не считает больше Энцо отцом, то следует искать на другой стороне, среди немцев?
Собственно, что было в Винченцо немецкого? В нем текла кровь ненавистного вторженца, какая-то частичка этого разрушителя семьи, и он ничего не мог с этим поделать. Разве что убить его в себе.
Но была ли это лучшая или худшая его часть? Ведь этот человек должен быть особенным, раз мать отдала ради него все, что имела.
Когда совсем стемнело, он нашел адрес. В телефонной книге, это оказалось совсем несложно. Он отыскал нужную улицу в Богенхаузене, будто вымершую. Винченцо подташнивало. Он чувствовал себя вторгшимся на чужую территорию. Аккуратно подстриженные кустарники, дорогие автомобили перед воротами и… тишина. В желудке урчало, сказывалось то, что он не ел весь день. В церкви зазвонили к рождественской службе.
Глава 50
Он ожидал увидеть нечто другое. Более помпезное, что ли, что-нибудь вроде виллы с бассейном. Но это оказалось обычное бунгало, без излишеств, хотя и достаточно просторное. «Все равно неплохо», – подумал Винсент.
Он прочитал табличку на воротах, но позвонить не решился. Перелез через ограду, под ногами скрипел схваченный морозцем снег. Винченцо шмыгнул за угол дома. Над головой шумели ели. Он оглянулся – сзади тянулась цепочка следов, что было совсем некстати.
В бунгало играла приглушенная музыка – Бах или что-то вроде того. Рождественская оратория. За окном в гостиной сияла огнями елка. Винченцо удивило, что она была меньше той, что купил Энцо. В доме Винсента он ожидал увидеть роскошное дерево в дорогущем убранстве.
Жена Винсента накрывала стол на троих. Теперь она вовсе не выглядела беременной. В комнату вбежала девочка лет пяти, с белокурыми косичками и в голубом платьице. «Моя сестра, – подумал Винченцо. – По отцу, но тем не менее…» Следом появился Винсент, подхватил ее на руки, оба смеялись. Вероятно, до раздачи подарков входить в комнату с елкой было запрещено. Сияющий Винсент покружил с дочкой по комнате и снова исчез на кухне.
У Винченцо заныло в груди. Он прильнул к окну и долго стоял так, пока совсем не замерз. Потом поднялся на крыльцо, позвонил, но тут же, испугавшись, отошел. Услышав, как за его спиной открылась дверь, Винченцо оглянулся. Из прихожей лился теплый свет. На пороге стояла девочка.
– Ты кто?
– Привет.
За спиной девочки возник Винсент. Он сразу узнал Винченцо и взял девочку за руку.
– Кто там, любовь моя? – спросил женский голос из глубины дома.
Винченцо продолжал стоять поодаль от двери, дрожа от холода.
– Винсент, кто это?
Винсент взял девочку на руки и унес в дом. Дверь осталась приоткрытой.
– Ученик с «БМВ», – услышал Винченцо его голос из прихожей. – Я просил его кое-что посмотреть в моей ИЗО… Я сейчас.
– Я хочу с тобой, – закричала малышка.
– Оставайся дома, на улице холодно.
Винсент вышел из дома в домашних тапочках.
– Пойдемте, я покажу вам гараж, – сказал он громко, чтобы слышала жена на кухне, и закрыл дверь.
В тот момент Винченцо его и возненавидел. Винсент коротко кивнул сыну, чтобы тот следовал за ним.
Гараж оказался двойным. Винсент закрыл ворота. Пока, мигая, загоралась неоновая трубка на потолке, Винченцо успел разглядеть новый БМВ – огромный темно-синий семейный экипаж, рядом с которым мерцала необыкновенной красоты ИЗО. Винченцо вспомнил запах дорогой кожи, сверкающий на солнце хром и незнакомого мужчину с сияющей улыбкой.
– Сюда, пожалуйста. Здесь нам никто не помешает.
Он подошел к БМВ. Сам сел на место водителя и открыл дверцу переднего пассажирского сиденья. Винченцо медлил. Огляделся по сторонам и сел, положил чемоданчик на колени. Винсент захлопнул дверцу. Винченцо оставил свою приоткрытой.
– Прости, пожалуйста. Моя жена ничего про тебя не знает.
Винсент волновался. Он посмотрел на сына, но тут же отвел взгляд. Словно боялся потерять самообладание.
Глаза Винченцо скользили по приборной панели. Машина выглядела будто только с конвейера. Он вытащил из чемоданчика игрушечный автомобиль и протянул Винсенту. Красный «феррари» с трассы «Каррера».
– Счастливого Рождества… – Винсент запнулся.
– Я припрятал ее, когда мама решила вернуть «Автодром» тебе.
– Оставь себе, – голос Винсента дрогнул, – мне она не нужна.
– Мне тоже.
– Винченцо… Мне жаль, что так все получилось… (Винченцо молчал, продолжая изучать приборную панель.) Мне очень хочется пригласить тебя в дом, но моя семья…
– Семья, которую ты собирался оставить. (Винсент удивленно посмотрел на сына.) Я прочитал… так она писала в дневнике.
Винсенту потребовалось время, чтобы осознать эти слова. Винченцо достал из кармана брюк мятую пачку сигарет, предложил отцу. Французские, без фильтра. Винсент жестом отказался. Он мучительно подыскивал подходящие слова. Винченцо закурил, выдвинул пепельницу на приборной панели.
– Я и сам бы хотел повернуть время вспять, – заговорил Винсент. – Только, видишь ли, не все получается, как мы того хотим.
«Дохлый номер, – подумал Винченцо. – Папаша ударился в философию». Он покосился на Винсента.
– Как твой отец? – спросил Винсент.
«Спасибо, в порядке», – мысленно ответил Винченцо. «Твой отец» – этим сказано все.
Стекла быстро запотевали.
– Как ее зовут? – спросил Винченцо.
– Кого?
– Малышку, мою сестру.
Винсент не отвечал. Как будто опасался сблизиться с Винченцо больше, чем мог себе позволить. Он положил руку на колено сына:
– Послушай, Винченцо. Если я и могу что-нибудь для тебя сделать, то…
«То что?..»
– Понимаю, что должен был объявиться сразу после того, как… Но поверь, Винченцо… мне было очень тяжело…
Винченцо выбрался из машины.
– Куда ты, Винченцо?
– Я сам ее спрошу… как зовут.
Винсент тоже открыл дверцу:
– Подожди!.. Прошу тебя.
Винченцо остановился. Они смотрели друг на друга поверх крыши автомобиля. Неоновая лампа на потолке гудела.
Винсент подошел к сыну:
– Понимаю тебя, но сейчас не стоит их беспокоить. Время не совсем подходящее. Мы впервые собрались вместе…
Винченцо тоже понимал. Винсент охранял покой близких ему людей, что тут неясного? Единственное, чего он никак не мог взять в толк, – почему отец не считает его частью своей семьи? Семья – это те, другие. Их он защищает от него. Но на самом деле он защищает себя, собственную ложь.
– Я сначала съехал отсюда, но… она беременна, ты знаешь об этом?
Винченцо пристально смотрел на отца, ничего не отвечая.
– Двое маленьких детей… я за них в ответе… Марианна такого не заслужила. Она и так поступила великодушно, предоставив мне еще один шанс. Но при условии… полной ясности в отношениях. Ты меня понимаешь?
– Винсент, стол накрыт!
Женщина уже не приглашала – требовала. Винченцо вдруг понял, почему Винсент предпочел Джульетту.
– Послушай, Винченцо. – Винсент положил ему руку на плечо. – Я обещал оплатить твою учебу и сдержу слово. Ты ни в чем не будешь нуждаться.
– И взамен ты предлагаешь мне держаться от вас подальше?
– Нет, Винченцо! Я совсем не это имел в виду.
«Жалкий тип, – подумал Винченцо. – Жалкий, как побитый пес».
Он усмехнулся и бросил на пол сигарету.
– Винсент!
На этот раз ее голос звучал озабоченно.
– Ты поймешь меня, когда у тебя самого будет семья, – сказал Винсент.
– Нет. Я никогда не пойму. Я не буду таким, как ты, и плевать я хотел на твои деньги.
Винченцо рванул створку ворот и вышел наружу. Винсент побежал за ним.
– Винченцо!
Марианна вышла на крыльцо, привлеченная шумом. Винченцо коротко посмотрел ей в глаза, а потом оглянулся и плюнул под ноги Винсенту.
За спиной послышался пронзительный голос девочки:
– Папа, папа, кто это?
Глава 51
Он стоял, прижав голову к ржавому ограждению. Этот мужчина был моим отцом, и я легко могла разглядеть в нем того бесприютного парня – слишком похожего на меня, к моему ужасу.
Человек остается чужим, пока мы не узнаем его историю, – эти слова Винсента не шли у меня из головы. Я не могла только взять в толк, как Винченцо, имея такой опыт за спиной, мог меня бросить.
– Но почему он так с тобой обошелся?
Винченцо вздохнул и пожал плечами. Похоже, он до сих пор не изжил в себе ни того отчаяния, ни злобы.
– Он хочет примириться с тобой, – сказала я, не придумав ничего лучшего. Мне хотелось ему помочь.
– Поздно, – ответил Винченцо.
– Но лучше, чем никогда, – возразила я.
Мне хотелось его обнять, но я не могла. Странно демонстрировать почти материнские чувства к биологическому родителю. Кроме того, его презрительная усмешка ясно указывала на бессмысленность любых попыток примирения. Не знаю, кто из нас улыбнулся первым. Во всяком случае, в его иронической усмешке я узнала себя. Его лицо расслабилось.
– Когда вы с Джованни тогда позвонили мне, я повел себя как идиот. Конченый идиот. Просто не хотел впутывать Кармелу во все это.
– Почему? Она же знала о моем существовании.
– Ее это не касается. Ты – часть только моей жизни.
– Нет. Ты не прав.
Его удивила моя категоричность. Я сказала это без обиды, просто констатировала факт.
– Ты совсем как твоя мать, – заметил он. – Прямолинейная до безжалостности.
Я не стала его разуверять. Слишком жива была в теле взрослой женщины маленькая девочка, которой так хотелось к отцу на руки. Но я скорее умерла бы, чем позволила ему об этом узнать. И эту гордость я унаследовала от него, а не от Джульетты.
– Я писал твоей матери. Письма возвращались нераспечатанными.
От неожиданности я вздрогнула.
– Об этом она ничего не рассказывала.
– А ты спрашивала?
– Нет.
Некоторое время мы молча созерцали горный ландшафт. Потом он тихо сказал:
– Спасибо.
– За что?
– За то, что приехала.
Я прильнула к нему, робко, словно боялась спугнуть внезапную нежность. Он застыл, затаил дыхание – по-видимому, во власти сходного страха.
– Ну что, поехали?
Пока он, открыв капот, подливал масло, я позвонила Винсенту, точнее, его дочери. Ему немного лучше, сообщила она. Он очень нас ждет. Я сказала, что мы будем не позже чем через восемь часов, она поблагодарила. Совершенно искренне, хотя я чувствовала ее напряженность. Брата, с которым ей предстояло познакомиться, она не упомянула.
Винченцо протянул мне ключи:
– Когда-нибудь ездила на такой машине?
Меня тронула такая степень доверия.
– Нет.
– Давай за руль.
Я устроилась на водительском месте. «Машина времени», – подумала я, глядя на приборную панель.
– Какого она года?
– Семьдесят четвертого. Старше тебя.
Год, когда погибла Джульетта.
– Но ведь ты купил ее не тогда?
– Да, она отреставрированная. Будь внимательна, сцепление и тормоза не совсем ладят.
Я попробовала ногой педаль, решительно сняла туфли и передала Винченцо. Он принял молча, только усмехнулся. Я повернула ключ, пробуждая раритетного зверя к жизни. Потом нажала на газ. Я не привыкла иметь дело с такими мощностями. До сих пор бывала рада, если моя старая колымага вообще заводилась.
Я чувствовала нервозность Винченцо – крайне неудобно иметь столь беспокойного пассажира. Но он молчал, и на том спасибо. Потребовалось время, чтобы взять своенравную бестию под контроль, зато потом все пошло как по маслу. «Бестия» оказалась на редкость послушной. Винченцо включил радио. Полилась итальянская реклама – танцующее стаккато слов, что-то из области, которая совершенно меня не интересовала.
– Так что было дальше? – спросила я.
Рождество семьдесят четверого года. Вскоре он познакомился с моей матерью.
Винченцо молчал.
– Ты рассказывал ей, кто твой отец?
– У меня больше не было отца. Basta.
Он принялся крутить ручку радио – вероятно, из инстинктивной потребности что-то крутить, после того как передал руль мне.
– И знаешь, что самое смешное? – вдруг сказал он. – Что ты не появилась бы на свет, останься я тогда в доме Винсента.
– То есть?
– Я никогда не познакомился бы с твоей матерью.
– Вот как? И как же ты с ней познакомился?
Мне не терпелось услышать его версию. Версию матери я знала.
– Я был разбит, уничтожен. Ночевал где придется, шлялся по злачным местам. Одно время хотел просто умереть… Твоя мать спасла меня.
– Где вы встретились?
– В ее коммуне. Мы завалились туда с приятелем, совершенно случайно. Я ночевал у него некоторое время, пока его не попросили с квартиры. И вот мы заявились к твоей матери… Ну, пили, болтали о том о сем, а потом она сказала мне, что у них есть свободный матрас и если я хочу, то могу ненадолго зависнуть… До сих пор не понимаю, что ей был за резон… Быть может, она почувствовала во мне родственную душу, потому что положила на свою семью, как я на свою. Все они в коммуне были такие – буржуа с наци-папашами. И ни одного пролетария.
Глава 52
Лишь чужбина учит нас понимать, Чем мы обладаем на родине. Фонтане[134]Таня
Когда в январе 1975 года Винченцо впервые увидел Таню, у нее были черные волосы до плеч и черный пуловер в обтяжку, под которым никакого лифчика. Она сидела за большим деревянным столом и стучала на печатной машинке. Рядом с машинкой валялась скомканная пачка сигарет «Рут-Хэндле».
В воздухе висел табачный дым. Было холодно – захваченное коммуной помещение не отапливалось. Стекла выбиты, окна завешены транспарантами. На полу лежали матрасы. На ободранных обоях лозунг: «Сегодняшние свиньи – завтрашние котлеты». Из раздолбанных колонок гремел рок – Рио Райзер[135].
За столом сидели шесть человек, все в пальто или объемных шерстяных свитерах. И все как один старше Винченцо.
Он разглядывал их, прислонясь к стене. Он уже не помнил, кто из них привел его сюда. На него не обращали никакого внимания, и это было прекрасно. Винченцо сильно исхудал и истрепался, бродяжничая. Взгляни он тогда в зеркало, что случалось с ним крайне редко, наверняка испугался бы собственного голодного взгляда.
Но дух его был не сломлен. Окончательно порвав с семьей, он вдруг ощутил настоятельную потребность быть в гуще событий. Быть может, именно поэтому его и потянуло в эту коммуну и к Тане. Сытые бюргеры за этими стенами были ходячими мертвецами. Не то что сидящие здесь за столом, у этих глаза так и горели.
Это от Тани Винченцо впервые услышал выражение «городская герилья»[136]. И оно сразу ему понравилось, как и сама Таня. Она занималась своим делом – и тем была полной противоположностью матери Винченцо, которая так и промечтала об этом всю жизнь.
Его потянуло к Тане, не знавшей компромиссов, не терпевшей лжи. В свои двадцать четыре года она успела стать магистром политологии. Она занималась журналистикой – писала для подпольных изданий левых радикалов. Таня блестяще вела дискуссии с любыми оппонентами, независимо от пола и образования, всегда находила самые убедительные аргументы. Поверхностный обзор проблемы – это было не про нее. Она во всем докапывалась до сути и на все имела свою точку зрения.
Она была импульсивна, но руководствовалась не эмоциями, а принципами. И общественно-политическая жизнь Германии, до сих пор практически не попадавшая в поле зрения Винченцо, вдруг предстала перед ним ясной и четкой картиной, в которой нашлось место всему, в том числе и его проблемам.
– Индивидуум, – говорила Таня, не переставая печатать, – сводит слабость своей общественной позиции к собственной недееспособности. Система существует благодаря нашему страху перед нашими возможностями. Перед тем, кем мы могли бы стать, но не стали.
И далее, почти с религиозным благоговением, цитировала кого-нибудь из классиков теории революции.
Это мы, восставшие из войны всех против всех, конкуренции каждого с каждым, из системы, где закон – это страх, где СМИ промывают мозги, из мира потребления и тотальной порки, маскируемой идеологией ненасилия. Это мы, воскресшие от депрессий, болезней, классового неравенства, нескончаемых унижений и эксплуатации человека человеком. Это мы, осознавшие необходимость освобождения и участия в антиимпериалистической войне, понявшие, что с крушением системы мы не потеряем ничего, зато обретем – в вооруженной борьбе – всеобщую свободу, жизнь и человеческое достоинство.
Этот текст написала в тюрьме Ульрика Майнхоф, которую называли террористкой и которую Винченцо знал по черно-белой фотографии в рубрике «Разыскиваются». Вырезку из газеты Джованни как-то повесил в лавке, желая продемонстрировать свою лояльность властям.
Эти слова поразили Винченцо в самое сердце. Возможно, тем, что предлагали новое «мы» ему, невольному одиночке, который мучительно стремился причислить себя хоть к какой-нибудь общности. Или, возможно, они давали точку опоры его праведному гневу и чувству потерянности, а также выход дремавшей в нем жажде истребления, грозившей в противном случае саморазрушением.
– «Сегодня мы знаем, что нельзя выступать безоружными против вооруженных господ, – читал очкастый тип рядом с Таней, вытряхивая сигарету из ее пачки. – Организованная сила – необходимость в классовой борьбе».
Если Таня блистала интеллектом, очкарик брал габаритами. Здоровенный, с вечно немытыми патлами и в потертой кожанке с лисьим воротником. Все его звали Олаф, но настоящего имени не знал никто, даже Таня. Он был из нелегалов, коммуна его поддерживала. Олаф положил на плечо Тане руку – неофициальная королевская пара подпольщиков.
В отличие от большинства остальных, отрицавших систему, но сторонившихся насилия как метода политической борьбы, Олаф был солдатом – одним из тех, о ком все говорили, но кого никто не видел. Не исключено, что он был из тех «теневых кардиналов», чьи фотографии не печатали в газетах, но кто знал о всех терактах заранее.
– Насколько серьезны ваши намерения перестроить общество?
Провокационный вопрос был вброшен в комнату. Присутствующие замялись.
– Идея правильная, – заметил наконец кто-то, – но убивать людей…
– Левые снова облажались, – едко ответил Олаф. – Вместо того чтобы воевать с полицейским государством, они колошматят друг друга! Сплошная критика товарищей, одна пустая болтовня! Ссыкуны высоколобые, вот кто вы такие!
– А как же РАФ? Вы же только и хотите, что вытащить своих людей из каталажки. Больше вас ничего не интересует.
– Это не каталажка! – Олаф грохнул кулаком по столу. – Изоляция! Пытки!
Таня поспешила взять его сторону:
– А что дают нам мирные протесты? Ничего. Государство со своим репрессивным аппаратом идет впереди нас. Эксплуатация народов стран третьего мира, войны! О поколении Аушвица вообще говорить не приходится, они расстреляют нас как нечего делать. Если только мы не вооружимся, конечно. Привлечь виновных к ответственности – легитимная мера.
– Иначе говоря, цель оправдывает средства? Кто дал вам право лишать людей жизни?
– А сколько человек осталось бы в живых, если бы в свое время удалось убить Гитлера?
Как всегда, Таня нашла самый убедительный аргумент. Винченцо смотрел на нее с восхищением.
– Любое освободительное движение требует жертв! Куба. Боливия. В Алжире независимость стоила жизни миллионам человек. Но наше движение не представляет угрозы никому из мирных граждан. Нас интересуют только крупные концерны. Банки. Юстиция.
Все молчали.
– Итак, добровольцы есть? – спросил Олаф.
Все молчали.
Таня обвела взглядом круг товарищей.
– Я! – поднял руку Винченцо.
Глава 53
– Зачем ты это сделал? – спросила я.
Мы миновали туннель и подъезжали к таможенному пункту. Болонья. За спиной половина пути, почти шестьсот километров.
Винченцо посмотрел на меня так, будто слышал этот вопрос не впервые.
– А зачем твоя мать это сделала?
– Но я спрашиваю тебя.
– Ну хорошо… Я был маленький придурок, мне хотелось стать большим. – Он вздохнул. – Нет, серьезно. Кто я был? Никто. Можешь себе такое представить? Ты шляешься по каким-то закоулкам, ни школы, ни семьи… Включаешь новостной канал и видишь больших людей. Звезд кино и государственных мужей в лимузинах. Как им это удалось? Или они в самом деле умнее тебя? Или ты не знаешь нужных людей? Да ты никого не знаешь, но вдруг видишь способ пробиться в новости. Что привлекало меня в коммуне? Они были в меньшинстве, но заставили государство с собой считаться. Дрались, используя самые ничтожные шансы.
Я не поняла, иронизирует он или до сих пор верит в идеалы молодости. Винченцо протянул мне дорожную карту и нажал стеклоподъемник на консоли между сиденьями. Для меня этот ритуал выглядел странно. Потертая щель, механический женский голос, скучающий тип в таможенной будке. Сколько тысяч машин он обслуживает за день? И каково это, всю жизнь просидеть в такой конуре? Он пробормотал что-то непонятное, но, увидев наш «монреаль», чуть не вывалился из своей будки от восторга.
– Che bella macchina! Complimenti, signora![137]
– Grazie.
Я протянула ему горсть монет, которые дал мне Винченцо.
Пока мужчины говорили об автомобилях и обменивались комплиментами, я сидела в салоне – перекрасившаяся в блондинку Джина Лоллобриджида из музея восковых фигур. Еще пара минут возни – и барьер перед нами поднялся. Я покатила дальше в направлении Модены.
– Видишь ли, – снова заговорил Винченцо, – мы были элитой. Все остальные – зомби, статисты в чужом кино. А мы пробудились. Передний край борьбы за лучшее общество, справедливое, не разделенное на тех, кто владеет всем, и тех, у кого ничего нет. – Он вытряхнул сигарету и протянул мне мятую пачку. – Неужели тебе ни разу не приходило в голову, что это деление неправильно?
– Ты говоришь совсем как моя мама. (Винченцо пропустил мимо ушей замечание.) Не говоря о том, что капитализм все-таки победил, – продолжала я, – у меня нет времени на политику. Ведь я вынуждена заботиться о себе сама.
Винченцо криво усмехнулся:
– Вот из-за таких, как ты, капитализм и победил.
Я усмехнулась в ответ. Он затянулся сигаретой и добавил:
– А если серьезно, я всего лишь хотел произвести впечатление на твою мать.
– Так что ты все-таки сделал?
– Хочешь спросить, не замочил ли я кого-нибудь?
Я покосилась на Винченцо. Не исключено, если верить тому, что говорила моя мать. Не то чтобы Таня была невинным ягненочком, но в тюрьму угодил он, не она.
– Я стоял на стреме, большего мне не доверяли. Поначалу, по крайней мере… За это у меня был матрас и крыша над головой.
– А Джованни? Он знал, чем ты занимаешься?
– Да, он заходил к нам как-то раз. Пытался направить меня на путь истинный, приволок огромную корзину с едой, как будто спасал меня от голодной смерти. «Ты выбрал себе не ту компанию, Винче. Что ты будешь делать, если нагрянет полиция? Они сдадут тебя в два счета! Немедленно возвращайся домой». Я выставил его за дверь, но корзину оставил. Разделил еду с остальными.
– И кто в кого влюбился первый? Мама в тебя или ты?
– Я. В то время твоя мама была для меня… как бы это сказать… недосягаема. Она училась, много читала, красивая, а как говорила… И я думал, что бы сделать такого… у меня ведь ничего не было, кроме праведного гнева.
– Но она смотрела на тебя как на иностранца?
– Именно, и в этом было мое преимущество, незаслуженное. – Он рассмеялся. – Италия семидесятых – знаешь, что это было такое? Левацкая Мекка. Если Париж шестьдесят восьмого был центром студенческих мятежей, то автомобильные заводы на севере Италии – главный очаг классовой борьбы. Там разгорелась настоящая гражданская война. «Лотта Континуа», «Синистра Пролетариа», «Бригате Россе»[138] – они не болтали попусту, но бастовали, стреляли, умирали. Это они похитили менеджера «Фиата», минировали фабрики, поджигали полицейские участки.
– Но почему именно там?
– Итальянцы никогда не доверяли государству – нация анархистов. В Западной Германии Коммунистическая партия была запрещена, а в Италии была второй по численности в парламенте. Главные соперники Христианских демократов! Если где в Европе у революции и есть шансы, так это в Италии. Собственно, поэтому они и взяли меня в коммуну – за то, что я итальянец. Впервые немцы увидели во мне не макаронника, а авангард рабочего движения.
– Что тоже своего рода национализм, – заметила я.
– Да, конечно. – Винченцо снова рассмеялся. – Они спрашивали меня про Берлингуэра, Фельтринелли…[139] Я понятия не имел, кто это такие… Зато быстро научился производить впечатление на девушек. Достаточно напустить на себя таинственный вид и молчать, потягивая косячок, – больше ничего не надо.
Я усмехнулась.
– И только Олафу этого было мало. Он по-прежнему считал меня никудышным «попутчиком», кем я, собственно, и был… – Винченцо вздохнул.
– Был до каких пор? – не выдержала я.
– Пока мне поперек горла не встало торчать на стреме.
Глава 54
Фальшивые документы сделали для всех, кроме Винченцо. Он-то пока был чист, его имя не попало ни в один список, ни в один полицейский отчет. Хотя Винченцо новый паспорт так и манил. Таня и Олаф украли чистые бланки в каком-то муниципалитете во время одной из первых «акций» – бумажки, наделенные поистине волшебной силой. Заимей такую – и сможешь сменить имя или фамилию, подкорректировать место рождения и даже внешность.
Вручение фальшивых документов походило на ритуал посвящения в избранные, куда Винченцо ходу не было. В предстоящей «акции» ему снова отводилась второстепенная роль – стоять на шухере. Тане же, вообще-то отвечавшей в организации за пропаганду, на этот раз отводилась одна из главных ролей. Она была правой рукой Олафа, его рупором и возлюбленной. В группе их воспринимали как пару, несмотря на царящие вольные нравы и беспорядочность сексуальных связей.
Ночью, пока Таня спала с Олафом, Винченцо читал ее статью. Заглавных букв для Тани не существовало, по тексту были рассыпаны выделения и подчеркивания, придававшие ему особую выразительность. При этом Таня предельно ясно обосновывала и связывала все более-менее значимые акции. Так, ограбление магазина провозглашалось экспроприацией народного имущества. Кража паспортов – сопротивлением фашистской бюрократии. Нападение на банк означало дестабилизацию капиталистической системы. Таня цитировала Мао Цзэдуна, Ульрику Майнхоф и южноафриканского политика Тупамароса.
В одной из статей она называла похищение председателя берлинского отделения Христианских демократов Петера Лоренца – Винченцо никогда не слышал этого имени – самой успешной акцией после того, как схватили лидеров РАФ. Впервые «воинствующий левак» канцлер Шмидт был загнан в угол и вынужден освободить «томившихся в заключении товарищей». За что они попали за решетку, Таня не уточняла. Поскольку дилемма «преступник или жертва», по ее мнению, «утратила моральный пафос и стала вопросом исключительно точки зрения».
Но если одни слова наводили ясность, то другие напускалили туман. Что было очевидно в статье, так это категоричность и нетерпимость к возражениям. Истины провозглашались, а не обсуждались, и Винченцо чудилось, что эта категоричность что-то маскирует. И, гадая, что именно, он думал прежде всего о Тане. Что она скрывает, что чувствует на самом деле? И почему он постоянно думает о ней?
У них был общий противник – государство. Так им казалось, по крайней мере. При этом они не видели, что противостоят «системе» из очень разных соображений. Если Винченцо, сыном гастарбайтера, двигала скорее обида, то Таней, дочерью благополучных немецких бюргеров, – обостренное чувство гражданского долга. Он мстил обществу, которое обошлось с ним несправедливо. Она хотела это общество изменить. Однако причины для нее не имели значения, важна была лишь преданность цели. Собственно, это и являлось сердцевиной идеологии, противопоставлявшей себя любым формам национализма. Корни убеждений в расчет не принимались, как и то, что у этих корней свои, невидимые, пути под землей. Идеология ослепляет не хуже любви.
Все началось с того, что он повздорил с Олафом.
Винченцо полагалось караулить возле машины, пока Олаф и Таня обследовали один универмаг для планируемой атаки. Это случилось туманной зимней ночью, над городом висела белая завеса, сквозь которую, подобно фосфорическому болотному свечению, пробивались огни светофоров и рекламы.
Презрев инструкции, Винченцо последовал за Олафом и Таней; на всякий случай он прихватил пакет, набитый газетами «Бильд», которые умыкнул из почтовых ящиков. Он не понимал, почему универмаг нельзя поджечь прямо сейчас? Обстоятельства самые благоприятные. Разбить витрину, поджечь газеты – и раствориться в тумане.
– Я решаю, что и когда делать! – вызверился Олаф. – Немедленно на свой пост.
Винченцо отказывался, спорил. Олаф лишь сильнее злился. Таня пыталась успокоить их и настаивала на том, что универмаг надо не поджигать, а грабить. Страсти накалялись и, прежде чем Олаф и Винченцо успели наброситься друг на друга с кулаками, из тумана вышли двое полицейских. «Ваши документы!»
Они побежали, полицейские за ними. Ключи от машины были у Винченцо. Он прыгнул за руль и, как только Олаф и Таня заскочили в салон, рванул прямо на преследователей. Полицейские метнулись в стороны, а Винченцо погнал по Леопольдштрассе. «Идиот! – заорал Олаф. – Чертов идиот!» Винченцо оглянулся – полицейской машины не видно. Внезапно впереди в тумане замерцали синие всполохи, взвизгнули тормоза. Винченцо выжал газ. Улица была пустой, но видимость составляла не больше двадцати метров. Преследуемый мигалкой, Винченцо мчался сквозь туман.
Взвыла еще одна сирена – полиция брала их в кольцо. Винченцо выключил фары. Таня кричала, Олаф сыпал проклятьями. Но Винченцо оставался спокоен. Притормозил и резко свернул в один из переулков. Потом дал газ – и сирены стихли в тумане. Когда они без приключений прибыли на место, даже Олаф был вынужден признать, что строптивый итальянец – настоящий ас по части вождения.
Так Винченцо нашел свое место в группе, стал шофером.
Винченцо прикручивал новые номера на невзрачные «форды» и «ауди», которые поставлял некий Слободан, а потом отгонял машины в автосервис, где их перекрашивали. После первой «акции» он отдраил каждую поверхность, изнутри и снаружи, чтобы стереть отпечатки пальцев, и отогнал машину скупщику.
Вскоре Винченцо начали поручать и курьерские дела – доставку из тюрьмы пакетов, которые ему нельзя было вскрывать. А однажды он поехал на заброшенную парковку на окраине Турина, где двое безымянных парней выгрузили из своей машины оружие – «калашниковы» и «беретты», которые Винченцо спрятал в специальный отсек под полом и благополучно перевез через границу. Один пистолет из партии он, впрочем, присвоил и хранил в своем матрасе.
Потом он совершил свой первый угон: ему надоели неказистые «ауди» и «форды». Понадобилось тридцать секунд, чтобы вскрыть дверцу и закоротить зажигание, – и это на улице средь бела дня. Четырехдверная «джулия-альфа-ромео» была куда проворнее полицейских БМВ – идеальная машина, чтобы уходить от преследования.
Но Олаф не любил итальянские автомобили. В том, что касалось машин, он был типичным немецким бюргером.
– Взял бы «бенц», если нужно помощнее, – ворчал он. – Уж понадежнее будет.
Его злило своенравие Винченцо. Тане снова пришлось разнимать их. Предстояла серьезная «акция», не время для разногласий.
Глава 55
Дерзость задуманного пугала, но обстоятельства требовали немедленного ответного удара. Операция в стокгольмском посольстве завершилась кровавой драмой. Вместо того чтобы обменять заложников на двадцать шесть бойцов РАФ, Гельмут Шмидт приказал штурмовать здание. Результат – четверо убитых, по двое с каждой стороны. В вечерних новостях федеральный канцлер заверил, что и впредь не намерен идти на поводу у террористов.
Требовалась ответная реакция. Либо ты принимаешь поражение, либо повышаешь ставки. Только сейчас они почувствовали себя участниками большой игры. Наконец им предстояло выйти из тени. Но требовались деньги. Винченцо никогда не спрашивал, куда идет добыча с «акций», но дураком он не был. Все трофеи рядовые бойцы сдавали командирам.
Целью был филиал одного банка в Мильбертсхофене – как раз между Хазенберглем и Швабингом, между Джованни и Гриммом. Таня провела разведку объекта: охраны нет, последний полицейский патруль проехал семь минут назад. После заварухи в Стокгольме группа единогласно решила воздерживаться от насилия.
Поначалу все шло согласно плану. Их было четверо. Вооруженные Олаф с напарником, напялив на голову чулки, двинулись к банку. Таня наблюдала за входом. Винченцо остался ждать в машине, в своей белой «джулии». Не заглушив мотор, он внимательно следил за улицей. Внезапно раздался выстрел. Таня, маячившая недалеко от входа, кинулась внутрь. Снова выстрел.
Через несколько секунд все трое выскочили на улицу и запрыгнули в машину. Руки Тани были в крови.
Быть может, сумей Винченцо тогда не растеряться, ничего бы не случилось. Но от вида крови он запаниковал, в голове помутилось, всего-то на несколько мгновений, но этого оказалось достаточно.
– Трогай! – заорал Олаф.
Винченцо выжал газ, и мотор заглох.
Винченцо провернул ключ, скрежетнул стартер.
– Дерьмо-дерьмо-дерьмо… – рычал Олаф.
Винченцо попробовал еще – безуспешно. А потом из-за угла выскочил этот тип – в джинсах, коричневой кожаной куртке и с пистолетом в руке. Он прицелился. Таня схватила свою «беретту». Пуля пробила стекло. Таня выстрелила в ответ. Винченцо как сумасшедший дергал ключ зажигания, жал на педаль. Мотор не заводился. Олаф открыл стрельбу. Стекло осыпалось градом осколков, во все стороны полетели гильзы.
– Трогай! – заорал Олаф и стукнул Винченцо по голове.
Винченцо еще раз дернул ключом – что есть мочи. Ключ сломался, но двигатель наконец ожил.
Он дал по газам и рванул вперед. Бросил взгляд в зеркальце заднего вида – мужчина в коричневой куртке лежал на асфальте. Что с ним, с такого расстояния не определить.
– Откуда он взялся, мать его?..
– Заткнись, сраный ублюдок, следи за дорогой, – прошипел Олаф и обратился к Тане: – Откуда взялся этот тип? Ты же сказала, никакой охраны!
Таня была невредима, но лицо ее было неестественно белым. Олафа задело по шее, он утирал кровь рукой. Винченцо осколками поцарапало лицо.
– Это не охранник, полицейский, – пробормотала Таня.
– Что за херня…
– Он оказался здесь случайно. Полиция тоже иногда снимает деньги в банках.
– Херня… – повторил Олаф и тут же окрысился на Винченцо: – Это все ты виноват, Спагетти. Ты и твоя сраная колымага. Нехер было угонять «альфу»! – И он так стукнул кулаком по деревянной приборной панели, что та треснула. – Чем тебе не нравились «ауди», они надежны! – не унимался Олаф. – А не это долбаное корыто!
– Успокойся! – закричала сзади Таня. – Это не его вина! Мы же договаривались – никакой крови.
– Но это был полицейский!
– Да, но не при исполнении!
– Тогда зачем он притащил с собой пушку!
– Ты облажался, – сказал Олаф, немного успокоившись. – В следующий раз машину выбираю я.
Винченцо молча смотрел на дорогу через разбитое ветровое стекло. Он ненавидел себя и думал о неподвижно лежавшем полицейском.
«Джулию» поставили в гараж, открутили номера и стали думать, что делать дальше. Таня занялась шеей Олафа, остальные молчали. Потом Таня и Олаф с бутылкой джина заперлись у себя в комнате. Винченцо все слышал – на этот раз они трахались шумнее обычного.
Около полуночи Винченцо за столом на кухне разбирал проклятый стартер. В квартире было непривычно тихо, никакой музыки, все спали, монотонно гудел холодильник. Потом открылась дверь в комнату Олафа, заскрипела половица. Винченцо узнал осторожные шаги Тани. Босая, она прошмыгнула мимо него к холодильнику.
Подняв глаза, Винченцо увидел, что она голая. Черные очки – вот все, что было на Тане. Она взяла бутылку вина и повернулась к Винченцо. Длинные волосы закрывали ее лицо.
– Это стартер, – сказал Винченцо.
Она глядела на детали в его перепачканных смазкой руках.
– И он немецкий, «Бош».
Таня коротко рассмеялась. Потом подошла к нему – так близко, что Винченцо почувствовал запах секса, исходящий от ее кожи.
Таня поставила бутылку на стол и вкрутила в пробку штопор.
– Почему ты такой злой?
Он растерялся.
– Ты здесь единственный никогда не рассказывал о своих родителях.
Она вытащила пробку, налила вино в стакан и поставила его перед Винченцо.
Тот молчал, а когда открыл рот, чтобы ответить, на пороге появился голый Олаф.
– Все в порядке?
Таня промолчала. Олаф взял стакан Винченцо и осушил его залпом. Напомнил, кто тут главный. Тане его присутствие было неприятно – Винченцо это чувствовал.
– Оставь ребенка в покое, пошли. – Олаф взял ее за руку.
Таня послушалась, но, прежде чем уйти, наклонилась к Винченцо и поцеловала его в губы.
– Спокойной ночи, Винченцо.
Олаф замер.
– Что здесь происходит?
Она спокойно посмотрела на него:
– Тебя это не касается.
Винченцо испугался. В воздухе запахло грозой. Олаф с размаху влепил Тане пощечину. Винченцо вскочил, но Таня оттолкнула его.
Она не хотела его помощи, не нуждалась в ней. Она вплотную подступила к Олафу:
– Ты ревнуешь? Ты?!
Винченцо хотел было объяснить, что не прикасался к Тане, но она жестом велела ему заткнуться.
– Мы условились – полная свобода. Никакого принуждения, никаких претензий на собственность.
Она снова наполнила стакан Винченцо и отпила из него.
Олаф ненавидел эту ее рассудительность.
– Я не это имел в виду, – буркнул он.
– Нам следует начать с себя, если мы хотим изменить общество, – наставительно заметила Таня.
– Ну так и трахайся с кем хочешь. – Олаф презрительно скривился и вернулся в комнату.
Таня достала сигарету из пачки Винченцо и закурила. Он совсем растерялся. Зачем она так с Олафом?
– Ты действительно с ним вместе или у вас это так?..
Таня усмехнулась и стянула очки. Винченцо было неловко. Он не вполне понимал, что значит этот ее торжествующий взгляд. Таня ушла, оставив его вопрос без ответа и не поцеловав Винченцо на прощанье. Исчезла в комнате Олафа, но дверь оставила приоткрытой.
Некоторое время Винченцо сидел один. Таня что-то имела в виду? Или просто использовала его, чтобы отомстить Олафу?
Этот вопрос не давал ему уснуть всю ночь. Винченцо закрывал глаза и видел ее – чужую и голую. Ее длинные ноги, маленькие крепкие груди. Ее холодность, которой он не понимал, но которой восхищался. Неважно, что произошло, – Таня точно не была жертвой.
И Винченцо решил провернуть свою «акцию», в которой Тане отводилась одна из главных ролей.
Глава 56
Он выждал подходящий момент и нанес удар.
Олаф развлекался с другой девушкой, Таня сидела на кухне одна.
– Я хочу кое-что тебе показать, – сказал Винченцо.
В полночь он припарковал «джулию» на одной из фешенебельных улиц Богенхаузена. Дома были погружены в темноту. Тане не слишком нравилась идея ездить в машине с выбитыми стеклами, но Винченцо не слушал ее комментариев. В него будто бес вселился.
– Чем занимается этот человек? – спросила Таня.
– Какая-то шишка на «БМВ», – ответил Винченцо, доставая «беретту» из бардачка.
– Откуда это у тебя?
Винченцо пожал плечами и снял пистолет с предохранителя.
– Что ты задумал?
В Италии левые похитили менеджера «Фиата» и инженера с «Альфа-Ромео» ради выкупа. Но Винченцо задумал кое-что похлеще.
– Не бойся, – сказал он. – Мы всего лишь вернем то, что принадлежит нам по праву.
Винченцо перебрался через ограду и открыл ворота. Он довольно хорошо ориентировался на чужой территории, и это удивило Таню. Он протянул ей руку и повел к гаражу. Окна в доме не светились.
– Он наверняка дома, – прошептала Таня.
– Когда он проснется, нас здесь не будет.
Винченцо без труда взломал замок на воротах гаража. Тяжелая створка открылась с негромким скрипом. В полумраке помещения мерцала серебристая «ИЗО-ривольта», рядом стоял голубой БМВ.
Винченцо ненадолго задумался, а потом вскрыл БМВ. Таня сторожила снаружи.
– Эту поведешь ты, – сказал Винченцо и перешел к ИЗО.
Он отогнул резинку на окне и сунул туда проволоку.
– Но… как быть с нашей машиной?
– Оставим здесь, заберем позже.
Собственно, Винченцо явился сюда за ИЗО, но в гараже его захлестнула жадность. Теперь ему хотелось забрать отсюда все.
– Нельзя, она будет бросаться в глаза, – испугалась Таня.
Винченцо проигнорировал ее слова, открыл ИЗО и сел за руль. Некоторое время он медлил – одолевали воспоминания. Деревянный руль, хром, кожаные сиденья – странно, но сейчас все это виделось ему словно съежившимся. Он рванул провод и закоротил систему зажигания. Искра обожгла ладонь, стартер запищал, но мотор не завелся.
– Скорее, он может услышать, – заволновалась Таня.
– Садись в БМВ.
Машина не заводилась. Возможно, слишком долго стояла в гараже и аккумулятор разрядился. Таня увидела, как в доме вспыхнул свет.
– Он проснулся… Оставь ее!
Но Винченцо не хотел сдаваться.
– Черт, он сейчас будет здесь!
Таня потянула Винченцо за рукав, он ее оттолкнул.
В этот момент машина дернулась. Гараж наполнило жужжание восьмицилиндрового двигателя. Винченцо усмехнулся и хотел выйти, чтобы завести БМВ.
– Поезжай! Немедленно! – зашипела на него Таня. – Этот тип сейчас будет здесь.
Таня обежала машину и заняла место рядом. На мгновенье Винченцо задумался, а потом включил первую скорость и нажал на газ. В воротах стоял Винсент, выхваченный из темноты светом фар. Винченцо резко затормозил.
Никто не двигался. Винсент был в халате, наброшенном на пижаму, и целился в Винченцо из пистолета. Впрочем, ослепленный фарами, он вряд ли видел, кто за рулем.
– Выходите!
Винченцо не двигался. Таню охватила паника.
– Объезжай его!
Но Винченцо словно парализовало.
Винсент приблизился к водительской дверце, держа пистолет обеими руками. Винченцо не мог разглядеть, настоящий это пистолет или газовый. Он вытащил «беретту» из кармана куртки.
– Убери пушку, – сказал Винсент. И в следующий момент узнал Винченцо. Лицо исказилось, но оружия он не опустил.
Винченцо прицелился. Время остановилось.
– Поезжай же! – шипела Таня.
Винсент отступил.
– В чем дело, ты его знаешь? – спросила Таня.
– Нет.
Винченцо дал газу. ИЗО выскочила из ворот и помчалась по улице. Винченцо все жал на газ. Он убегал не от Винсента, а от пропасти, разверзшейся в нем самом. Только что он был готов убить отца. Руки дрожали, когда он въезжал в гараж.
Дома Таня быстро пришла в себя, а Винченцо лежал на матрасе, накрывшись с головой одеялом. Он никого не хотел видеть.
Когда на следующее утро Винченцо проснулся, в комнате он был один. Поднялся – глаза опухшие, руки-ноги не гнутся, – натянул куртку и отправился в гараж осматривать ИЗО.
Возле машины спорили Олаф и Таня.
– Ты идиот, – набросился на Винченцо Олаф. – Что за херню ты придумал?
– Это мое дело.
– Полицейские забрали нашу машину, а вы кое-что там оставили.
– Ничего там не было! – возмутилась Таня.
– Ваши отпечатки, идиоты!
Винченцо осмотрел переднюю часть ИЗО. Одна фара разбита, на бампере пара царапин и вмятина – вот и все повреждения. Олаф схватил его за руку:
– Мы не угонщики, чувак. Мы работаем на освобождение из тюрем наших товарищей. Здесь не банда уголовников! Мы – структура.
– Если бы я хотел структуры, подался бы в Бундесвер, – огрызнулся Винченцо.
– Сколько стоит эта тачка?
– ИЗО моя.
– У нас все трофеи общие.
Олаф открыл дверцу, чтобы сесть за руль, но Винченцо дернул его за руку и с силой отшвырнул прочь.
– У нас есть правила, малыш. – Лицо Олафа налилось злостью.
– Я живу по своим правилам.
Олаф схватил его за воротник.
– Прекратите! – закричала Таня.
Олаф толкнул Винченцо на машину. Тот споткнулся, но удержался на ногах и ринулся на Олафа. Они сцепились. Таня не вмешивалась. Так и стояла рядом, пока Винченцо не повалил Олафа на землю. Винченцо был меньше, жилистее, но Олафу нечего было противопоставить его напору.
– Козел! – Тяжело дыша, Винченцо оглянулся на Таню.
Олаф извивался под ним, лицо заливала кровь.
Вечером Олаф исчез, никто не знал куда. Винченцо сидел на матрасе в комнате Тани и набивал косяк, пока Таня занималась его разбитой бровью. Все произошло неожиданно. Почувствовав ее дыхание на своей коже, Винченцо не удержался и поцеловал ее. Таня этому будто вовсе и не удивилась, только лицо ее вдруг сделалось сосредоточенным. Это была не внезапная вспышка страсти, а нечто более глубокое, набиравшее силу постепенно.
Таня осторожно стащила с него футболку. Потом опустилась на колени над лежащим Винченцо и расстегнула ему штаны. Она явно знала, что делает, и Винченцо нравилось, что он может полностью ей довериться. Он просто лежал и любовался ее движениями, полными заботы и опытности.
Потом они заснули вместе, и это было самое прекрасное, что довелось Винченцо пережить после смерти матери. Точно где-то в глубине его замкнувшейся от мира души распахнулась дверь – и свет наполнил все тело.
А потом появилась полиция – без предупреждения взломали дверь и ворвались в квартиру. Их было не меньше дюжины – масштабная операция. Винченцо и Таня от неожиданности не знали, что делать. К счастью, на кухне в тот момент находились двое их товарищей, они подняли шум, и у Тани с Винченцо появился шанс уйти через окно.
Почти голые, они выбрались на крышу, перебрались через стену на крышу соседнего здания. В ночи мерцали синие мигалки. Крики, лай собак – совсем как в кино. Таня взяла Винченцо за руку, и он почувствовал себя неуязвимым.
ИЗО все еще стояла в гараже. Они запрыгнули в машину – ни паспортов, ни денег, ни одежды. Винченцо направился на погруженную в темноту площадь Центрального рынка. Остановился возле лавки Джованни. Вскрыл замок, и они проникли внутрь, свет включать не стали. Винченцо открыл тайник под кассой и вытащил несколько сотенных купюр, пока Таня совала в пакет сыр и салями.
– А шмоток у твоего дяди никаких тут нет?
Винченцо задумался, потом открыл дверь в каморку матери, щелкнул выключателем. Загудела неоновая лампа. На маленьком столике стояла всеми забытая швейная машинка, рядом высилась стопка отрезов, – будто Джульетта куда-то ненадолго вышла, прервав работу. Таня оглядела комнатушку, потрогала платья на вешалке и сняла одно.
– Как я тебе?
Смеясь, покрутила подолом. И только тут заметила, что Винченцо смотрит не на нее, а куда-то в пустоту.
Глава 57
Стараясь не попадаться на глаза полицейским, они двинулись в направлении границы. Впереди лежала пустая трасса. На Тане была белая блузка и юбка в клетку с широким поясом – последнее, что сшила для себя Джульетта. Винченцо в голубой рубашке, ворот расстегнут, и чересчур свободном кордовом костюме. Незадолго до Австрии он свернул на второстепенную дорогу, которой ехал с оружием из Турина, мимо крошечной приграничной станции Миттенвальд.
Они преодолели перевал, призрачный в сером утреннем свете. Место гибели Джульетты не было отмечено ни крестом, ни памятной табличкой. Южный Тироль был окутан розоватым светом, сияние снега на вершинах слепило глаза. Когда солнце взошло, миновали Верону. Потом пересекли долину реки По, по автостраде Дель-Соле проехали Флоренцию, Рим и Неаполь.
Далее пошли ухабистые южные трассы. Они останавливались только на заправках. По очереди садились за руль и спали в дороге. Кофе, сигареты и кола – черная кровь империализма – были им пищей. К вечеру следующего дня прибыли в Реджо-ди-Калабрию, самый южный порт апеннинского «сапожка», и успели вовремя. Паром на Эолийские острова отчалил через считаные минуты.
Маршрут пролегал до Милаццо на Сицилии и дальше – на Липари, Стромболи и Салину. Там, на южной окраине Европы, где время вот уже несколько десятилетий не трогалось с мертвой точки, их не потревожит ни один немецкий полицейский. Они вкатили на палубу под любопытными взглядами матросов – совсем юная пара, странно одетая, на роскошной машине «гран-туризмо». На дорогах Италии их ИЗО успела пропылиться насквозь: ехать пришлось с открытыми окнами, поскольку система кондиционирования не справлялась с жарой. Но у них получилось – это стало окончательно ясно, когда паром отчалил от берега, за ним тянулся хвост пенной воды.
Поздним вечером они съехали в безлюдной гавани Салины. Их ИЗО осталась единственной машиной на пароме. Таня безмятежно спала на пассажирском сиденье. Винченцо высматривал дорогу, по которой много лет тому назад ехал с Кармелой на разболтанном грузовом мотороллере. В лунном свете призрачно серебрились очертания скал. Шумело море. Вскоре в темноте показались огни деревни.
Глухое бормотание мощного двигателя эхом перекатывалось по деревне, между старыми домами, желтыми в свете уличных фонарей. Винченцо вспоминал, как когда-то гулял здесь с Кармелой. Интересно, какая она сейчас? Места, во всяком случае, мало изменились. И через двадцать лет все будет так же. Разве что домик родителей Розарии в переулке, ведущем в рыбацкую гавань, больше не выглядел бесформенным нагромождением камней. Стены аккуратно подремонтированы и оштукатурены; ставни, телевизионная антенна, скамейка в цветнике. Понятно, во что Джованни вкладывал свои денежки.
Усталый и пропотевший Винченцо выбрался из машины. Соленый ветерок с моря быстро охладил разгоряченное лицо. Слышался глухой шум прибоя. Внутри ИЗО что-то щелкало и потрескивало.
Они добрались до южной оконечности Европы, отсюда и до Африки рукой подать. Впереди серебрилась гладь моря, позади на многие километры простиралась выжженная солнцем земля.
В окошке на первом этаже зажегся свет, возник женский силуэт.
Минуту спустя женщина появилась в дверях.
– Винченцо? Что ты здесь делаешь? – Розария не без раздражения разглядывала дорогую машину и спящую на переднем сиденье девушку. – Кто это?
– Моя невеста, – соврал Винченцо.
Только утром они увидели комнату, в которой вчера ночью без ног повалились на кровать. В голове все еще отдавался гул мотора, в доме все было тихо. Разве что отдаленный шум моря пробивался сквозь плотно закрытые ставни.
Они лежали на старой супружеской кровати из темного дерева, которая кряхтела так, будто не меньше трех поколений зачинались в ней и в ней же отдавали Богу душу. Стены пахли сыростью. Когда Винченцо попробовал подняться, у него закружилась голова.
– Что с тобой? – Таня положила ладонь ему на лоб.
У Винченцо был жар. Сквозь полузабытье он видел, как Розария без стука вошла в спальню с подносом и поставила на столик возле кровати апельсины, печенье и чашки с кофе. Она открыла ставни и озабоченно склонилась над юношей. Потом что-то сказала Тане на ломаном немецком. Кофе был горячий и горький, дальнейшее прошло мимо сознания Винченцо.
Он впал в беспамятство – пограничное состояние, сотканное из обрывков воспоминаний, фантазий и противоречивых ощущений. Винченцо пребывал вне пространства и времени, не отличая день от ночи, не различая людей у его кровати и тех, что существовали только в его голове. Таня держала его руку, когда Винченцо ночью открыл глаза, позвал мать по-итальянски и дернулся, когда Таня ответила по-немецки. В лучах пробивавшегося сквозь занавески весеннего солнца ему привиделся Винсент в клетчатых домашних тапках, с пистолетом в руке. Винченцо мерещился свет синей мигалки, плясавший на стене соседнего дома, когда они с Таней удирали от полицейских. Он видел, как блестели глаза Энцо, когда тот искал его в зале суда. А потом Винченцо пригрезился дневник Джульетты.
И все это смешалось, сплавилось в сгусток яростного гнева на всех, кто его предал, кто отнял у него мать – единственного на земле человека, ради которого и стоило жить. Винченцо проклинал их – за буржуазное высокомерие и пренебрежение к гастарбайтерам, за немецкую холодность и сицилийское раболепие. Он проклинал и Олафа – за пустую болтовню и никчемные претензии на власть. Проклинал он и себя – за то, что так долго шел на поводу у дураков, явно его не стоивших.
В этом лихорадочном бреду сгорело его прошлое. Здесь, на краю света, не было ничего, кроме влажной духоты, мокрых от пота простыней и пыли, танцующей в пробившемся сквозь ставни солнечном луче. И никаких звуков, лишь треск цикад в саду да отдаленный морской прибой.
Таня не отходила от его постели. Ей помогали Розария, ее мать Мария и бабушка Винченцо Кончетта, счастливая от того, что любимый внук дома. Иногда заскакивала к нему в комнату и крошка Мариэтта, дочь Розарии, с любопытством разглядывала старшего кузена. Из чужого, враждебного мира Винченцо возвратился в лоно семейного уюта, домой, – он знал это наверняка, даже если впервые в жизни понял, что такое дом.
– Ты знаешь историю Эдипа? – спросил он как-то.
– Это который спал со своей матерью? – отозвалась Таня.
– Который убил отца.
– И что?
– Ничего.
– С чего это ты вдруг о нем вспомнил?
– Так… Что, если и я такой?
Таня дернула плечами.
– Он заслужил это… твоя мать была бы жива, если бы не он.
Винченцо молчал. Он не стал уточнять, которого из отцов имел в виду, но сейчас его наполняла счастьем мысль о том, что той ночью он не выстрелил. Он не смог бы жить, имея на совести такое.
Через несколько дней он пошел на поправку. Еще обессиленный, но уже голодный, Винченцо впервые обедал за столом. Розария приготовила каракатицу в томатном соусе. Когда все доели, бабушка встала и обняла Таню и Винченцо за плечи:
– Пойдемте, кое-что вам покажу.
Кончетта все еще носила траур по Джульетте. Сильно похудевшая, сгорбившаяся, она не утратила ни решительности, ни властности. Винченцо ощутил это, стоило сухонькой ладони вцепиться в его руку.
Кончетта обитала в комнате, которую обустроил для нее Джованни, – бывшем magazzino[140], где раньше хранились инструменты для работы в поле. Теперь здесь стояли кованая кровать, большой шкаф и туалетный столик, перевезенные из миланской квартиры. Пахло сыростью, как и во всем доме. Солнечные лучи пробивались сквозь ставни приглушенным эхом большого мира, знакомство с которым обернулось для Кончетты сплошной чередой разочарований и потерь.
Она предложила им сесть – Тане на кровать, Винченцо на единственный в комнате стул – и обратилась к Винченцо:
– Devi sposarla. Non basta essere fidanzati[141].
Таня вопросительно посмотрела на Винченцо. Тот перевел, с трудом сдерживая улыбку:
– Она говорит, мы должны пожениться.
– Расскажи ей правду, – ответила Таня.
Кончетта смотрела вопросительно. Винченцо медлил. Пусть бабушка старая и немощная, но по-прежнему глава их семьи. Она, и только она решала, кто достоин, а кто нет носить фамилию Маркони. И это она, а вовсе не Джованни вычеркнула Энцо из семьи.
Но у Винченцо не было сил спорить на тему семейной чести.
– Да, мы скоро поженимся, можешь не беспокоиться на этот счет, – ответил он.
– Она католичка?
– Sì, sì, – закивал Винченцо, понятия не имея, к какой конфессии принадлежит Таня.
Ему было все равно, сам он давно утратил веру в Бога. Тем более бесполезно было объяснять Кончетте, что любящий Бог не допустил бы напалм во вьетнамских деревнях и умереть его матери тоже не позволил бы. Кончетта сняла кольцо с пальца. То самое, что Винченцо еще ребенком видел на руке матери и которое внушало ему нечто вроде благоговейного страха. Массивное, серебряное, с квадратной печаткой. Кончетта носила его в память о Джульетте. Не успела Таня сообразить, что к чему, как старуха взяла ее руку и торжественно надела кольцо на безымянный палец.
– Его носила мама Винченцо, – объяснила она и показала на внука.
Винченцо молчал, Таня тоже.
– Объясни ей, что я не могу это принять, – наконец сказала она.
Кончетта, улыбаясь, смотрела на Винченцо, у которого не хватало духу перевести последнюю фразу. Таня встала и сняла кольцо с пальца.
– Нет, Таня, подожди…
Винченцо прекрасно понимал подругу, но он также понимал, как велика будет обида Кончетты. Честность Тани здесь, в сицилийской деревне, воспримут как оскорбление. И немку в своем доме бабушка стерпит только при одном условии – с обручальным кольцом на пальце.
Он «перевел», но совсем не то, что имела в виду Таня. Сказал, что она отказывается носить кольцо с руки мертвой свекрови из опасения, что оно принесет несчастье. Кончетта не стала возражать. Молча взяла кольцо, положила в ящик туалетного столика и с тех пор никогда больше не смотрела в глаза Тане.
В тот вечер Таня с Винченцо впервые поссорились. Таня не была готова поступиться своей радикальной честностью. Если его родственники не способны принять ее как свободную женщину, которая решает за себя сама, а не предоставляет это мужчине, ей придется искать прибежища в другом месте.
И вообще роль покладистой сожительницы в любом случае не для нее, хотя секс с Винченцо ей нравится больше, чем с кем-то еще. С совместной жизнью покончено, ей достаточно опыта с Олафом.
Винченцо просил Таню остаться. Пытался объяснить, что и сам он здесь такой же чужой, как она. Но он снова недоговаривал. Потому что если какая-то его часть и приняла мятежные идеи, то другая никогда не покидала Италию предков.
И пока они пререкались до изнеможения, Кончетта, Розария и ее мать сидели на кухне и вслушивались в их спор на языке, что сам по себе звучал угрожающе.
Из единственной на острове телефонной будки Таня позвонила берлинскому адвокату, который вел дело ее арестованных товарищей. Адвокат посоветовал ей залечь на дно и не высовываться, покуда суматоха не уляжется. Приказа о ее задержании нет, но все члены коммуны арестованы, включая Олафа, и неизвестно, что он на нее намерен повесить. Это ведь Олаф натравил на них полицейских. Что касается Винченцо, то его тоже пока не ищут, потому что владелец угнанной машины на него не заявил. И похоже, этот человек настроен вовсе замять историю.
Когда Винченцо немного окреп, они с Таней спустились к морю. В высоком небе клубились белые облака, пекло солнце. Хотя Винченцо был еще достаточно слаб, они босиком лазали по черным скалам. Только здесь и можно было в полной мере прочувствовать, что Салина – бывший вулкан.
Винченцо ощущал вселенскую усталость. Ему хотелось одного: чтобы все наконец осталось в прошлом. Чтобы он просто был здесь – с этими черными скалами, морем и четырьмя женщинами, которых любил.
– Думаешь, они найдут нас здесь? – спросила Таня.
Винченцо покачал головой и вытащил пистолет из завязанной узлом рубахи. Таня испугалась, однако он не собирался стрелять. Только выбросить эту штуку в море.
– Подожди! – Таня схватила Винченцо за руку. – Кто знает, зачем он еще может нам понадобиться.
– Ты о чем?
Она молчала, смотрела выжидающе.
– Пора что-то менять, Таня.
– Если мы прекратим борьбу, победят другие.
– У них «калашниковы», танки, самолеты, армия… Кто мы такие, в конце концов? Песчинки. Кому есть дело до такой мелюзги, как мы?
– Никому, пока мы не заставим их считаться с нами. Но лучше быть песком, чем топливом для мировой фабрики.
Винченцо тряхнул головой:
– Людям не нужна революция. Они хотят, чтобы все осталось как есть. Ребята вроде Олафа, Баадера или Майнхоф не в счет. Они не общество, не рабочие, они даже не выходцы из бедных стран. И верят они только в себя.
Он угодил в больное место. Хотя Таня и не решилась бы признаться в этом даже себе.
– А ты? – спросила она. – Во что веришь ты?
– Больше ни во что.
Винченцо размахнулся и зашвырнул пистолет в море. Потом разделся и голый вошел в прибой. Таня стояла на берегу, смотрела. Море обхватило Винченцо и швыряло его туда-сюда, пока он наконец не прекратил сопротивляться и не слился со стихией. Он закрыл глаза, нырнул и ощутил, как вода смывает с него все, чем он не являлся.
А потом, нагие, они лежали на черных скалах. Винченцо будто умер и заново родился. Он нашел ее руку, и Таня сжала его пальцы. Винченцо слышал, как часто бьется его сердце, но внутри растекался покой. В светлых глазах Тани отражались небо и очертания его черной лохматой головы.
– Только ты и я, – сказал Винченцо. – Больше нам никто не нужен, чтобы быть счастливыми.
– Но я не хочу быть счастливой.
Винченцо удивленно взглянул на нее:
– Ты хочешь быть несчастной?
– Нет. Я хочу, чтобы моя жизнь имела смысл. Хочу знать, для чего я живу.
– А есть ли он вообще, этот смысл? Что, если все это одна большая случайность?
– Да что с тобой?
– Но это правда. И уже завтра все это может закончиться.
Таня села, устремила взгляд в море. Винченцо поцеловал ее в затылок, погладил по волосам.
– Но мы только трахаемся день и ночь… – Таня рассмеялась, но тут же сказала серьезно: – Мы совсем не знаем друг друга, Винченцо.
– В этом наш шанс начать с чистого листа. Забыть прошлое.
– А как же твоя семья? На этом острове каждый камень – твое прошлое.
– Мы придумаем свою жизнь заново. – Винченцо привлек ее к себе. – Я не знаю…
Таня отстранилась:
– Мы не должны ставить друг другу условий. Я не хочу угодить в клетку, как тогда, с Олафом… Сам он трахал все, что движется, но при этом требовал от меня какой-то верности. Будто я была его собственностью… Отношения не должны заменить свободу, понимаешь?
– Разумеется. – Винченцо поцеловал ее в плечо. – Все что захочешь, дорогая…
Она встала и прыгнула в воду, успев скользнуть губами по его щеке. Винченцо смотрел на нее и думал, что самой большой глупостью с его стороны будет, если он согласится на добровольное изгнание из этого рая.
Когда они возвращались, в деревне звонили колокола. Неожиданно путь им преградила пасхальная процессия. Укутанная в черное фигура Христа мерно покачивалась на плечах четырех носильщиков. За ними шли женщины в траурных одеждах, среди них мать Розарии, Кончетта и престарелый священник. Винченцо вспомнились похороны Джульетты.
Они с Таней присоединились к процессии, проследовавшей к церкви Мадонна-дель-Терцито мимо каперсовых полей и виноградников. И уже возле церкви, где, согласно местной легенде, двум крестьянам явилась Дева Мария, встретились с другой процессией, чьи министранты несли облаченную в такой же черный бархат Мать Христову. Из-за облаков проглянуло яркое апрельское солнце. Министранты сняли золототканые покрывала со статуй и поставили их друг против друга. Казалось, еще немного – и Божья Мать обнимет своего воскресшего сына.
Глава 58
Остров лежал окаменевшим выдохом моря. Зарастали бурьяном поля под бескрайним небом, спускаясь к берегу мягкими зелеными складками. В зарослях тростника и диких кактусов торчали виноградные лозы, каперсы и оливы, в корнях которых скользили юркие ящерки. Желтый мох укрывал камни, выбеленные соленым ветром стены домов, почти разрушенных и давно никому не принадлежавших. И сама Салина была как покинутый дом скитальца.
Винченцо бродил по пыльным улочкам деревни, узнавая места своего детства, одурманенный ароматом пиний, дикого тимьяна и розмарина. Ветер шелестел в листьях пальм и эвкалиптов, серебрилась бескрайняя Адриатика. И сейчас, закрыв глаза, Винченцо мог бы во всех подробностях воспроизвести в памяти события той свадьбы, которой закончилось его детство.
Столы в поле, ветер треплет белые скатерти. Мать в красном платье. Джованни – в дорогом костюме. На развалинах каменной стены Винченцо впервые поцеловал девушку.
Дом бабушки и дедушки он узнал сразу – если только то, что от него осталось, можно было назвать домом. Руины, проглядывавшие из сухой травы, почернели от сырости, осыпались, поросли диким виноградом. Крыша давно обрушилась. От стены несло плесенью и мочой. А поле, на котором когда-то Джованни танцевал с Розарией, заросло каким-то кустарником, из которого торчали метровые стебли чертополоха.
«Природа безжалостна в своем равнодушии, – подумал Винченцо. – От того, что нам дорого, остаются только воспоминания».
Когда он вернулся в деревню, солнце уже село за горы. Стены домов желтели в свете ржавых фонарей.
– Кто ты? – спросил его рыбак, с которым он поздоровался на улице. – Приезжий или жил здесь когда?
Винченцо не знал, что на это ответить. Он не видел смысла в том, чтобы делить людей на категории, как это делали деревенские. Приезжие и местные, эмигранты и иммигранты, господа и слуги – никем из них Винченцо быть не хотелось.
Однако он заметил, что в деревне за ним, молодым и любознательным чужаком, оставляют право на боґльшую свободу, выходящую за рамки местных законов и обычаев. Иначе говоря, на «свободу дурака».
И в этом не было никакого унижения, напротив. Оставляя за Винченцо право быть другим, деревенские глядели на него с почтением, едва ли не снизу вверх. «Complimenti!»[142], – восклицали они, когда он рассказывал о Германии.
Жизнь на богатом севере представлялась островитянам воплощением мечты, которая для них самих осталась несбыточной. Каждому из них не хватило чего-то – упорства, ума или решительности, – чтобы однажды подняться на борт корабля или сесть в поезд. Лишь самые отчаянные – или отчаявшиеся – отправлялись искать на чужбине счастья, которого не было на родине. Это их дома разваливались, а в садах, где они играли детьми, ничто не противостояло разрушительной работе времени.
Поэтому Салина – место, на первый взгляд мало подходящее для полного сил двадцатилетнего мужчины, – стала для Винченцо идеальным прибежищем. С одной стороны, к нему здесь относились как к ребенку и потому все его обожали – как это бывает только у жителей Средиземноморья. Но существовала и другая сторона, и это она давала Винченцо возможность, намного опередив свой возраст, посмотреть на себя со стороны. На Салине он не был тем, кем его обычно видели окружающие, – ни рабочим, ни гастарбайтером, ни зарытым в землю талантом. Здесь он был самим собой – скитальцем в бесприютном ландшафте, бывшем зеркалом его одинокой души.
Таня, напротив, прослыла ходячим скандалом – прежде всего благодаря обыкновению загорать на берегу голой. Не было в деревне ни одной женщины, которую не возмущало бы подобное бесстыдство, и ни одного мужчины, чьи фантазии не будоражили бы прелести молодой немки. Встретив ее, деревенские, вне зависимости от пола, отводили глаза. Таня кожей чувствовала брошенные в спину злые слова и похотливые взгляды.
Ничего серьезного ей не угрожало, пока она считалась здесь женщиной Винченцо. Но в однообразной деревенской жизни Таня стала событием, затмившим и недееспособность правительства, и проблему безработицы, и даже террор «Красных бригад».
Никому и в голову не приходило, что молодая пара из Германии может быть каким-то образом связана с той войной, что бесстыжая радикальная молодежь объявила властям на материке.
Наконец появился Джованни. Он выехал при первой же возможности, как только узнал от Розарии, где скрывается племянник, обчистивший его кассу.
Небритый и мрачный, вышел Джованни из своего раздолбанного грузовика. Поцеловал дочку, сидевшую на руках у Розарии, и прямиком поспешил в комнату Винченцо.
– Deficiente!
Джованни влепил племяннику оплеуху и только после этого обнял.
Винченцо был рад ему. Он улыбался – не то иронично, не то пристыженно, глядя, как Джованни осыпает нежностями маленькую Мариэтту.
За столом Джованни много шутил с Таней, но Винченцо так и не смог понять, что на самом деле думает дядя о его fidanzata[143].
После обеда, когда жара спала, Джованни предложил племяннику прогуляться до могилы Джульетты. Винченцо приготовился к неприятным вопросам – какого он черта здесь делает, как мог он так бездарно зарыть свой талант в землю, что имеет против него полиция. Но Джованни ни словом не помянул старое, пока они шли через деревню к кладбищу на берегу моря.
Так уж у них было заведено. Это Таня при малейшей возможности кидалась публично обсуждать любую проблему, даже если та выеденного яйца не стоила. А в семействе Маркони о больных вопросах больше молчали, чем говорили. Что позволяло сохранить лицо всем, включая оступившегося.
Африканский сирокко трепал серебристые листья олив. Джованни любовался красотой эолийской земли-матери, с которой ничто не могло сравниться, и снова клялся вернуться сюда насовсем.
Винченцо ему не верил. Он знал, что уже через несколько дней дядины восторги сменят направление и Салина уступит место Германии, которой Джованни, пусть и без особой любви, восхищался не меньше.
Белый ангел на надгробии Джульетты успел потемнеть под соленым ветром. Винченцо накрыло волной отчаяния и горечи. Впервые после возвращения он решился прийти сюда. Джованни толкнул племянника в бок:
– Что думаешь делать?
– Без понятия.
– Они были у меня.
– Кто, фараоны?
– Пообещали, что вышлют тебя из страны, если найдут. Пока ты не в Германии, ты их не интересуешь. Так что советую до поры оставаться здесь.
– Я и не хочу возвращаться.
– И что ты собираешься делать здесь?
Винченцо пожал плечами. Он и в самом деле не имел ни малейшего понятия.
– Ты хотел проектировать автомобили, помнишь?
Винченцо посмотрел на дядю:
– Забудь, Джованни. Со мной все кончено.
– Чушь. Ты слишком молод. Просто брось забивать голову разной чушью и займись наконец своей жизнью.
Чего-чего, а подобных поучений Винченцо никогда не терпел, поэтому он указал Джованни, что если бы родители не были такими идиотами, он бы сейчас учился в университете в Милане. Или в каком-нибудь Лондоне, но точно порвал бы с этим чертовым югом, с которым его ничего не связывает, но который тем не менее продолжает портить ему жизнь.
– Прекрати обвинять других, – оборвал его дядя. – Взрослый же мужчина. Или ты сам поднимешься из грязи, или так в ней и останешься. Никто не соберет за тебя твою жизнь.
– И что я должен делать? У меня ни образования, ни денег – ничего.
– Учись здесь. На Липари есть лицей.
– Но если я объявлюсь, меня арестуют.
– Брось, кому ты здесь нужен?
– А если меня призовут в армию? Неужели я должен буду умереть за этих фашистов?
– Ну и призовут… Может, хоть там тебе объяснят, что такое дисциплина.
– Вот слова достойного гражданина. А кто в свое время закосил от армии?
– Я, по крайней мере, работал.
– Да где я буду работать в этой дыре? Потому все и сбежали отсюда, что здесь нет работы. Я в тупике, в полной жопе, неужели ты этого не видишь, дядя?
– В какой такой жопе, что ты несешь? Ты здоров, голова у тебя на месте… даже женщина есть.
Винченцо посмотрел дяде в глаза, пытаясь разгадать, что стоит за этими словами.
– Я почти не знаю ее.
– Ты хочешь на ней жениться?
– Возможно.
Джованни испытующе смотрел на племянника.
– Тогда заделай ей ребенка как можно скорее. Иначе она уйдет.
Винченцо скептически поднял брови.
– Ты своей заделал, все равно ушла.
Джованни пожал плечами – женщины, что тут скажешь.
Он обнял племянника за плечи, и они двинулись назад, к своим женщинам.
Когда далеко заполночь Таня уснула, Винченцо вылез из постели, выскользнул за дверь и отправился бродить по деревенским переулкам. С моря дул прохладный ветер, где-то лаяла собака, по обочинам громоздились груды мусора. Деревня производила впечатление обезлюдевшей. Каменные дома стояли молчаливыми памятниками некогда теплившейся в них жизни.
Слова дяди задели Винченцо. «Займись наконец своей жизнью». Как будто до сих пор он не делал этого, а жизнь его можно будет счесть состоявшейся, только если это признает «общество», – что бы под этим словом ни понималось. И признание, разумеется, должно выражаться во вполне материальном эквиваленте: деньги, машины, виллы с бассейнами – назло завистливым соседям.
Без всего этого он никто. Талант следует реализовать, чтобы жить лучше, – мать постоянно это повторяла. И Винченцо никак не мог избавиться от чувства, что он живет ради того, чтобы оправдать ее ожидания. Даже ее смерть не освободила его от этого, напротив. Завершив череду несчастий, выпавших на долю Джульетты, ее смерть требовала оправдания. Но какого? Чем мог Винченцо ответить? Ведь даже детская его мечта стать инженером и превзойти отца на поприще автомобилестроения опротивела ему после знакомства с другим, ненавистным отцом. После той рождественской ночи эта дорога для него закрыта, даже если у него имеется талант.
Да и что такое в этом мире профессиональная состоятельность? Вот взять господина Гримма и его Вильгельма Мейстера[144] – чего стоят все их буржуазные идеалы, если они так легко разбиваются о реальную жизнь? Винчецо не видел себя ни в одной из известных ему профессий, уже сама идея начинать каждый день с прибытия в контору и завершать его возвращением на загородную виллу с бассейном казалась ему лицемерием и ложью.
И если настоящая жизнь в такой лжи невозможна, Винченцо оставалось единственное, радикальное, решение: не принимать никаких решений вовсе. Просто уйти, выскользнуть из-под пресса, которому он ничего не мог противопоставить, кроме смутных предчувствий и неоформленных желаний. Его планы, сколь бы туманны они ни были, совершенно не согласовывались с требованиями, что общество предъявляло к мужчинам его возраста, – уж в этом Винченцо не сомневался.
Ему не раз приходила в голову мысль свести счеты с жизнью. Он вполне мог представить себе, что идет на «акцию» исключительно с целью самоликвидации. Но почему же он так мало ценил себя и свою жизнь, в то время как прочие видели в нем особенного, едва ли не гения?
Людям свойственно восхищаться тем, чего они лишены, – знаниями, удачливостью, талантом. Но что есть талант? Он дается человеку с рождения, как голубые или карие глаза. Это не достижение, которым можно гордиться. И потому талант ничего не стоит. «Человек имеет право гордиться только тем, чего достиг сам», – думал Винченцо.
Не меньшее отторжение вызывала у него идея, что жизнь есть дар, а потому ее надо ценить такой, какая она есть. Слишком глубокая пропасть отделяла его родителей-гастарбайтеров от тех, кто не принимал Винченцо, невзирая ни на какие его таланты.
Была ли тому причиной жизнь в Германии или тайна, связанная с его происхождением, но Винченцо рано стал ощущать собственную инакость. Немецкие одноклассники были ему такими же чужими, как и итальянский отец, втайне им презираемый, как и немецкий отец – его отвергнувший.
Единственным человеком, с кем Винченцо ощущал глубокую связь, была мать. Никто не смог ее заменить, даже Таня. И после смерти матери был только один способ стать частью семьи, в которой он не чувствовал бы себя чужим, – создать собственную. И пусть его появление на свет стало результатом скоротечной встречи, глотка украденной свободы в обшарпанном гостиничном номере, он сам может утвердиться в этом мире – через собственных детей. Только это могло придать смысл всему случившемуся.
Он перелез через каменный забор и оказался в запущенном саду. Там стоял дом, полуразвалившийся, но не такой убогий, как дом его дедушки с бабушкой. Винченцо поднялся на террасу. Под ногами хрустела потрескавшаяся плитка, в лунном свете можно было разобрать ее цветочный узор.
Он толкнул дверь – по углам взметнулись летучие мыши. Пахло птичьим пометом и плесенью. Но стены были крепкие, а крыша, хоть в ней и зияли дыры, не обвалилась. Потребуется не так уж много усилий, чтобы привести все в порядок. Дом словно только и ждал, когда его комнаты заполнят детские голоса.
Винченцо не знал, чем будет заниматься на Салине, но не все ли равно, где ему, вечному изгнаннику, пустить корни. А это требовалось сделать поскорее, чтобы не потеряться окончательно. Стать наконец кем-нибудь.
На рассвете он вернулся в постель и, взбудораженный ночными фантазиями, прильнул к теплому телу Тани. Спала она, разумеется, голой. Винченцо прошептал ей на ухо признание в любви. Таня повернулась, погладила его по волосам, пробормотала что-то в ответ и снова уснула.
– Я хочу жить с тобой, Таня, – прошептал Винченцо, – хочу иметь от тебя детей. Я хочу на тебе жениться.
Она открыла глаза. Винченцо ждал.
Сонная, Таня села на кровати и включила лампу на ночном столике. Винченцо рассказал ей о заброшенном доме, который можно отремонтировать, о растрескавшейся плитке на террасе, о нерожденных детях. Таня слушала его удивленно, а потом не выдержала и перебила:
– Винченцо, я хочу уехать отсюда, поскорее.
– Но нам нельзя в Германию.
– Хорошо, но почему в таком случае нам не отправиться дальше?
– Куда это?
– Дальше, на юг. В Алжир, на Кубу, в Боливию. Там есть чем заняться. Зачем торчать в этой дыре, где и за сотню лет ничего не изменится?
– И как ты намереваешься пересечь границу без паспорта?
– Паспорт можно купить. Что я буду здесь делать?
Винченцо погладил ее обнаженное плечо:
– Я люблю тебя, Таня.
– Я тебя тоже. – Таня задумалась, взяла сигарету. – Что я буду здесь делать, Винченцо? Стряпать?
– Разумеется.
Он улыбался. Таню невозможно было представить в роли домовитой итальянской мамаши, но разве то, что так нравилось ему в ней, – свободолюбие, прямота, бескомпромиссная честность – должно стать помехой в семейной жизни?
У них все будет не так, как у родителей, они все сделают иначе. Для начала перевоспитают себя, а потом и своих детей вырастят свободными людьми. Они докажут, что можно по-другому.
Но чем дольше говорил Винченцо, тем грустнее делалась Таня. Для чего она училась? Она видела себя частью большого движения – общеевропейского, да что там, мирового. Солдатом революционной армии. А Винченцо – своим соратником. С чего же это вдруг он засомневался?
Неправда, возразил Винченцо. Он по-прежнему верит в справедливое общество с равными возможностями для всех. Вот только… Нет, ему явно не хватало слов. Винченцо замолк. Он чувствовал себя одиноким более чем когда-либо.
Но Таня расслышала в его молчании давнишнюю стыдливость и попыталась растормошить его. Он же не какой-нибудь буржуа, к чему ему вешать себе на шею дом и семью. Тем более в таком возрасте… Он непременно сделает из своей жизни нечто особенное, с его-то талантами…
– Вот только не надо про таланты, – перебил Винченцо. – И про то, как я зарыл их в землю.
Он встал, вышел из комнаты, из дома. Хлопнул дверью – оставил Таню одну.
Глава 59
Куда ему было идти? Без паспорта, который, конечно же, давно у полиции, Винченцо был никто. Разговор с Таней не улучшил ему настроения. И то была не та неуверенность в собственных силах, что всю жизнь преследовала его мать, не страх оказаться недостаточно хорошим для этой жизни. Винченцо изводил не страх, а отчаяние. Он будто явился в этот мир, как на театральное представление, опоздав к его началу. И хотя у него имелся билет, все места в зале уже были заняты.
К ужину Винченцо вернулся домой. О детях они с Таней больше не говорили. После вечерних новостей – Джованни привез немецкий телевизор – показывали документальный фильм про Вьетнам.
Вьетконговцы почти у Сайгона, американская армия почти разгромлена. Всюду царил хаос. Американцы вывозили из страны сирот. В чреве огромного самолета, доставлявшего во Вьетнам вертолеты и танки, летели сестры милосердия с сотнями маленьких детей. За океаном сирот предполагалось разместить в приемных семьях. Babylift – вот как называлась эта операция.
Первый самолет потерпел крушение вскоре после старта. Сто пятьдесят пять погибших, половина – дети.
Винченцо охватила ярость. Он так проклинал американцев, что Джованни пришлось выключить телевизор. Таня недоумевала: с чего это ее приятель так раскипятился?
– Война закончилась, Винченцо.
– Ничего не закончилось! – кричал он. – Кто дал им право вывозить детей? Что с ними станется лет через двадцать?
– Но это сироты, Винченцо. В Америке им было бы лучше.
– Убийцы! Похитители младенцев! Какого черта они вообще делали во Вьетнаме?
– Во Вьетнаме коммунисты, – заметила Розария.
– И что, они пожирают детей?
– Да ты хоть знаешь, сколько детей погубил Сталин? – не выдержал Джованни.
– Перестаньте ругаться! – Это вмешалась маленькая Мариэтта.
Винченцо бросил вилку с ножом и выскочил из-за стола. Таня осталась сидеть.
Позже Джованни повздорил с Розарией. Он хотел забрать дочь, чтобы она пошла в школу в Германии.
– Здесь она среди своих, – возразила Розария.
– Здесь учителя – ослы, – ответил Джованни. – Чему они могут учить детей, если сами ничего не видели, кроме этой дыры?
– Но я устала от бесконечных разъездов, Джованни. Малышка тоже. Она должна знать, где ее дом.
– То есть мне бросить все, чего я добился в Германии?
– Ты оторвался от корней, Джованни. Я буду ждать тебя здесь.
Джованни уехал в Германию, один. На острове задул африканский сирокко, жара стала нестерпимой. На зубах явственно скрипел песок. У Тани созрел новый план. Коль скоро она застряла здесь, то глупо терять время, надо заняться докторской диссертацией. Мир можно перевернуть не только оружием, но и словом.
Таня отыскала в лавке местного торговца рухлядью старенькую «Оливетти», выписала через товарищей из Германии нужную литературу. Одна из мюнхенских подруг прислала ей литеры с немецкими буквами, Винченцо ловко вмонтировал их в машинку. Кабинет Таня устроила на террасе, где Розария сушила белье.
С тех пор дом жил под неумолчный стук пишущей машинки. Каждое утро, не успевало между облаков проглянуть солнце, Таня уже сидела на террасе – в бикини и темно-коричневой шляпе, которую бог знает где обнаружила в доме. Ее носил в свое время отец Розарии. Кончетта неоднократно требовала от Винченцо образумить подругу. Siamo una buona famiglia![145] Что бы она там ни выстукивала, ей следует делать это внутри и прилично одевшись, а не выставлять свои прелести на всеобщее обозрение.
Разумеется, увещевания не возымели действия, совсем напротив. Они лишь вдохновили Таню на борьбу против отравленного патриархальными предрассудками общества. Бикини стало ее политическим манифестом. То, что Винченцо называл уважением к семейным традициям, Таня понимала как ложь и лицемерие, несовместимые с настоящей жизнью. Винченцо ценил свободолюбие подруги, ее интеллект и умение постоять за себя. Поэтому защищал Таню от родных, но и родных он защищал от Тани.
Хоть так он мог ощутить себя ее мужем и покровителем. В остальном же Таня заботилась о себе сама. Каждый вечер она перемалывала зерно на старой кофемолке и замачивала его на ночь, чтобы наутро, к изумлению и ужасу итальянок, смешать с фруктами и миндалем, которые набирала в саду. Маленькая Мариэтта с особенным интересом изучала сырое месиво, которое ежедневно на завтрак поглощала немецкая гостья. Не из-за этих ли «мюсли» – никто на острове прежде не слышал этого слова – немцы выше сицилийцев? А Мариэтте хотелось быть высокой, очень высокой.
Мать Розарии, напротив, полагала, что съедать на завтрак столь тяжелую пищу, да еще в таком количестве, – верный способ испоганить себе желудок. Поэтому по-прежнему довольствовалась с утра чашкой эспрессо с двумя ложечками сахара.
Осень выдалась необыкновенно ранняя. Из Палермо прибыл дон Калоджеро, отец Кармелы, – проследить за сбором урожая на виноградниках. Розария попросила его привлечь к работе Винченцо, но полевая страда оказалась недолгой. Слишком мало лоз уцелело после нашествия виноградной вши.
Производство благородной «Мальвазии», жидкого золота острова, не одну сотню лет составлявшего его славу и богатство, давно уже ограничивалось лишь несколькими крестьянскими дворами. И дело было не в том, что секреты древнего искусства оказались забыты. Просто крестьяне, без современных технологий виноделия и организации производства, не могли продвинуть свое вино на серьезном рынке. А потому темная нефильтрованная жидкость, даже не разлитая по бутылкам, не покидала архипелаг, добираясь разве что до Липари и Фуликуди.
Винченцо старался как мог, но дон Калоджеро быстро понял, что толку от такого работника чуть. Парню бы с новой техникой возиться, а не топтать виноград босыми ногами вместе с женщинами.
В ноябре, когда над островом пронеслись первые бури и вдоль улиц побежали потоки дождевой воды, Винченцо взялся утеплять дом на зиму. Целыми днями он пилил, строгал и орудовал молотком, подновляя отсыревшие окна. В Германии тем временем начался процесс против группы Баадера – Майнхоф, Вики Леандрос[146] звучала из всех радиоприемников, а Ники Лауда стал победителем «Формулы-1».
Рождество отмечали в компании стариков, потому что Розария с дочерью уехали в Мюнхен. Дуло из всех щелей. Паромное сообщение с большой землей приостановилось из-за штормов. Чертово море! Таня не ожидала от южной зимы такой суровости.
Тем не менее, работая дни напролет, она лучше Винченцо справлялась с ситуацией. Когда около пяти вечера садилось солнце, оба, собрав все имеющиеся в доме книги, устраивались за столом и в свете лампы дискутировали о мировой политике, не отвлекаясь на сиюминутные деревенские проблемы.
При этом и Винченцо, и Таня понимали, что в одном вопросе им никогда не достичь согласия – в семейном. Невысказанное зияло пустотой, которую они заполняли сексом, особенно неистовым от обоюдного осознания, что большего они друг другу дать не в состоянии.
Винченцо надеялся, что Таня переменит свою точку зрения на брак, когда надо будет наконец содержать себя. Он винил себя, а не ее. Роль нахлебника в семье родственников была ему в тягость. Потому что Винченцо с Таней, как и старухи, и Розария с дочкой, жили на то, что присылал Джованни. Винченцо нужны были собственные деньги. То есть работа – то, что дает мужчине в этом мире опору и место под солнцем. «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю», как говорил Архимед.
Надеяться в этом отношении на Таню не приходилось, Винченцо успел убедиться в этом. У Тани были крылья, но не корни. Винченцо пришел к выводу, что «точку опоры» мужчине следует искать никак не в мире женщин, но только среди мужчин.
Каждый день, независимо от того, шел ли снег, лил дождь или сияло солнце, Кончетта отправлялась в церковь молиться за внука. Так продолжалось всю зиму, и однажды, когда апельсиновые деревья снова зацвели, а перелетные птицы потянулись домой на север, произошло то, что и впрямь можно было поименовать чудом. Или счастливым случаем, редким совпадением желания с благоприятными обстоятельствами.
В общем, одному торговцу рыбой в гавани, имевшему привычку заворачивать товар в газету, подвернулся в тот день номер Giornale di Sicilia[147] от 7 апреля 1976 года. А в качестве покупателя – Винченцо, к которому этот номер и перешел. На второй странице он увидел черно-белую фотографию, после чего освободил газету от рыбины и прочитал подпись под снимком. И еще не успев дойти до дома, Винченцо уже знал, чему посвятит остаток жизни.
Привлек же его снимок мужчины лет сорока, в пилотных очках, клетчатой кепке и с решительным выражением лица. То был герой его детства. Ибо Нино Ваккарелла был для сицилийцев тем, кем Ники Лауда был для австрийцев, а Джеймс Хант – для англичан, а именно единственным сицилийским автопилотом мирового уровня. Живой легендой.
Ежегодно в мае на Сицилии проходили старейшие в мире автомобильные гонки – «Тарга Флорио», тогда извилистые дороги острова превращались в головокружительную трассу, по которой мчали мимо опустевших деревень «феррари», «порше» и «альфы». Соломенные тюки да ржавые заграждения по обочинам дороги – вот все, что защищало зрителей на самых опасных из девятисот виражей трассы.
Смельчаки стояли прямо у заграждений. По временам трассу пересекали запряженные ослами телеги или дети выскакивали навстречу разноцветным болидам, дабы выразить свой восторг. Бывало, какой-нибудь «мазерати» застревал в стаде овец. Все вместе это напоминало скорее вышедший из-под контроля безумный народный праздник, чем чемпионат, но именно это и делало гонки «Тарга Флорио» такими популярными.
На вопрос, с чем у них ассоциируется Сицилия, американец и японец непременно назвали бы две вещи: мафию и «Тарга Флорио». Не считая пасхальных процессий, для сицилийцев гонки были главным спектаклем года, пробуждающим деревни от спячки. С 1906 года в эти дни, забыв про разруху и нищету, Сицилия принимала гостей – знаменитых красоток и автогонщиков. Вот кто были настоящие герои – рокеры на колесах. Тацио Нуволари и Стирлинг Мосс, Вольфганг фон Трипс и Клэй Регаццони, Жаки Икс и, конечно, Нино Ваккарелла.
Последнему удалось пробиться к вершине исключительно благодаря таланту. Бывший учитель из Палермо, он стал национальным героем. В 1964 году Нино Ваккарелла выиграл двадцатичетырехчасовую гонку «Ле-Ман», в 65-м и 74-м на «феррари» и «альфа-ромео» выигрывал «Тарга Флорио». И в этом году, несмотря на солидный для гонщика возраст, за сорок, Ваккарелла снова заявил о своем участии. Единственный итальянский гонщик, который мог нарушить надоевшее всем немецкое лидерство. Пусть немцы были моложе, а их «порше» современнее, никто из них не знал сицилийские дороги так, как Ваккарелла.
И стоило Винченцо увидеть фотографию легендарного гонщика, как он сразу все понял. Он вспомнил, как когда-то в баре в Милане отмечал победу Ваккареллы вместе с Энцо и его приятелями. Ему было девять, и жизнь представлялась полем неслыханных возможностей. То, что сделал Ваккарелла, не имея ни связей, ни денег, должно оказаться под силу и ему, Винченцо Маркони. Потому что одно Винченцо знал наверняка: за рулем он был бог. Вне зависимости, управлял ли «мыльницей» – подержанным красным мопедом своего детства – или угнанным автомобилем времен «городской герильи». В чем в чем, а в этом Винченцо мог дать фору любому. Развить скорость – и уйти от унижений и нищеты.
Времени у него оставалось не так много, гоночные автомобили уже прибыли с материка в Палермо. Винченцо знал наперед, как воспримут его затею женщины. Тетя, конечно, перепугается за его жизнь. Бабушка, для которой мир погряз в грехе, – за его душу. Для Тани же он – несостоявшийся интеллектуал, но никак не храбрец, готовый ради славы рискнуть головой.
Для Винченцо же, как бы абсурдно это ни звучало, гонка была единственной возможностью выйти из тупика, в котором он оказался после того, как узнал правду о своем происхождении. Потому что никого Винченцо не презирал сильнее, чем обоих своих отцов, и ничто так не любил, как автомобили. Карьера инженера претила ему уже потому, что тогда бы он пошел по стопам Винсента. А стать рабочим на автозаводе значило повторить судьбу Энцо. Оставалось третье. Взять в руки руль, а не карандаш или гаечный ключ, – значит взять в руки собственную жизнь, пусть даже та и закончится за первым же поворотом.
Винченцо принес рыбу домой, не проронив ни слова о своих планах. С террасы доносилось решительное стаккато пишущей машинки. Розария тут же принялась натирать рыбу тимьяном и розмарином. Кончетта дремала в своей комнате.
Винченцо знал, где Розария хранит немецкие марки, которые регулярно присылает ей Джованни, – в кладовке, за бутылками с «Мальвазией». Он взял ровно столько, сколько требовалось на две недели. Потом сунул рубашку, штаны, белье и носки в дорожную сумку, которая ждала своего часа под кроватью. Обулся в старые спортивные туфли и выскользнул в сад, где стояла «ИЗО-ривольта», укрытая брезентом от завистливых соседских глаз.
Винченцо снял брезент, протер машину от пыли, любовно отполировал. За ужином он объявил, что нашел работу на стройке в Палермо. Всего две недели – и он сможет присылать деньги домой. Таня была ошарашена. Розария преисполнилась гордости, что племянник наконец обрел достойное мужчины занятие. Работа пойдет ему на пользу, а деньги будут очень кстати, на Джованни ведь разве можно надеяться.
Винченцо всего-то и требовалось, что без лишних расспросов переправить машину на Сицилию. Таня проводила его до гавани. Ей не нравилось, что Винченцо оставляет ее здесь одну, но виду она не подавала, не желая показаться навязчивой. Просто пожелала ему удачи и поцеловала на прощанье. Винченцо обещал ей вернуться к концу месяца.
И под скептическими взглядами матросов въехал на серебристой «ривольте» на борт – молодой парень в несуразно роскошном автомобиле, полный головокружительных планов.
Глава 60
Паром скользил по черной глади ночного моря. Когда на горизонте исчезли огни маленького острова, Винченцо вдруг испугался, что потеряет Таню. Он солгал ей, потому что не хотел оправдываться. Не было у него аргументов, чтобы отражать ее возражения. Теперь надо вернуться с победой. Только победа могла стать достаточным аргументом его правоты.
Год за годом он по газетам следил за «Тарга Флорио» и имел довольно четкое представление о правилах и возможностях, что предоставлял турнир. После аварии 1973 года, стоившей жизни одному гонщику и одному зрителю, «Таргу» лишили статуса международного чемпионата. С тех пор она проходила в формате национальных гонок. Автомобили были столь же мощны, а меры безопасности столь же смехотворны. Отсутствие международной конкуренции было на руку смельчакам, желающим показать себя в деле.
Винченцо не рассчитывал, что его воспримут всерьез, – без связей, рекомендаций и опыта. Он думал произвести впечатление на одного-единственного человека и принять участие в гонках на контрактной основе. Этим человеком был Нино Ваккарелла. Тот, кто поднялся из ничего в короли, не мог ему отказать – так он рассуждал. Шансы были ничтожны, но недостаток здравого смысла у Винченцо с лихвой компенсировался избытком сумасбродства. Такое встречается лишь у талантливых или отчаявшихся, а он был и тем и другим.
Винченцо собирался вернуться с подписанным контрактом и тем самым доказать Тане, что его нужно воспринимать всерьез, что он годится ей в мужья. Ее сомнения он объяснял тем, что Таня видела в нем мальчишку, да еще и неудачливого мальчишку. Винченцо и в самом деле смотрел на нее снизу вверх, и не только из-за разницы в возрасте. Он слишком благоговел перед Таней, чтобы держаться с ней как с ровней.
На пароме Винченцо не спускал глаз со своей «ривольты», которая слишком бросалась в глаза среди потрепанных «рено» и «фиатов». Этот автомобиль – его единственный шанс достойно выглядеть среди претендентов на звание гонщика. Без машины он был здесь никто. На рассвете паром причалил к берегу Сицилии. С величайшей осторожностью Винченцо вывел машину по ржавым сходням на пирс. Милаццо лежал окутанный сном. В прозрачном утреннем воздухе не просматривалось ни одного полицейского. Винченцо беспрепятственно выехал из города через Лунгомаре и взял курс на Палермо.
Уже в Кампофеличе, сразу после Чефалу, начинался стартовый отрезок гоночной трассы, где автомобили набирали скорость. Сейчас сервисеры расставляли вдоль шоссе рекламные щиты – «Кампари», «Мартини», «Фернет Бранка». Крестьяне выгружали с подвод соломенные тюки. Мимо на бешеной скорости пронеслась красная «альфа». Первые гонщики уже тренировались, а дети на обочине дороги уже ликовали.
Винченцо задумался. «Нет большего греха, чем растраченный попусту талант», – говорила мать. Но в том, что ее жизнь не удалась, Джульетта винила только себя, в то время как Винченцо злился на мир, который не распознал и не принял его дара.
Его настроение колебалось от юношеской эйфории до панического страха. Но чем дальше, тем больше убеждался Винченцо в безнадежности своей затеи. Все, что у него есть, – автомобиль, собранный Энцо и купленный Винсентом. Угнать его – вот все, на что хватило его ума. Он чувствовал себя едва ли не шарлатаном.
На фоне зеленого майского пейзажа вдоль стартовой и финишной прямой выстроились трибуны. Пока здесь царило затишье. Половина боксов закрыта, возле других курили механики. Где-то загудел мотор. С грузовой платформы соскользнула «ланчия-стратос». Тут же рядом паслись овцы.
Винченцо свернул к пит-лейн, поехал мимо боксов. «Де-томазо», «альфа-ромео»… Он напустил на себя беззаботный вид, вылезая из машины, но всем, похоже, было тут наплевать на него. Никто не заинтересовался и «ривольтой». Усатый механик крикнул, чтобы он откатил свою тачку подальше. Винченцо направился к нему и спросил, где найти Ваккареллу.
– Ты кто такой? – бросил вместо ответа механик.
И Винченцо с уверенностью, на какую только был способен в этот момент, ответил, что прибыл поговорить с Ваккареллой. Механик глянул на него с подозрением.
– Нино на трассе.
Вероятно, он заподозрил в Винченцо мальчика из богатой семьи и только потому не послал подальше. На Сицилии лучше не говорить лишнего, покуда не поймешь, с кем имеешь дело. Механик ушел. Винченцо направился к трассе. Он ждал.
Ваккарелла мог бы и во сне вспомнить каждую выбоину и поворот на дорогах Сицилии, тем не менее снова и снова изучал трассу с упорством и уважением, какое присуще только великим мастерам.
Винченцо обратил внимание на группу куривших неподалеку молодых людей в джинсах и клетчатых рубашках. Когда мимо пролетел гоночный автомобиль с открытым верхом, резко затормозил и свернул к пит-лейн, компания оживилась. Винченцо узнал типа из «альфа-33» – красной зверюги с двенадцатью цилиндрами под капотом и белой надписью «Кампари» по борту. Мотор визжал, как циркулярная пила, – неистовый, почти инфернальный вой, сквозь который слышалось мерное гудение. Металлическая кабина, жесткая обшивка сиденья, небольшой руль – не автомобиль, а гроб на колесах.
На шлеме водителя было написано «Ваккарелла». Когда неистовавшие под капотом пятьсот лошадей угомонились, он вылез, и толпа молодых парней – впрочем, среди них было и несколько девушек – сорвалась с места. На первый взгляд их можно было принять за собирателей автографов. Ваккарелла снял шлем и улыбнулся им. Винченцо пытался поймать взгляд великого гонщика, но тот смотрел на кого угодно, только не на него. По выкрикам Винченцо понял, что все эти парни и девчонки здесь затем, зачем и он сам. Внутри все так и опустилось. Такие все напористые, энергичные. Даже воздух уже искрил от соперничества. Он ожидал всего – что Ваккарелла будет занят, что оттолкнет его с присущим звездам высокомерием, что он вообще его не найдет, но ни в одном из сценариев, что прокручивались в голове Винченцо, не было толпы жаждущих славы соперников. Он осознал, сколь долго обитал в коконе своего мирка, сколь плохо подготовлен к встрече с большим миром. Он, Винченцо Маркони, привыкший считать себя не таким, как другие, вдруг почувствовал себя одним из многих. Его здесь не ждали – при всех его способностях.
Он молча смотрел на обступившую Ваккареллу толпу претендентов. У всех было очевидное преимущество: все они говорили на сицилийском диалекте, и у всех имелось серое кепи – как у Ваккареллы. Знаменитый гонщик охотно отвечал на вопросы, что-то советовал – с присущим ему терпением. Винченцо, со своим миланским итальянским и немецким образом мыслей, снова ощутил себя отщепенцем.
Не испытывая желания соперничать, он отошел в сторону. Возле пит-лейн стояли двое итальянских пилотов «порше» – судя по счастливым лицам, успешные соискатели контрактов. Облаченные в гоночные комбинезоны, они на первый взгляд ничем не отличались от Ваккареллы, но уже то, как подобострастно они разговаривали с механиками, выдавало совсем иной статус. В этих парнях угадывалась Jeunesse dorée[148], они явно с рождения привыкли видеть мир у своих ног.
Винченцо пока не хотел сдаваться, надо было лишь придумать другой способ. Прошлое по-прежнему давило на него, но теперь он больше думал о будущем. И у него не было иного пути, как вытащить себя за волосы из той трясины, в какой он жил.
Винченцо подошел к механику бокса «альфы».
– Не возьмете меня помощником?
Мужчина прищурился:
– Откуда ты?
Первый вопрос, который обычно задают на юге, где «откуда» не в пример важней, чем «куда». Как же Винченцо ненавидел все это. К тому же он понятия не имел, что ответить. Любой из возможных вариантов был бы ложью.
– У меня нет образования, но я разбираюсь в машинах.
– У тебя странный акцент, ты с севера? Миланец?
– Нет, сицилиец. И мне не надо платить, я готов работать задаром.
Так Винченцо стал участником «Тарги», пусть и не в качестве гонщика. Обслуга обслуги, он рассчитывал приблизиться к Ваккарелле. Но механики не подпускали его к машинам. Он был мальчиком на побегушках: принеси канистру с маслом, сбегай за кофе… Его «гонки» ограничились стенами бокса, насквозь пропитанного испарениями бензина и пота. Тут вечно что-то шло не так, постоянно приходилось выкручиваться, нагловатые юнцы, получившие гоночные контракты, помыкали им, не упуская возможности лишний раз ткнуть лицом в грязь. Не будь Винченцо упрямым сицилийским ослом, в первый же день сбежал бы.
Гонки получились даже безумнее обычного. На первых метрах стартовой прямой автомобиль въехал в трибуны, что стоило жизни гонщику и одному из зрителей. Две «альфы» сошли с дистанции. Ваккарелла был явным фаворитом, но вел автомобиль как в трансе и выиграл с очень небольшим преимуществом.
Когда Нино поднимался на трибуну с кубком в руке, комментатор объявил, что эти соревнования для него последние. И последнюю свою победу великий гонщик посвящает всем сицилийцам.
Ближе к вечеру механики устроили праздник. Дневная жара улеглась. Едва не падая от усталости, Винченцо укладывал грязные пожитки в ИЗО. Он кое-чему научился за этот день, хотя так и не смог переговорить с Ваккареллой. Успех гонок зависит не только от мастерства пилота и механика, но и от взаимопонимания между ними. Механик и пилот говорят об одном и том же на разных языках. То, что гонщик чувствует своим телом, механик может измерить в граммах и миллиметрах, разглядеть в чувствительной настройке амортизаторов, колебаниях уровня масла, распределении веса… Успех во многом предопределяет качество перевода с одного языка на другой.
И у Винченцо в запасе был целый год, чтобы как следует поразмышлять обо всем этом.
– Красивая машина.
Обернувшись, Винченцо увидел мужчину в брюках и белой рубашке. Нино Ваккарелла.
– Жаль, что они обанкротились… «ИЗО», я имею в виду. Да, золотое было время. – Он произнес это с неподдельной горечью и вдруг протянул Винченцо руку: – Ciao. Как тебя зовут?
– Винченцо.
– Откуда ты?
Вместо того чтобы рассказать о своем прошлом, Винченцо поделился планами на будущее. Ваккарелла слушал внимательно.
– Но ты не такой, как остальные, – заметил он. – У тебя есть мозги, почему ты не учишься?
– А чем плохо для гонщика иметь немного мозгов? – спросил Винченцо. – Я ведь умею не только быстро ездить, я разбираюсь в машинах.
– Технарь, стало быть, – кивнул Ваккарелла. – Как этот австриец из «Феррари», Лауда. Всем хорош – правда, у него не только мозги, но и деньги, первый болид он купил себе сам.
Винченцо этого не знал.
– Видишь их? – Ваккарелла показал на молодых людей возле «порше». – Это наше будущее. После того как «Тарга» потеряла статус международных гонок, каждый может купить себе болид. Они получают все в лучшем виде, и вот что я тебе скажу. Времена, когда талант что-то значил, прошли. Теперь побеждает самый большой бюджет.
Винченцо даже возмутился, стал возражать. Нет, талантливые люди все равно нужны. Такие как Ваккарелла…
– Это Италия, мальчик, – перебил его гонщик. – Здесь имеет значение не то, что ты умеешь, а кто за тобой стоит. И если ты хочешь моего совета, то он один: учись. Поступи в свой университет и получи нормальную профессию. Брось это дело, bocca al lupo[149].
– Подождите…
Ваккарелла обернулся.
– Почему вы уходите, ведь вы все еще лучший?
Ваккарелла остановил на Винченцо долгий взгляд. Закатное солнце отражалось в его зрачках.
– Потому что скоро у меня родится сын. Это занятие не для тех, кто собирается стать отцом.
С этими словами он сел в «фиат» и уехал.
Винченцо вернулся ночью – в насквозь промасленных рубахе и брюках и с бензобаком таким же пустым, как и кошелек. Иллюзий тоже поуменьшилось. То, что мечты окрыляют, в какой-то степени было справедливо разве что для матери Винченцо. Его же крылья, отягощенные грузом стольких разочарований, скорее тянули вниз. Винченцо чувствовал себя падающим Икаром. Он понял вдруг, что хотел взлететь выше других, не научившись как следует ходить по земле.
Поставив машину возле дома Розарии, он почувствовал: что-то не так. Настораживала не рассветная тишина, в которой не было слышно даже прибоя. Здесь ощущалось нечто совсем другое. Отсутствие. Винченцо подумал было, что это Таня уехала, но тут на крыльцо вышла Розария, лицо ее опухло от слез, и он все понял.
Глава 61
Белый ангел на надгробии Джульетты, казалось, только и ждал того дня, когда Кончетта упокоится рядом с дочерью. На ее похоронах никто не кричал, не причитал и не раздирал себе ногтями лицо. Кладбище лежало погруженное в мертвую тишину. Жизнь Кончетты была одной безмолвной жалобой, и ушла она незаметно, будто не желая тем самым причинять лишнего беспокойства.
Немногие провожали ее в последний путь. Подруги детства давно умерли, а сама Кончетта, так много лет проведшая на чужбине, последние годы жила затворницей. Из Германии примчался Джованни. Таня стояла рядом с Винченцо. Какими бы сложными ни были их отношения, в эти тяжелые дни Таня во всем поддерживала его, именно эту черту Винченцо особенно ценил в ней. Но в то же время ее сила пугала его, Таня словно и не нуждалась сама ни в какой опоре. Он боялся, что когда-нибудь она его оставит.
Он спрашивал себя, что думает бабушка, глядя с католических небес на странную пару у своей могилы? И что за будущее их ждет? Ведь если семья – это то, что делает нас нами в толпе чужаков, если она, подобно корсету, придает форму нашей сути, то что мы без нее? И что остается от нас после смерти, от той же Кончетты? Ничего, кроме детей.
Только сейчас, когда могильщики опускали гроб в яму, Винченцо понял, как тяжело, наверное, было бабушке после смерти Джульетты. Если умирают родители, человек не ест себя поедом, это обычный порядок вещей, но если умирает ребенок… Воспроизводство – смысл жизни. Она напрасна, если не будет того, кто продолжит ее.
Винченцо посмотрел на Кармелу, стоявшую по другую сторону могилы. Кармела стала очень красивой девушкой, с пухлыми чувственными губами, с огромными, оливкового цвета глазами. Их взгляды встретились. От порыва ветра ее черные волосы упали на лицо. Кармела приехала с родителями из Палермо. Винченцо спрашивал себя, помнит ли она тот поцелуй на развалинах каменного забора – в день, когда закончилось его детство?
После того как утром после свадьбы они с матерью сбежали в Германию, Винченцо больше не виделся с Кармелой. И сейчас мысль о том, что когда-то он целовал эти губы, казалась ему нелепой до дикости. Винченцо пытался отогнать ее, но запах травы и треск цикад снова и снова возвращали его в то памятное лето.
Развалины были на месте. За ними начиналась оливковая роща, где гуляла свадьба, пока Винченцо ласкал грудь Кармелы с любопытно вздернутыми сосками. Он помнил, как она застонала и как его возбудило и одновременно напугало это неожиданное проявление чувственности. Как близко они были тогда, и как недосягаема она для него сегодня. У Винченцо закружилась голова. Он застыдился своих мыслей о Кармеле, столь неуместных на краю бабушкиной могилы, да еще и в присутствии Тани и всей семьи. И отвел взгляд, будто опасаясь выдать себя.
Позже, когда остальные ушли в дом, Винченцо и Кармела снова устроились на изъеденных временем камнях. К вечеру похолодало, море играло белыми барашками. Вдали, в бескрайней синеве, застыла точка – корабль.
Волосы Кармелы пахли как тогда. Воздух между ней и Винченцо был словно наэлектризован. Если в ясные глаза Тани Винченцо смотрелся как в зеркало, то взгляд Кармелы уводил в бездонную глубину. Винченцо поразился, отметив про себя эту разницу.
Таня волновала, Кармела внушала покой.
– Ты вспоминал меня? – спросила она.
– Да.
– Скольких девушек ты перецеловал за это время?
Винченцо улыбнулся:
– А ты скольких парней?
– Немногих. И ни один из них не целовался так, как ты.
На улице показалась Таня. Огляделась, увидела их на ограде и ушла в дом.
– Помнишь, что ты сказал мне в ту ночь? – спросила Кармела.
– Что?
– Что каждая звезда – это душа умершего человека.
– Я больше не верю в такие вещи.
Кармела накрыла его руку своей.
– Прости, что не приехала на похороны твоей матери. У меня не хватило смелости.
– Ничего страшного. – Винченцо не хотел вспоминать об этом.
– Это правда… что они рассказывают о твоем отце?.. Не могу в это поверить.
– Забудь.
Винченцо поднялся и протянул ей руку.
На следующее утро Кармела с родителями уехала в Палермо. Она украдкой поцеловала Винченцо, прежде чем сесть в отцовскую «ланчию». Таня сделала вид, что ничего не заметила. Они с Винченцо помахали вслед удаляющейся по пыльной улице черной машине и вернулись в дом. Розария занималась уборкой на кухне, Таня села за статью о самоубийстве Ульрики Майнхоф в Штаммхайме, а Винченцо все ловил запах духов Кармелы, оставшийся на его щеке после поцелуя.
Ночью он попытался пережить с Таней то странное, будоражащее чувство, что захлестнуло его в обществе Кармелы. Их с Таней все еще влекло друг к другу, но они уже отдалялись, пусть еще и отказывались признаться себе в этом.
Винченцо была нужна Кармела.
Глава 62
Куда мы идем? Всегда только домой. НовалисКармела
«И гонит нас не плотский голод, а голод свободы, любви, нежности, движения и труда…»
Таня сидела на кровати с «Оливетти» на коленях и читала вслух статью из немецкого журнала. За открытым окном звонил церковный колокол – полночь. Винченцо с самокруткой в зубах, голый, лежал на кровати. Ему хотелось спать.
«Не зависть голодного подстерегает сегодня буржуазию под ее обильно накрытым столом, но безумие неудавшихся экзистенций, не сумевших найти себе место в обществе потребления…»
– Эй!
Винченцо погладил Таню по ноге и попытался выхватить у нее журнал. Но Таня увернулась и продолжила читать уже молча.
– Чья это чушь? – спросил Винченцо.
– Йошки Фишера[150].
– Тоже мне «неудавшаяся экзистенция»… Такой вздор можно сочинить только про самого себя. Он вообще имеет представление, сколько людей в мире до сих пор подыхает с голоду?
– Ах да… А про тебя?
– Что про меня?
Таня смотрела серьезно.
– Разве ты не «неудавшаяся экзистенция, не нашедшая себе места в мире потребления»?
Винченцо замер. Способность видеть самую суть – это и восхищало его в Тане, и пугало. И она не просто видела эту суть, она тыкала его в нее носом. Совсем не по-итальянски.
– Я пытался найти себе место вместе с тобой, – возмутился Винченцо, – но тебя это не устроило. Это ты… вечно ты чем-то недовольна.
– Довольство – свойство буржуа. – Таня зажгла папиросу. – Но сытые люди не преобразуют общество.
Она была права, как всегда, но голова Винченцо уже трещала от ее истин. Он хотел ее близости, ласк, ее груди, кожи – всего того, чем не имел возможности обладать. Таня надела шляпу и продолжила выстукивать текст. Винченцо вышел из комнаты.
На кухне он налил себе вина. Розария и ее мать в ночнушках сидели за кухонным столом.
– Зачем ты обручился с ней? – спросила старуха.
Если объекта обсуждения рядом нет, итальянцы бывают прямолинейны до неприличия.
– Потому что я люблю ее.
– Они не обручены, мама, – сказала Розария, которой эта игра в молчанку давно надоела.
– Пресвятая Мадонна!
– Так это у них заведено, в Германии.
Розария пожала плечами. Жаловаться на чужие обычаи все равно что на погоду, это она хорошо усвоила за годы жизни за границей. К чему лишний раз раздражаться по поводу того, чего изменить не можешь? Мать Розарии смотрела на Винченцо так, словно перед ней был выходец из ада. Он допил вино и ушел.
Ночью они любили друг друга, жадно и ненасытно. А потом разразилась июньская гроза. Над черной водой сверкали молнии, мокрые кактусы сотрясались на яростном ветру, по ставням стеной стекала вода, вливаясь в бегущие по улице бурные потоки. Винченцо с Таней курили в постели. Винченцо встал и открыл окно. Несколько холодных капель упало ему на грудь. Отчего они с Таней так и не нашли друг в друге того, что искали?
Утром воздух был свеж и прозрачен. Винченцо снял брезент с ИЗО и отправился бесцельно кататься по дорогам острова, вдоль ржавых заграждений между скалами и морем, мимо кактусов, крикливых чаек и вспугнутых кроликов. Над ним без края раскинулось небо. Пьянил запах безграничной свободы – но не той, какую он искал.
Из бара в гавани он позвонил Кармеле. Она оказалась дома. И обрадовалась, хотя непохоже, чтобы особенно удивилась. Голос ее звучал как музыка. Винченцо пообещал приехать. Тане он говорить об этом не собирался.
Он все рассчитал. Оставил ИЗО на острове – без угнанной машины было легче передвигаться, не бросаясь в глаза. Тане сказал, что отправляется на Сицилию искать место механика. Она на удивление легко поддалась обману. Только кивнула широкополой шляпой, когда он утром с легким багажом вышел из дома, спеша на автобус до гавани. И вернулась на террасу с книгой в руках, прежде чем автобус Винченцо успел скрыться за первым поворотом. Судно на подводных крыльях отчалило точно по расписанию. На море был штиль, никто не интересовался Винченцо. Все шло как по маслу, и он увидел в этом хороший знак.
От Милаццо он пешком отправился в Палермо. По дороге его подобрал небольшой грузовик, кузов был полон плодов кактуса. Винченцо нужен был университет. Найти его оказалось несложно – совсем рядом с гаванью, куда причаливают огромные паромы из Неаполя, Кальяри и Туниса.
У входа в главный корпус стояли столы, толпились студенты с транспарантами. Один кричал в мегафон что-то в поддержку Lotta Continua[151]. Атмосфера накалялась, кое-где дошло до драки. Винченцо сторонился толпы. Где левые, там непременно и полицейские в штатском. Только что «Красные бригады» совершили свое первое убийство – государственного прокурора в Генуе. Государство ответило жесткими репрессиями.
Кто-то вложил в руку Винченцо листовку. Он выбросил ее, не читая. Уселся в стороне на невысоком каменном заборе – ждать единственного человека, который здесь его интересовал.
Винченцо не предполагал, сколь сильные чувства пробудит в нем наблюдение за студентами. Дело было даже не в политике, она интересовала его до странности мало. На Винченцо болезненно подействовал вид сверстников, у которых, в отличие от него, была возможность учиться. При том что большинство не обладало и десятой долей отпущенных ему способностей. Он невольно сравнивал себя с ними. Длинные волосы и дырявая футболка – против рубашек и сумок на ремнях. Даже у того, кто надрывался в мегафон, волосы были аккуратно расчесаны на пробор. Сколько ни твердил себе Винченцо, что ему наплевать, жгучая обида не отпускала. От того, чтобы впасть в жалость к себе, его отделяла лишь мечта когда-нибудь победить на гоночной трассе. Гонки – мир настоящей борьбы, о котором эти адвокатские сынки и понятия не имеют.
Но мечта останется лишь мечтой, если у тебя за душой ничего, кроме непризнанного дарования и мании величия. И у Винченцо хватало здравомыслия понимать это.
Наконец на ступенях показалась Кармела. Она увидела Винченцо и побежала навстречу. Ее черные волосы растрепались. Кармела поцеловала его, по разу в каждую щеку, и Винченцо вдруг ощутил, что он вернулся домой.
Выглядела она сногсшибательно – легкое льняное платье, на шее цветастый платок. Полные губы Кармелы не нуждались в помаде, оливково-зеленые глаза были чуточку подведены.
Винченцо и сам не знал, что его так в ней влечет. Возможно, то, как она на него смотрела. Этот взгляд принимал Винченцо таким, какой есть. Он не оценивал и не судил.
– Поехали! – Девушка вскочила на свою «веспу» и завела мотор. Винченцо сел сзади.
И все было так, будто они расстались вчера. Никто не задавал вопросов, но в воздухе чувствовалось напряжение. Поначалу Винченцо держался за багажник, а потом решил, что Кармела не станет возражать, если он ее обнимет за талию. Волосы девушки развевались на ветру, шлема у нее не было. И Винченцо будто вернулся в тот день, когда они тряслись в кузове старого мотороллера и мягкие локоны Кармелы щекотали ему лицо.
День выдался по-летнему теплый, впервые в этом году. Винченцо наслаждался, забыв все свои навязчивые мысли. Солнце пекло спину. Дорога на Чефалу пролегала берегом моря. Винченцо чувствовал, как на поворотах напрягается тело девушки.
Кармела затормозила возле старых ворот в каменной арке. Деревянная створка едва держалась на ржавых петлях и отчаянно заскрипела, когда Кармела ее открывала.
– Я приезжаю сюда, когда хочу побыть одна.
– Это дом твоего отца?
– Да.
На отлого спускающемся склоне зеленели виноградники. Они не доходили до моря, но вдали, за пиниями, мелькала серебристая гладь. Воздух пах черноземом.
– Повезло тебе, – заметил Винченцо. – Унаследуешь эту красоту.
– Отец собирается все это продать. Он мечтал о сыне, а родилась я. Женщина может вкалывать на виноградниках или в поле, но «патроном» может быть только мужчина.
– И что ты собираешься делать?
– Не знаю. – Она пожала плечами, как будто все это было для нее неважно.
– Но ты учишься.
– Так захотели мои родители. А ты?
Не дождавшись ответа, Кармела повела его через виноградник. Лозы застыли в безветренном воздухе, залитые золотым солнцем. Трещали цикады. Будущее Винченцо было так же безразлично Кармеле, как и ее собственное. «И это правильно, – подумал он. – Не надо никем становиться тому, кто уже стал всем».
Они любили друг друга в старом домике посреди поля. Охристые стены и плотно закрытые ставни – он выглядел куда благороднее, чем дома на Салине. Кармела отперла замшелую деревянную дверь. Внутри царила приятная прохлада. Сквозь дыры в прохудившейся крыше в комнату проникали солнечные лучи. Пахло свежим сеном.
– В этом доме когда-то жили мои бабушка с дедушкой. Сегодня мы храним здесь солому и инструменты.
Винченцо пошел бродить по комнатам. Сквозь ставни проникал стрекот цикад, в тишине оглушительный. Винченцо оглянулся – Кармела стояла у окна. Он видел лишь темный силуэт в таинственном ореоле льющегося сквозь щели света. Винченцо затаил дыхание. Кармела прислонилась к окну. Не различая ее лица, он чувствовал жар, исходящий от ее тела, его неодолимо влекло к ней.
Винченцо приблизился, коснулся ее груди. Кармела тихо застонала. Тело само знало, что делать дальше. Кармела закрыла глаза, она ждала. Как только их губы встретились, она подалась вперед, обхватила Винченцо за шею и привлекла к себе.
– Любовь моя… любовь моя, как долго я ждала тебя…
Привычным движением, как будто делала это каждый день, она сняла с Винченцо футболку и расстегнула ему брюки. Повзрослевшие, они всего лишь продолжали то, что начали детьми.
Винченцо задержался у нее на неделю. Одно время даже жил у родителей Кармелы. Спал на диване, каждое утро уходил из дома, а вечером возвращался. Винченцо говорил, что подрядился в Чефалу к механику, с которым познакомился на гонках. На самом деле он автобусом добирался до условленного места на трассе, где его подбирала Кармела на «веспе». После чего они ехали в домик посреди виноградника – заниматься любовью.
Так продолжалось семь дней. Семь дней, с утра до вечера, обернулись сплошным опьянением, когда не различаешь вчера и сегодня. Кармела падала на пол, увлекая его за собой. В ней было все, чего Винченцо так недоставало в Тане. Кармела не отпускала остроумных реплик, но сколько раз Винченцо удивлялся сообразительности ее рук, угадывавших самые чувствительные места на его теле. Кармела принимала его целиком, со всеми достоинствами и недостатками – его печаль и внезапные вспышки радости, его смех и боль.
Винченцо уехал на Салину, только когда во всех подробностях изучил ее волшебное тело.
И снова ложь далась ему без особых усилий. Винченцо ввел в свою историю некоего Антонио, механика из Чефалу, якобы взявшего над ним шефство, и описал его в таких подробностях, что и сам почти поверил в его существование.
Но думал он только о Кармеле. Она раскрепостила его чувственность, отдаваясь ему с отрешенностью, которая сводила с ума. Так из недели в неделю, из месяца в месяц, в дурманящей жаре сицилийского лета Винченцо делил свою жизнь между большим и малым островами. Он продолжал спать и с Таней – правда, и здесь кое-что изменилось.
Удивительно, но появление любовницы не столько усилило наметившееся отчуждение между ними, сколько сделало их отношения более ровными. Винченцо все так же нравились ее бледная кожа и стройное тело, вот только страсть несколько поутихла. Зато вырос интерес к интеллектуальным перепалкам. Ее сарказм, трезвый взгляд на вещи, ее беспристрастные суждения были для Винченцо якорем, который удерживал его в границах сицилийской семьи с ее неписаными законами.
Как-то, лежа в постели рядом с Таней, которая читала что-то при свете ночника, Винченцо спросил себя, а почему бы ему не расстаться с ней и не легализовать отношения с Кармелой. Но он ощущал Таню как естественную, самой природой определенную ему fidanzata, точнее, он ощущал себя как ее fidanzato – друг, любовник, защитник. С этой мыслью Винченцо обнял Таню и заснул, прильнув к ней, как ребенок.
Таня была единственной, кто не отговаривал Винченцо стать гонщиком, после того как в Нюрнберге чуть не погиб Ники Лауда. Его «феррари» загорелся прямо перед камерами двух съемочных групп, делавших каждая свой документальный фильм о легендарном гонщике. Происшествие само по себе не представлялось чем-то из ряда вон выходящим, каждый сезон погибали один-два пилота. Но Лауда был кумиром Винченцо – расчетливый стратег среди горячих голов, интеллектуал среди красавчиков со страниц «Плейбоя».
Страшные кадры обошли весь мир. Винченцо и Таня смотрели запись в баре, снова и снова, в замедленном повторе, – море огня, бушующее несколько растянувшихся в бесконечность секунд, в котором заживо сгорал Лауда, без всякой надежды на помощь. Розария и ее мать взывали к разуму Винченцо, возносили за него молитвы Деве Марии. Даже встревоженный Джованни звонил из Мюнхена. И только одна Таня поддерживала Винченцо, убеждала его не дать сбить себя с толку. Она же единственная предсказала, что Лауда выживет благодаря воле и вернется на трассу, чтобы защитить свой титул.
Героический камбэк Лауды подействовал на Винченцо странным образом. Теперь, помимо прочего, он чувствовал себя едва ли не мошенником. Кем он себя возомнил? С кем вздумал равняться? Но чем непреодолимей казалась пропасть между нынешним его состоянием и целью, тем чаще срывался Винченцо в тренировочные рейды по безлюдным дорогам острова. И каждый раз в конце концов оказывался в объятиях Кармелы, и оба забывали, на каком они свете.
Октябрь выдался теплый. Над морем висели осенние тучи. Жизнь меж двумя женщинами сделалась обыденностью. Он не хотел отказываться ни от одной из них, не усматривая в этом ни измены, ни обмана. Он словно пребывал в естественном своем состоянии. Когда Винченцо был с Таней, Кармелы будто не существовало, и наоборот. И, пересекая на алискафе разделяющее острова море, Винченцо думал о том, как щедра и разнообразна жизнь.
Но однажды, когда Винченцо вернулся с Сицилии, Таня сказала как бы невзначай:
– Можешь переехать к ней, если хочешь.
Винченцо опешил. Они мыли посуду.
– Если тебе так будет лучше. – Таня смотрела на него спокойно. – Главное, будь со мной честен.
Винченцо не знал, куда девать глаза.
– Ты свободен. Я не хочу становиться тебе поперек дороги.
Она взяла тарелку у него из рук и насухо вытерла полотенцем.
Откуда Таня узнала, оставалось только догадываться. Как и о причине ее великодушия – гордость то была или ее левацкие убеждения. Она не выказывала желания уйти от Винченцо, но и не принуждала его бросить Кармелу. Как ни в чем не бывало продолжала работать над своей диссертацией и все ближе сходилась с Розарией. Спала с Винченцо, и, насколько он мог судить, другого мужчины у нее не было.
Если у кого и сдавали нервы, так это у Винченцо. Кармеле он ничего не сказал. Это было нетрудно, они вообще мало разговаривали при встречах. Но за него призналось его тело. У него случилась неудача в постели. И не с Таней, что было бы понятно, а с Кармелой. Она была прекрасна, как и всегда, но тело его вдруг взбунтовалось. Кармела была сама тактичность. Нежно обняла его, притянула к себе. Винченцо расплакался. Его вдруг накрыло такой щемящей жалостью к себе, что он буквально сбежал от Кармелы и вернулся на Салину.
Удивляясь самому себе, он рассказал Тане. Та предложила объяснение, призвала на помощь Фрейда, чем порядком разозлила Винченцо. А когда напомнила о его цели – стать автогонщиком, разозлила еще больше. Винченцо и сам не понимал, почему ее трезвые доводы так его взбесили. Они уснули, так и не помирившись.
Позже Таня сказала, что верит в Винченцо и что если кто ему и мешает, так только он сам. В его силах добиться задуманного, надо лишь сделать первый шаг. Предстоящий долгий путь следует разбить на отрезки, чтобы от страха перед высотой не закружилась голова. Ведь чего проще – и в самом деле отправиться в Чефалу к механику Антонио. Затем изучить трассу, как Ваккарелла.
Обо всем этом Винченцо и сам твердил себе не раз. Теперь ему казалось, что он постоянно только и делает, что отвлекается от главного. Что плотские наслаждения – последнее, что ему сейчас нужно. Не о сексе и не о самоутверждении надо ему думать. Это было нелегко, ибо только секс и скорость делали Винченцо счастливым. Он был хороший любовник – страстный, любознательный, неторопливый. Он никогда не понимал, почему то, что по-итальянски нежно именуется fare l’amore, немцы называют грубым словом Bumsen, которое звучит как дорожно-транспортное происшествие. Пошлости вроде «перепихнуться» или даже обыденное «спать» также, на его взгляд, не имели ничего общего с любовью.
В ту ночь Таня будто поднесла к его глазам зеркало, в очередной раз удивив своей способностью все расставлять по местам. Если с Кармелой он обретал корни, то Таня давала ему крылья.
Глава 63
Наступление осени он осознал, лишь когда заговорили о сборе урожая. Дон Калоджеро лично прибыл на Салину понаблюдать за своими мальвазиевыми плантациями. Розария отправила Винченцо в гавань встречать патрона и заодно смиренно просить разрешения принять участие в работах. Отказаться Винченцо не мог. С доном Калоджеро надо было вести себя почтительно, чтобы не поставить под угрозу встречи с его дочерью.
Наблюдая с пристани за приближающимся алискафом, медленно погружающим крылья в воду, Винченцо размышлял, что надо бы держать Таню как можно дальше от дона Калоджеро, мало ли что она ему наговорит.
Калоджеро приветствовал Винченцо почти с отцовской сердечностью. Не желая терять ни минуты, он изъявил желание немедля осмотреть виноградники. Винченцо вез патрона на разболтанной «веспе» – угнанную ИЗО он решил не светить во избежание ненужных вопросов.
На западной окраине деревни начинались виноградники и тянулись до самых скал, нависавших над морем. Листья глянцево блестели на солнце. Ягоды светились золотом. Калоджеро и Винченцо уже поджидал падре Эрнесто.
Было важно правильно определиться с датой сбора, чтобы не допустить чрезмерной сладости, характерной для этого сорта. Ягодам полагалось хорошенько вызреть, но и передержать их было нельзя, поскольку собранный виноград после будет еще две недели вылеживаться под солнцем на крышах. И потому собрать урожай следовало как можно быстрее. Только угадать с датами.
Дон Калоджеро не стал долго спорить с Эрнесто, почти с ходу согласившись на его вариант. После чего положил руку на плечо Винченцо и вместе с ним продолжил обход бесконечных рядов шпалер, на которых дозревали золотые грозди.
– Скажи мне, Винченцо, чем ты намерен заниматься в жизни?
– Я хочу стать гонщиком, вы же знаете, – ответил Винченцо.
– О, это настоящие ковбои… Вечеринки, наркотики, девочки… Но… разве это твое?
– Не знаю… Мне нравится техника, скорость…
Дон Калоджеро вздохнул:
– Ты Маркони… Твой дед был человеком чести. Голову был готов сложить на этой земле, только бы не идти на компромисс с несправедливостью.
Винченцо все еще не понимал, к чему тот клонит.
– В следующем году я приму участие в «Тарге», если закончу обучение у Антонио. Регламент…
– Ты должен принять решение, Винченцо.
– Я принял решение.
– Я говорю о твоей свадьбе. – Дон Калоджеро сорвал виноградину, сунул в рот. – И о свадьбе моей дочери.
Винченцо так и застыл на месте. Дон Калоджеро не остановился. Сорвал больной лист, покачал головой:
– Виноградник в запустении, арендатор сущий осел. Но при надлежащем уходе это золотое дно… Здесь лучшие почвы.
Он обернулся. Винченцо все стоял между рядами шпалер.
– Ты слишком умен, Винченцо, чтобы пускать свою жизнь под откос. У меня нет сыновей. А тот, кто ведет семейное дело, освобождается от армии.
Только сейчас Винченцо понял, чего от него хочет дон Калоджеро. Тот, похоже, давно все продумал.
– Но вы должны пожениться, – продолжал патрон.
Отпираться было бессмысленно. Дон Калоджеро глядел ему прямо в глаза. Винченцо лихорадочно подбирал слова.
– Но… я не могу оставить Таню. Я нужен ей.
– Мужчина должен уметь принимать решения. Иногда это больно.
Винченцо ненавидел, когда его загоняют в угол. Он был готов отказаться и от Кармелы, и от виноградников, лишь бы дон Калоджеро так не напирал.
– Спасибо за предложение, – наконец сказал он. – Для меня это большая честь. Только я ведь не крестьянин, не земледелец… Быстрая езда – единственное, что по-настоящему доставляет мне удовольствие.
– Ты Маркони, – повторил Калоджеро.
И на этот раз Винченцо ясно расслышал то невысказанное, что стояло за этими словами: если ему дорога жизнь, он должен оставить Кармелу в покое.
– Откуда это в тебе? – продолжал Калоджеро. – Неужели всему виной эта история с твоей матерью?
Винченцо молчал.
– Лучшее, чем ты можешь почтить ее память, – это создать собственную семью. Она наверняка хотела иметь внуков.
Прохладный бриз шелестел виноградными листьями. Оставив Винченцо, дон Калоджеро направился к падре Эрнесто.
Розарии, разумеется, все было известно. Ее мать, мать Кармелы – все обо всем знали, было наивным со стороны Винченцо думать, что он сможет и дальше жить… как в Германии. Ловушка захлопнулась. Каждый раз, когда Винченцо пытался дозвониться до Кармелы с пристани, к телефону подходила ее мать. Винченцо клал трубку.
Когда урожай собрали и он уже бродил в бочках, дон Калоджеро покинул остров. Солнце скрывалось за потухшим вулканом уже в шесть, на Салину обрушились первые штормы. Небо стало серым. Стромболи и Панарея больше не просматривались на горизонте.
Таня училась у Розарии вязать, а Винченцо не находил себе места. Стены старого дома душили. В глаза домашним он старался не смотреть. Все знали – и никто не говорил о Кармеле.
За столом вели обычные разговоры, но явственно угадывался шелестящий шлейф старых обид и грехов – то была тень Кончетты. Похоже, Таня была здесь единственной, кого не затронул темный яд, по капле которого сицилийцы с детства получают вместе с каждой съеденной облаткой всепрощающего Господа. Потому что всепрощение подразумевает греховным каждое самостоятельно принятое решение.
Но не было ничего более противного духу Винченцо, чем признание грехом или ошибкой дни, проведенные с Кармелой. Как может быть грехом то, что примирило его с жизнью? Свидания с Кармелой в старом доме возродили его.
Но теперь он медленно умирал. Снова.
В декабре Таня закончила диссертацию и поехала в Липари, чтобы переплести ее и отправить в Германию куратору, которая поддерживала ее все это время. Вернувшись, Таня застала семью за праздничным ужином. Розария приготовила orecchiette al ragù di pesce и involtini di totano con finocchietto selvatico[152] по рецепту своей матери. Винченцо открыл бутылку лучшего из имевшегося в доме вина. На какой-то момент ему показалось, что они и в самом деле готовы оставить в прошлом все, что их разделяет, и начать заново, как одна семья, о какой он всегда мечтал.
Но за столом Таня не проронила ни слова. А когда легли в постель, поцеловала Винченцо в щеку и тут же уснула.
Ночью ветер усилился. Он скрипел ветками деревьев и стучал ставнями, но дождь так и не пролился.
На следующий день Таня подарила пишущую машинку маленькой Мариэтте и упаковала свои скудные пожитки в старый чемодан. Винченцо с утра чинил крышу на террасе. Войдя в комнату, он с изумлением обнаружил, что Таня куда-то собралась. Он все понял сразу.
– Мне не нужно ничего тебе объяснять, – сказала она.
– Но ты не можешь уехать просто так.
– Могу.
– Таня, я больше не вижусь с Кармелой.
– Я уезжаю не из-за нее. Я уезжаю, потому что все знают, но никто не говорит. Нам попросту больше нечего дать друг другу, так что мне здесь делать?
Таня поправила покрывало на постели и подняла чемоданчик. Заглянувшая к ним Розария с одного взгляда поняла, что происходит.
– Таня, подожди. Ты не хочешь становиться сицилийской домохозяйкой, но этого вовсе и не нужно. Я тоже хочу, чтобы все было иначе…
Таня было направилась к двери, но Винченцо схватил ее за рукав:
– Подожди же… Ведь у нас с тобой была цель, разве нет? Как мы собираемся переустроить общество, если не можем измениться сами?
– Я уже изменилась, Винченцо. А здесь ничего не поменяется и за сотню лет. И потом, признайся, о переустройстве общества ты думаешь в последнюю очередь.
– Они арестуют тебя на границе.
Он попытался отобрать у нее чемодан, но Таня ему этого не позволила.
– Я вышла на связь с товарищами из Неаполя. Мне сделают новый паспорт.
– Так ты давно это спланировала?
– Оставь меня в покое.
Винченцо загородил дверной проем. Завязалась борьба, которую остановило только вмешательство Розарии. Тяжело дыша, Винченцо с Таней стояли друг против друга, и он наконец осознал, что все и в самом деле кончено.
– Я отвезу тебя в гавань, – сдавленно сказал он.
– При таком ветре судно могут не выпустить, – заметила Розария.
Но перспектива застрять на проклятом острове лишь прибавила Тане решимости.
Прощание вышло коротким. Розария плакала. Ее мать сказала, что все к лучшему и она, мол, с самого начала знала, чем кончится. Винченцо сорвал с ИЗО брезент, который тут же унесло ветром – через забор и улицу, в сторону моря. Никто не побежал за ним.
Он все еще надеялся переубедить Таню в дороге.
– В тебе живут два человека, – сказала она, уже сидя в машине. – И ни один из них не может взять верх над другим. Ты обречен разрываться между двумя странами, двумя женщинами… А я так не могу.
– Я тоже.
– Но ты научишься.
В гавани через парапет каменной набережной швыряло клочья белой пены. Ни корабля, ни парома не было видно.
– Алискаф еще в Липари, – сообщил начальник гавани, прикрывая мясистое лицо краем плаща. – Если ветер стихнет, он отчалит. Если нет… – Он пожал плечами.
Сбившиеся в кучку пассажиры хранили стоическое спокойствие. Солнце уже скрылось за громадой Монте-Фосса. Становилось холодно. Винченцо и Таня зашли в бар выпить кофе. Оба молчали. Люди выходили и заходили, от двери тянуло сквозняком.
За тяжелыми тучами скрылись последние лучи солнца, но алискаф так и не появился. На пристани зажглись фонари. Море все штормило – и ни капли дождя. Ожидающие парома пассажиры теснились в баре. Этот горький кофе, вечно замерзшие ноги, запотевшие окна и тоскливые лица – как Таня устала от всего этого.
– Он уже вышел.
– Не выйдет он никуда, я тебе говорю…
Волнение Тани – и последняя искра надежды в глазах Винченцо, что еще не поздно все вернуть.
Они пошли к машине, припаркованной рядом с причалом. Ветер поутих, но море все еще волновалось. Винченцо завел мотор и включил отопление. Сразу же запотели окна. Таня протерла стекло, чтобы видеть, когда подойдет судно. Мотор гудел – приглушенный мерный бас на фоне прибоя.
Винченцо высматривал в ее глазах искру неуверенности, сомнения. Невозможно было представить, что они никогда больше не увидятся.
– Ты будешь писать мне?
– Разумеется.
– Ты нужна мне.
– Оставь, пожалуйста.
Ей хотелось плакать, она никогда не видела Винченцо в таком отчаянии. Он умолял ее, привлек к себе, прижал… Искал ее губы. Таня сначала уворачивалась, потом поцеловала его. Расстегнула ему штаны. Села сверху…
Это была их последняя вспышка.
А потом подошел алискаф. Он приплясывал у причала, волны швыряли судно из стороны в сторону, пока Таня поднималась по шаткому трапу. Двое матросов протянули ей руки и втащили внутрь. Дверь захлопнулась.
Отдали швартовы, а Винченцо все стоял на причале. Он долго еще следил, как огни судна, дрожа, растворяются в ночи.
И только когда они исчезли, с неба хлынуло.
Глава 64
– Это был наш последний раз.
Винченцо выпустил в открытое окно струйку дыма. Я молчала. От жары было не продохнуть. Мимо проносились гаражи, складские помещения, мебельные салоны, обрушившийся мост… Долина реки По – изнаночная сторона прекрасной Италии.
– Когда именно это случилось? – спросила я.
– 21 декабря 1976-го.
Я отсчитала девять месяцев. Он усмехнулся:
– Если бы не тот шторм…
– То есть я – следствие неблагоприятного стечения обстоятельств.
– Нет, ты – дитя последней вспышки страсти.
На глаза навернулись слезы. Винченцо достал из бардачка носовой платок, протянул мне. Голова лопалась от противоречивых мыслей.
– То есть она ушла не потому, что ты и Кармела…
– Нет. С Кармелой на тот момент у меня все было кончено.
– Ты хочешь сказать, что если бы у тебя был выбор, ты бы остался с Таней.
– Теперь это только слова. А факт, что твоя мать не могла больше выносить жизнь в глухой сицилийской деревне и сбежала.
Разумеется, Таня рассказывала об этом совсем не так. В ее версии он ей изменил и она не захотела мириться с этим.
– Ты любил ее? – спросила я.
– Да. – Он помолчал, потом добавил: – Но иногда любишь не человека, а свое представление о нем.
Мне требовалось выбраться из машины. Я сбросила скорость, выглядывая, где бы остановиться.
– Что ты задумала?
Винченцо явно не нравилось, что я решила проявить самостоятельность.
– Я хочу есть.
– Но здесь ничего нет.
Мы ехали где-то в окрестностях Вероны. Вокруг равнина, редкие деревушки, брошенные дома и бесконечные телеграфные столбы.
– Можем остановиться у «Автогриля».
Надо отдать должное Винченцо, он не стал возражать.
Внезапно впереди показалось колесо обозрения. Затем нашим глазам открылись карусель, будка билетера.
– Вот здесь точно можно поесть.
Небольшой парк аттракционов выглядел призраком из другой эпохи. Под облупившейся краской проступала ржавчина, линялые бумажные гирлянды печально обвисли. «Луна-парк» – сообщала надпись на металлическом щите. Карликовое колесо обозрения, и маленькая карусель, тир с голубыми плюшевыми медведями и будка с колбасками-гриль, где разорялся какой-то скверный шлягер.
Очевидно, праздник давно закончился. Под ногами чавкала грязь. Вместо детей на площадке копошились несколько рабочих в дутых жилетах. Лязгало железо, мужчины грузили демонтированные части в машину. Винченцо спросил продавца в колбасной будке, не осталось ли чего поесть. Тот ответил, что собирался закрываться, но кое-что припас для рабочих. Колбаски.
Мы заказали две порции и кофе. На площадке владелец аттракциона любовно полировал розового пони. Вылитый старик Джепетто, столяр из сказки про Пиноккио. Лишь с очень немногими людьми мне бывает уютно просто стоять рядом и молчать, как с Винченцо.
Мне вообще нравилось ехать с ним. Нравилось находиться не там и не тут, не с его женой и не с моей матерью. Знакомиться лучше всего на нейтральной территории. И мне казалось, Винченцо чувствует нечто схожее. Даже подумалось: а хорошо бы вообще никогда не возвращаться домой.
Я молчала. Когда принесли колбаски, Винченцо продолжил рассказ. Ему хотелось довести свою историю до конца.
Глава 65
Итак, он потерял обеих своих женщин. Насколько щедрым было к Винченцо лето, настолько безжалостной оказалась зима. Винченцо пытался отвлечься, посетил две свадьбы и отплясывал там как безумный. Слишком уж долго он пробыл в подвешенном состоянии, а за того, кто отказывается принимать решение, решает судьба.
– Не плачь ты по ней, она того не стоит, – утешала его старая Мария.
Розария шикала на мать. Она успела сдружиться с Таней больше, чем казалось. Этот дом скучал без скрипа ручной кофемолки, стука пишущей машинки и немецкой речи.
Винченцо ночами бродил по комнате, он не спал и почти не ел. Несмотря на непрекращающийся дождь, каждый день он шел на скалы, где они сидели с Таней. И безжалостно клял себя. Куда подевалось его высокомерное легкомыслие – гордость обездоленных, которым принадлежит весь мир?
Его ровесники давно уже шли каждый своей дорогой. Ютились в квартирах с соседями, но учились, обзаводились семьями. У Винченцо же не было ни подруги, ни профессии, ни студенческого билета. Все, что у него имелось, – чужой автомобиль.
Он часами сидел на террасе, настроив транзисторный радиоприемник на «Немецкую волну». Когда передавали что-нибудь об антифашистских движениях и РАФ, напрягался, с ужасом ожидая услышать фамилию Тани.
Розария приносила ему кофе и кексы, но в конце концов не выдержала и она.
– Позвони ты Кармеле!
Винченцо затряс головой. Он знал, что Кармела не простит ему то, что он выбрал не ее. Она не из тех женщин, кто довольствуется половиной. Себя Кармела отдала Винченцо целиком, он же не мог ответить ей тем же.
– Поезжай к ней, – настаивала Розария. – Она же любит тебя.
– Но я не хочу быть крестьянином, понимаешь ты? С Таней я был свободен, а с Кармелой буду чем-то вроде работника при ее отце.
Розария вздыхала:
– Чего ты тогда хочешь, Винченцо?
– Чтобы меня оставили в покое!
Он становился несносен. Даже Розария с удовольствием выставила бы его из дома, не помогай он малышке Мариэтте со школьными заданиями. Когда Розария попыталась убрать с террасы машинку Тани, Винченцо встал на дыбы. Кричал, что никому, кроме Мариэтты, не дозволено прикасаться к Таниному подарку.
– Эта машинка печатает только немецкие слова! – проорал он.
После чего принялся учить Мариэтту языку страны, где жил ее отец.
Розария позвонила Джованни, потребовала урезонить племянника. И потом – благо длина провода позволяла – принесла телефон на террасу.
– Привет, Винче!
Голос дяди всегда звучал радостно, независимо от настроения.
– В чем дело?
Джованни объяснил племяннику, что любовные страдания штука, безусловно, полезная, но в меру. Одна-две недели – больше человеку не позволено себя жалеть.
– Радуйся, что свободен и можешь наконец заняться своими проблемами.
– Как дела в Германии? – спросил Винченцо.
– Да какие здесь могут быть дела? Люди боятся тратить деньги. Толпы безработных, да еще дружки твоей Тани устроили нам хорошее grande casino… Бардак, одним словом. И повсюду полиция.
– Почему ты не приезжаешь, Джованни?
– Законы меняются. Однажды меня могут не пустить обратно в Германию. Турки, к примеру, уже пакуют чемоданы. Мы, итальянцы, еще не в самом худшем положении, но кто знает, как все обернется завтра. Но ты можешь вернуться.
Винченцо молчал. Он надеялся, что однажды они с Таней вернутся в Германию. Но что ему там делать без нее?
– Послушай, Винченцо, – продолжал дядя, – очнись ты уже. Ты должен поступить в этот чертов университет. Так хотела твоя мать.
– Не беспокойся, дядя Джованни.
– Но я беспокоюсь. И тебе следовало бы побольше беспокоиться, вместо того чтобы без дела шляться по деревне.
Винченцо уже понял, откуда ветер дует, – из дома Калоджеро. Он повесил трубку. Родные взяли его в тиски. Сейчас Винченцо как никогда понимал Таню.
Ночью его охватил страх. Винченцо лежал в холодной постели и слушал, как гудит море за скалами. И вдруг увидел обоих своих отцов у изголовья. Один обозвал его неудачником, другой – жуликом. А затем мимо прошелестела тень бабушки, вся – безмолвный упрек. И под конец появилась Джульетта, положила ладонь на пылающий лоб сына. Винченцо задыхался. Он распахнул окно. До чего же он боялся прожить несостоявшуюся жизнь – как она.
Когда он в прокуренном баре пялился в экран телевизора, то что бы ни передавали – футбол, политические дебаты или «Формулу-1», – видел только победителей и проигравших, тех, кем все восторгались, и тех, кого презирали или жалели. Его не отпускал страх, что он из последних. Что никогда не стать ему обычным человеком, который коротает свой век в темном сыром домике и искренне радуется жизни. Что он из тех, кто однажды шагнул под лучи софитов только ради того, чтобы облажаться у всех на глазах. Чтобы на краткий миг вынырнуть на поверхность и тут же скрыться в пучине небытия – теперь уже навсегда.
Но затем он вспоминал своего кумира Нино Лауду, горевшего, но не сгоревшего в «феррари», сумевшего после той страшной трагедии вернуться на трассу. И доказать всем, что своей жизнью он распоряжается сам.
Однажды в феврале, после бессонной ночи, Винченцо собрал вещи в небольшую спортивную сумку и ближайшим паромом отбыл в Палермо.
Он должен наконец забыть Таню, а также доказать – Кармеле и всем остальным, – что его недооценивали. Винченцо поклялся себе и близко не подходить к дому Калоджеро. Если ему и суждено снова увидеться с Кармелой, то только человеком, чего-то добившимся, ставшим кем-то – победителем.
Нино Ваккареллу он отыскал в школе. «Летающий лектор» – так называли коллеги отставного пилота. Поразительно, но Ваккарелла вспомнил Винченцо. А когда тот принялся описывать ему, как все лето только тем и занимался, что ежедневно изучал трассу, Ваккарелла так расчувствовался, что не смог ему отказать. Да, он уже не в игре, но связи-то остались.
Так Винченцо оказался в пиццерии в компании Клаудио, брутального владельца автосалона и небольшой команды гонщиков. Было время, Клаудио и сам блистал на трассе, но потом сломал позвоночник, катаясь на лыжах. Так чужое несчастье обернулось для Винченцо последним шансом.
– Без Нино «Тарга» никогда не будет тем, чем была, – говорил Клаудио. – Это теперь второстепенные гонки, там полно пилотов так себе. Твое счастье.
Он саркастически ухмыльнулся. На этого парня Клаудио особых надежд не возлагал, но ему нравился его задор. Такой, пожалуй, может и добраться до финиша. Но вот машины у Винченцо не было, шикарная ИЗО в спринтеры не годилась.
Машину ему раздобыли – переделанная «альфа-джулия» была оснащена каркасом безопасности и гоночной коробкой передач. На ней Клаудио и Винченцо отправились в Чедру, где посреди мирного сельского ландшафта торчали трибуны вдоль старта и финиша.
Винченцо сел за руль, а Клаудио занял место рядом – с секундомером. И Винченцо рванул так, будто убегал от самого дьявола. Когда, идя на обгон, он чуть не врезался во встречный грузовик, Клаудио заорал:
– Все, все… Хватит!
Он вывалился из машины прямо в придорожную канаву и снизу вверх глянул на Винченцо.
– Хорошо, я тебя беру… Но за каждую царапину на моей машине заплатишь из своего кармана.
– У меня нет денег.
– У тебя есть ИЗО. Заберу ее в залог.
Все ночи Винченцо возился в мастерской с «джулией». Как механик он был лучше не только большинства гонщиков, но и большинства механиков. И эта машина ему не нравилась. Винченцо замучил бесконечными придирками людей Клаудио, которые называли его не иначе как testardo teutonico, чокнутый немец. Но Винченцо было плевать.
И то, что он ночью делал с демпферами, впрыскивателем или дифференциальной передачей, наутро проверял на трассе. Его любимым временем было между пятью и семью утра, когда солнце только всходило и другие водители еще сладко спали. С каждым кругом Винченцо все позже тормозил перед поворотом. Пока спинным мозгом не прочувствовал тот едва различимый порог, за которым машина словно теряет под собой почву, – незримую грань между жизнью и смертью.
Он ошибся только однажды, в апреле, когда услышал по радио, что в Карлсруэ члены группы РАФ застрелили какого-то важного государственного чиновника по фамилии Бубак. Стреляли с мотоцикла, в «мерседесе» три трупа. Винченцо молился, чтобы Таня не имела к этому отношения.
– Ты – то, что надо, – наконец похвалил его Клаудио и похлопал по плечу. – У тебя есть попометр.
Они отправились на Корсо Витторио к портному Ваккареллы, угрюмому сицилийцу старой закваски. Пока тот снимал мерки с рук Винченцо, Клаудио разглядывал черно-белые фотографии на стене. На них была вся история сицилийских гонок за последние пятьдесят лет. В те времена пилоты носили перчатки из кожи диких животных, которые теперь делали только здесь. Джульетта бы их оценила.
За неделю до гонок Винченцо пошел на почту и отправил Розарии два билета на зрительские трибуны – для нее и Кармелы.
15 марта 1977 года оказался поворотным днем в истории гонок. Правда, не в том смысле, в каком того ожидал Винченцо. С утра народ на трибунах ликовал в предвкушении праздника. Повсюду сновали дети, получившие наконец возможность прикоснуться к сверкающим разноцветным болидам. Продавцы разносили выпечку. Пилотов обступали поклонники в коже – старые профи и молодые пижоны.
Ваккарелла болтал с приятелями. Клаудио был прав. Эти пилоты – не рыцари без страха и упрека, как их предшественники. Они походили скорее на игроков. Возможно, в этом и состоял главный козырь Винченцо – его напор и холодная расчетливость против бездумного безрассудства.
Розария заявилась прямо на пит-лейн, чтобы сунуть Винченцо в машину медальон с Мадонной.
– Кармела здесь? – спросил Винченцо.
– Конечно. – Розария рассмеялась и показала на трибуны: – Вон там, с родителями.
– Я же просил ничего не говорить Калоджеро.
– Иначе и Кармела не приехала бы, так что извини… Но все они держат за тебя пальцы.
Винченцо натянул новые перчатки и пошел к машине. На трибуны он не смотрел. Втиснулся за руль в клетку каркаса безопасности, и дальше все пошло своим ходом. Зажигание – смесь – инструментальный контроль. Его движения следовали заученной логике, делавшей Винченцо частью машины. Мысли сходились в одну точку, фиксируя действия, но затем верх взял инстинкт и внешний мир размылся до неразличимости. Винченцо любил это состояние, когда само его сознание словно перемещалось в мерно гудящий мотор.
Он задержался на старте – плохой знак и еще более скверная ситуация, потому что с самого начала надо рисковать. Догоняя соперников, Винченцо видел перед собой лишь сплошную стену пыли. Удастся ли обходной маневр или все закончится у ближайшего дерева, решить должен был инстинкт.
Преимущество Винченцо состояло в том, что он и вправду знал каждую выбоину на трассе и мог определить, где находится, в условиях практически нулевой видимости. Даже если мчался как сумасшедший. Винченцо гнало не столько стремление к победе, сколько страх потерпеть поражение. Уже на втором круге он ликвидировал разрыв. Пересекая финишную прямую в третий и четвертый раз, увидел своего механика с табличкой – раций в кабинах тогда не было, – сообщавшей, что у Винченцо лучшее время на круге. На пятом круге Винченцо обогнал другие «альфы».
Далее произошло ужасное. Винченцо видел прямо перед собой эту желтую «озеллу» – разъяренного зверя с мотором «БМВ», классом повыше, чем у его «альфы», – чистокровную гончую, но явно не откалиброванную под местные дороги. «Озелла» зацепила задним бампером за стену, и тот отлетел, едва не задев «альфу» Винченцо. Мотор, коробка передач и колеса – все было теперь на виду, но пилот не останавливался. Винченцо знал, что добром это не кончится. Без заднего бампера машина неуправляема.
На поворотах, где стояла стена пыли, пилот «озеллы» балансировал на грани. Только чутье заставило Винченцо отказаться от намерения воспользоваться слабостью соперника и обогнуть его по крутой дуге справа. Винченцо держался за «озеллой» и увидел, как, потеряв управление, она слетела с трассы, перевернулась в воздухе, ударилась о землю, еще несколько раз перевернулась и ринулась прямо на зрительские трибуны. Еще пару секунд Винченцо продолжал движение, потом ударил по тормозам, выскочил из машины и побежал к месту катастрофы.
Оно напоминало поле битвы. Люди, с вывернутыми руками и ногами, валялись в траве. Кто из них водитель, определить было невозможно. На деревьях висели обломки желтого кузова, сама «озелла» превратилась в бесформенный клубок металла. Над трибунами повисла мертвая тишина – на несколько минут мир был ввергнут в шок. Потом раздались стоны раненых.
Гонки прервали. Пилоты покинули свои машины, а страшное известие уже разлеталось по окрестным деревням. И когда выяснилось, что двое человек погибли, многие получили ранения и увечья, а пилот впал в кому, всем стало понятно, что спектакль окончен – раз и навсегда. «Тарга» перещеголяла саму себя, от гонки к гонке наращивая мощность автомобилей. Такое не могло не кончиться катастрофой, тем более на Сицилии.
Когда Винченцо ставил «альфу» в бокс, Ваккарелла отвел его в сторону. На этот раз «Тарга» завершилась без музыки, лица гостей и участников были бледны.
– Что я тебе говорил? Немедленно поезжай домой, поступай в свой университет и получи нормальную профессию. Покончи с этим, пока оно не покончило с тобой. И найди хорошую женщину.
Винченцо и сам проклинал тот день, когда вздумал ввязаться во все это. Его карьера закончилась, не успев начаться. Вечерние газеты вышли в печать с заголовками È morta la Targa[153]. Старейшие автогонки не вынесли собственного безумства. Винченцо уехал сразу, он не хотел попадаться на глаза Кармеле.
Глава 66
Итак, мой отец был как я. Та же пьеса, только на другой сцене. На подиуме ли, на гоночной трассе, весь вопрос в том, получил ли ты свое место под солнцем за так или тебе нужно его завоевать. И насколько тяжелее сражаться тому, кто разбил шатер вдали от родины.
Рабочие демонтировали карусель. Старик Джепетто едва поспевал за ними на больных ногах. Я спрашивала себя, сколько раз он уже проделывал это, монтировал и демонтировал, и как долго еще намерен скитаться, прежде чем разберет свою карусель в последний раз. Жизнь сплошной цирк, и мы в нем канатоходцы. Без страховки.
– Ну что, поехали дальше? – спросил Винченцо.
Я вспомнила, что возвращаюсь домой, и мне стало страшно. Как будто вдруг оказалась на краю пропасти.
– Похоже, это наследственное, – заметила я.
– Что? – не понял Винченцо.
– Что приходится за все бороться. Нам ничего не достается даром.
– А ты хотела бы унаследовать империю моды? – Винченцо улыбнулся, я тоже. – Наследство обязывает, – пробормотал он и заказал еще два эспрессо. – Многие не выдерживают. Вспомни, что сталось с «ИЗО». А мы с тобой нашли себя сами и остались свободными.
– Правда, иногда эти поиски затягиваются до неприличия, – добавила я, – как в моем случае, например. Потому что чертовски тяжело снова и снова вкатывать камень на гору. А мне хотелось бы сразу оказаться наверху. И там остаться.
Винченцо так ласково посмотрел на меня, что я смутилась. И ощутила облегчение. Винченцо оказался достаточно тактичен, чтобы воздержаться от советов. Я уже рассказала ему о своих скитаниях по фестивалям моды, об успехах, поражениях, интригах и мерзких типах, от которых я зависела. О вечном ощущении собственной бездарности. И о том, как шоу сменяет шоу, а ты словно наполняешь водой дырявое ведро. Сколько ни наливай – оно пустое.
– И что ты собираешься делать, когда вернешься в Мюнхен?
Я пожала плечами:
– Воевать. Или сдаться. Не исключено, что я все-таки им продамся. Это путь наименьшего сопротивления, ведь так?
– Нет.
– Почему нет?
– Только не для тебя.
– Откуда ты знаешь, что для меня?
Я улыбалась. Винченцо смотрел на меня серьезно.
– Я ведь тоже когда-то был в такой ситуации. Прекрасные способности, но все, что мне удавалось урвать у судьбы, уходило сквозь пальцы.
– И что ты сделал? Тогда, после гонок?
– Жизнь приняла решение за меня. Точнее, ты за меня все решила.
– Я? Каким образом?
Глава 67
Винченцо бродил по деревне в разодранных джинсах, пил пиво да часами торчал на площади. Его гоночная лихорадка поутихла, вчерашний вундеркинд стремительно летел в черную пропасть, называемую реальностью.
– Бездельник, вот кто ты теперь! – в отчаянии воскликнул Джованни при виде племянника.
Летом Джованни приехал на Салину закупать у крестьян вино, оливки и каперсы да ругаться с женой. Винченцо было все равно, что думает о нем дядя. Легко тому рассуждать.
– Попробуй себя в чем-нибудь другом, – советовал Джованни. – Гонять на машине ты мог бы и в Германии.
– Где меня ищет полиция?
– Ну так выучись чему-нибудь другому!
– Я не годен ни на что другое, дядя.
– Бог мой, Винченцо. Прекрати строить из себя маленького мальчика. Ты уже давно вырос.
– Я не мальчик, я хуже. Я неудачник. Должны же быть и проигравшие, не только одни победители. Только так и держится это чертово равновесие. И мы с тобой, дядя, на разных чашах весов, так уж получилось.
– Ты не неудачник, – возразил Джованни. – Ты идиот.
Единственным осмысленным времяпрепровождением для Винченцо стали занятия немецким языком с кузиной Мариэттой. Он проводил их, используя Танину «Оливетти». Пока Джованни с Розарией спорили, где дочке проходить вторую ступень, в Германии или Италии, Винченцо учил девочку немецкому произношению.
Но самой любимой темой у обоих были сложносоставные слова. Выражения «клавиатура печатной машинки», «средство для чистки клавиатуры печатной машинки» и «директор фабрики по производству средства для чистки клавиатуры печатной машинки» пишутся по-немецки в одно слово, разве не забавно?
Вечером, после того как Мариэтта ложилась спать, Винченцо до глубокой ночи пил в баре с безработными, а до обеда, пока девочка была в школе, спал.
Розария позвонила в Палермо дону Калоджеро. На ее взгляд, только Кармеле было под силу вернуть Винченцо к жизни. Калоджеро обрадовался звонку с Салины, потому что они с женой не знали, что делать с дочерью.
Внезапный разрыв с Винченцо Кармела переживала вовсе не так легко, как уверял Калоджеро. Она винила отца в том, что он вмешался в ее отношения с любимым и отпугнул Винченцо. Кармела ушла из родительского дома и жила теперь с каким-то индийским гуру по имени Сатьян. Вообще-то этого толстого сицилийца звали Сальво, но он взял себе индийское имя, как это полагается у оранжевой братии.
– Это ли не скандал! – возмущался Калоджеро в трубку. – Потеряли всякое уважение к родителям. И каждый спит с кем хочет.
– И как теперь зовут Кармелу? – спросила Розария.
– Откуда я знаю, мне это неинтересно, – отрезал Калоджеро.
– Послушай, я знаю, что надо сделать.
Спустя неделю Розария отправилась в Палермо. Отыскала Кармелу, которую теперь звали Шакти, и побеседовала с девушкой. С первого взгляда ей стало ясно, что Кармела несчастна. Женщины сначала ругались, потом проклинали мужчин и наконец бросились друг другу в объятия.
На Салину Розария вернулась с письмом, которое положила в комнате Винченцо.
Несколько дней оно лежало нераспечатанное. Но однажды вечером Винченцо выпил достаточно, чтобы забыть о страхе, вскрыл конверт и не поверил глазам.
Она по-прежнему любила его.
Винченцо позвонил Кармеле, и через два дня она стояла под дверью их дома на Салине с рюкзаком за плечами и маленьким котенком, прижатым к груди.
Ее разноцветное платье в пол пропахло индийскими благовониями. Розария немедленно велела снять его и отправила платье в стиральную машину. Котенку налили молока. Молодые люди хоть и держались скованно, но были благодарны Розарии за то, что не надо никому ничего объяснять и не надо просить прощения.
Их любовь была подобна забытому на платформе чемодану, который по возвращении из путешествия нашли там же, где оставили.
Дон Калоджеро с супругой прибыли на следующее утро первым паромом, и мать, обливаясь слезами, прижала к себе блудную дочь. С отцом Кармела обниматься отказалась. Дон Калоджеро воспринял это спокойно. Он приобнял Винченцо:
– Пойдем покажу тебе свою новую машину. «Ситроен-СХ» – с’est merveilleux![154]
Мальфа дремала в лучах полуденного солнца, когда «ситроен» медленно скользил по главной улице. Собаки спали в тени. Море походило на зеркало.
– Автомобильная промышленность Италии катится в пропасть, – сказал Калоджеро. – Забастовки стали национальным видом спорта. Коммунисты погубят страну.
Винченцо не мог взять в толк, чего от него хотят.
Когда они выехали из деревни, Калоджеро перешел к делу:
– Вы молоды и растрачиваете свое время, как будто у вас его неисчерпаемый запас. Все эти гуру рассказывают сказочки про реинкарнацию, якобы после смерти мы перевоплотимся и заживем заново. Но жизнь – это не сказки. Конец, он всегда конец, и все мы предстанем перед Создателем, который призовет нас к ответу.
– С гуру покончено, Кармела хочет…
– Слушай меня! – рявкнул Калоджеро. – Два месяца назад у меня обнаружили рак легких. Кармела ничего не знает, но мне осталось недолго.
Винченцо потрясенно выговорил:
– Это ужасно. Неужели нельзя…
– В этом нет ничего ужасного. Смерть – дар. Она учит нас жить правильно и отличать важное от неважного.
Винченцо не знал, что ответить. Меньше всего он ожидал такого поворота дела.
– Вот говорят, смысл жизни в любви, – продолжал Калоджеро. – Но чувства приходят и уходят. Это для вас, молодых, они все, а с возрастом понимаешь, что остаются после нас только две вещи – земля и семья.
Калоджеро припарковал «ситроен» у виноградников, полого сбегавших к скалам у моря. Лозы выглядели чахлыми. Калоджеро двинулся меж шпалер, осматривая растения. Винченцо, все еще под впечатлением от услышанного, брел следом.
– Нужно скрестить их с выносливыми американскими сортами. Это сработает. Вошь сидит у самого корня. Подрезаешь здесь вот так… и прививаешь лозу к здоровому корню. Конечно, потребуется время, но они срастутся. Вот погляди…
Винченцо приблизился к Калоджеро. Он не мог отделаться от мысли, что разговаривает с человеком, который скоро умрет. Но Калоджеро меньше всего внушал жалость. Смерть его не заботила, в отличие от винограда.
– Землю унаследует Кармела, но все это не стоит и ломаной лиры без должного ухода. Однако если приложить руки, то дела опять пойдут в гору и наша «Мальвазия» снова заявит о себе. Тут нужен молодой мужчина с головой и умением видеть будущее, и немецкая дисциплина здесь, конечно, совсем не лишнее.
Винченцо сглотнул.
– Дон Калоджеро, я…
– Юг неповоротлив, консервативен… Ему нужны такие, как ты. Умные, повидавшие мир, не боящиеся нового. Только таким под силу вдохнуть жизнь в эту сонную землю.
– Но… я не могу.
Винченцо боялся. Большие цели его пугали, ответственность страшила.
Калоджеро повернулся и посмотрел ему в глаза:
– Никто так не любил эту землю, как твой дед. Его кровь течет в тебе. Пора вернуться домой, Винченцо.
– Вы оказываете мне большую честь своим доверием, дон Калоджеро, но я…
– Джованни будет продавать вино в Германии. С торговлей у него хорошо получается, сам знаешь. Он чувствует вкусы и знает немецкого потребителя. У них деньги, у нас вкус.
Винченцо молчал. Мог ли он спорить с человеком, стоящим на пороге смерти?
– На одной мечте далеко не уедешь, Винченцо. Люди уважают тебя за то, чем ты обладаешь. Твой дед был лучшим земледельцем, но поля, на которых он работал, принадлежали не ему. Поэтому их хозяева делали с ним что хотели.
На это возразить было нечего. Все верно, талант – это лишь обещание. И в его случае крайне маловероятно, что оно будет выполнено.
– Пойми меня правильно. Мое предложение вовсе не благотворительность. Но если ты думаешь, что сможешь взять Кармелу без нашего согласия, то глубоко ошибаешься. Ты получишь ее руку только в том случае, если сможешь кормить семью. Остальное – твое решение.
Легкий ветерок с моря прогнал полуденный жар. Калоджеро огляделся и вдохнул насыщенный летними ароматами воздух.
– В мире нет лучшей земли, даже в Америке. Только представь, что здесь будет стоять твой дом. И твои дети будут играть на этом поле, откуда их никто уже не прогонит. Мужчина должен помнить, откуда он родом.
Против последнего аргумента устоять было особенно трудно. Винченцо не горел желанием становиться виноделом, но больше жизни хотел обрести под ногами твердую почву.
Он поговорил с Кармелой. И чем дольше они обсуждали ситуацию, тем очевидней становилось, что у них попросту нет выбора. Если они хотят быть вместе, то нужно где-то жить. Не висеть же у Розарии на шее.
Но деньги на обручальные кольца пришлось занять у нее. В сентябре Винченцо подписал с Калоджеро договор об аренде земли. Ему предстояло нанимать рабочих для сбора урожая и учиться вещам, о которых он не имел ни малейшего представления.
Грозди наливались золотом летнего солнца. Воздух был прозрачен и легок, но Винченцо томили недобрые предчувствия.
Семья собралась за праздничным столом, дон Калоджеро открыл лучшую бутылку «Мальвазии». Они собирались поднять бокалы за здоровье молодых, когда зазвонил телефон. Это был Джованни. Розария передала трубку Винченцо.
– Поздравляю, – сказал Джованни. – Твой дедушка гордился бы тобой.
– Спасибо.
Потом повисла пауза.
– Знаешь, кого я видел вчера на Леопольдштрассе? – спросил Джованни.
Винченцо словно ударило током.
– Как она? – спросил он.
Джованни молчал.
– Как она?!
– У нее живот, очень большой и круглый. Я подумал, ты должен об этом знать.
Джованни говорил почти шепотом. По спине у Винченцо побежала струйка пота.
– С ней кто-нибудь был?
– Никого.
– Вы говорили?
– Почти нет. Я только поздравил ее и спросил, кто счастливый отец. Мне ведь и в голову не могло прийти, что…
– Что? Что она сказала?
– Ничего. Только посмотрела на меня.
Винченцо окаменел с трубкой в руке. Розария, Кармела и чета Калоджеро вопросительно смотрели на него.
– Послушай меня, Винченцо! – закричал Джованни. – Не делай глупостей, оставайся там, где ты есть.
Винченцо положил трубку.
– Что случилось? – спросила Розария.
– Ничего.
Они пили, ели приготовленную женщинами рыбу-меч с капонатой, а потом отправились на покой. Но Винченцо не сомкнул глаз. В четыре утра, когда все спали, он вышел во двор, сел в ИЗО и первым паромом покинул остров. Глядя на удаляющиеся в утренней дымке огни Салины, он не смог сдержать слезы. Этот зеленый оазис посреди моря подарил ему дом. Бесконечно много для человека, вся жизнь которого – сплошная череда расставаний.
Вот и сейчас он снова покидал родину, едва успев ее обрести. И все-таки на этот раз все было иначе, потому что Винченцо ехал к семье.
До Неаполя он как одержимый гнал по пыльным южным дорогам. Оттуда на север по автостраде Дель-Соле – через весь итальянский «сапожок». Сутки за рулем. Винченцо питался кофе и колой, отдыхал только на заправках, в машине, и срывался с места при виде полицейских. Малейшая задержка его пугала. Только в пути он и чувствовал себя более-менее спокойно.
На следующий день он позвонил Джованни из телефонной будки в Южном Тироле.
– У тебя есть ее адрес?
– Винченцо, не приезжай! – испугался дядя. – Полиция здесь так и кишит. Ты слышал о похищении Шлейера?[155]
Полиция контролировала все дороги, Винченцо видел это по телевизору. В стране объявлено чрезвычайное положение. Но он боялся не за себя, а за Таню.
– Они проверяют только тех, кто выезжает.
– Кто тебе это сказал? Они проверяют всех. И первым делом мужчин твоего возраста.
– Да кто я такой? Мелкая рыбешка, никто.
– Твоя машина наверняка объявлена в розыск.
– Не волнуйся, дядя, это я уже уладил. Лучше раздобудь мне ее адрес, ладно?
– Не пересекай границу, Винченцо!
Но тот уже повесил трубку.
Он знал границу – сколько раз перевозил через нее оружие. Главное, выбрать наименее оживленное место. Только не основные трассы, где проходят огромные фуры, там фараоны особенно настороже. Винченцо свернул с дороги на Бреннер возле Мерана и поехал в сторону Тиммельсйоха по суперстраде, поднимающейся серпантином до двух тысяч метров над уровнем моря.
Здесь были только скалы, пропасти да пустой бункер Муссолини. Пограничная застава казалась заброшенной, шлагбаум поднят. Скучающие полицейские одобрительно кивнули Винченцо, и он беспрепятственно въехал на австрийскую территорию.
Молодой пограничник подозрительно покосился на немецкий номер машины и сделал знак остановиться:
– Есть за что платить таможенную пошлину?
– Нет.
Безупречный немецкий плюс невозмутимое лицо – это всегда срабатывало. Пограничник велел проезжать, и Винченцо медленно тронулся с места.
Когда застава скрылась из виду, Винченцо дал газ и полетел вниз по серпантину. Впереди была граница с Германией.
Миттенвальд та еще дыра, так что все должно было получиться. Но Винченцо не хотел рисковать с угнанной машиной. Поэтому неподалеку от границы свернул на проселочную дорогу, проскочил небольшие загородные отели и въехал в лес, где и поставил свою ИЗО.
Здесь пахло хвоей и сырым мхом. «Германию можно узнать по запаху», – подумал Винченцо. Он постоял, вслушиваясь в темноту, и пошел дальше пешком. Оглянулся на ИЗО, которую оставил вместе с ключами. Вот будет кому-то подарок!
И тут споткнулся о торчащий корень, боль обожгла ногу. Неужто растяжение, вряд ли что серьезнее? Может, все же стоило попытаться пересечь границу на машине? ИЗО всегда приносила ему удачу. Винченцо похромал дальше. Строго на север. Он думал ориентироваться по звездам, но их почти не было видно за густыми кронами. Несколько лет он прожил под безоблачным небом на берегу моря и вот очутился в сумрачном лесу. Винченцо выругался. Он уже не был уверен, что движется в правильном направлении. Прошел еще немного и уперся в каменный забор с колючей проволокой поверху.
Граница проходила прямо посреди леса. Винченцо огляделся – никого. Он перелез через забор, разодрав брюки о колючую проволоку, и спрыгнул на землю. Здравствуй, Германия!
Как оказалось, от Миттенвальда его отделял только луг. Впереди светились огни, темнел шпиль колокольни. Судя по звуками, по ту сторону реки проходило шоссе.
Внезапно в глаза ударил яркий свет. Кто-то направил фонарь ему в лицо. Винченцо не слышал, как они подошли, – двое полицейских с овчаркой. Он остановился, изобразив на лице непонимание.
– Здравствуйте.
– Привет, – ответил Винченцо.
Баварский акцент давался ему хорошо.
– Что вы здесь делаете?
Он пожал плечами:
– Гуляю.
Овчарка залаяла. Винченцо всегда боялся собак.
– Ваши документы, пожалуйста.
– Да, да… одну минуту…
Он принялся шарить по карманам – тянул время.
– Похоже, я забыл их дома.
Полицейские чуют ложь за версту, тоже своего рода попометр.
– Где это, дома?
Винченцо запнулся. Это была его первая ошибка.
– Откуда вы?
– Откуда?.. Ах да… я… из Мюнхена.
Руки дрожали. Винченцо спрятал их в карманы брюк. Лихорадочно соображал, в какую сторону бежать.
За спиной был лес. Там собака, конечно, догонит. Река? До берега самое большее двадцать метров. Есть шанс.
– Вы итальянец?
Чертов акцент. Слишком долго прожил на Салине.
– Нет.
Вторая ошибка. Больше они не верили ни единому его слову и видели, что он это понимает. Настал момент, когда ложь засасывает, как трясина, и при этом не остается ничего другого, кроме как лгать.
Винченцо рванулся к берегу – инстинктивно, дав страху взять верх. Это была его третья ошибка. Спрыгнул с откоса, но река оказалась совсем мелкая. Черная вода едва доходила до бедер. Уже на середине, где было достаточно глубоко, чтобы плыть, его догнала собака, и ногу пронзила боль. Винченцо отбивался, кричал, с головой погружаясь в воду, пока полицейские не заломили ему руки за спину, чуть не вывернув суставы.
Салями. Джованни принес ему салями.
– Почему ты не привел Таню, черт бы тебя подрал? – Винченцо выругался и поковылял к столу.
– Спокойно! – отозвался надзиратель. – Иначе вернетесь в камеру.
– Нет проблем, начальник, – сказал Джованни и взял племянника за руку. Ладонь Винченцо была мокрой от волнения.
– Раздобудь мне ее номер, Джованни. – Он умоляюще посмотрел на дядю.
– Какой же ты идиот! Адвокат, вот кто тебе сейчас нужен, а не она.
Трясущейся рукой Винченцо пригладил волосы. Он до крови разбил голову о дверь камеры. Ничего не ел уже несколько дней. Тюрьма располагалась в самом центре Мюнхена. Таня совсем рядом – и в то же время дальше, чем когда-либо.
– Зачем мне адвокат? Кто я теперь для нее… иностранец, да еще и преступник.
– Черт возьми, да прекрати ты ныть наконец! – Джованни стукнул кулаком по столу. – Веди себя как мужчина!
Винченцо вскочил, заметался, но потом прикусил губу и подавил подступающие к глазам слезы. Рухнул в бессилии на стул.
– Я отец, Джованни. Это все, что я успел сделать в жизни. Найди мне ее и ребенка, умоляю тебя…
Взгляд Джованни смягчился.
– Va bene[156]. Обещаю.
Глава 68
Могла ли я ему верить?
Винченцо видел себя жертвой, но в представлении моей матери все было совсем наоборот. А Таня даже в самых безнадежных ситуациях умела разглядеть в человеке лучшее.
– Я думала, ты просто забыл меня.
– Это она тебе так сказала?
– Ну… да. Про тюрьму я узнала позже. А до того… «папа в Италии».
Глаза Винченцо подозрительно сузились.
– Все было не так. Я умолял ее привести тебя. Это она не хотела, чтобы ты видела меня через решетку.
Что ж, возможно. Но спроси Таня меня, я предпочла бы увидеть отца через решетку, чем не видеть его совсем.
Я изучала лицо Винченцо – смесь высокомерия и ранимости. Я отвернулась.
– Пойдем…
Мы молча покинули «Луна-парк» и сели в машину. Винченцо за руль. Я погрузилась в размышления.
– Как она вообще, Таня? – неожиданно спросил он.
– Все в порядке.
– У тебя есть братья, сестры?
– Нет.
– Она когда-нибудь была замужем?
– Нет.
– Похоже на нее. – Он закурил.
– А ты? Ты был счастлив с Кармелой?
Винченцо выпустил в окно струйку дыма. Прежде чем он успел ответить, зазвонил мой телефон. Я медлила. Это была мать. Как будто что-то почуяла на расстоянии.
– Юлия, все в порядке?
– Да.
– Мне тебя встретить?
– Не надо.
– Где ты сейчас?
– Еду в машине.
– Ты… решила развеяться?
– Нет.
– Ты одна?
– Нет.
Больше она ни о чем меня не спрашивала. Но я чувствовала: она боится.
– Юлия, я только одно спрошу… Ты сможешь когда-нибудь простить меня?
Я молчала. Ждала. На том конце провода словно что-то оборвалось.
– Я должна была сделать это, Юлия… Сжечь мосты. Иногда нужно забыть прошлое, чтобы двигаться дальше.
«Забыть прошлое», вот как это у нее называется.
– Я повела себя как эгоистка.
– Да.
Некоторое время мы молчали. Винченцо нервно косился на меня.
– Мы едем в больницу, – сказала я. – К отцу Винченцо.
– Что за больница?
Я задумалась. Хотела ли я ее там видеть? Зачем? Чтобы показать им, чью сторону выберу?
– В Богенхаузене.
Ну вот, теперь я предала их обоих.
Винченцо молчал. Я взяла сигарету из его пачки.
– Она приедет, как ты думаешь?
– Не знаю.
Он поднес мне зажигалку.
– Так вы увиделись с ней тогда?
Винченцо вздохнул. Очевидно, воспоминания давались ему нелегко.
– Джованни раздобыл ее номер. Я ей позвонил, но она так и не пришла.
– Я уже родилась к тому времени?
– Да. Таню я увидел только в зале суда.
У меня закружилась голова.
– Мне она говорила, что навещала тебя в тюрьме.
– Ты мне не веришь?
Я молчала. Я не хотела быть к нему несправедливой, но слишком устала от лжи.
– Послушай меня. Твоя мать говорила тебе то, что считала нужным, но ты хочешь выслушать и другую сторону, ведь так? До Мюнхена четыре часа, времени более чем достаточно. Только скажи – и я не пророню больше ни слова. Решать тебе.
Винченцо волновался больше моего. Это его история искала выхода. Но можно ли было ей верить? Иногда ложь не ложь в прямом смысле этого слова, а освобождение, выход из тупика. Каждый боится признать себя виноватым, так складываются разные версии одних и тех же событий. Но в истории Тани и Винченцо в любом случае недостает еще одной части – моей. Оказывается, я была любима больше, чем могла себе представить.
Глава 69
Итак, странствия Винченцо закончились. Безбрежное небо над головой свернулось до восьми квадратных метров.
И опять эти невыговариваемые немецкие «составы». «Камера предварительного заключения», «товарищи по камере предварительного заключения», «болтовня товарищей по камере предварительного заключения» – все это в одно слово, разве не забавно?
Когда Винченцо увидел Таню, у них не было возможности поговорить друг с другом. Только друг о друге.
Он сидел на скамье подсудимых, она стояла на свидетельском месте – в пончо, которое связала собственными руками. И выглядела необыкновенно женственно, несмотря на короткую стрижку.
Таня ни в чем не обвиняла Винченцо. Говорила, что знала его со времен коммуны, подбирая слова осторожно, чтобы самой не залезть в петлю.
Полицейский, в которого она стреляла, выжил. По счастью, пуля лишь задела ему бедро. Он находился в зале суда и узнал Винченцо. Таня и Олаф тогда были в масках, Винченцо – нет.
– Господин Маркони, – сказал прокурор, – вы по-прежнему утверждаете, что не знаете имен ваших сообщников?
– Да.
– Пострадавший говорит, что вы сидели за рулем. Как это у вас получилось – одновременно вести машину и стрелять?
– Как-то получилось.
– Ничего не понимаю, – недоумевал адвокат Винченцо в перерыве. – Вы не хотите назвать имена грабителей – ладно. Я не могу вас к этому принудить, пусть даже в этом случае наказание будет смягчено. Но почему вы отрицаете, что стрелял один из них? Зачем вы взваливаете на себя вину за то, чего не совершали? Ведь если очевидцы…
– Потому что так оно и было. Стрелял я.
Винченцо дали семь лет без права досрочного освобождения. Нанесение тяжких телесных повреждений и бегство с места преступления. Чистосердечное признание и самочувствие пострадавшего, который полностью оправился, стали смягчающими обстоятельствами.
При грамотном содействии извне и удачливости Винченцо мог выйти на свободу года через четыре, может, через пять. Как раз к тому времени, когда его дочь – даже имени которой он не знал – должна была пойти в школу.
Таня навестила его в исправительном учреждении в Штадельхайме. Мрачное место. Стены, потолок, двери, койки, постельное белье и даже еда – все серое.
Шел 1978 год, снаружи была весна.
– Спасибо, – сказал Винченцо.
– За что?
– За то, что назвала ее Джулией.
– Юлией, – поправила Таня.
Они долго смотрели друг на друга. Искали, что еще осталось от былой страсти, огорчались и спрашивали себя, куда все подевалось.
– Это я должна благодарить тебя.
– За что?
Таня обернулась на надзирателя у дверей комнаты свиданий и перегнулась через стол:
– За твои показания.
И чем тут гордиться? Винченцо не мог иначе. Или он должен был отнять у девочки мать?
– Береги Юлию.
– Я устроилась на постоянную работу, в редакцию независимой городской газеты. «Дас Блатт» называется.
– Хорошо.
– Ты слышал, что «Красные бригады» похитили Альдо Моро?[157] Как Шлейера. И там замешаны немцы.
Винченцо молчал. Он видел сюжет по телевизору – расстрелянный «фиат», трупы телохранителей. Жена Альдо Моро, дети и Папа Римский, взывающие к человечности похитителей. Марши протеста. Полицейские с собаками и вертолеты, прочесывающие страну. У Винченцо это не вызывало ни малейшего сочувствия.
– Почему ты не привела ее?
– Я не знаю…Тюрьма не лучшее место для знакомства с отцом. Ты хотел бы, чтобы она тебя здесь увидела?
– Почему нет? Ты ведь сама всегда выступала за честность.
– Она слишком мала. Вот когда вырастет, поймет…
– Познакомь ее с Джованни. Розария вернулась, ты знаешь? С детьми. Будут учиться в немецкой школе.
Таня кивнула, но Винченцо понял: к Джованни она не пойдет.
– Я разорвал помолвку с Кармелой. Никакой свадьбы. Все считают меня чокнутым. – Он ждал ее реакции.
– Это было правильное решение, – только и сказала Таня.
– У тебя есть фотографии Юлии?
– Я тебе пришлю. Еще что-нибудь нужно? Еда, лекарства…
– Фотографии.
– Хорошо.
Она встала, направилась к двери.
– Таня!
– Да?
– У тебя есть кто-нибудь?
– Нет.
Она ответила честно. Или все-таки…
– Ты ведь еще придешь, да?
– Да, ciao.
– Ciao.
Таня сдержала слово и принесла ему снимок. Юлия, в шапочке с помпоном, глядела из коляски любопытными темными глазами. Она не походила ни на Таню, ни на него. Джульетта – вот кого разглядел в дочери Винченцо.
Он повесил фотографию над своей койкой. В затхлой камере, которую Винченцо делил с одним диковатым югославом, она была для него единственным лучом солнца.
В хорошие дни югослав бывал веселым парнем, шутил, и не только сально, но и по-своему глубоко, даже философски. Сидел он за непредумышленное убийство.
– А ты? Политика?
Винченцо кивнул, не глядя на него.
– Вот же мудак! – выругался югослав. – Вот из-за таких, как ты мы и живем в полицейском государстве. Почти как в Югославии! А ведь была же когда-то прекрасная, свободная Германия.
В тюрьме Винченцо пришлось искать общий язык с бандитами – итальянцами, турками, югославами… Немцы держались особняком. Винченцо тоже пытался оставаться в стороне, но за покой надо было платить – деньгами, сигаретами или собственным телом. Винченцо выручали салями и красное вино, регулярно прибывавшие с воли. Джованни навещал его каждый понедельник.
Ночью, когда югослав спал, Винченцо вел беседы с призраками, которые никак не хотели оставить его в покое. Неупокоенные души, чьи дела на земле остались незавершенными. Мать, благодаря которой Винченцо обрел новую родину. Дед, так и не ставший хозяином земли, которую любил и возделывал.
Винченцо разговаривал с ними, будто они сидели у его койки. Жизнь виделась ему вечным поиском места, где он мог бы остаться насовсем, где само его существование не ставило бы перед ним неразрешимый вопрос о смысле.
Внезапно ему пришло в голову, что таким местом для него должен стать не дом и не земля, а человек. Теперь Винченцо не один. У него есть кое-кто, ради кого стоит жить. Кого он любит больше, чем себя самого. Значит, пора прекращать играть своей жизнью, словно грошовой безделушкой. Отныне есть смысл беречь себя, потому что он кому-то нужен.
Он не имеет права разочаровывать эту малышку в шапочке с помпоном. Естественный порядок вещей, нарушенный смертью его матери, восстановлен. Винченцо стал звеном в цепи поколений, проводником любви, которой искал так долго. Впервые ответственность и долг казались ему не бременем, но радостью. Ему больше нечего искать, нужно просто занять свое место.
Но уже следующая беседа с фото Юлии неожиданно завершилась приступом страха. Сердце его сжималось от ужаса, он осознал, что не увидит, как она взрослеет. И все же Винченцо удалось взять себя в руки. Юлия только начинает жить, а для него главное сейчас – перестать ныть и извлечь из пребывания в тюрьме максимум пользы. Использовать время, которое он так неразумно растрачивал на воле. В тюремной библиотеке Винченцо нашел все, что требовалось. И принялся зубрить. Для начала надо было сдать экзамены за полный курс гимназии. Пока югослав пялился на девочек в «Плейбое», Винченцо вспоминал школьные уроки биологии, математики, он будто встретился со старыми друзьями, которых только сейчас стал понимать по-настоящему.
Ни преграды нет тебе, ни дали, Мотылек, ты знай себе порхаешь, Света алчешь, и сожжен им будешь…[158]Над его койкой, там, где у югослава красовались блондинки в стиле пин-ап, были в хронологическом порядке вывешены фотографии дочери. Вот Юлия на коленях у Тани за письменным столом, первые шаги Юлии, первый день рождения. Винченцо разглядывал их каждый вечер, прежде чем погасить лампу. Таня навещала его все реже, и всегда одна. Но обещание держала, и коллекция Винченцо регулярно пополнялась.
Стоило закрыть глаза – и Винченцо видел полосатое покрывало на Танином диване, коричневую посуду на столе, деревянную мельницу для кофе и черно-белого кота. Он жил с ними, учил Юлию первым словам, чинил ее коляску, укладывал спать – пока ровно в шесть утра сирена не возвращала его в реальность. Далее все шло согласно распорядку: уборка в камере, завтрак, прогулка.
Когда Таня долго не приходила и не присылала писем, Винсент сникал. Только в такие дни он и чувствовал себя невинной жертвой. Но ему было достаточно одного взгляда на фото Юлии, чтобы вспомнить, зачем он здесь.
И вот однажды в комнате свиданий появился тот, кого Винченцо меньше всего рассчитывал там увидеть, – его немецкий отец. Винсент сидел за столом поникший, точно стыдился находиться в этом месте. Винченцо хотел развернуться и уйти, но отец вскочил:
– Подожди. Всего лишь минуту…
Винченцо глядел на него презрительно.
– Как ты? – спросил Винсент.
Он изменился, точно уменьшился. Взгляд стал настороженней, виски поседели.
– Прекрасно.
Винченцо ожидал проповеди с риторическими вопросами в духе того, как он мог так низко пасть. Но в следующий момент понял, что Винсент пришел повиниться.
– Я вот… – отец кивнул на папку, лежащую на столе, – принес тебе кое-что по автомобилестроению… Физика… тоже не помешает.
Винченцо на папку даже не взглянул.
– Держись от меня подальше. Ты приносишь несчастье.
– Винченцо, я хотел только… Не проходит дня, без того чтобы я не думал о твоей матери. Что, если нам с тобой… она была бы рада…
– Откуда ты знаешь, чему она была бы рада? – перебил его Винченцо и смягчился при виде испуганного отцовского лица. – Ладно, не дрейфь… я справлюсь. – И повернулся к двери.
– Винченцо! – окликнул его отец. И, приблизившись, оглянулся на караульного у двери и понизил голос: – Они вернули мне ИЗО… таможенники. Спрашивали, известно ли мне, кто ее угнал. Я ничего им не сказал.
Винченцо даже не кивнул в ответ. Позже охранник принес ему в камеру папку с книгами.
– Это от того господина… возьмете?
– Он ушел? – спросил охранника Винченцо.
– Да.
Спустя год, за который Винченцо сбросил десять килограммов, директор тюрьмы лично вручил ему аттестат об окончании гимназии со средним баллом 1,4[159]. Винченцо положил его перед Таней на столе в комнате свиданий.
– Я подал заявление на заочное обучение. Выйду инженером.
Он ждал ее реакции. Таня улыбнулась:
– Здорово!
Ее радость не была наигранной, но чего-то недоставало. Или дело было в том, что Таня не могла разделить ожиданий, которые Винченцо связывал с этим аттестатом.
– Ты не рада? – спросил он.
– Что ты, я страшно рада.
– По тебе не скажешь. Случилось что-нибудь?
– Разве ты не знаешь?
– Что? – испугался Винченцо.
– Они застрелили Леннона.
Винченцо и в самом деле слышал об этом впервые. Джон Леннон, его любимые «Битлз»… но это произошло в Нью-Йорке, то есть почти что на обратной стороне Луны.
– Какой-то сумасшедший, – продолжала Таня. – Но я думаю, за этим стоит ЦРУ. Леннон давно в их списках.
Винченцо кивнул.
– Как Юлия?
– Хорошо. Ей нравится в детскому саду.
– Мне бы так хотелось взять ее на руки.
– Пусть подрастет.
– Подрастет?! – вырвалось у Винченцо. – И сколько ей еще подрастать?
Взгляд у Тани сделался холодным.
– Прости, – пробормотал Винченцо. – Иногда я слетаю с катушек… Но ты не волнуйся. Я выйду раньше срока, директор так говорит. Тем более с заочным обучением… Это же нормальный университет. Я буду хорошо зарабатывать.
– Конечно.
Он взял ее за руку:
– Верь мне, Таня. Все наладится. Немного терпения – вот все, что нужно.
Она кивнула, прикусила губу. В глазах стояли слезы.
Не выпуская ее руки, Винченцо обошел стол и опустился перед ней на колени.
– Что ты делаешь?
– Ты выйдешь за меня замуж?
Она была ошарашена.
– Ты сошел с ума, Винченцо?
– Конечно. Иначе разве бы я решился взять тебя в жены?
Она рассмеялась. Винченцо просиял. Таня закрыла лицо ладонями и заплакала.
Спустя неделю Винченцо получил от нее письмо. Таня писала, что любит его, но сегодня растить ребенка можно и без санкции на то государства. Что в квартирах с подселением апробируются альтернативные формы общежития. Что брак изжил себя.
Винченцо скомкал письмо и бросил в угол. У него было лишь одно объяснение всему этому – «альтернативные формы общежития». Таня уверяла, что у нее нет времени на «отношения». Рассказывала о своей газете, о Юлии, движении за мир и поднимающих голову «зеленых». На вопрос Винченцо, спит ли она с кем-нибудь, отвечала, что нет. Но теперь он вовсе не был уверен, что она не лгала, не желая лишать его последней надежды.
Что же это за любовь, если ей нужна ложь?
– Джованни, ты должен мне помочь! – кричал Винченцо в трубку телефона-автомата. – Я больше так не выдержу.
– Она просто не хочет расстраивать тебя, вот и все.
– Но она сказала, что ждет меня.
– Винченцо, послушай. Главное для тебя сейчас – получить диплом. Сколько экзаменов еще осталось?
– Да откуда я знаю!
– Они уже сказали, когда выпустят тебя?
– Через год или около того. Слушай, Джованни, не мог бы ты сам сходить на эту ее квартиру… с подселением? Возьми вина, ну ты лучше меня в этом понимаешь. Я хочу знать, с кем она живет.
Джованни вздохнул:
– Винченцо, она молода, привлекательна, наконец, она немка…
– И что с того?
– Винченцо, ты только представь себе… Если бы это она много лет сидела в тюрьме, а ты был бы свободен… Да неужели ты не прикоснулся бы к другой женщине? И вот что я скажу тебе, приятель. Есть вещи, на которые нужно закрывать глаза. Эта дурацкая немецкая привычка выносить все на люди…
– Я хочу знать правду, мать твою! Ты пойдешь к ней или нет?
Джованни молчал.
– Ну так и отвали!
Винченцо швырнул трубку на рычаг и привалился к стене.
Он думал, что не переживет этот вечер. Его место на воле было занято. Его никто не ждал. И теперь все, что ему остается, – пялиться в телик в компании чокнутого юга.
– Мы больше не в состоянии принимать иностранцев, – говорил в новостях Гельмут Шмидт. – Число убийств…
Глава 70
11 июля 1982 года Винченцо снял фотографии со стены. Юлия на трехколесном велосипеде, Юлия на двухколесном велосипеде, Юлия с косичками, в ковбойской шляпе… Юлия задорно улыбается в камеру. На каждом новом снимке она все больше походила на Джульетту.
Винченцо пропустил пять лет ее жизни. Он сунул фотографии в карман светло-коричневой кожанки, натянул поношенные сапоги. Клеши и джемпер те же, что и пять лет назад, но выглядели теперь жалко. Снимки – вот все, что нажил Винченцо за эти годы.
Он вытащил из-под койки красную «феррари», которую несколько месяцев собирал из обрезков фанеры в тюремной мастерской, – подарок для Юлии. Югослав обнял его на прощанье.
– Италия, вперед!
Винченцо недоуменно посмотрел на него.
– Сегодня же финал. Германия – Италия.
– Вот как…
Винченцо было все равно. Он думал о Тане.
Она стояла на другой стороне улицы рядом с красным автомобилем и курила. Глаза Винченцо привыкали к солнечному свету. К движению повсюду. К небу, не заключенному в стены.
– Что это? – она кивнула на «феррари».
– Это для Юлии.
Они пристроили машину в багажник и поехали в детский сад.
Винченцо ждал в холле, пока Таня забирала Юлию из группы. Ему было не по себе, таким хрупким казался этот мир крохотных шкафчиков и скамеечек, миниатюрных крючочков для одежды и мультяшных зверушек.
Он нашел ее имя в списке – Юлия Бекер.
Имя показалось ему чужим. «Джулия Маркони было бы правильнее», – подумал Винченцо. Но в следующий момент почувствовал труднообъяснимую гордость за то, что она носит чужую фамилию. Вернее, облегчение, смешанное с надеждой, что девочка избежит проклятия, тяготеющего над его семьей.
Потом появилась она. Медленно, но без страха приблизилась к незнакомому мужчине. На Юлии был комбинезон из красного вельвета, руки в разноцветных пятнах краски.
– Это Винченцо, – представила Таня.
В глазах Юлии – смесь любопытства и скепсиса. Но какая же большая! Сердце Винченцо сжалось от стыда и любви.
Уже в машине она показала ему картинки, которые нарисовала пальцами. Все было естественно и просто – до неправдоподобия. Почти нормальная семья.
– А в Италии хорошо?
– Очень. Там всегда светит солнце.
– Мы поедем в Италию, мама?
– Да, конечно, когда вырастешь.
Они отправились в Олимпийский парк, к продавцам мороженого, горкам с трамплинами и прудам с весельными лодками. День выдался погожий, по-настоящему летний. Дул легкий ветерок, светило солнце. Винченцо внес «феррари» на горку, научил Юлию управляться с рулем и тормозами, и она, смеясь, покатила вниз. Винченцо бежал рядом, спотыкаясь и придерживая машину.
Теплый воздух, сухая трава, свет. Юлия смеялась: «Еще!» И они снова и снова бежали наверх. Она так расхрабрилась, что непременно заехала бы в озеро, не перехвати мать ее вовремя.
Таня явно переусердствовала, опекая дочь, но Винченцо не вмешивался. Он поднял Юлию в воздух и покружил, как на карусели. А потом еще подбросил несколько раз. Юлия визжала и смеялась, и мир вокруг искрился, пронизанный счастьем, – счастьем, которого так долго ждал Винченцо.
Таня их сфотографировала. Этот снимок так и остался единственным, где Винченцо и Юлия вместе.
Потом они отправились к Тане в редакцию. Там пахло чаем и гашишем – последний оплот анархии, прибежище инакомыслящих и карикатуристов, отголосок психоделического гитарного рифа в стране, которая давно танцевала под «новую волну».
Юлия подбежала к огромному столу, на котором лежал макет, – лоскутное одеяло из текстов, фотографий, комиксов. Плакат на стене с голубем мира призывал к демонстрации против политики Штрауса[160]. «Першинги», атомная энергия, истребление лесов – картинки из жизни другой планеты. Для Винченцо не имело значения, в чьих руках власть, пока она давала возможность работать и кормить семью.
– Винченцо… Ута…
– Очень приятно.
Художница была в линялой майке с «пацификом», в котором Винченцо вечно мерещилась эмблема «Мерседеса».
– Много о вас наслышаны.
– Мы работаем и живем вместе, – пояснила Таня.
Винченцо настороженно поднял брови.
– Мы коллеги, – успокоила его Ута.
– Да, конечно…
Таня рассмеялась.
– Почему ты смеешься? – спросила Юлия.
– Просто так, – ответила Таня.
Ута разлила по чашкам чай. Неловкое молчание нарушил Винченцо:
– Ну что, сегодня смотрим финал? Германия – Италия.
Таня и Ута обменялись взглядами, которых он не понял.
– М-м-м…
– Где ты собираешься жить? – спросила Таня. – У Джованни?
Вопрос прозвучал как пощечина.
– Не знаю… – пробормотал Винченцо.
– Может, дать тебе денег на отель?
Винченцо крепился из последних сил.
– Нет… не надо.
У него не было ни пфеннига.
Таня отвела его в сторону, чтобы Юлия не слышала.
– Винченцо, у нас дочь. Но это не повод думать, что мы семья.
– Конечно, – ответил он. – Ты имеешь право на собственную жизнь.
– Увидимся на выходных?
Он кивнул. Тишина в комнате стала леденящей, это почувствовала даже Юлия.
– Ой, смотри, как интересно! – закричала она, тыча пальцем в комикс про полицейских.
Винченцо обнял дочь:
– Мы скоро увидимся.
– Куда ты? – всполошилась Юлия.
– Винченцо будет жить у своего дяди, – объяснила Таня.
Он поцеловал Юлию в лоб:
– Ciao, amore.
– Ciao.
– Пока, – повернулся он к Тане.
– Пока… Ты уверен, что тебе не нужны деньги?
Но Винченцо уже вышел за дверь. На улице он несколько раз глубоко вдохнул. Мир кружился, будто кто-то выбил из-под его ног опору. Винченцо огляделся. Солнце уже скрылось. Он понятия не имел, где находится и куда теперь идти. Он даже не сообщил Джованни о своем освобождении, потому что хотел провести этот день только с Юлией и Таней.
Винченцо сделал пару шагов, почти столкнулся с мужчиной и сразу насторожился, когда тот вошел в редакцию. Винченцо заглянул в окно. Очевидно, этот патлатый бородач в арафатке[161] и сандалиях был из их компании. Он поставил на стол пакет, вытащил булочки. Потом поцеловал Таню. Она отвернула лицо, подставляя щеку, но уверенность, с которой бородач провел рукой по ее бедру, не оставляла сомнений.
Винченцо замер. Руки сами собой сжались в кулаки. «Черт, успокойся, ты не имеешь на нее никакого права. Она свободна. Прошло почти пять лет, и все это время с ней был он, не ты… Довольно симпатичный тип, между прочим… Отваливай, пока он тебя не заметил».
Но только он собрался отвернуться от окна, как бородач склонился к Юлии, протягивая ей крендель. Таня, заметившая Винченцо за стеклом, постаралась загородить ему обзор. Он видел, что она встревожена. Бородач же подхватил Юлию на руки и поднял в воздух. Рассмеялся, куснул ее крендель. Юлия заливалась смехом. Похоже, он и в самом деле ей нравился.
Таня забрала у парня дочь, но Винченцо уже стоял в дверях. Бородач вытаращился на него в недоумении.
– Послушай… – Таня шагнула к Винченцо, но он оттолкнул ее.
– Эй, ты… Мне все равно, что ты делаешь с Таней, но оставь в покое мою дочь.
– Угомонись, Винченцо…
Таня, не отпуская дочь, попыталась удержать его, но Винченцо стряхнул ее ладонь. До бородача начало доходить.
– Погоди… Только давай спокойно, старик, ладно?
– Я спокоен.
Винченцо подступил к нему, ухватил за воротник:
– Ты понял, что я сказал?.. Повтори.
– Эй, пусти меня! – завопил тот. – Что ты себе позволяешь?
Он пытался сбросить руку Винченцо, но тот держал мертвой хваткой. Таня поставила Юлию на пол и вцепилась в руку Винченцо.
– Послушай, тебя не было пять лет… Какие могут быть претензии?
– Она права, – прохрипел бородач.
Не обращая на него внимания, Винченцо повернулся к Тане:
– Сука.
Она была невозмутима. Зато ее приятель завелся, решив, что такое спускать нельзя. Он подступил к Винченцо:
– Хватит, ты понял? Показался и давай уматывай…
Он не договорил. Винченцо с силой толкнул его, патлатый налетел на шкаф, на пол посыпались книги. Таня прикрыла собой Юлию.
– Тебе нечего здесь делать! Вали отсюда, исчезни. Неудачник!
Таня снова попыталась втиснуться между мужчинами, но Винченцо уже не помнил себя от ярости. Он впечатал кулак в лицо бородача.
Тот рухнул на стол.
– Ты с ума сошел! – закричала Таня.
Винченцо взглянул на Юлию, в испуге жавшуюся к матери. Он уже готов был развернуться и уйти, но тут противник вскочил, вцепился в него и поволок к двери. Винченцо ударил его в живот. Бородач упал, увлекая его за собой. У женщин теперь не было шанса разнять дерущихся. Послышался треск ломающегося стула. Женщины закричали.
Таня утащила Юлию в угол комнаты. Ута набирала номер – кто бы ожидал такого от анархистов? – полиции.
Винченцо схватил телефон, но Ута уже успела продиктовать адрес. Танин приятель ударил Винченцо сзади ножкой от стула. Винченцо пошатнулся, бородатый запрыгнул ему на спину. Винченцо вывернулся, размахнулся. Бородатый рухнул на пол.
Винченцо содрогнулся, встретив взгляд Тани. Юлия в углу заходилась в плаче. Ута подскочила к поверженному коллеге, который корчился от боли. Глядя в полные ужаса глаза дочери, Винченцо понял, что совершил ошибку. Он хотел обнять девочку, объяснить, что ей нечего бояться, но Юлия отшатнулась.
– Больше ты к ней не прикоснешься, – процедила Таня.
Руки у нее тряслись. Послышалось завывание полицейской сирены. Он лихорадочно размышлял. Как только полицейские окажутся у дверей, ему уже не уйти. И Таня от него освободится уже навсегда.
– Через туалет! – прошипела Таня.
С улицы донесся визг тормозов, но Винченцо уже вылезал в окно туалета.
Он спрыгнул на землю и пустился бежать. И бежал, пока легкие не запылали от боли.
Глава 71
Джованни настраивал телевизор, когда ввалился Винченцо. В магазине были расставлены пластмассовые стулья, над прилавком с сырами свисал итальянский флаг. Первые зрители – гастарбайтеры возраста Джованни – уже ожидали начала матча.
– Винченцо! Святая Мадонна…
– Мне нужна твоя помощь, дядя Джованни.
У Винченцо была разбита бровь, разодрана рубашка. Из носа сочилась кровь.
– Но что за…
– Джованни, ни о чем не спрашивай. Просто помоги мне…
Джованни повернулся к гостям:
– Все в порядке. – И толкнул Винченцо к двери в бывшую мастерскую Джульетты.
Там все еще стояла швейная машинка. Пока Джованни искал, чем обработать раны, Винченцо вкратце пересказал, что произошло.
– У тебя и вправду талант, – проворчал Джованни, – абсолютно все пускать по ветру.
– Но почему я должен был терпеть это? – возмутился Винченцо. – Что подумала бы обо мне дочь?
– Зато теперь она думает, что ты зверюга. Браво!
– Черт, Джованни, что мне делать?
Не найдя ничего более подходящего, Джованни смочил граппой свой футбольный шарф и прижал к брови племянника.
– Я же за нее боролся, разве я могу теперь так просто сдаться? Это единственная семья, которая у меня есть.
– Чушь! – рявкнул Джованни. – Я – твоя единственная семья.
– Тогда скажи, что мне делать!
– Если хочешь знать мое мнение, Таня давно все решила. Поверь, последнее слово всегда остается за женщиной.
– Но это же мой ребенок!
– И что? Собираешься привлечь ее к суду? Они не доверят тебе девочку. Кто ты для немецкого судьи? Иностранец, безработный, да еще и бывший уголовник.
– Но я отец!
Винченцо вскочил. Джованни преградил ему дорогу к двери:
– Будь благоразумен, Винченцо. Они снова упекут тебя в тюрягу. Нанесение телесных повреждений – твой коронный номер, похоже.
– Это была драка, понимаешь? Более того, он начал первый. И оказался слабее. Разве я в этом виноват?
Джованни взял племянника за плечи:
– Тебе нужно уехать из Германии.
– Только вместе с Юлией.
– Ты хочешь ее похитить? Бог мой, Винченцо, спасай свою шкуру, с остальным мы разберемся позже. Подожди меня здесь. Я принесу тебе чистую рубашку. А потом мы поедем на Салину.
Винченцо в отчаянии затряс головой:
– Нет, Джованни, нет… Я не смогу сюда вернуться, если уеду.
Около десяти утра они стояли у перевала Бреннер. В фургоне, где Джованни обычно перевозил продукты, было темно и прохладно. Покрывало, под которым Джованни спрятал племянника, насквозь пропахло бензином. Машина тряслась, взбираясь по серпантину к австрийскому таможенному пункту. Винченцо услышал голоса. Снова разговоры о футболе. Похоже, с таможенником Джованни на короткой ноге.
Потом все заглушили вопли радиокомментатора. Следом раздались дикие вопли за стеной фургона.
– Три – один! Италия чемпион! – захлебывался комментатор.
Машина медленно пересекла границу, за которой ликовали итальянские таможенники.
Джованни стукнул в стенку кабины:
– Италия, Винченцо! Мы сделали это!
Винченцо плакал, скорчившись под вонючим покрывалом.
Глава 72
Десятилетия спустя лишь заброшенная парковка напоминала о том, что когда-то здесь был таможенный пункт. Грузовики проносились мимо, не останавливаясь. В новой Европе границ не существовало. У меня в голове царил хаос. История Винченцо уж слишком не стыковалась с тем, что рассказывала мне мать.
– И с тех пор ты ее не видел? – спросила я.
Винченцо покачал головой. Он вырулил на просторную пустую парковку и выключил мотор.
Сразу стало тихо. Лишь доносился гул с трассы. Над горами низко нависали серые тучи, по стеклам потекли струйки. Винченцо вышел из машины и какое-то время стоял под дождем. Нескончаемый автомобильный поток тянулся в сторону Бреннерского туннеля, через границу.
Я подошла к Винченцо:
– Мама говорила, что ты ее ударил.
– Нет. Неправда!
Сама я помнила только, как мы гуляли в парке, пронизанном солнечным светом. Дальнейшее тонуло в темноте.
– Я клянусь тебе.
– Значит, это она меня обманула. Зачем?
– Сама-то ты что-нибудь помнишь?
Я покачала головой:
– Помню только, что было страшно.
Он кивнул, как бы подтверждая, что у каждого своя правда. А мне подумалось, что наши воспоминания что-то вроде крепости, которую мы воздвигаем, чтобы защититься от самих себя. Я сочувствовала Винченцо.
– Так почему ты больше не приехал?
Он молчал.
– Не захотел за меня бороться?
Винченцо смотрел на меня потерянно:
– Ты была в надежных руках.
Это прозвучало как вопрос.
Я отвернулась, провела рукой по лицу. Меня потрясло отчаяние Винченцо.
– Я больше не доверял самому себе. А для твоей матери и вовсе стал источником угрозы.
Я взяла его за руку:
– А я думала, ты не хочешь нас видеть.
– Нет, нет… Спасибо, что приехала. Прости меня. Мне так жаль… Я не оправдываюсь. Но ты должна знать, что я всегда любил тебя и помнил.
Он сжал мою руку. По его щекам текли слезы – или дождь? Рядом стоял мой отец, но мне хотелось обнять его, словно это был маленький мальчик. Я обхватила ладонями его голову, и он прильнул ко мне, дрожа всем телом. Я тоже заплакала. Мне вдруг пришло в голову, что я впервые позволила себе то, на что никогда не решалась. Просто быть здесь и сейчас. До сих пор моя жизнь была устремлена в будущее, к успеху, который никак не приходил. Но требовалось мне на самом деле совсем другое.
И теперь все будто встало на свои места.
В машине я оглянулась на старую дорогу, петляющую между скалами. Если Джульетта была там и ее неупокоенная душа все еще металась между мирами, она должна была нас видеть. Ее любовь сопровождала нас все время.
На северной стороне Бреннерского туннеля разразилась гроза. Небо налилось густой чернотой. «Дворники» отчаянно мельтешили, не справляясь с потоками воды, будто мы очутились внутри гигантской автомойки. Я сидела за рулем. Отопление работало на полную мощность, но одежда высыхала медленно. И все-таки мы чувствовали себя как в надежной капсуле в нашей «машине времени». Оставалось каких-нибудь две сотни километров. Современность уже настигала нас, с каждой новой цифрой на счетчике. И груз прошлого становился все легче. Я отправила Кларе сообщение, что мы прибудем под вечер. Спросила, как состояние Винсента.
«Он ждет вас», – был ответ.
Когда пересекаешь границу Германии, возникает чувство, будто тут больше сила тяжести. Лица озабоченней, на всем печать мрачного беспокойства. Быть может, жизнь и в самом деле пригибает к земле немцев сильнее, чем другие народы? Или же на этот раз виноват мой страх, возраставший с приближением к цели?
Так или иначе, мюнхенская страница моей жизни была перевернута. Меня ничего не ждало в этом городе, и Винченцо к этому отношения не имел. У меня, как и у него, нажитое утекало сквозь пальцы, и не в моих силах было это изменить.
– Чем ты собираешься заниматься без своей фирмы? – спросил он.
– Понятия не имею. Джованни сказал, что итальянцы мастера делать хорошую мину при плохой игре. Это когда снаружи все выглядит великолепно, а внутри просто катастрофа. Он имел в виду тебя, но это лучшее описание моей жизни.
– Значит, дело в генах. – Винченцо грустно улыбнулся, я тоже. – Но знаешь, Стива Джобса тоже когда-то вышвырнули из собственной компании.
– Да, но он стал миллионером в тридцать лет.
– А еще через пару лет сделал «Эппл» богатейшим концерном мира.
– Откровенно говоря, мне не нужно никаких концернов. Все, что я хочу, – поселиться на каком-нибудь необитаемом острове.
– Ерунда. Сейчас ты больше всего хочешь удавить бывшего компаньона.
Винченцо попал в точку. Словами не выразить, как сильно я ненавидела Робина. Удар, который он нанес, выбил из-под моих ног землю, и я еще недостаточно оправилась, чтобы дать достойный ответ.
Но одно мне уже было ясно. В моей боли есть и отголосок давнишней раны. Жизнь движется по спирали, снова и снова возвращая нас к некоему исходному моменту. И вот теперь моя детская травма обернулась обманом, фикцией. Мой отец никогда не бросал меня и не умирал. Просто все это время он жил в другом месте.
Глава 73
На закате мы прибыли в Мюнхен. Винченцо включил радио, чтобы отвлечься. Бомбардировки Алеппо, беженцы в Средиземном море – действительность стремительно настигала нас. Он волновался. Я задавалась вопросом, насколько его переживания похожи на недавние мои. Сможет ли он простить отца? Никто из нас так и не затронул эту тему вслух.
Поначалу мне страшно не хотелось выходить наружу. Винченцо, похоже, тоже. На больничной парковке наша «машина времени» смотрелась как инородное тело, выпрыгнувшее из другого измерения. Мы с неохотой покинули этот теплый кокон и направились к дверям больничного корпуса.
Как же я ненавижу такие места. Бетонные крепости, пропитавшиеся болью. В больницах я всегда чувствую себя беспомощной и маленькой.
Медсестра за стойкой хотела отправить нас восвояси: приемные часы закончились. Я включила на полную свое обаяние. Все впустую. Винченцо в ярости пнул ногой мусорную корзину:
– Мы с дочерью проехали больше тысячи километров, чтобы проститься с моим отцом, который лежит при смерти. Плевать я хотел на ваши приемные часы!
После чего схватил меня за руку и потащил к лифтам. Я не могла не одобрить этот его поступок.
Палата Винсента оказалась пуста. Я подумала, что мы ошиблись дверью, но потом узнала его очки на прикроватной тумбочке. На вешалке висел пиджак Винсента. Постель разобрана. Я испугалась. Два дня, прошедшие с моего визита сюда, обернулись вечностью. Я, во всяком случае, стала совсем другим человеком.
Вошла медсестра. Удивилась, обнаружив нас, с любопытством посмотрела на Винченцо:
– Вы его сын?
Винченцо кивнул.
– Он ждал вас.
Мы замерли.
– Господина Шлевица оперируют.
– Что случилось?
– Возникли осложнения. Вам лучше расспросить главного врача. Он лично занимается господином Шлевицем.
– Насколько это опасно?
– Господин Шлевиц сильный. Я отвозила его в операционную и скажу вам: он выкарабкается.
Она улыбнулась, но мне стало не по себе.
– Где его дочь? – спросила я.
– Поехала домой, к детям. Всю ночь провела здесь. Вернется, как только сможет.
Ничего не оставалось, как ждать. Мы выпили кофе из автомата, позвонили в службу доставки пиццы. Я выросла на пицце глубокой заморозки. Потом появились арабские лепешки с мясом. Какие еще кулинарные изыски готовит нам будущее?
– Che schifo[162], – ворчал Винченцо, открывая коробку, доставленную мальчиком-индусом. – Это вы называете пиццей?
Тем не менее мы умяли все до крошки, запивая кофе из автомата. Больницы – последний бастион, не взятый еще соевым латте.
– Наверное, нужно позвонить Джованни и Розарии, – предложила я.
– Нет. Это касается только меня и… – Он кивнул в сторону операционной, не называя имени, и вдруг спросил: – Так что было в том письме?
– Не знаю. Я его не вскрывала. Но он очень хотел с тобой поговорить.
У Винченцо зазвонил мобильник. Кармела. Они разговаривали по-итальянски. Интересно, счастлив ли с ней Винченцо.
– Что было потом? – спросила я, когда он закончил говорить.
– Когда потом?
– Как у тебя сложилось с семьей? Как ты добился успеха? Ведь сейчас ты имеешь немало.
Винченцо задумчиво смотрел на меня.
– Этого не добиваются, – сказал он. – Это просто приходит. В конце концов, и мы сами – часть всего происходящего.
– Кармела тебя ждала?
– Нет, сразу выскочила замуж за какого-то строительного подрядчика из Палермо. Когда я вернулся, она не хотела меня знать.
– И что ты?
– Искал смерти.
Глава 74
Винченцо ушел от родных. Просто исчез, без следа. Он не хотел видеть ни родственников, ни знакомых, ничего из того, что напоминало бы ему, чем он мог бы стать в жизни. Он желал раствориться, стать никем, чужим среди чужих. Отвергнув первую родину, не спешил возвращаться и на вторую.
В Италии появилось частное телевидение, какой-то сумасшедший застрелил молодую пару, занимавшуюся сексом в «фиате», а новое немецкое правительство во главе с Гельмутом Колем платило иностранцам за то, чтобы они уезжали. Отступные составляли по десять тысяч пятьсот марок на каждого взрослого и по полторы тысячи на ребенка. Винченцо до всего этого не было никакого дела.
В Палермо он встретил механика из «Тарги», который сделал из его «альфы» гоночную машину. Вместе они отправились в Финляндию и за полярным кругом устроили ледовые ралли – на сумасшедшей скорости, по слепящей глади замерзшего моря.
С год Винченцо скитался по Европе в поисках гоночных контрактов, хватался за любые. Третья лига, отмороженные соперники – take the money and run[163]. Но он больше не стремился побеждать. Забыться – вот все, что ему требовалось. А ничто так не притупляет боль, как опьянение скоростью. Только за рулем ему и удавалось переместиться в настоящее и забыть о прошлом.
И он больше не любил автомобили. Он проклинал их, как алкоголик проклинает спиртное. Однажды слетел с трассы в заросли, расколошматил машину. Напарник сломал ногу, сам же Винченцо отделался парой царапин. Если он искал смерти, то она его – нет. Периоды между гонками оборачивались адскими муками.
Как-то раз один из пилотов попал в аварию и Винченцо удалось вскочить в престижную гонку, заняв его место. Влиятельная публика, вечная дуэль «Альфы» и «БМВ». Но если «Формула-1» – арена для честолюбцев, жаждущих мировой славы, то здесь был circus maximus[164]. Не гонки джентльменов, а битвы гладиаторов под вопли обезумевшей толпы. У него была машина прошлого года выпуска, контракт в независимой команде, вокруг – бездельники, не считающие денег. Винченцо был для них табула раса, никому не известный, не воспринимаемый всерьез.
Слава, семья, дети – это для других, для тех, кто цеплялся за жизнь. Винченцо – нет. В опасные моменты он тормозил мгновением позже. Рисковал при любой возможности. В последнем заезде даже не стал менять колеса, хотя все соперники заехали на пит-лейн. Гонка следовала за гонкой, «большой цирк» колесил по Европе. Винченцо ни разу не доехал до пьедестала, но ни разу и не сошел с дистанции. У него появилась репутация: звезд с неба не хватает, но цепкий.
В последнем чемпионате он снова выступал за «Альфу». Его «альфетта» давно пережила свои лучшие годы, болид заметно уступал новым БМВ. Но Винченцо в тот год гонялся как сам дьявол и к концу безумного сезона 1985-го оказался-таки на вершине пьедестала – венок на шее, серебряный кубок в руках. Все произошло быстрее, чем он успел в это поверить. Три года абсолютной беспросветности, между жизнью и смертью, и вот его имя в заголовках газет.
И вовсе не талант принес ему этот успех, а равнодушие к победе и отсутствие страха перед поражением.
Он вернулся на Салину и от причала пешком пошел домой. Стоял безветренный октябрьский день. Море было недвижно. Мать Розарии жила все в том же старом доме. Она приняла Винченцо без лишних вопросов и приготовила ossobuco[165]. После еды Винченцо отправился к морю, чувствуя себя свободным как никогда. Больше не нужно никому ничего доказывать. Венок он положил на могилу матери.
По телефону Винченцо вел переговоры с ведущими командами, все рвались заполучить его. Прежде всего, конечно, «Альфа-Ромео», но и «БМВ» тоже – честь, в представлении Винченцо, более чем сомнительная. Немцы предлагали трехлетний контракт и сумму вдвое большую, чем итальянцы. Винченцо и не мечтал о таком гонораре.
Вот уже в который раз ему предстояло выбрать между Германией и Италией. Джованни и Розария приехали из Мюнхена, чтобы поздравить племянника, устроили по этому поводу настоящее пиршество. Винченцо спрашивал себя, уж не пытаются ли родные так заглушить чувство вины перед ним?
И вдруг объявилась Кармела, без предупреждения.
– Auguri, Винченцо, – сказала она и поцеловала его.
Винченцо не мог оправиться от изумления. Он не сомневался, что Кармела вычеркнула его из своей жизни. И она изменилась – настоящая синьора. Дорогое платье, дизайнерская сумочка из Милана, прическа под Ким Уайлд[166]. Кармела выглядела как женщина, вполне устроившая свою жизнь, – пусть даже заплатить пришлось пустотой внутри.
– Что случилось, Кармела?
После захода солнца они устроились на развалинах каменной ограды. Ветер шелестел в траве. На мшистых камнях мелькали гекконы.
– Браво, Винченцо. Ты сделал это. Я всегда знала, что ты пробьешься.
– Разве ты на меня не злишься?
– Злилась. Очень. – Она вздохнула. – Даже прокляла тебя. Но месть – штука бесполезная, она не сделала меня счастливей.
– А я часто думал о тебе.
– Я думала о тебе намного чаще. – Она рассмеялась.
– У тебя есть дети? – спросил он.
Она покачала головой:
– Я сделала аборт.
– Почему? – удивился Винченцо.
– Он оказался свиньей.
– Мне жаль.
– Не о чем жалеть. Я не должна была выходить за него замуж.
Было ясно, почему Кармела пошла на этот брак. Потому что Винченцо опозорил ее перед всеми, отвергнув. И ей нужно было спасать свою честь.
– Ты все сделал правильно, Винченцо. Она – мать твоего ребенка.
– Она больше не хочет меня видеть.
Кармела была поражена. До сих пор она думала, что Винченцо счастлив с Таней.
– Я тоже все испортил. – Он поморщился.
– А знаешь что, – сказала Кармела, – тогда, на свадьбе Джованни, мы были такие юные, и жизнь лежала перед нами как чистая дорога…
Оба смотрели в пустоту перед собой и видели заросшее поле… первый поцелуй на каменных развалинах, перевернувший жизнь с ног на голову.
– А сейчас? – спросил Винченцо.
– А сейчас ни мне, ни тебе больше терять нечего, – ответила Кармела. – Так почему бы нам не начать все сначала?
Летом 1986-го они сыграли свадьбу, на том же самом поле. И поздно вечером, когда гости, сытые и пьяные, танцевали, уселись на развалинах. Он – в черном костюме. Она – в белом платье. Две марципановые фигурки на свадебном торте. Смотрели друг на друга и смеялись.
Винченцо последовал совету Нино Ваккареллы – покончил с гонками, пока те не покончили с ним. Отклонив все выгодные предложения, снял небольшую квартиру в Неаполе и устроился водителем-испытателем на завод «Альфа-Ромео». Никаких ралли, только обычные машины. Винченцо не мог допустить, чтобы его дети росли без отца.
Не сразу все заладилось. Только после вторых родов, в июне восемьдесят восьмого, Винченцо припарковал свой «альфасуд» под окнами их новой квартиры и открыл дверцу пассажирского сиденья. Кармела протянула мужу два свертка с любопытными черными глазами. В баре на углу фанаты болели за Италию против Германии, или наоборот. Винченцо было все равно. Он взял близнецов и поцеловал жену. Кармела пошла к двери. Она не видела, как плачет Винченцо.
Глава 75
Вероятно, слушая все это, я должна была испытывать нечто вроде ревности, но чувствовала только радость за Винченцо, у которого в конце концов все сложилось.
– Не знаю, – пожал он плечами. – Я никогда не забывал ни тебя, ни твою мать.
Нет, покоя он так и не нашел – я видела это в его глазах. Главное противоречие его жизни так и осталось неразрешенным.
– Ты когда-нибудь еще встречался с Энцо?
– Нет. Но Джованни как-то видел его.
– Когда?
– Давно. Здесь, в Мюнхене. Энцо работал в какой-то мастерской, чинил «веспы».
– Ты не хочешь с ним встретиться?
Винченцо покачал головой. Глаза стали холодными.
– Как думаешь, он еще здесь или вернулся в Италию?
Винченцо пожал плечами.
– Сейчас многие твердят о возвращении, вот и Джованни. Когда в девяносто втором в Ростоке горело общежитие для иностранцев, все поняли: это уже не наша страна. Но Розария тут все-таки прижилась, их дети лучше говорят по-немецки, чем по-итальянски. У них немецкие друзья, и они фанаты «Баварии». Даже сны видят по-немецки. Их родина здесь.
– А твоя?
Винченцо грустно рассмеялся.
– Родина? В итальянском языке нет такого слова, ты в курсе? А в немецком у этого слова нет множественного числа.
Он усмехнулся и отошел к автомату за новой порцией кофе.
– Я до сих пор влюбляюсь в немецких женщин… туристок, коллег… Быть может, в каждой из них я вижу Таню.
– А дети? Они знают о немецком дедушке?
– Нет. Но они поклонники Шумахера, Феттеля, Швайнштайгера, Озиля…
У меня зазвонил мобильник. Я и забыла о том, что мама знает, где я и с кем.
– Мы ждем, – коротко объяснила я. – Он на операции.
Она молчала. Я слышала, как в трубке гудит ветер.
– Я здесь, внизу.
Я подошла к окну. Мама стояла у входа. Одинокая фигура рядом с фонарем.
– Почему ты не заходишь?
– Он с тобой?
– Да.
– Тогда не буду вам мешать. Я только хотела…
Мама не договорила. Почему она не может оставить нас с Винченцо в покое? Я злилась и одновременно жалела ее.
Винченцо сделал знак, что мы можем поговорить без помех, и деликатно удалился.
– Я знаю, что он… – мама подыскивала слова, – что он многое понимает не так, как я… Он слишком темпераментный.
Я совсем не была уверена, что мама выбрала подходящее место для выяснения отношений. Но главное, я не понимала, чего она хочет.
– Дело не в том, что ты понимаешь так, а другой иначе. Просто правда всегда двулика.
– В отношениях, Юлия, вообще не бывает никакой объективной правды. Каждый в ловушке своей истории.
Сверху мама казалась такой маленькой.
– Ты всю жизнь защищала свободу. Но лишила меня возможности иметь на этот счет свою точку зрения.
Мамино молчание я истолковала как признание вины. Она долго просто смотрела вверх, держа мобильник возле уха.
– Значит, я потеряла тебя?
Возможно. Наши отношения и в самом деле дали трещину, которую вряд ли когда-нибудь получится залатать. С другой стороны, пытаться вычеркнуть мать из жизни не менее безнадежно, чем изменить свою историю.
В этот момент из дверей больницы вышел Винченцо, и мама опустила руку с мобильником. Они стояли друг против друга и молчали. Я прижимала телефон к уху и не слышала ничего, кроме ветра. Потом почувствовала себя ребенком, который подглядывает за родителями в замочную скважину, и дала отбой.
Винченцо что-то сказал, мама ответила. Что-то произошло между ними, я на расстоянии ощущала их волнение. Тридцать лет разделяло их – две жизни, две страны, две лжи.
Мама дала Винченцо сигарету, он протянул ей стаканчик с кофе. Оба посмотрели на меня. Я помахала им, они ответили.
Винченцо вернулся один.
– Ну как?
Он выглядел растроганным и немного растерянным.
– Она хочет, чтобы ты простила ее.
– Она все еще там?
– Нет.
Я взглянула на часы: уже заполночь.
– Она хорошо тебя воспитала. Такой дочерью, как ты, можно гордиться. Я сказал Тане спасибо.
Он сел рядом. Уж если Винченцо смог простить Таню, мне тем более следует это сделать. Я привалилась к его плечу и заснула.
В четвертом часу я проснулась. Было тихо, только где-то в отдалении слышались голоса. Винченцо спал. Я встала и вышла в коридор. За стеклянной дверью палаты интенсивной терапии горел яркий неоновый свет. Там стоял седой доктор в белом халате и рядом с ним женщина. Я узнала Клару. Доктор устало качал головой. Она смотрела на него не отрываясь.
Потом появилась ночная сестра. Принесла его вещи: портмоне, очки, шариковую ручку, бритвенные принадлежности. Никто из нас не решался их взять. Как будто тем самым мы признали бы свершившимся то, о чем боялись услышать. Винченцо выглядел совсем разбитым. Клара почти не разговаривала с нами, избегала смотреть на брата. Все были в шоке.
Наконец я решилась забрать у медсестры вещи, но Клара меня опередила. На пол упал листок. Медсестра нагнулась за ним и протянула мне. На сложенном листке было мое имя, выведенное знакомым каллиграфическим почерком.
Я подошла к окну и развернула листок.
Моя дорогая Юлия,
Сейчас меня увезут на операцию. Я обещал вас дождаться, но все произошло слишком быстро. Впрочем, доктор настроен оптимистично, и я рад, что сейчас вы на пути ко мне. Мне трудно выразить словами, как я был счастлив, узнав об этом.
Надеюсь, Винченцо разделяет мою радость. Как он воспринял мое письмо? Конечно, мне следовало бы рассказать об этом раньше. И не только ему, но и его отцу, который заботился о нем. Винченцо считал его убийцей. Марианна призналась в страшном поступке перед смертью. Как она могла пойти на такое и жить с этим столько лет, для меня одинаково непостижимо. Но мне хотелось бы, чтобы вы с Винченцо когда-нибудь простили и ее. Мне это вряд ли будет под силу.
Юлия, твоя бабушка Джульетта была самым прекрасным подарком из всех, которые когда-либо посылала мне жизнь. Те немногие дни, которые нам довелось провести вместе, я не забуду до смертного часа. Мы цепляемся за воспоминания, когда хотим удержать время, но в конце концов все равно ничего не остается. Кроме веры в любовь, которая вынесет любую ношу, даже на первый взгляд самую непосильную.
Долгое время я считал себя несчастным человеком, потому что потерял Джульетту. Теперь я счастлив, потому что ничто не мешает мне любить ее в оставшееся мне время, да и потом. Потому что Джульетта продолжает жить в тебе.
Твой дедушка Винсент
– Что он пишет? – спросила Клара.
– Ничего особенного, – ответила я и сложила листок.
Глава 76
За лужайкой на школьном дворе играли дети. Мы – Винченцо, Джованни и я – стояли у панорамного окна Зюдбада[167] и смотрели на пловцов. Их было немного. Полдень – время пенсионеров.
Он тоже бывал здесь каждый понедельник – немецкий пенсионер с итальянским паспортом, из уже почти забытого поколения гастарбайтеров. Он помогал молодым итальянцам с оформлением документов и по воскресеньям ходил на мессу – в общем, вел жизнь, которую едва ли можно назвать бурной.
Время от времени Джованни слышал о нем, даже когда они избегали друг друга. Пловцы в шапочках похожи как близнецы, но когда он подплыл к краю бассейна передохнуть, я его узнала, хотя и видела впервые. Невысокий коренастый сицилиец с кустистыми бровями. Джованни постучал по стеклу. Энцо снял очки и посмотрел в нашу сторону.
Трудно было угадать, что с ним в этот момент происходило. Энцо вытерся полотенцем, надел халат и двинулся к выходу. Он оказался даже ниже, чем я себе представляла, – неуклюжий медведь, добродушный и одинокий. Он остановился поодаль и подозрительно уставился на меня. Мужчинам требуется время, чтобы сквозь толщу сорока лет разглядеть, что еще осталось от их прошлого.
Энцо все смотрел на меня.
– Ciao, papa, – сказал Винченцо.
– Ciao, Винченцо, – сказал Энцо.
Джованни не проронил ни слова. Был слишком растроган, и слишком сильно на него давило чувство вины за то, что столько лет несправедливо обвинял мужа своей сестры в страшном преступлении.
Джованни подпихнул Винченцо локтем. Тот подошел к отцу и обнял его. С виду Энцо остался почти невозмутим, обнимая сына, но глаза его были по-прежнему устремлены на меня.
– Это Юлия, твоя внучка, – сказал Винченцо.
Энцо приблизился ко мне, протянул руку:
– Энцо.
– Юлия.
Он не отпускал мою ладонь.
– Покажи ему письмо, – велел мне Джованни.
Я протянула Винченцо письмо. Энцо достал из кармана халата очки.
В этот момент в двери ворвалась толпа школьников. Шум, крики, плеск воды наполнили зал.
Энцо дочитал и вернул мне листок. Никто из нас ничего не говорил. Энцо долго молчал, глядя на детей в воде, потом вдруг сказал:
– Она тоже была матерью.
Глава 77
Два года спустя
Энцо хотел быть похороненным в земле, которая заменила ему родину. Все эти годы немецкое государство относилось к нему лучше, чем родная семья. Гастарбайтеры и их дети стали «людьми с миграционным прошлым», и политики именовали Германию «государством переселенцев» – каковым она, безусловно, и является, хочет того или нет. Когда Джованни в первый раз прибыл в Мюнхен, итальянские рестораны в городе можно было пересчитать по пальцам. Сегодня их около семисот.
Но и Италия изменилась тоже. В заброшенных домах сицилийских деревушек живут переселенцы из Туниса, с противоположного берега Средиземного моря. Европа стоит на распутье – древний континент в поисках своего нового «я».
– Мы, турки, новые итальянцы, – сказал на похоронах мастера бывший ученик Энцо. – А арабы – новые турки.
Я спрашиваю себя, когда же наконец мы вообще перестанем интересоваться местом происхождения человека. С другой стороны, возможно, потребность в таком знании заложена в нас генетически и не в нашей власти ее отменить.
«Дерево без корней бесплодно», – так говорила Джульетта, и она была совершенно права. С тех пор как я обрела семью, все пошло в гору словно само собой. Я открыла собственное ателье неподалеку от лавки Джованни, за углом. Пусть небольшое, зато только мое. Я больше не летаю по всему миру. Работаю в основном с местными портнихами и клиентами, шью одежду по индивидуальным заказам. За количеством не гонюсь, зато каждую вещь делаю с любовью.
Откуда у меня деньги, спросите вы. Только не от Винсента. На его наследство я не имею никакого права, в отличие от Клары и ее сестры. Даже Винченцо отказался от своей доли. «Слишком поздно», – сказал он.
Клара была так удивлена, что подарила ему отцовскую «ИЗО-ривольту». Все равно она не знала, что делать с этой «итальянской коробкой». Винченцо не стал объяснять сестре, сколько стоит ее подарок, – гораздо больше, чем новый «мазерати».
«ИЗО-ривольту» он отдал мне, это и стало моим стартовым капиталом. Я получила второй шанс и теперь занимаюсь тем же, чем и раньше, разве что несколько по-другому. Набрасывая эскиз платья, я ощущаю рядом присутствие Джульетты и ее поддержку. Их с Винсентом миланская фотография висит у меня в ателье.
И да… у меня часто бывает Марко. Все произошло быстро. Даже слишком быстро, я бы сказала. Марко замечательный человек, быть может, первый, кому я стала доверять по-настоящему. Сегодня мы ездили на ультразвуковое обследование на его «веспе». Доктор сказал, что будет девочка. На свадьбу нет времени, хотя Джованни уже пообещал всему кварталу закатить пир в нашу честь.
Винченцо и Кармела официально в разводе, но живут вместе. Мы часто переговариваемся по скайпу. В последний раз к нам присоединилась Таня. Он, конечно, приедет в Мюнхен на роды и на некоторое время останется здесь. Представляю, как они будут спорить, кому нянчиться с девочкой.
Теперь я знаю, чего раньше боялась на самом деле. Не семьи как таковой, а продолжения в потомстве неупорядоченности моей собственной жизни. Но страх всегда проистекает от незнания. И самое большое заблуждение состоит в том, что мы должны все устроить собственными силами. Но в действительности нас несут на своих плечах наши близкие. И книгу своей жизни мы пишем не одни, а в соавторстве с теми, кто нас окружает. А продолжать ее дано нашим детям.
– Как вы ее назовете? – спросил врач.
Мы с Марко не сомневались ни секунды:
– Джульетта.
Примечания
1
Спокойно, синьора, спокойно (ит.).
(обратно)2
На банкноте в 50 марок изображен один из крупнейших архитекторов эпохи барокко Бальтазар Нейман (1687–1753). – Здесь и далее примеч. ред.
(обратно)3
«Доброе утро», «добрый день» (ит.) – приветствие, принятое среди итальянцев в первой половине дня.
(обратно)4
Перевод Б. Пастернака.
(обратно)5
Рудольф Шурике (1913–1973) – немецкий эстрадный певец, автор главного шлягера 1950-х «Капри-рыбаки».
(обратно)6
Главный инженер Эрменегильдо Прети, конструктор доктор Марко Гобини, инженер Пьерлуиджи Радджи – наш технический гений, Джанфранко Сасси – инспектор сборочной линии (ит.).
(обратно)7
Простите, начальник (ит.).
(обратно)8
Вот, начальник (ит.).
(обратно)9
Невозможно! (ит.)
(обратно)10
Черт возьми (ит.).
(обратно)11
До свидания (ит.).
(обратно)12
Южане, понимаете? (ит.)
(обратно)13
И вправду красиво, синьора (ит.).
(обратно)14
Сколько? (англ.)
(обратно)15
Четыре тысячи девятьсот пятьдесят лир (ит.).
(обратно)16
Конечно, синьор (ит.).
(обратно)17
Ушла домой (ит. и искаж. англ.).
(обратно)18
Мы не сицилийцы с Сицилии, мы эолийцы (ит.).
(обратно)19
Это действующий вулкан (ит.).
(обратно)20
Капоната, спагетти «алла путтанеска», вителло тоннато – традиционные итальянские блюда.
(обратно)21
Революция, во всей Сицилии (ит.).
(обратно)22
Остров у побережья Нью-Йорка, куда прибывали суда с мигрантами.
(обратно)23
Честный человек (ит.).
(обратно)24
Дирндль – женский национальный костюм альпийских немцев.
(обратно)25
Краути – просторечное название немцев в итальянском языке. От krauti – капуста.
(обратно)26
Экономическое чудо (нем.).
(обратно)27
Такие хорошие ригатони с анчоусами! Мы не едим дома миланскую кухню! Представляете, они едят рис. Но не мы! Мы хоть раз в неделю едим рыбу. Морские души! (ит.)
(обратно)28
Как «изетта» повела себя в Германии? (ит.)
(обратно)29
«Изетта» хорошо (ит.).
(обратно)30
Ты любишь пасту? Вкусно? (ит.)
(обратно)31
Да, вкусно (ит.).
(обратно)32
Доктора (ит.).
(обратно)33
Вода, масло, бензин (ит.).
(обратно)34
Фракция Красной Армии (РАФ, RAF – нем. Rote Armee Fraktion) – немецкая леворадикальная террористическая организация, действовавшая в ФРГ и Западном Берлине с 1968 до 1998 г., когда было официально объявлено о ее роспуске.
(обратно)35
Доля рынка (англ.).
(обратно)36
О, прости, я думал, что ты из семьи. Ты итальянка? (ит.)
(обратно)37
Твоя девушка? (ит.)
(обратно)38
Дедушка (ит.).
(обратно)39
Никто (ит.).
(обратно)40
Святой боже… (ит.)
(обратно)41
Что такое? (ит.)
(обратно)42
Дочка Винченцо (ит.).
(обратно)43
Здесь: надо же (ит.).
(обратно)44
Святой Христос (ит.).
(обратно)45
Сколько лет прошло? (ит.)
(обратно)46
Тридцать, сорок?.. (ит.)
(обратно)47
Это Джулия. Поздоровайся с Джулией (ит.).
(обратно)48
Вкусно, правда? (ит.)
(обратно)49
Негодяй (ит.).
(обратно)50
Свадьба на Салине (ит.).
(обратно)51
Боже мой! Невероятно! (ит.)
(обратно)52
Да… да, конечно (ит.).
(обратно)53
Бравого парня (ит.).
(обратно)54
Перевод В. Левика.
(обратно)55
Голова (ит.), здесь: начальник.
(обратно)56
Герой фильма Жюля Дассена «Мужские разборки» (1955) по роману Огюста Ле Бретона.
(обратно)57
Итальянский трансатлантический лайнер. В 1956 году затонул при столкновении с лайнером «Стокгольм» у побережья Нью-Йорка. Спасение его пассажиров признано самой успешной спасательной операцией в истории мореходства.
(обратно)58
Вольфсбург – известен как город, где находится штаб-квартира компании «Фольксваген». Гельзенкирхен в прошлом – центр горноперерабатывающей промышленности, известен угольными месторождениями.
(обратно)59
Кровь (лат.).
(обратно)60
Поздравляю (ит.).
(обратно)61
Да, да. Очень счастлива (ит.).
(обратно)62
Восхитительный ребенок. Такой умный (ит.).
(обратно)63
Джульетта теперь мать. Все кончено. Кончено, понимаешь? (ит.)
(обратно)64
Только Винченцо. Всегда Винченцо (ит.).
(обратно)65
Джотто Биззаррини – итальянский инженер, основатель компании по производству штучных спортивных автомобилей.
(обратно)66
Автомобильная подвеска – часть системы подрессоривания, совокупность деталей, узлов и механизмов, играющих роль соединительного звена между автомобилем и дорогой, часть шасси. Подвеска «Де Дион» создана графом Альбером де Дионом в конце XIX века.
(обратно)67
«Бертоне» – итальянская автомобильная компания, специализировавшаяся на производстве автомобилей и разработке дизайна кузовов. Названа по имени Джованни Бертоне, основавшего компанию в 1912 году.
(обратно)68
Джорджетто Джуджаро (р. 1938) – итальянский автомобильный дизайнер.
(обратно)69
355 лошадиных сил, 5,4 литра, 8 цилиндров и пятиступенчатая коробка передач, автоматическая (ит.).
(обратно)70
Привет, Винченцо, как дела?! (ит.)
(обратно)71
Миланская фирма, производитель колес. Основана в 1922 году.
(обратно)72
Заводи! (ит.)
(обратно)73
Бизнесмен… с современным домом (ит.).
(обратно)74
Падре Пио, Пио из Пьетрельчины, в миру Франческо Форджоне (1887–1968) – священник и монах из ордена капуцинов, католический святой. Знаменит стигматами и совершением чудес. Канонизирован в 2002 году папой Иоанном Павлом II.
(обратно)75
Это Джованни из Мюнхена. Как дела? (ит.)
(обратно)76
Неброди – национальный парк на Сицилии. Черная свинья Неброди – особая порода диких свиней, знаменитая своим мясом.
(обратно)77
Ничего фабричного (ит.).
(обратно)78
Штахус (официально Карлсплатц, или Карлова площадь) – площадь в центре Мюнхена.
(обратно)79
Да ладно… (ит.)
(обратно)80
Из психоделического мюзикла «Волосы» (слова Джеймса Рэдо и Джерома Раньи).
(обратно)81
Бедняги (ит.).
(обратно)82
Черт возьми (ит.).
(обратно)83
Карабинеры – полицейские в Италии.
(обратно)84
Дерьмо! (ит.)
(обратно)85
Наворотили они тут! (ит.)
(обратно)86
Добро пожаловать в Италию! (ит.)
(обратно)87
Слушаю (ит.).
(обратно)88
Кармела, приветствую. Это я, Джованни. Джованни? Что ты тут делаешь? Винченцо дома? (ит.)
(обратно)89
Ты красива, как всегда (ит.).
(обратно)90
Дочка Винченцо? (ит.)
(обратно)91
Я позвоню ему (англ.).
(обратно)92
Выпьете что-нибудь? (ит. и англ.)
(обратно)93
Винченцо придет. Не волнуйтесь (англ.).
(обратно)94
Винченцо – шизофреник.
(обратно)95
Произвести хорошее впечатление (ит.).
(обратно)96
Как он прекрасен, Неаполь (ит.). Из песни Клаудио Маттоне, одной из самых знаменитых серенад, посвященных Неаполю.
(обратно)97
Банда преступников! (ит.)
(обратно)98
Gastarbeiterkind (нем.) – ребенок гастарбайтеров.
(обратно)99
Песня Боба Дилана из альбома John Wesley Harding, блестяще перепетая Джими Хендриксом на пластинке 1968 года Electric Ladyland.
«Отсюда надо путь найти, – так вору шут твердил, — Здесь все смешались языки, спасения не жди. Торговцы пьют мое вино, крестьяне на земле моей, Из них не думает никто о ценности вещей». «Причины нет, – ответил вор, – расстраиваться так, Считают многие из нас, что жизнь смешной пустяк. Все это мы с тобой прошли, удел сей не для нас, Пустой окончим разговор, ведь очень поздний час». А с Башни, со Сторожевой, правители следили, Как мимо женщины идут и слуги их босые. Кот дикий где-то далеко свой рык издал, А двое конных приближались, ветер завывал.(Перевод Евгения Гальцева.)
(обратно)100
Фасолевый суп (ит.).
(обратно)101
Здесь: Осознал? (ит.)
(обратно)102
Поздравляю, Винсент, поздравляю (ит.).
(обратно)103
Освободи свое сознание (англ.).
(обратно)104
Мюнхен (ит.).
(обратно)105
Кёльн (ит.).
(обратно)106
Панеттоне (ит.) – итальянский рождественский пирог с засахаренными фруктами, родом из Милана.
(обратно)107
Добро пожаловать (ит.).
(обратно)108
Продается (ит.).
(обратно)109
Куда идешь? (ит.)
(обратно)110
Дебил, придурок (ит.).
(обратно)111
Здесь: Прости-прощай (ит.).
(обратно)112
Какая красивая машина (ит.).
(обратно)113
Не для школы, а для жизни (лат.).
(обратно)114
Йозеф фон Эйхендорф. «Лунная ночь». Перевод Лии Мещуровой.
(обратно)115
«Паста с фасолью» (ит.), традиционный итальянский суп.
(обратно)116
«Сырный еж» – оформленный в виде ежа десерт из сыра, овощей и фруктов.
(обратно)117
«Тминный турок» (нем. Kummelturke) – выражение из лексикона студентов XVIII века. Первоначально – студенты из городских окраин и предместий, называемых на студенческом сленге «Турцией». В настоящее время используется в том числе и как обозначение настоящих турок, переселившихся в Германию.
(обратно)118
Шоу должно продолжаться (англ.).
(обратно)119
Kruzitürken – от нем. Kruzifix – распятие, Turke – турок. В современном немецком языке ругательство: плут, прощелыга.
(обратно)120
«Тут узнаю своих я паппенгеймцев» – реплика из трагедии Ф. Шиллера «Смерть Валленштейна», ставшая поговоркой.
(обратно)121
Песня Джея Ливингстона и Джея Эванса. Впервые прозвучала в исполнении Дорис Дэй в фильме Альфреда Хичкока «Человек, который слишком много знал» (1956).
(обратно)122
«Сладкое безделье» (ит.). Первоисточник выражения – восьмое письмо Плиния Старшего.
(обратно)123
Хольгер Майнс, Андреас Баадер, Ян-Карл Распе – основатели РАФ. Днем рождения организации считается день побега Андреаса Баадера из тюрьмы, который он совершил при содействии журналистки Ульрики Майнхоф. В прессе также закрепилось название «группа Баадера – Майнхоф».
(обратно)124
Разновидность мопеда.
(обратно)125
Песня группы «Роллинг Стоунз».
(обратно)126
Инженера «изетты».
(обратно)127
Что ты говоришь! (ит.)
(обратно)128
Здесь: было приятно (ит.).
(обратно)129
Песня американского музыканта Джима Кроче «Время в бутылке» с его дебютного альбома (1972).
Если бы я мог спрятать время в бутылку, То первое, что бы я сделал, — Спрятал бы туда все дни до конца времен, Чтобы просто прожить их с тобой(англ.).
(обратно)130
Если бы я мог заставить дни не кончаться, Если б слова обращали желанья в реальность, Я сохранил бы каждый день-драгоценность, Я снова проводил бы их с тобой(англ.).
(обратно)131
Убийца! (ит.)
(обратно)132
«В случае сомнения – в пользу обвиняемого» (лат.).
(обратно)133
Хит 1974 года в исполнении Удо Юргенса.
(обратно)134
Теодор Фонтане (1819–1898) – немецкий писатель-реалист.
(обратно)135
Рио Райзер (Ральф Христиан Мёбиус, 1950–1996) – немецкий рок-музыкант и политический активист. Влиятельная фигура в немецкой рок-музыке и левом политическом движении Германии. С 1970 года открытый гомосексуал.
(обратно)136
Городская герилья (Guerrilla urbana, исп.) – название тактических методов партизанской войны с заведомо превосходящими силами противника в городских условиях.
(обратно)137
Прекрасная машина! Мои поздравления, синьора! (ит.)
(обратно)138
Радикальные группировки коммунистического толка в Италии в 1960–1970 гг.
(обратно)139
Энрико Берлингуэр (1922–1984) – итальянский политик, секретарь Коммунистической партии (1972–1984); Джакомо Фельтринелли (1926–1972) – итальянский общественный деятель левого толка, издатель, политик.
(обратно)140
Склад (ит.).
(обратно)141
Ты должен на ней жениться. Хватит валять дурака (ит.).
(обратно)142
Здесь: молодец! (ит.)
(обратно)143
Невеста (ит.).
(обратно)144
Герой романа И.-В. Гёте «Годы учения Вильгельма Мейстера».
(обратно)145
Мы приличная семья (ит.).
(обратно)146
Вики Леандрос, наст. имя Вассилики Папатанассиу (р. 1949) – певица греческого происхождения. Победительница конкурса «Евровидение» 1972 года.
(обратно)147
«Газета Сицилии» (ит.).
(обратно)148
Золотая молодежь (фр.).
(обратно)149
Удачи (ит.).
(обратно)150
Йошка Фишер (р. 1948) – немецкий политик из Партии зеленых, бывший министр иностранных дел в Германии. В конце 1960-х – начале 1970-х участвовал в леворадикальном движении, но когда ультралевые перешли к насилию, отошел от них.
(обратно)151
«Борьба продолжается» (ит.) – итальянское леворадикальное движение, действовало с 1969 по 1976 год.
(обратно)152
Паста в виде «ушек» с тушеной рыбой и рулетики из кальмаров с диким укропом (ит.).
(обратно)153
Смерть «Тарги» (ит.).
(обратно)154
Нечто невероятное! (фр.)
(обратно)155
Похищение и последующее убийство Ханнса Шлейера, бывшего нациста, члена Христианско-демократического союза и президента Ассоциации немецких работодателей, произошло в конце 1977 года.
(обратно)156
Хорошо (ит.).
(обратно)157
Альдо Ромео Луиджи Моро (1916–1978) – председатель совета министров Италии в 1963–1968 и 1974–1976 гг., был похищен в 1978 году радикалами из «Красных бригад», впоследствии расстрелян.
(обратно)158
И.-В. Гёте. «Святая тоска».
(обратно)159
В Германии принята шестибалльная система оценок, в которой единица – высший балл.
(обратно)160
Франц Йозеф Штраус (1915–1988) – западногерманский политический и государственный деятель, один из лидеров баварской партии «Христианско-социальный союз».
(обратно)161
Кафия – арабский мужской платок.
(обратно)162
Ужасно (ит.).
(обратно)163
Хватай деньги и езжай (англ.).
(обратно)164
Большой цирк (лат.).
(обратно)165
Традиционное итальянское блюдо, тушеная голяшка с овощами.
(обратно)166
Ким Уайлд (р. 1961) – британская поп-певица, пик популярности которой пришелся на 1980-е годы.
(обратно)167
Бассейн в Мюнхене.
(обратно)


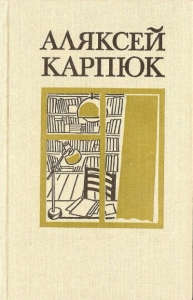





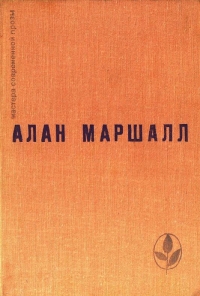

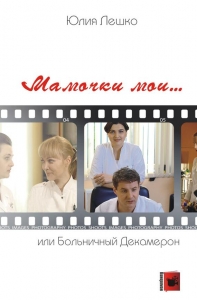

Комментарии к книге «Bella Германия», Даниэль Шпек
Всего 0 комментариев