Бенджамин Кункель Лекарство от нерешительности
«п + 1» посвящается [1]
Кто-то скажет: «Решимость совершить тот или иной поступок может появиться лишь в определенных жизненных обстоятельствах…» Она появится тогда, когда появится, — насилие над собой тут неприемлемо.
Витгенштейн, «Философские изыскания»Пролог
Лишь когда заложило уши — самолет шел на посадку, внизу мигали огни славного города Боготы, который, впрочем, с воздуха мог сойти за любой другой город, — лишь когда заложило уши, я оторвался от страницы, занимавшей мои мысли в течение всего полета, и стал думать о девушке — или, вернее, женщине, подруге — или, точнее, знакомой — по имени Наташа: ради встречи с ней я и прилетел в такую даль. В то время я вообще не мог думать о будущем, пока не сталкивался с ним нос к носу.
Скажу больше: тогда каждый считал своим долгом ткнуть в мою прямо-таки бьющую в глаза Двайт-ственность; действительно, я был словно привит от обстоятельств места и времени. «Двайт, старина, да ты все тот же, чтоб тебя!» — в один голос восклицали однокашники. «Двайт, как я рада тебя видеть! Ты совсем не изменился!» — по очереди квохтали мамины приятельницы. Да что там приятельницы — мама сама нет-нет, да и выражала свое полное с ними согласие. И я знал: это не просто слова, иначе пришлось бы согласиться с одним из двух утверждений: а) они сговорились; б) налицо полнейшая коллективная некомпетентность в вопросах выявления личностных характеристик окружающих. Оба утверждения я как человек, окончивший философский факультет и веривший, что если большинство людей утверждает нечто, значит, это действительно так (или почти так), имел основания считать несостоятельными. Я никогда не углублялся в эти (равно как и во все остальные) вопросы философии больше, чем на «трояк» — «трояка» достаточно в наш век безудержной инфляции высшего образования, — однако данное обстоятельство не мешало мне думать о себе как об очень предусмотрительном индивидууме. В этом мнении меня поддерживали не только результаты беспристрастных изысканий, но и моя личная патологическая покладистость, благодаря которой я всегда был в прекрасных отношениях со всеми и с каждым.
Мне очень неудобно, что повествование о важных обстоятельствах, изменивших мою жизнь, я начинаю столь невразумительно, тем более что в этом повествовании, помимо секса и наркотиков (пропорция в пользу последних), а также моих заключительных рекомендаций читателю, немало данных о весьма специфических ощущениях. (Самолет снижался. Плакали дети. Парень справа от меня разрисовывал в бизнес-журнале статью о Колумбии: в художественном беспорядке на полях расцветали синие Nota bene, текст располосовывали энергичные подчеркивания.) Я отрешенно смотрел в окно. Многие, должно быть, полагали, что я вообще никогда не менялся; мне же казалось, что я каждый раз с головой погружаюсь в окружающую обстановку, успешно мимикрирую. В тот момент я висел в абсолютной пустоте, готовый погрузиться, как только станет ясно куда.
Еще пять часов назад я был в Нью-Йорке. В Нью-Йорке я прожил четыре с лишним года, львиную долю этого времени — в центре, на Чемберз-стрит, с тремя другими разгильдяями. Периодически появлялся четвертый, точнее, включая меня, пятый, — он не сдал ключ и имел привычку вваливаться без предупреждения и оккупировать наименее раздолбанную на тот момент кровать. Конечно, я не насовсем улетел из Нью-Йорка, я планировал вернуться максимум через десять дней. Я нарочно не застелил постель, рассчитывая, что развороченное одеяло будет создавать эффект моего присутствия или по крайней мере напоминать о моем скором возвращении. Кроме того, у нас намечался вечер встречи выпускников, на который мне необходимо было успеть и с подготовки к которому история с Наташей, собственно, и началась.
Как и Наташа, в подготовительной школе при университете Святого Иеронима я был в более или менее приятельских отношениях с несколькими, по самым скромным подсчетам, сотнями учеников; поэтому, когда настала весна 1992 года — последняя наша школьная весна, — меня выбрали агентом по делам выпуска. (Злые языки утверждали, что среди настоящих избирательных бюллетеней циркулировали и издевательские; я даже признаю, что пересчет голосов занял целый день, но в конце концов результаты голосования были перепроверены, и я вышел победителем.) Избрание на должность агента по делам выпуска означало, что я до конца дней своих несу ответственность за сбор средств, организацию вечеров встреч и тому подобные мероприятия; именно в должности агента по делам выпуска, неожиданно хлопотной, мне и пришлось разослать по электронной почте всем однокашникам напоминание о десятой годовщине окончания школы. Агент по делам выпуска, забывший об этой своей обязанности, считается полным лузером, который просто-напросто боится показаться на глаза более успешным товарищам. Кое-кто в ответных письмах с сожалением констатировал невероятную занятость (см. выше); единственной, кто ответил, что, возможно, и приедет, оказалась Наташа.
Случилось так, что моя сестра Алиса позвонила практически сразу после того, как я получил это совершенно потрясшее меня сообщение. Найдя желание Алисы возобновить искреннее общение со мной очень милым, я в качестве ответного жеста прочитал ей Наташино письмо, которое могло быть недвусмысленно истолковано как приглашение приехать к ней в Кито.
— А Кито — это где? Я вот думаю, не съездить ли.
Город Кито (для тех, кто не знает) оказался в Эквадоре, который, в свою очередь, оказался в Южной Америке. Это мне сообщила Алиса, я же начал пространно объяснять — причем далеко не в первый раз, по ее словам, — что время от времени думаю о Наташе, с которой Алиса дружила в детстве, хотя и была немного старше.
— Двайт, скажи честно: почему тебя вечно тянет на иностранок? — перебила Алиса.
Действительно, Наташа — голландка. А Ванита родом из Индии. Действительно, я иногда спал с Ванитой — в смысле рядом с Ванитой. В последнее время я все больше укреплялся во мнении, что чужая душа — потемки; женщина никогда не казалась мне менее чужой в процессе самого полового акта, чем во время поцелуев, если таковые имели место.
— Не знаю… Просто когда я с иностранкой…
— Ну-ну, продолжай.
— Тогда по крайней мере ее для меня непонятность имеет хоть какое-то логическое объяснение.
Алиса, немного похожая внешне на Наташу (на случай, если вы об этом подумали; я же старался никогда об этом не думать), полуснисходительно фыркнула в трубку. Однако часа через два она перезвонила и загадочным голосом произнесла:
— Поезжай, Двайт. Обязательно поезжай!
— Откуда такая уверенность? Погоди, я поищу монетку.
Я принялся шарить по карманам в поисках китайской гадательной монетки. Этими монетками меня снабдила мама, чтобы я разрешал сложные ситуации по научному, с помощью «Книги Перемен». Я же не заморачивался на гексаграммах, полагая, что простое численное превосходство орлов или решек уже дает исчерпывающее руководство к действию. В первый раз выпал орел. Орел плюс Алисино напутствие — я чувствовал, что поехать стоит. Однако я подбросил монетку и второй, и третий раз. Я знал: чем больше у меня будет результатов проб, тем выше вероятность принятия правильного решения. Мне правда стоит поехать? Дать однозначный ответ я сумею только после того, как действительно съезжу в Кито. Когда я в пятый раз подбрасывал монетку, Алиса все еще была на линии.
— Тебе лечиться надо, — сказала она.
— Болезнь еще не перешла в критическую стадию, — отвечал я. В этот момент снова выпал орел. — Ну вот, орел, а значит…
— Ты что там, опять фигней страдаешь?
— …а значит, я еду.
Однако еще в течение пяти дней после того, как я купил билет в Кито с посадкой в Боготе, я слонялся из квартиры в забегаловку, из забегаловки в универмаг, из универмага в ресторан, из ресторана в парк. Я избегал только одного места — места своей бывшей работы. И все это время я практически не думал о Наташе.
Сначала пришло письмо по электронке. Потом монеты дружно падали орлом вверх. Потом меня уволили из «Пфайзера». В свете последнего события приближающаяся поездка приобрела новый смысл — по крайней мере скоро мне не нужно будет думать, куда себя девать. Мне казалось, что утром я откупорю крохотный пузырек, из которого струйкой выползет наконец некая цель, и я вдохну эту струйку — а то уже и сбережения мои подошли к концу, и кредит я почти исчерпал. Бессознательно (подсознательно) я даже хотел, чтобы какие-нибудь непредвиденные расходы на поездку оставили меня совсем без гроша и, соответственно, без альтернативы, лететь или не лететь. А может, у меня сложилось впечатление, будто вопрос «Что делать?» навис надо мной, как какая-нибудь Платонова форма; мне казалось, я сумею дать на него вразумительный ответ (не исключено, что этим ответом будет сама Наташа) именно в Эквадоре и именно в ее обществе.
Самолет с грохотом выпустил шасси над посадочной полосой аэропорта Боготы.
В Наташе меня с самой первой встречи восхищала способность легко адаптироваться к любым обстоятельствам. Наташа училась с нами с пятого класса. Едва приехав в США, она уже играла в лакросс[2] так, будто в Голландии все только этим и занимаются; на званом ужине она появлялась в маленьком черном платье — именно таком, какое в высшем обществе Манхэттена считается настоящим шиком; в нашей компании она с энтузиазмом жевала галлюциногенные грибочки, смеялась, шутила и курила травку, как ветеран знаменитого автобусного турне «Grateful Deads»[3]; наконец, она бегло говорила по-английски — речь текла ручейком, вообще без акцента. Очень, очень редко я улавливал какой-нибудь знак, намек на Наташино голландское происхождение, и намек этот всегда возбуждал меня, словно Наташа на пару дюймов приподняла край платья, показав бедро.
Однако, несмотря на то что Наташа так хорошо вписывалась в любую обстановку, я никогда не слышал в ее адрес обвинений в конформизме, который в школе Святого Иеронима считался (хоть и негласно) смертным грехом. Сам я был вне подозрений, возможно, потому, что отличался педантичностью в одежде. Сколько себя помню, я причесывался под Бобби Кеннеди (волосы у меня каштановые и вьются), в доме пастора как появился в первый школьный день в вельветовых джинсах «Левис» в тонкий рубчик и в рубашке «Брук Бразерз», так до окончания школы и не носил одежды других марок, да и теперь не ношу. Благодаря Алисе я, даже будучи новичком в классе, мог похвастаться внушительной коллекцией записей второго поколения «Grateful Deads». Но вернусь к Наташе: вопреки способностям к мимикрии она умудрялась оставаться ни на кого не похожей и всегда как бы в стороне. Хотя ей были рады в любой компании, она не принадлежала ни к одной; она отличалась шокирующими взглядами на некоторые вещи, в частности, эвтаназию, узаконенную проституцию и метадон[4], но, насколько мы знали, ее личная жизнь не продвигалась дальше поцелуев.
Подходила к концу наша последняя школьная весна. Мы втихаря пили, заранее ностальгировали, плавали в прудах, на поверхности которых качалась желтая пленка пыльцы — словно крохотные облака, уступившие силе притяжения и взорвавшиеся от соприкосновения с водой. Как-то раз мы с Наташей сидели на плотине у Долгого пруда. Вода омывала нас, просачивалась между ног. По очереди прикладываясь к запретной фляжке, мы пришли к выводу, что хотели бы узнать друг друга получше. Потом мы окончили школу, и Наташа — как и Алиса, но в отличие от меня, — поступила в престижный Йельский университет. (Мой диплом (без отличия) колледжа Эврика Вэллей, что в штате Калифорния, папа не повесил в своем кабинете, предпочтя украсить стену Алисиным йельским дипломом и ее же дипломом Колумбийского университета.) Впрочем, это к делу не относится. Из того, что я слышал от Алисы и додумывал самостоятельно, выходило, что Наташа и в университете оставалась одновременно дружелюбной и отстраненной и по-прежнему не заводила романов.
— Явно она лесбиянка, — сказала Алиса (по телефону).
— Или просто застенчивая.
— Двайт, она никогда не производила впечатления застенчивой девушки.
— Ну и что — я тоже его не производил, — попытался возразить я.
Мысли о Наташе почему-то всегда заканчивались самокопанием.
Шасси, взвизгнув, будто от боли, проехались по посадочной полосе. В мокром асфальте дробились отражения красных и белых огней; поднимался пар. Я оглядывался по сторонам и радостно кивал пассажирам — мол, здорово, приземлились наконец.
— Рад небось, что под ногами снова твердая почва? — ухмыльнулся в мою сторону сосед справа.
Так как еще раз встретиться нам явно не грозило, я рассудил, что могу высунуться из скорлупы.
— На самом деле терпеть не могу подвешенные состояния. — Я имел в виду переносный смысл этих слов, но получилось то, что получилось. Как-никак я целый день не практиковался в человеческой речи.
Парень нахмурился и кивнул.
— По-моему, Колумбия — вполне себе страна. В смысле, сюда стоит вкладывать бабки. Народу нужна работа, и никаких тебе заморочек с профсоюзами.
— Классно. — На этот раз я сказал то, что имел в виду. — А почему никаких заморочек?
Парень неопределенно махнул рукой.
— Удачи, — бросил он через плечо, доставая сверху свой кейс.
Я заметил, что он открывает кейс с величайшей осторожностью и даже с опаской. Не зря же в самолетах предупреждают — за время полета вещи может растрясти.
Вскоре опустевшие кресла заняли те, кто летел в Кито. Стюардесса привычно толкнула речь — сначала по-английски, потом по-испански. На espanol'е я успел усвоить только первую страницу разговорника. В свое время выбрал французский — мне казалось, что он скорее пригодится. Впрочем, через час надо мной возьмет шефство владеющая испанским Наташа.
Она же Джокер. Джокером мы называли Наташу за неподражаемую улыбку. Она улыбалась правильным мультяшным полукругом, закавыченным в ямочки на щеках, и кто-то (ладно, признаюсь — это был я) однажды предложил прицепить ей кличку Джокер. Кличка прилипла, и мы, парни, случалось, ласково называли Наташу Джокером даже в глаза. Она не возражала и только, по своему обыкновению, невозмутимо улыбалась.
Я застегнул ремень под животом, проверил, исправен ли пластиковый столик, и привел его в исходное положение. В этот момент во мне проснулись угрызения совести за то, что я прицепил Наташе кличку. В конце концов, я единственный мог, хоть и с натяжкой, назвать себя Наташиным другом. Наверняка на предстоящем вечере встречи данное обстоятельство будет у меня основным поводом для гордости, а поездка в Кито — главной моей заслугой за последние десять лет. Именно этой поездкой я буду крыть и карьерные успехи, и выгодные браки однокашников — о тех и о других я в силу своих обязанностей агента по делам выпуска знал буквально все. Сведения заполняли мой мозг, как горка рисовых зерен, на каждом из которых под микроскопом выгравировано имя однокашника и соответствующее событие с датой. Регулярно, раз в четыре месяца, я отсылал очередную партию «зерен» (практически неотличимых друг от друга) в журнал с пафосным названием «Они учились в нашей школе».
В то время как сам я только что потерял работу и гордиться мог лишь одним — тем, что пока не облысел. Правда, волосы уже несколько поредели. Недавно, стоя перед зеркалом, я мысленно провел черту по темени, вообразив, что это песчаный пляж. Так вот, за пределами полосы прибоя волос было еще предостаточно. Проблема же состояла совсем в другом, а именно в аномальной волосатости шеи, спины, груди, ног, ягодиц и рук. Причем волосы на всех этих частях моего тела были светлые, словно от другого человека. Как ни странно, женщин, которые наблюдали или даже осязали меня обнаженным, не смущал мой блондинистый пух. Сейчас, когда самолет оторвался от взлетной полосы аэродрома Боготы, я снова задал себе вопрос, почему повышенная волосатость не вызывала у моих подруг отвращения. Может, они видели во мне недостающее звено эволюции?
Вдруг (вернемся в самолет) я подумал, как было бы здорово прийти на вечер встречи с Наташей. Если я сумею уговорить или даже соблазнить ее этой перспективой, у меня появится наконец повод для гордости — как у агента по делам выпуска и как у мужчины. Мысль мне чрезвычайно понравилась — выходило, что я прилетел в Южную Америку по важному делу! Скажу больше: я надеялся, что, проведя с Наташей десять дней, многое проясню в отношении этой девушки. Может, я даже смогу сказать Страттону или Биллу Т., кивнув в сторону Наташи (она будет стоять, как всегда, несколько поодаль, на газоне, и обязательно в открытом летнем платье), так вот я смогу сказать Страттону или Биллу Т. примерно следующее: «Ребята, как же мы заблуждались насчет Наташи! Мы называли ее Джокером, а ведь дело в том…» И тут я выдам все, что успею узнать о Наташе. Однако в голову лезли только те сведения, которые уже давно не были для меня новостью. Наверное, если бы я предпринял путешествие в какую-нибудь неосвоенную туристами страну и по возвращении все бы меня расспрашивали, что да как, мои рассказы разным людям были бы похожи как две капли воды: славное, дескать, местечко, а вот какой казус со мной приключился, и т. д., и т. п., пока все сведения не сложились бы в один-единственный рассказ, который и заменил бы реальные впечатления от поездки. Вспомнив об этой особенности собственной памяти, я почувствовал вполне оправданные опасения. До боли знакомые опасения. Меня вдруг осенило: всякий раз, когда прелесть новизны исчезает, в сухом остатке в качестве воспоминаний я имею лишь цитаты из рекламного буклета. Вот в один прекрасный день я умру, и святой Петр спросит: «Ну, как тебе понравилось в жизни?» И что я отвечу? «Славное местечко. Еда отменная. Правда, некоторыми местными блюдами с непривычки лучше не злоупотреблять. Народ очень дружелюбный». А кто скажет, что все это не так, пусть бросит в меня камень.
В иллюминаторе густела великолепная беззвездная тьма. И я дал себе слово каждый раз рассказывать что-нибудь новое о своей поездке, а не повторять одно и то же по два, а тем более по три и по четыре раза. Неприятные впечатления, если они меня постигнут, тоже не утаивать — ведь никто не обещал, что будет легко, тем более в Колумбии (о страданиях колумбийского народа я успел немало почерпнуть из газет за те дни, что слонялся без работы). К несчастью, я и мои соседи по съемной квартире на Чемберз-стрит недавно способствовали продолжению затяжной гражданской войны в этой стране, купив кокаину и нанюхавшись его. Пожалуй, не стоит рассказывать об этом Наташе. С другой стороны, так как я едва знаю Наташу, мне захочется вызвать ее на откровенность, а в ответ и самому придется откровенничать. Я очень надеялся, что Наташа не станет спрашивать, кто, по моему мнению, должен победить в гражданской войне. Ведь эта война — просто столкновение интересов двух террористических группировок, разве не так? Но вдруг пора уже выбрать из двух террористических зол меньшее, чтобы наконец наступил мир?
Вскоре самолет приземлился, на сей раз без эксцессов. Уже хорошо. Пока мы продвигались к выходу, все дети начали успокаиваться после затяжного рева. Вы замечали, что ни один ребенок никогда не прекращает реветь сразу — нет, ему обязательно надо еще повыжимать из себя всхлипы, прежде чем перейти в другое состояние. Как будто ему неприятно признавать, что любое из обстоятельств, вызвавших рев, все же недостаточно весомо для того, чтобы ныть до бесконечности — даже в растерзанной войной Колумбии.
Впрочем, это уже не Колумбия, напомнил я себе, спускаясь по алюминиевому трапу и ступая на гудрон шоссе. Это Эквадор, для меня — настоящая terra incognita. Кругом пестрели путеводители — но я, растерявшись среди заголовков типа «Третий мир: скрытая угроза», не купил ни одного. Единственное, что я знал о земле, на которой стоял сейчас — меня всегда интриговало это «сейчас», не важно, где оно меня заставало, — так вот единственное, что я знал о земле, на которой стоял сейчас, — запах. Пахло холодом и костром. И еще, кажется, сточными водами. А что, если природа одарила меня исключительным обонянием, и мое призвание — стать профессиональным дегустатором вин? Я бы зарабатывал на жизнь употреблением спиртных напитков. Пожалуй, застраховал бы свой нос на сумму с энным количеством нулей. Потом в результате аварии потерял бы свои выдающиеся способности и озолотился на страховке.
При мысли, что я до сих пор не знаю, куда себя деть, я покраснел.
Отслеживая на ленте транспортера свой рюкзак, я заметил, что у меня дрожат руки. Диагноз был не нов: ГСТИС. Еще одна Наташина кличка, расшифровывается «Где-Сядешь-Там-И-Слезешь». ГСТИС диагностировали у каждого, кто в школе Святого Иеронима пытался подбивать к Наташе клинья.
Выходит, все эти годы я был влюблен в Наташу? Просто раньше она не выказывала ответной симпатии? А теперь, когда она пригласила меня в Кито (после стольких лет!), я могу наконец признаться в своих чувствах хотя бы себе? Не то что чужая, и своя душа — потемки! Все это хорошо, но с дрожью-то что делать? Ладно, в конце концов, я в новой стране, у меня, возможно, начинается новая жизнь — отсюда и дрожь. Нервная дрожь, дрожь от возбуждения, от новых перспектив, от свободы — свободы выбора.
Я взвалил на плечи рюкзак и вышел из зала ожидания — последнее и так затянулось. От толпы блестящих черных голов отделилась высокая блондинка. Правда, не такая высокая, как мне помнилось. И не такая уж блондинка. Вообще не блондинка, если на то пошло. По глазам я увидел, что она узнала меня, поэтому рванулся к ней с криком «Hola! Еl Джокер!». Однако она улыбнулась чужой улыбкой, и меня охватил ужас — не оттого, что она вообще изменилась — она по-прежнему казалась мне прехорошенькой, — но от характера произошедших с ней перемен. И когда она своим побывавшим под скальпелем пластического хирурга лицом, своим низким мягким голосом, выходившим из распухших от коллагена губ, произнесла «Привет, Двайт», я только и смог, что выдавить улыбку. «А то ли еще будет!» — надрывался внутренний голос.
— Наташа в туалете, — объяснила не-блондинка.
Какое счастье, что эта незнакомка действительно оказалась незнакомкой, а вовсе не Наташей! У меня отлегло от сердца, и со словами: «Боже, как я рад вас видеть!» я крепко ее обнял.
Наташа застала нас повисшими друг на друге.
— Нет, вы только посмотрите! — Голландский акцент был заметнее, чем мне помнилось — или хотелось помнить. — Еще не познакомились, а уже подружились!
Да, это была Наташа, но, если честно, немножко другая. По-прежнему вещь в себе, но сейчас еще и в растрепанных чувствах — совсем как я. Она просияла своей неподражаемой улыбкой и произнесла:
— Вот видишь, Бриджид, Двайт именно такой, как я тебе рассказывала, — свой везде и всюду.
Часть первая
Глава первая
За неделю до поездки в Кито я сидел в постели на Чемберз-стрит, и только доносившийся с улицы шум еще как-то связывал меня с окружающим миром. Одной рукой я держал книгу, которую пытался читать, другой гладил по голове спящую Ваниту, сам себе напоминая какую-нибудь капустницу, распятую в пространстве и во времени.
Ванита повернулась на другой бок и глубже скользнула под одеяло. Теперь виднелась только копна ее сугубо индийских волос; свет настольной лампы расщеплял темную массу на отдельные упругие, как разорванные струны, спирали. Каждая спираль отливала зеленым. Раньше я никогда не думал, что такие черные волосы способны реагировать на свет; открытие секундной вспышкой озарило мое сознание. Я словно получил туманный намек на то, что у нас с Ванитой впереди еще множество подобных маленьких открытий, если, конечно, мы — до сих пор это относилось в основном ко мне — будем более последовательны.
На первых порах мы проводили ночь вместе примерно раз в неделю, затем перешли на два раза. Обычно я не спал час-полтора, сидел и слушал, как дышит спящая Ванита. Иногда она подергивалась во сне, словно собака; в такие моменты меня переполняла нежность, по большей части оттого, что я очень люблю собак (это у нас семейное). Именно приступы нежности заставляли меня задумываться, не следует ли прекратить ее выказывать, когда я и Ванита оба бодрствуем. Проявление нежности в такое время могло вселить в нас с Ванитой пагубное чувство, будто мы — пара. А поскольку наши отношения основывались на обоюдном нежелании считать их отношениями (пока), это чувство было нам ни к чему. Мы оба полагали, что в современных условиях процесс ухаживания существенно ускорился и упростился. Именно этим обстоятельством Ванита объясняла малочисленность своих связей, а я — их же многочисленность (не менее семнадцати). Как бы то ни было, в конце концов мы негласно установили правило: спать рядом, словно брат и сестра, и воздерживаться от секса, за исключением тех случаев, когда мы оба напивались, потому что: а) мы — не пара; б) до нас хоть и медленно, но доходило, что инстинктам следует потакать не всегда.
В любом случае по ночам мне все чаще казалось, что в качестве владельца собаки я куда лучше, чем в качестве бойфренда. У меня не было готового руководства по содержанию Ваниты и уходу за ней — нельзя же написать руководство по каждой женщине, настолько они все разные. Тогда как все собаки, за исключением совсем уж экзотических пород, нуждаются примерно в одном и том же: корме, воде, прогулках и похлопыванию по холке. С другой стороны, в большом городе на бойфренда ложится куда меньшая ответственность, чем на владельца собаки. Я же остро нуждался либо в девушке, либо в собаке, поскольку, как каждому человеку и каждой собаке, мне требовалась своя порция любви. М-да.
Размышления всегда заводили меня в один и тот же тупик, но я к нему привык и каждый раз будто возвращался домой. Плюс тишина сама по себе казалась осязаемой, как родные стены. Рокот внезапно включившегося холодильника отзывался в сердце; урчание мусоропровода одновременно нарушало и подчеркивало тишину. К обостренному чувству сопричастности случайным звукам примешивалась гордость: я — последний не спящий в Нью-Йорке, дежурный по ночи.
Я думал о простых вещах, например, о делениях на циферблате. Поздней ночью меня всегда осеняло: жизнь состоит из дней, каждый из которых невозвратим. Я разбирал по косточкам конкретный день, рассматривая его как вчера или как завтра, то есть с обеих точек зрения. Например, если мои размышления прерывал дуэт Форда (сосед № 1) и его девушки Кэт на пружинах раздолбанной кровати, я считал, что имею дело с «вчера» — ведь девушка была приведена накануне. Если же взмокший во сне Санчес (сосед № 2) шлепал выключать телик, оснащенный устройством для несанкционированного скачивания спортивных программ, художественных фильмов и порнухи и уже буквально от этого скачивания дымящийся, я считал, что наступило «завтра». Дэна же (соседа № 3) вообще не было слышно: он двигался бесшумно, как привидение, питался чуть ли не святым духом, худел и периодически, между учебой в университете Нью-Йорка и работой в лаборатории, просвещал нас на медицинские темы, всегда коротко и по делу. Недавно Дэн высказал мнение, будто самый безболезненный уход в мир иной наступает от уремии, а также заверил меня и Санча в том, что никакой научно доказанной связи между употреблением кофе (даже шести чашек в день, как в моем случае) и раком не существует.
Санч на это заметил:
— Еще бы. Например, падла Уго Чавес выпивает в день шестнадцать эспрессо. А раньше и все двадцать четыре выпивал, пока свита не упросила его поберечь здоровье для блага нации.
— Ни фига себе! — Рассказ произвел на меня неизгладимое впечатление. — А кто это — Уго Чавес?
— А черт его знает. Вроде революционер.
— Похоже на то, — согласился я.
Иногда Дэн обнаруживался у себя в закутке: уткнувшись в учебник, он через плеер слушал кошмарные произведения австро-венгерских композиторов. Однако его появления на Чемберз-стрит носили стихийный характер, по крайней мере я не мог установить хоть какую-то закономерность. В любом случае он оставался в нашей коммуне только по причине низкой арендной платы. Последняя, впрочем, была бы выше, если бы стены в нашей квартире доходили до самого потолка. Мы же ютились в закутках, разделенных картонными перегородками, на виду друг у друга, как в студенческой общаге. Я считал такое существование недостающим звеном между жизнью в родительском доме и работой в компании «Пфайзер», тоже раздробленной, как соты.
Таким образом, коммуна на Чемберз-стрит состояла из Форда, Санча, Дэна и меня. По крайней мере пока состояла — через пять недель истекал срок аренды. Остальные наши приятели жили по разным районам Нью-Йорка — кто один, кто с подругой или супругой, — и в этих обстоятельствах наша дыра представлялась нам (и им) этаким клубом школьных друзей, всегда готовым принять большую компанию и довести и без того запущенную гостиную до совершенно непотребного состояния. У нас играли в покер, у нас развлекались, у нас смотрели телик и изощрялись в остроумии. Мы знали, что в коммуне полностью застрахованы от взросления. Мы хуже всех одевались и медленнее всех росли профессионально (если это вообще можно было назвать ростом). Порой мне казалось, что для каждого из однокашников ступить на покоробившийся линолеум нашей замызганной кухни — все равно что повернуть время вспять, отдаться на милость отлива. Нью-Йорк задыхался в пробках, следил за рыночными показателями, увеличивал, как подорванный, объемы продаж, весь в мыле скакал по карьерной лестнице — на Чемберз-стрит, в болоте созерцательности, отсиживалась четверка оппозиционеров. У нас был даже свой камин. Правда, он не функционировал как камин — мы держали в нем аудиоцентр. Периодически я захватывал пульт, и тогда космическое дребезжание электроники, не пропускавшее, точно какое-нибудь магнитное поле, звуков извне и окружавшее нас день и ночь, сменялось наконец солнечными композициями «Grateful Deads» — будто Джерри и не думал умирать.
Но Джерри был мертв. А срок аренды истекал через пять недель! Так вот и я когда-нибудь (уже скоро) умру. Я всячески избегал думать о смерти как о неминуемом конце всего сущего. Лучше уж пусть напоминание исходит от философа Отто Ниттеля — у него оно как-то мягче. За несколько месяцев до поездки в Эквадор я читал «Применение Свободы» — или «Der Gebrauch der Freiheit» (привожу оригинальное название на случай, если немецкий для вас родной). Я открывал эту смертецентричную книгу всегда поздно вечером. И в ту субботу, когда со мной была Ванита (на самом деле суббота ничем не отличалась от предшествовавших ей суббот), я также, прищурившись, потому что уже снял контактные линзы и иным способом не мог сфокусироваться на строчке, прочел: «Для нас промедление — это замена бессмертия. Мы ведем себя так, будто впереди у нас бесконечность». Чтение продвигалось со скоростью две страницы в час.
Но не оттого, что я тупой, а оттого, что я медлительный. Возможно, в этой жизни у меня просто нарушен обмен веществ — а ведь не далее как в прошлой (даже не в позапрошлой!) жизни я вполне сносно усваивал время. Порой я думал, что такими темпами я не сумею догнать себя другого, исходного, отлично чувствовавшего себя в мире скрипучих дилижансов, рассохшихся каноэ и многодневных путешествий к границе штата. В мире развелось слишком много людей и городов. Все дилижансы и каноэ мановением руки заменены сабвеями и самолетами, причем первые растут как грибы, а вторые появляются в самых неожиданных местах; многодневные путешествия сокращены до минут; и только небыстрого Двайта заменить забыли, и он бредет по обочине, вздрагивая от рева моторов и щурясь на исчезающую за горизонтом собственную тень.
Ночью по крайней мере не доставал телефон. От каждого телефонного звонка душа у меня уходила в пятки. Я вообще считал, что в присутствии телефона, даже молчащего, человек не может чувствовать себя защищенным. Сколько раз я видел, как на улице при звонке сотового с полдюжины прохожих хватались за свои карманы, и всегда на одном-двух лицах мелькал панический ужас. Лично я предпочел бы получать новости при личном контакте. В идеале этот контакт должен выглядеть следующим образом: я смотрю в окно, в отдалении, скажем, на другом конце поля, замечаю нарочного и, пока он добирается до моего дома, успеваю причесать чувства. Однако мне звонили все кому не лень, по телефону просили сделать одно, другое, третье; за исключением редких случаев, когда я бывал уверен, что хочу выполнить просьбу, я исправно подбрасывал монетку. «Минуточку, уже открываю ежедневник… да, это очень интересно… не вешайте трубку…» — из кухни на Чемберз-стрит я разговаривал словно из офиса. На самом деле ежедневников я никогда не держал, больше доверяя монеткам. Если выпадал орел — соглашался, если решка — отказывался, ссылаясь на другие планы. Я гордился своей системой. Результаты совпадали со статистическими показателями так называемых самостоятельных решений, и в то же время система защищала мое «Я» от чрезмерного давления извне; поддерживала необходимый дефицит Двайт-ственности на рынке; добавляла загадочности моей в остальном бесхитростной персоне; наконец, позволяла самому решать, нравится мне та или иная перспектива или нет. Правда, к тому моменту, когда приходило решение, менять что-либо бывало уже поздно — но, согласитесь, знание ценно само по себе. Я лично всегда соглашался.
Читать «Применение свободы» я мог только по ночам. Выходило, что я закончу книгу еще до Нового года.
— Давно бы уже сам написал философский трактат, — язвил Дэн.
— Что ты! Самому мне ни за что не достичь уровня «Der Unternehmungsgrund der Individuums».
Впервые прочитав о причинах поступков индивидуумов, я наконец понял: вот оно, громоздкое название недостающего аспекта моей жизни — недостающего с того самого момента, когда на меня как снег на голову свалилось половое созревание, причем одновременно со школой Святого Иеронима. Я чувствовал себя хрупким мостиком над пропастью: меня раскачивал ветер взросления, в то время как обе отвесные стены каньона — в смысле прошлое и будущее — скрывались в густом тумане. Мне вдруг стало казаться, что ни начала, ни конца у моей жизни нет, то есть не было моего физического рождения и не будет окончательной смерти, и я только недоумевал, почему окружающие считают это подвешенное существо вполне себе адекватным юношей. Отто Ниттель, узнавал я по мере усугубления видимой адекватности, личным примером проповедовал уход в леса. Читая его труды, я воображал собственное переселение из города в леса Вермонта. С собакой. Или несколькими собаками. Фишка была в том, чтобы жить в бунгало, самому печь себе хлеб, почти не смотреть телик, заботиться о собаке/собаках и разговаривать с ней/с ними, а также пить чай, а не кофе литрами. Полосы солнечного света на дощатом полу, определитель входящих на мобильнике… Старые приятели специально приезжали бы из города, чтобы насладиться царящей в моем жилище атмосферой созерцательности и доброжелательного восприятия, в каковой атмосфере я, по причине полного отсутствия даже намеков на эгоистичность, просто-напросто не отдавал бы себе отчета. Я чувствовал, что в этой обстановке причины моих поступков каким-то образом отфильтруются — не за один день, конечно, уж очень они сложносочиненные, — и ясность, какая бывает после молитвы, наконец заполнит мое сознание. Тогда я буду знать, что делать. Тогда я смогу вернуться в Нью-Йорк и сделать то, что буду знать.
Однако поздней ночью меня всегда посещала неприятная мысль: я еще ничего не предпринял для осуществления своего плана с лесом. Если же рядом, под несвежей хлопчатобумажной простыней, дышала во сне вытянувшаяся во весь рост обтекаемая теплая Ванита, вышеупомянутая мысль становилась еще неприятнее. Признаки привязанности Ваниты ко мне уже были налицо, а значит, мне предстояло не просто исчезнуть из Нью-Йорка с целью помочь раскрыться своим истинным склонностям — мне предстояло вырвать себя из ее жизни.
По крайней мере не придется тащить с собой скарб. Первым делом нужно найти в Вермонте подходящий городок, а в нем — работу. Я очень надеялся, что новая экономика, целиком и полностью зависящая от быстрого получения информации, сотрет границу между городом и сельской местностью, и я смогу осуществлять техническую поддержку компьютеров прямо из леса. Правда, надежда эта отдавала 1999 годом, а был уже май 2002-го, причем конец мая. Я имел привычку записывать важные дела и, прежде чем заснуть, вылезал из-под одеяла и царапал — следующим пунктом после «ЗАЙТИ ЗА КОФЕ!», или «МАМА: ВОСКРЕСНАЯ СЛУЖБА!», или «ОПРЕДЕЛИТЬСЯ НАСЧЕТ СВИДАНИЯ С ВАНИТОЙ», или «КУПИТЬ БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА», или «УЗНАТЬ, СКОЛЬКО СТОИТ СЕАНС ПСИХОАНАЛИЗА» — «ПРОСМОТРЕТЬ ВАКАНСИИ В ВЕРМОНТЕ».
Таким образом, засыпал я только под утро. Не волнуйтесь: я спал более чем достаточно. Мало того что я никогда не страдал ни бессонницей, ни ночными кошмарами — я не страдал и наличием исправного будильника, так что ничто не нарушало моего мерного храпа. Разумеется, когда соответствующая кнопка вышла из строя, я внес покупку будильника в Список Важных Дел. Однако на работе сказали (точнее, сказал Рик, мой непосредственный начальник), что мы, сотрудники отдела технической поддержки «Пфайзера», работающие по договору субподряда, до сих пор считались таковыми исключительно из-за того, что наш офис расположен в пфайзеровской штаб-квартире. Железный аргумент, съязвил Рик. А между тем некие ребята из Мумбая (Бомбея), что в Индии, вскоре станут делать нашу работу за меньшую плату. «Вы намекаете на увольнение?» — осведомилась Ванда, моя коллега. Рик подтвердил ее опасения, от себя добавив мерзопакостную улыбочку.
Для корпоративного духа речь Рика имела пагубные последствия. Лично я убедился, что глобализация — не миф, и решил сэкономить на будильнике. Зачем вставать ни свет ни заря, если дни мои в «Пфайзере» все равно сочтены? Теперь я просыпался часов в десять, долго зевал и потягивался, отсрочивая момент истины. Рабочий день официально начинался как раз в десять, но я не порол горячку. Я шел в булочную и покупал крендель (крендель я после мучительных раздумий выбрал для себя раз и навсегда и больше на эту тему не заморачивался), возвращался в квартиру, подсушивал половинки кренделя в тостере и намазывал на одну из них песто[5] из банки, а на другую — шоколадный крем «Нутелла». Объедение!
Пока что основным преимуществом совместной жизни с Ванитой была для меня возможность хранить и песто, и «Нутеллу» у нее дома, на Кэрролл-Гарденс.
— Не понимаю, как ты ешь эту гадость! — Литературное «гадость» (вместо, скажем, «дерьмо») говорило о том, что Ванита как дочь посла училась исключительно в школах при посольствах. — Но я очень тронута, что ты хочешь переехать ко мне, хотя и привык к богемной жизни.
По утрам, если Ванита бывала игриво настроена, мы развлекались следующим образом: она кормила меня кренделем, а я с завязанными глазами должен был отгадать, чем конкретно он намазан.
— Что песто, что «Нутелла» — супер, даже не поймешь, в чем разница, — говорил я с набитым ртом.
Позавтракав, я садился на поезд F (если ночевал у Ваниты) или ехал на 2/3 до Сорок второй. Всю дорогу я смотрел на «Применение свободы» — при дневном свете книга казалась совершенно другой, гораздо менее заслуживающей доверия.
Философ ниттелевского калибра или даже человек того же уровня образования, что и вы (в моем случае Ванита), пожалуй, сочтет идиотской работу, которая заключается в том, чтобы сидеть целый день за пластиковой перегородкой и твердить в телефон: «Здравствуйте. Спасибо, что позвонили в отдел технической поддержки. Меня зовут Двайт. Чем могу помочь?», терпеливо выслушивать причитания юзера, самым вежливым голосом предлагать ему проверить, включен ли компьютер в сеть, и ждать звонка следующего юзера. Я пытался откинуться на спинку вращающегося корпоративного стула, но хлипкость конструкции не давала полностью расслабиться; не относящуюся к починке компьютеров литературу приходилось читать под столом, на коленях; в уши свистел многократно кондиционированный ветер; на темя давило бесполезное высшее образование. Я думал, как заблуждаются лица, верящие в социальную справедливость и человеческие возможности, полагая, что у менеджера низшего звена работа не бей лежачего. Зарплата, например, у нас ниже плинтуса, бонусы только на бумаге, карьерный рост под большим вопросом, не говоря уже об узаконенном игнорировании наших скрытых талантов. Но какое огромное (словно вековой дуб) умиротворение приносит (по Ниттелю) работа Человеку (с большой буквы)! По ночам я презирал себя за то, что погряз, не развиваюсь, не стремлюсь; однако днем, раскачиваясь на офисном стуле, чувствовал: если буду просто продолжать работать там, где работаю, с известным усердием (кто-то же должен этим заниматься, даже в вечно спешащей Америке), то, что бы ни случилось со мной или с моей страной, мне не в чем будет себя упрекнуть.
И я трудился в поте лица, точнее, создавал видимость деятельности, потому что Рик скрупулезно подсчитывал, на сколько звонков каждый из нас ответил за день, и гордость заставляла держать планку. Я любил как бы мимоходом упомянуть о своих показателях при встрече с мамой или папой. Кроме того, я знал: чем скорее я объясню очередному юзеру, как отформатировать файл, тем скорее продолжу скачивать программу для бесплатного прослушивания мелодий. Или погуглю однофамильцев — приятно увидеть, хоть и не в первый раз, что другой Двайт Уилмердинг был в свое время звездой баскетбола, лучшим подающим в команде старшеклассников в Эшленде, Северная Каролина. Или, для разнообразия, попрошу Ванду просветить меня относительно лирики Мэри Дж. Блайдж фразой «Слушай, да у нее охренительные песни!».
— Двайт, попридержи язык, — встревал Рик, непосредственный начальник.
Или же в перерывах между звонками я полностью уходил в себя. На пятом этаже, под амбарным замком и контролем доброй сотни спецкондиционеров, хранился главный сервер с супермощным процессором AS400 IBM, и порой мне казалось, что эти монстры проглотили меня и утробно урчат. Меня засасывало в информационную воронку, крутило, как снежинку крутит буран. И если в это время меня не домогались юзеры (или, по выражению Ванды, лузеры), о том, что пора обедать, я вспоминал, лишь почувствовав жестокие спазмы в животе.
Обычно я обедал в одиночестве, чтобы полностью сосредоточиться на еде. Но как-то, на свою голову, вздумал встретиться с бывшей одноклассницей по имени Александра. Мы условились перекусить в кафе рядом с ее работой. Дизайн кафе претендовал на то, чтобы называться постмодернистским: отсутствовали острые углы, стены из синего стекла на корню пресекали все попытки дневного света проникнуть в помещение, по стальным столам в форме человеческих почек прошлась кисть непризнанного гения. Сиденьями служили низкие кожаные диванчики, причем процентное соотношение устроившихся на них задниц было один к пяти в пользу принадлежащих женщинам и не в пользу принадлежащих нормальным гетеросексуальным парням.
Кафе являлось штаб-квартирой сотрудников мультинациональной медиа-империи, однако вызывало ассоциации с клубом старшеклассниц очень отдаленного будущего. Как всегда, в вельветовых джинсах «Левис» и потертой рубашке «Брук Бразерз» я шел к столику с тяжелым подносом в руках и ловил на себе взгляды, говорившие, что в этих кругах отсутствие пафосности в одежде является главным признаком гетеросексуальности. В подобного рода кафе, как в стаде буйволов, прохлаждающемся в пруду, особи мужского пола всегда в дефиците — и в выгодных условиях, когда нужно выбирать партнершу для спаривания. О таких ситуациях зоологи-бихевиористы любят однотипно разглагольствовать в однотипных познавательных передачах. В тот приснопамятный день я не выбирал и тем более не спаривался, но, пока Алекс представляла меня своим трем не врезавшимся в память подружкам, а затем Ваните, с удовольствием купался в лучах сексуально-романтического внимания.
(В ту ночь с субботы на воскресенье, за неделю до поездки в Эквадор, Ванита повернулась на другой бок, прижалась к моему бедру и негромко всхрюкнула трогательным всхрюком спящей.)
Разговор шел о модных трендах, поэтому я только кивал и слушал, время от времени вставляя соображения «чайника» в вопросах стиля. В какой-то момент я заметил, что одна из женщин, имени которой я не запомнил, переглядывается с женщиной по имени Ванита, и параллельно обе бросают на меня красноречивые взгляды. Как обычно, я ничем не выдал своих наблюдений. Через несколько минут не-Ванита снова взглянула на меня и произнесла:
— Правильная рубашка. Выглядит поношенной, а это очень актуально.
— Сломанные часы — и те дважды в сутки показывают точное время, — заметил я, а сам подумал: интересно, как бы вели себя эти смеющиеся женщины, будь в кафе побольше мужчин? Были бы они также дружелюбны со мной, как сейчас? Я пришел к предварительному заключению, что они были бы не так, но все же достаточно дружелюбны. Однако вычислить разницу в количестве дружелюбия в настоящей и воображаемой ситуациях не представлялось возможным; я не определился относительно их чувств ко мне и на всякий случай больше не пытался поддерживать разговор.
Я уже поставил поднос на ленту транспортера и попрощался с Александрой, когда вдруг словно из-под земли выросла Ванита.
— Рада была познакомиться, — сказала она.
— Я тоже. — Я успел вызвать лифт. — Очень. — К счастью, я говорю медленно — последствия курения марихуаны в школе Святого Иеронима, — иначе временами могло бы показаться, что я нервничаю.
— Мы еще увидимся?
— Вряд ли, ведь мы не пересекаемся по работе, да и живем в разных районах.
— Ну тогда давай договоримся о встрече.
Я так и не понял, заинтриговало меня ее предложение или напугало.
— С вами?
— Давай на «ты».
— Я сказал «с вами», имея в виду всю компанию.
— Договориться о встрече будет проще, если принимать в расчет только нас двоих.
Ванита стояла прямо передо мной — я не мог загадать на орла или решку. Однако по Ванитиным словам я предположил следующее: а) она считает, что у меня в запасе еще полно острот; б) моя ужасающая всеядность относительно женщин на сей раз не слишком бросалась в глаза. Добро. И сию же минуту освященная веками философская категория Добра моим попустительством раскрыла объятия для этой высокой, смуглой, привлекательной женщины с узкой переносицей и широкими ноздрями, с бриллиантовой пуссетой в одной ноздре, с губами цвета сливы (похоже, не привыкшими смеяться), сейчас приоткрывшимися в нетипичной для них улыбке, — и я произнес:
— Как насчет понедельника? По-моему, одна из твоих подруг сегодня сказала, что свидание в понедельник — все равно что свидание после дождичка в четверг.
Ванита сообщила, что в понедельник вечером как раз свободна, и мы шагнули в лифт, идущий вниз.
— Тебе случайно не наверх надо? Ты же не здесь работаешь? — спросил я.
— Нет, что ты. Я работаю на Пятьдесят второй. Я не такая, как…
— Совсем не такая, — заверил я.
— Терпеть не могу людей, для которых смысл жизни состоит в модных трендах.
— Я так и подумал. Тебе не кажется, что жизнь гораздо лучше там, где вообще ничего не меняется?
— Не знаю. Вообще-то я довольно импульсивная. — Интонация выдавала Ваниту с головой — она лукавила, лукавила отчаянно и мило.
— А чем ты занимаешься? — спросил я уже на улице.
— Если честно, моя работа все-таки связана с трендами. Я занимаюсь операциями с…
— Вау! Круто! Здорово, что тебе не приходится для этого жить в Лос-Анджелесе. Я вот жду не дождусь, когда выйдет продолжение «Матрицы» — как они ловко выстроили сюжет на двоичной системе!
— Да нет же, — перебила Ванита. — Я занимаюсь операциями с валютой.
— Ой.
— В обменном пункте.
— Да, я понял.
Мы двинули по Сорок второй на запад, в сторону светящихся, мигающих, вертящихся названий торговых марок всевозможных корпораций. Мне нужно было совсем не туда, но я лоханулся и не хотел на этой ноте заканчивать встречу — равно как и начинать отношения. Я подумал, что Алиса вряд ли одобрит мою связь с женщиной, имеющей дело с иностранной валютой, — Алиса возмущалась положением в Таиланде (а может, на Тайване), к которому привел недостаток контроля над валютными операциями.
— А я работаю в «Пфайзере», хотя и не имею дела с лекарствами. Я просто слежу, чтобы компьютеры были в исправности. А за побочные эффекты не отвечаю.
У спуска в подземку мы помедлили.
— Значит, в понедельник? — уточнила Ванита.
Внезапно я вспомнил.
— Черт, ведь в понедельник у моего соседа Форда день рождения. Как же я упустил из виду! Будет вечеринка. Обязательно приходи. Я хотел было пригласить тебя в ресторан — ну, знаешь, чтобы все чин чином. Но вечеринка гораздо лучше. Посмотришь на меня, так сказать, в контексте.
— А я не помешаю?
— Ну что ты! Мы снимаем квартиру на Чемберз-стрит.
— Форд… Что-то знакомое. Случайно не Тим Форд, который окончил Дартмутский колледж?
Тесен мир, подумал я, особенно если имеешь дело с ровесницей и живешь в Нью-Йорке.
— Он самый. Ты училась в Дартмуте? Черт, так ты еще и умная!
— Странная интонация. Не пойму, тебя этот факт радует или раздражает? — Ванита достала карманный компьютер.
— Пока не разобрал.
— Знаешь, ты нестандартный. Я и в кафе не могла понять, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно, и сейчас не понимаю.
— Ничего удивительного — мы же едва знакомы.
— То есть со временем, так сказать, в контексте, я к тебе привыкну?
— Именно.
Мы шли по Сорок второй. Я ужасно гордился, что сумел вызвать к себе интерес — пусть на короткое время, зато всего лишь несколькими словами. Интерес этот очень скоро получил логическое продолжение; тот вечер, за неделю до поездки в Эквадор и через семь месяцев после знакомства с Ванитой, когда мы с ней сидели за столом друг против друга, ничем не отличался от множества других субботних вечеров. Еще днем Ванита шутила, что станет репетировать со мной собеседование, если я все-таки решу поменять работу.
— Ты только не подумай: я не питаю иллюзий насчет твоей головокружительной карьеры, — говорила она. — Но тебе нужно определиться, чего ты ожидаешь от новой должности.
— Ничего сверхъестественного. Я ожидаю, что зарплата позволит мне иметь крышу над головой, теплую одежду и еду…
— Да ты к еде и не притронулся! Ну-ка! — Ванита наколола на свою вилку скользкую клецку и ловко закинула ее мне в рот.
Я прожевал и проглотил.
— Видишь ли, у меня очень скромные потребности. Хорошо еще, что я живу в Нью-Йорке — тут, считай, вся зарплата идет на еду и аренду. А живи я где-нибудь еще, даже не представляю, на что бы тратил деньги. В смысле, в Нью-Йорке на удовлетворение самых скромных потребностей уходит уйма денег.
— А по-моему, у тебя не такие уж скромные потребности. И работа эта не для тебя. Она не дает тебе раскрыть свои таланты.
— Один талант у меня точно есть — умеренность.
Ванита улыбнулась улыбкой злейшего друга.
— Знаешь, о чем я подумала, когда пришла к вам на Чемберз-стрит? Я подумала: девяносто третий год, первокурсники резвятся в общаге. Немытые патлы, бардак, день прошел — и ладно… Двайт, признайся, ты еще и травкой ба…
— Успокойся, — перебил я. — Санч у нас безработный — не может же он ловить кайф в одно лицо?
— Хорошо, допустим. Но почему ты ходишь в этой фланели? Май на дворе, старина!
— Это облегченная фланель. Вот пощупай.
Однако Ванита исчерпала еще не все аргументы:
— А на днях ты слушал «Нирвану». Слушал-слушал, не отпирайся.
— Не «Нирвану», a «Pavement»[6]. — Я тоже помнил веселые времена в колледже: мы балдели под «Нирвану», баловались героином, отъезжали от прозака и в свете спада на рынке вакансий носили рабочие комбинезоны. В районе сердца у каждого красовался лоскут с написанным от руки именем «Боб». Пессимизм и неряшливость считались стильными, а в определенных кругах — даже обязательными. Я, правда, никогда не старался казаться более мрачным, чем есть на самом деле. Теперь же, в двадцать восемь лет, я не только полностью соответствовал требованиям субкультуры своей юности, но даже превосходил их, будучи инертным, лишенным амбиций, впялившимся во фланель и прозябающим на бесперспективной работе менеджером низшего звена.
— Ты цепляешься за стереотипы, — сказала Ванита. — Причем за изжившие себя стереотипы.
Конечно, она была права. Часто по ночам я ощущал себя параграфом из диссертации по социологии. Но ведь от того, что вы знаете, как выглядит тот или иной стереотип, вам не легче его избежать. Вы все равно идете путем проб и ошибок, даже если до вас этот путь проделали тысячи.
Это было мое собственное, проверенное временем умозаключение; в ту ночь я снова пришел к нему — и захлопнул том Ниттеля с пришитым к корешку шелковым шнурком, погладил Ванитину сугубо черную гриву, погасил ночник, в очередной раз задался вопросом, а стоит ли ехать в Вермонт, стал прикидывать, собак каких пород и в каком количестве взять с собой, — как вдруг из-за перегородки спальни-закутка спланировал равнобедренный треугольник, оказавшийся бумажным самолетиком, и приземлился на пол.
Самолетик будто принес мне ответ; он вторгся в поток моих мыслей так внезапно, что на несколько секунд я остолбенел. Потом я выбрался из-за Ваниты и увидел, что на самолетике явно Дэновой рукой ярким маркером нацарапано «Авиапочта» и «Ты спишь?». Очень умный вопрос, ничего не скажешь. Не поверю, что Дэн, когда писал, не знал ответа.
Глава вторая
С одной стороны, никто, включая меня, не слышал об «абулиниксе». Конечно, в наше время достаточно в очереди к зубному или парикмахеру наугад открыть затрепанный журнал, чтобы обнаружить рекламу «безопасного натурального препарата, обладающего успокаивающим действием». Слева на развороте обескураженный помятый тип пялится на свое многоголовое отражение (которое в ответ ухмыляется самыми разнообразными способами). Справа на развороте в сопровождении пропечатанных мелким шрифтом противопоказаний типа родильной горячки изображен тот же тип, во все семьдесят семь зубов улыбающийся своему отражению об одной голове. Мало того что патентованный препарат привел парня в норму, так еще и совершил переворот в сознании страдальца, и в результате первого последний наконец побрился. В общем, про «абулиникс» я слыхом не слыхивал и к Дэну в закуток прошлепал (в трусах-боксерах и футболке) без всякой задней мысли.
Дэн восседал в поломанном и облезлом кожаном кресле из тех, что ставят к компьютеру. Кресло он подобрал на помойке, чем очень гордился: «Вот люди, такую мебель выбрасывают!» Дэн курил, редко, словно в трансе, поднося ко рту сигарету, и грыз цилиндрической формы снеки «Комбо», наполненные чем-то ядовито-оранжевым, по всей видимости, имеющим отношение к сыру.
— Будешь? — радушно предложил Дэн.
Я покачал головой в знак отказа, спихнул газету с ящика из-под молока и сел.
Дэн имел привычку квохтать надо мной, копируя, очевидно, свою бабушку — счастливую обладательницу породистого кота:
— Это ж надо, сколько волос! Таки первый признак здоровья — это густая шерсть.
Я бросил взгляд на свои ноги, покрытые блондинистым, не знавшим эпилятора пухом.
— Ты прав, Дэн, я не сплю. Так зачем ты меня звал?
— Угадай с трех раз.
— Этот номер больше не пройдет. — Один раз я уже повелся на Дэновы слова, причем «раз» растянулся на целых три года, начиная с 1995-го, когда в ночь счастливого разговения Йом Кипур[7] Дэн выразил удивление, почему я ничего ему не подарил. Он поведал мне, что по традиции, зародившейся еще в средние века, не евреи устраивают обед для очистившихся в процессе поста евреев, или кипуримов. Видя, как я сконфужен, Дэн предложил простейший выход — сводить его в самую дорогую забегаловку на территории кампуса колледжа Эврика Вэллей. Обеды за мой счет продолжались вплоть до 1998 года, и все это время я не переставал удивляться пренебрежению к традициям со стороны моих приятелей-неевреев, а также восхищаться сдержанностью приятелей-евреев, ни один из которых ни разу не попытался получить то, что принадлежало ему по праву многовековой традиции. Обеды эти продолжались бы и до сих пор, если бы в сентябре 1998 года я не поинтересовался у Дэна, в чем он чаще всего кается, — и услышал в ответ «В том, что таки обманываю хорошего друга».
— Прости, старина, — сказал Дэн. — Лохов надо лечить, так Моисей завещал. Несправедливо, конечно, тем более что я — тоже пострадавшая сторона. Факт остается фактом — евреи нужны для того, чтобы учить хитрости остальных. Во всех областях, кроме медицины, а главное — в истории. Если бы люди вели себя лучше хотя бы в прошлом, мы бы постарались сохранить хоть какие-то моральные устои. С поправками, разумеется, — но с небольшими поправками. Ты вспомни, как с нами всю жизнь обращались, и сам все поймешь.
Я спросил, чем в таком случае объяснить широко распространенные в современном мире (и официально признанные) бедность, падение нравственности и другие болезни общества.
— Вали все на поколение, которое непосредственно предшествовало твоему. Рассматривай предков как узурпаторов справедливого порядка, просуществовавшего целые века. Потом мы их, узурпаторов, уничтожим.
— Вообще-то я люблю своих родителей.
— А не должен. В этом вся фишка.
Так вот. Я спросил Дэна, зачем он меня звал к себе в закуток. Мы шептались, чтобы не перебудить коммуну, и я чувствовал себя заговорщиком.
— Проблема выбора, Двайт, старина, — прошипел в ответ Дэн. — Мы ведь ее обсуждали. — И Дэн напомнил мне положение теории Отто Ниттеля относительно категории выбора (на мой взгляд, самое убедительное) и свое собственное замечание о том, что, когда перед Ниттелем действительно встала эта проблема, он таки предпочел переехать в Восточную Германию, где правительство принудило его сойтись с накачанным олимпийским чемпионом по плаванию, который, по мнению подавляющего большинства биографов, Ниттелю даже не нравился. Все это Дэн изложил, роясь в завалах на столе.
— Конечно, Ниттель совершил большую ошибку, — согласился я. — Впрочем, как я уже говорил, эта ошибка только лишний раз подчеркивает, насколько важно сделать правильный выбор.
— Верно. — Студент медицинского факультета Дэн извлек из завалов блокнот и шариковую ручку. — Так вот мой первый вопрос: испытываешь ли ты затруднения, когда тебе приходится выбирать?
— Затруднений не испытывают те, у кого нет выбора.
— Выкрутился. С кем поведешься… Ладно, сформулирую вопрос иначе. Когда тебе нужно принять решение, ты испытываешь неприятное чувство растерянности: а) почти никогда; б) редко; в) периодически; г) часто; д) почти всегда?
Я стал прикидывать, действительно ли чувство растерянности, которое я испытываю, такое уж неприятное, или, если посмотреть на дело с другой стороны, оно, напротив, дает некоторые преимущества…
— Должен констатировать, что, в соответствии с моими личными наблюдениями, правильный ответ — часто. Допустим. Вопрос второй: у тебя есть необъяснимое, но сильное ощущение, что ты знаешь, где окажешься через девять месяцев?
— Трудно сказать. Американцы вообще легки на подъем. Ты сам придумывал вопросы?
— А сейчас тебя терзают сомнения?
— А ты хочешь приравнять мое «да» к своему «часто»?
— Таки они тебя терзают. Скажу больше: ты их возвел в принцип. Ты сплел причинную зависимость отношений с Ванитой и переезда в Вермонт и наоборот.
Я нехотя кивнул.
— Двайт, ты знаешь, что такое абулия?
— А-бу-ли-йааа. — Я принюхался к новому слову, как собака принюхивается к кусочку картошки, упавшему со стола. — Нет, Дэн, понятия не имею.
— В широком смысле это ухудшение или даже… — Дэн с наслаждением затянулся. В воздухе повис окутанный голубым дымом саспенс, — …или даже, в запущенных случаях, потеря способности принимать решения. Но сейчас таки появился экспериментальный препарат, который лечит абулию на ранних стадиях. И тебя вылечит. А называется он… — Дэн сделал паузу, будто бы для того, чтобы стряхнуть пепел в пепельницу, которую ему привезли в качестве сувенира из Помпеи, и самым равнодушным тоном закончил: — «Абулиникс».
Сон как рукой сняло. Кто из нас не мечтал о волшебной пилюле? И разве этот «абулиникс» не есть воплощение моей мечты, хоть и неблагозвучное? Однако для того, чтобы произвести впечатление подходящего субъекта для изучения, я счел за лучшее изобразить известную степень неуверенности. Вполне возможно, Дэн просто подвел научную базу под дружеский интерес к моему тяжелому случаю, и желание пациента излечиться, решительно выраженное при первой же попытке избавить его от нерешительности, может тут же дисквалифицировать Дэна как врача.
— Мне нужно подумать, — промямлил я. — Я загляну в другой раз?
— Как угодно. — Дэн с безразличным видом извлек из ящика стола оранжевую баночку и небрежно помахал ею у меня перед носом. — Стащил из лаборатории. Там еще полно. Можешь начать лечение прямо сейчас, а можешь все как следует взвесить. Принимать раз в день во время еды. Сам понимаешь, нечасто появляется средство от хронической неспособности делать выбор.
Я быстро разобрался с хитроумной (от детей) крышечкой, вытряс одну бело-голубую капсулу и поднес ее к свету, словно драгоценный камень. Диагноз и лечение в одном флаконе! Я отдавал себе отчет в том, что на практике препарат может дать не совсем такие результаты, как в лабораторных условиях. Но лишь теперь, когда в ладони перекатывалась бело-голубая панацея, я понял, что абулия — моя самая серьезная проблема. Еще раньше я мысленно составил список своих проблем. Вот он:
• противоречивость
• лень
• доверчивость
• любящие родители
• внушаемость (относительно идей)
• хорошая сопротивляемость (относительно внешних факторов)
• непривередливость к размеру бюста
• вкупе с ослабленным либидо
• до сих пор не нашел подходящую женщину
• сам никому не подхожу
• чересчур развитый коллективизм
• непоследовательность во всем, кроме одного — быть непоследовательным
• раннее употребление наркотиков
• ранняя открытость для чужого влияния
• особенно для влияния родителей
• развод родителей
• брак родителей, предшествовавший разводу
• Алиса
• получение недостаточных знаний
• причем вдали от дома
• умеренность
• невоздержанность
• недостаток средств
и/или
• недостаточные знания о Der Untemehmungsgrund der Individuums
и всю свою сознательную жизнь я в упор не видел, что эти проблемы — только следствие абулии! Теперь же бело-голубые капсулы казались мне составляющими паззла под названием «сила воли». Я подорвался с ящика, вопя:
— Скорее дай, чем зажевать!
Из соседнего закутка послышался голос сонного Санча:
— Эй, там! У вас совесть есть? Заткнитесь, придурки!
— Насколько я понял, — зашептал Дэн, — тебя не интересует механизм действия препарата?
— Совершенно не интересует. — Я снова уселся на ящик. В приступе энтузиазма я совсем забыл о своей любви к знаниям.
— Сознаешь ли ты, что на разработку «абулиникса», как на поиски Святого Грааля, затрачена огромная энергия? Знаешь ли ты, что хронической неспособностью принимать решения страдает множество с виду нормальных людей? Конечно, ты можешь возразить: не потому ли они и люди, что вечно колеблются? Вроде так проще жить — обстоятельства или окружающие сами за тебя выбирают, знай себе слушайся. Однако многочисленные опросы страдающих этим расстройством показывают, что все гораздо сложнее.
— Да уж.
— Количество жалоб постоянно увеличивается. Растет как на дрожжах. По крайней мере среди тех, у кого есть деньги на психоаналитиков. — Дэн выдержал эффектную паузу. — Это не считая тяжелых случаев, когда пациента госпитализируют. Порой даже принудительно. Именно у таких пациентов вся жизнь наперекосяк. У них серьезные нарушения как на макро-, так и на микроуровне, в смысле, они будут три часа думать, как расплатиться в супермаркете — наличными или пластиковой картой. Это микроуровень. А на макроуровне они годами не могут принять жизненно важное решение, например, относительно работы или женитьбы.
— Да ты что! — воскликнул я, будто громом пораженный.
— Бывали случаи, когда пациент никак не мог решиться поменять работу или развестись — причем в назревшей и даже перезревшей ситуации… — Снова повисла пауза. У меня от ужаса шевелились волосы. — …в течение нескольких десятков лет!
Я подумал о бедной маме. О маме, которая по вечерам садилась на краешек моей кровати и спрашивала, как по-моему, смогу я привыкнуть к новой школе, если она разведется с папой и мы переедем. В конце концов я все же попал в новую школу (Святого Иеронима), а мама осталась в старом доме. И после двадцати семи лет совместной жизни именно папа подал на развод. Получалось, что любая кошмарная ситуация каким-то образом сама подразумевает способ исправления. Внутренне усмехнувшись, я отложил капсулу.
Дэн был в ударе:
— Неспособность сделать выбор проявляется даже в таких простых действиях, как просмотр телепрограмм. Страдающим неспособностью принимать решения нелегко приходилось и до появления кабельного телевидения; с появлением последнего их жизнь превратилась в ад. В современном мире эти люди чувствуют себя как загнанные в ловушку звери. Они боятся прочесть меню в ресторане или войти в супермаркет. Именно они собирались уехать в коммунистическую Румынию — до тех пор, пока заваруха там сама не рассосалась. А уж слово «интернет» при них лучше вообще не произносить. Представляешь — миллионы людей не могут пользоваться интернетом из-за проблем с выбором. А все почему?
Проблема коренилась не иначе как в том самом пресловутом яблоке, на котором Евины зубки оставили едва заметную вмятину. Наверняка зубки были прехорошенькие — ровные, беленькие… А может, и нет — откуда в раю стоматологи?
— Почему, я спрашиваю? Не исключено, что проблема кроется в медиальном переднемозговом пучке — той самой части головного мозга, где находится так называемый центр удовольствия. Однако центр удовольствия пребывает в постоянном конфликте с тезисами, усвоенными человеком в процессе цивилизации, то есть идет война между «хочу» и «надо». С одной стороны, мы имеем нервы, тянущиеся из вентрально-тегментального отдела в медиальный переднемозговой пучок и передающие сигналы удовольствия. Те самые сигналы, которые заставляют человека чувствовать эйфорию и желание что-нибудь сделать.
— Что, например?
— В том-то и вопрос. Некоторые люди просто не знают, что делать. А все потому, что в медиальном переднемозговом пучке имеется прилежащее ядро, а в нем находятся питательные вещества для тормозящих нейронов из голубого пятна. Поэтому, когда ты нюхаешь кокаин или глушишь жидкий экстази…
— Жидкий я не глушу, только простой… Погоди-ка! — Страшное и сладкое, как инцест, подозрение сверкнуло у меня в мозгу. — Надеюсь, не «Пфайзер» выпустил «абулиникс»? Кто производитель? Смешно будет, если «Пфайзер» поможет мне уволиться из «Пфайзера» же.
— К сожалению, старина, это «Бристол-Майерз Сквибб». Именно «Бристол» выпустил умный препарат последнего поколения. «Абулиникс» подавляет рецепторы, которые вызывают у тебя состояние внутреннего дискомфорта на почве боязни ошибиться. В то же время уникальная формула препарата позволяет освободить особые рецепторы, которые отвечают за решительность. Будешь как кремень. Со всеми вытекающими. — Дэн снова помолчал, погасил окурок. — Фишка в том, что препарат усиливает чувство уверенности в себе в сложных ситуациях. Я, когда узнал о нем, сразу подумал «Таки это просто подарок для Двайта Уилмердинга!».
Дэн скрючился, обняв колени. Лекция закончилась. В свое время Дэн выбрал в колледже химию в качестве специализации; кроме того, он играл на бас-гитаре в рок-группе под названием «Haiku d’Etat». Но на что он думает жить теперь? Глаза у Дэна были яркие, темные, с тяжелыми веками; я вздрогнул от внезапной мысли, что они непроницаемы, как солнечные очки. Он сидел в зеленой пижаме того же оттенка, что униформа врачей «скорой помощи». Сколько помню Дэна, он всегда спал в этой пижаме. Он походил на кота как никто из моих знакомых — ловкий, хитрый, себе на уме.
— Дэн, а ты-то зачем возишься с «абулиниксом»?
Он улыбнулся узкой кошачьей улыбкой.
— Исключительно из филантропических соображений.
— Бог в помощь.
— Дело в том, что тебя, Двайт, я в полной мере отношу к виду Homo sapiens. Тебя да еще трех человек, один из которых — я. — Он возвел на меня свои лакированные, безразличные, как градусник, карие глаза.
— Но ведь это рискованно. У твоего «абулиникса» наверняка есть побочные эффекты. Или даже противопоказания.
Дэн пожал плечами.
— Ерунда. Легкое расстройство желудка, ну, в редких случаях — сатириазис.
— А это еще что?
— Болезненное неумеренное половое влечение ко взрослым человеческим особям мужского пола. Да, еще «абулиникс» усиливает действие алкоголя. Один бокал равняется двум, два плюс два дают пять.
— Я здорово сэкономлю на барах.
— Блажен, кто верует.
— Правда, я не люблю ходить по барам — там приходится стоять. На рок-концертах и в музеях то же самое. По-моему, если бы мы были ближе к земле, мы и искусство воспринимали бы лучше. А ты как думаешь? — Возможно, так думал Ниттель, а я только повторял, не помню.
Дэн зажег очередную сигарету «Мальборо лайт». Я запомнил марку, потому что, хотя сам не курю, знаю: курильщики могут составить личностную характеристику по марке сигарет. Честно говоря, Дэн меня порой обескураживал. Блажен, кто верует? Как прикажете понимать?
Между тем Дэн продолжал:
— Должен тебя предупредить. Есть одно «но». Пока никто не поехал крышей — по крайней мере сильнее, чем до употребления «абулиникса». Однако, по-моему, опасность таки существует. А вдруг Ид[8] — чтобы тебе было проще, я использую устаревшую терминологию, — так вот, вдруг цивилизация зиждется на хрупком балансе Ид/Суперэго в медиальном переднемозговом пучке? Как хочешь называй — приличия, благопристойность, безопасность Родины, — смысл не меняется.
— Пожалуй… — протянул я. — Наверное, ты прав. — Перед моим мысленным взором возник Двайт в черном костюме и черных очках, дефилирующий по Мэдисон-авеню и хлопающий по задницам всех попадающихся на пути и поглощенных шопингом красоток. Боковым зрением этот Двайт намечал клумбы, которые не мешало бы вытоптать. Я содрогнулся. — Нет уж, такая крутизна не по мне. — При этих словах услужливое воображение подсунуло еще более заманчивую картинку: Двайт в угнанном красном кабриолете с гранатометом в багажнике мчится через штат Невада, останавливаясь лишь затем, чтобы взорвать очередной рекламный щит. — Не хочу превратиться в берсерка.
— Я это предусмотрел. Ты, Двайт, очень вежливый, общаться с тобой — одно удовольствие.
— Спасибо, Дэн.
— Ты славный парень. Добрый и все такое прочее. Даже мистер Р. так считает. — Мистер Роршач, он же Дэнов папа, несколько раз имел возможность, покачивая своей блестящей лысиной, толкнуть в мой адрес весьма высокопарную и в той же степени двусмысленную речь. Мои глаза, выпученные в усилии понять, что он имеет в виду, почему-то только укрепляли его в сложившемся относительно меня мнении. — Вот почему я считаю, что для тебя риск ниже, чем для других, более или менее «нормальных» индивидуумов. В то же время действие «абулиникса» на тебя может оказаться сильнее, чем на лиц с более ярко выраженной клинической картиной абулии. Я дам тебе минимальную дозу. Двадцать миллиграмм. Думаю, результаты нас не разочаруют. Надеюсь, Двайт, ты понимаешь, — Дэн погасил второй окурок, — что я нарушаю врачебную этику.
— Спасибо, старина. Ты настоящий друг.
Я накинул Дэнов махровый халат, и мы на цыпочках проследовали к двери. Мы направлялись в ближайший ночной магазинчик за снеками и «Джигги Джусом» (я имею в виду кофеинизированный солодовый напиток, если вы вдруг подумали про другое), чтобы отметить мой первый прием «абулиникса» со всем пафосом, достойным этого события.
— Ведь в будущем появятся таблетки буквально для всего? — спросил я.
— Для всего, но не для всех.
Дэн всегда любил говорить загадками. Пожалуй, следовало и ему прицепить кличку — Пифия, например. И ему тоже, с тоской подумал я. В те дни (и ночи) мысли о Наташе не отпускали меня — пока я не получил от нее мейл, после которого стал гнать эти мысли, скорее всего из страха сглазить.
— Эх, Двайт, знал бы ты, как я буду раскаиваться, если ты закончишь свои дни в Вермонте!
— Кажется, ты никогда еще не говорил мне более приятных слов. Ты случайно не на экстази сидишь?
Дэн оставался ярым сторонником экстази и упорно не желал признавать его нейротоксичность — даже после дня рождения Форда, которому предшествовали девять месяцев приема дури, возымевшие действие именно в тот приснопамятный вечер.
— Если бы я сидел на экстази, у меня зрачки были бы расширенные.
— Может, у тебя депрессия? Иногда мне прямо кажется, что у тебя депрессия.
От ответа Дэна спасла группа пьяных в стельку молодых людей, весьма преуспевших в жизни, судя по дорогущим рубашкам. Они вывалились из бара чуть ли не нам под ноги. Один пижон смерил удивленным взглядом мой халат (кстати сказать, отличный халат — толстенный, как ковер, шоколадного цвета, да еще с монограммой мистера Р. В таком халате не стыдно и днем выйти).
— С легким паром! — заорал пижон прямо мне в лицо.
Остальные были менее агрессивны — они вразнобой поздравили нас с Днем независимости. Для таких пижонов каждая суббота — День независимости.
— Надеюсь, этим ублюдкам недолго осталось, — произнес Дэн. — Конечно, ради них не стоит устраивать террористический акт — вполне хватит обычной авиакатастрофы.
Я тоже оскорбился. Сочетание полноты бытия с идиотизмом всегда являлось для меня как для довольного жизнью человека причиной крайнего раздражения от несовершенства миропорядка.
В магазинчике я задержался между полок со снеками. Мне хотелось еще чего-то, помимо сырных «Комбо». Мне всегда хотелось этого чего-то, и я нередко тратил десять — пятнадцать минут на поиски снеков-фантомов. Мистер Йоун давно перестал спрашивать, что мне предложить, и спокойно наблюдал за моими перемещениями по рядам. «Вы терпеливый покупатель, — говаривал мистер Йоун. — Кто не торопится, тот долго живет».
В конце концов я забил на мифические снеки и подошел к Дэну, который успел достать из холодильника две пузатые бутылки «Джигги Джуса» и держал их под мышками любовно, как младенцев.
— Знаешь, старина, завтра я снова сюда приду и сразу же куплю то, что надо. Больше никаких колебаний. Наконец-то! Дэн, как ты думаешь, когда я уже смогу легко делать выбор?
Дэн нахмурился.
— Надо было тебя предупредить. «Абулиникс» начинает действовать только на пятый — десятый день, а в некоторых случаях — и через две недели. Дней девять ты не будешь знать, работает он уже или нет. Извини. — Он скроил улыбку. — Видел бы ты сейчас свою физиономию!
Еще минуту назад в каждом пакете чипсов на полке мне виделась разгадка тайны бытия, в каждой банке шоколадного крема светилось готовое решение. Теперь все эти пакеты и банки вернулись в свое привычное многообразно-неопределенное состояние. Я снова был прежним Двайтом-чего-то-хочется-а-кого-не-знаю. Мир не изменился, разве только стал минутой старше; в свете флуоресцентных ламп заваленные полки казались полупустыми, как в бункере.
Порой Дэнов смех звучал прямо-таки зловеще.
Глава третья
Меня разбудил запах яичницы. А также прихрамывающие звуки хип-хопа из раздолбанного стерео — пум-э-пум-э-пум-пупу-пум-э-пум-э-пум-пупу, которые я идентифицировал как альбом «Смущенные сучки» — самое, на мой взгляд, выдающееся произведение группы «Электрический стул», затесавшееся в фильм «Качество жизни». Навязчивый жизнеутверждающий мотивчик накладывался на густой запах из кухни, и оба — мотивчик и запах — казались взаимодополняющими и даже взаимозаменяемыми.
Простыня справа была еще горячей, матрас не успел принять первозданную форму. Я долго зевал и собирался с духом, а когда наконец вышел в прихожую, обнаружил, что Ванитиных черных сапожек там нет. Кроме того, я обнаружил (только встав на ноги), что четыреста грамм «Джигги Джуса» плюс двести грамм, которые я отпил из Дэновой бутылки, расстроившись по поводу девяти дней неизвестности, сделали свое дело. Возраст давал о себе знать: в бытность свою в школе Святого Иеронима я мог полночи глушить дешевую водку, а утром, свежий и румяный, как горячий бублик, зубрить французский, а потом еще играть в бейсбол. Теперь же, после несчастных шестисот грамм кофеинизированного солодового напитка, мне казалось, что в следующий раз подобное времяпровождение закончится рефрешментом в морге.
— Доброе утро, Санч, — приветствовал я согбенную над плитой широкую спину.
Но мои слова потонули в хип-хопе: «Ты отправишься в колледж, я отправлюсь в тюрьму, / И уже через месяц я пойму, что к чему: / Ты ведь тоже сидишь, да еще и за бабки. / Не волнуйся, малыш, я в полнейшем порядке».
Пришлось хлопнуть Санча по плечу. Санч тут же принялся извиняться:
— Громко, да? Но ведь уже десять. Видишь, я соблюдаю правило насчет десяти утра.
— Да ладно, чего там! Вот сейчас поем твоей каши, и все будет в ажуре. — Голова трещала.
Санч выбил себе освобождение от мытья посуды, вызвавшись готовить для нас по воскресеньям завтрак. Меню его не отличалось разнообразием — нам стабильно предлагалось блюдо под неофициальным названием «каша из яиц». Сделка — чем дальше, тем больше — казалась выгодной, во всяком случае, для Санча, так как Форд по выходным обычно отсутствовал, а Дэн… Дэн тоже отсутствовал, как показали мои личные наблюдения в его закутке.
Все свидетельствовало в пользу того, что наша коммунальная жизнь рушится на глазах. Форд месяцами пропадал у Кэт — ничего не поделаешь, законы совместной жизни, хотя бы и не зарегистрированной официально, достаточно строги. Дэн день ото дня становился все неуловимее. Ярко выраженный абсентеизм Санча — в большей степени душевный, чем телесный, потому что его жирное тело вечно торчало в квартире, — так вот, абсентеизм Санча начался в тот день, когда медицинский веб-сайт, в финансировании которого он участвовал, успешно провалился. В результате у Санча поехала крыша: он курил траву в течение двадцати шести дней подряд (абсолютный рекорд), нашел временную работу и разослал свое резюме в девять университетов на четыре совершенно разных факультета. Он до сих пор не решил, в какой университет податься, и почти разорился на арендной плате за троих.
Я уселся на продавленный, видавший виды диван. Пошарил у себя в боксерах, нащупал яйца, без задней мысли взвесил их на ладони и выпустил. Интересно, какие действия подскажет мне «абулиникс», когда закончится срок аренды? Уехать в Вермонт? И впрямь уехать в Вермонт? Неужели все-таки в Вермонт? А может, лучше мы с Дэном снимем квартиру в Нью-Йорке? Но если так, мы должны были бы уже вовсю заниматься поисками. (Я встал и пошел искать свой Список Важных Дел.) А вдруг пора уже рассмотреть кошмарную, зато бесплатную перспективу переезда к маме? Или к папе… Однако какой смысл пережевывать варианты, пока «абулиникс» не выдаст готовое решение? В итоге единственное слово, которое я, смачно рыгая, внес в список, было «ТЕРПЕНИЕ!».
Поскольку одним из предметов, в которых намеревался совершенствоваться Санч, являлась американская культура, я вздумал расспросить его о фильме «Качество жизни».
— Санч, там хоть к концу ясно, белые эти ребята или черные?
— Они, Двайт, скажем так, черные ребята прикидываются белыми студентами колледжа, которые ведут себя как черные. Косят то есть под черных.
— Так они черные?
Санч кивнул.
— Видишь ли, пропаганда декаданса просочилась уже и в мейнстрим. Может, в «Таймс» что-нибудь на эту тему напишут.
Я поплелся на лестницу, вытащил из почтового ящика воскресный выпуск «Нью-Йорк таймс» и принес эти четыре пахнущих типографской краской фунта полезной информации на кухню. Обычно я прочитывал не более двух унций, оправдывая себя тем, что газету мы выписывали коллективно, а также самой природой воскресного дня — обещать золотые горы и ничего не выполнять. Действительно, что бы я стал делать с золотыми горами? По воскресеньям, если погода хоть под каким-нибудь углом зрения казалась ненадежной, я сидел дома, накачивался кофе и смотрел в окно на исчезающих в дверях магазинов и ресторанов законопослушных граждан и спешащих по своим делам террористов. Я наслаждался невозможностью отправить, хоть и с опозданием, налоговую декларацию или собственное резюме, а также получить напоминание от арендодателя или отчет о состоянии моего счета.
Не успел я усесться на Дэнов колченогий бамбуковый табурет — побратим его же стула, — как зазвонил телефон. Он звонил будто подорванный, причем у меня в руке. Оказывается, я взял трубку, спутав ее с пультом от телевизора.
— Чемберз-стрит, — произнес я хорошо поставленным голосом, в котором даже детектор лжи не смог бы уловить ужас.
— Двайт, ты уже вышел? Ты вообще что делаешь?
— Алиса! — Моя обожаемая сестра. — Как я рад тебя слышать!
— Двайт. — В напряженности Алисиного голоса угадывалось мамино присутствие. Взгляда на старорежимные часы, висящие на гвозде, было достаточно, чтобы примерно прикинуть, во что сейчас одеты Алиса и мама. А это видение потянуло за собой цепочку ассоциаций, оборвавшуюся на маминой просьбе пойти в воскресенье всем вместе в церковь — просьбе, на которую она так и не получила ответа. «Черт!» Этот пункт в Списке Важных Дел я переписывал с понедельника на вторник, со вторника на среду и так далее, но мыслей насчет «да» или «нет» не прибавлялось.
— Алиса, я уже выхожу.
У меня было две чистые рубашки. Я зажмурился, схватил одну из них и открыл глаза лишь после того, как застегнул все пуговицы. Рубашка оказалась синей. Я вдел свои шерстистые ноги в штаны цвета хаки, вполне приличные, туда же запихал подол рубашки, натянул полосатый пуловер и рванул к двери, на ходу бросив в кухню:
— Санч, на меня яичницу не жарь.
— А для кого я готовлю, мать вашу?! Я скоро ни в одну дверь не влезу! Какая же ты сволочь, Двайт.
На последнем аккорде я как раз вылетел из подъезда. На улице я притормозил, чтобы повязать и расправить галстук с цветочным рисунком. Он, как всегда, несколько примирил меня с погодой. В нашем районе о весне напоминали только теплый воздух, пропитанный запахом сирени, и листочки на чахлых грушевых деревцах. И на том спасибо. Я метнулся за угол, чтобы поймать такси, и удивился, что не почувствовал позывов на рвоту.
Ванита стояла у бровки тротуара. На одной руке у нее висела коричневая сумка, другой она голосовала. Желтое такси уже замедляло ход.
— Привет, красавица, — поздоровался я.
Ванита отступила на шаг.
— Больше не показывайся мне при дневном свете. Ты живой?
— К вечеру оживу. — Я влез в такси вслед за Ванитой.
— А ты куда?
Куда она направлялась, я и так знал — на обед под кодовым названием «Сделай папе с мамой приятное». Чтобы папе с мамой, а также другим родственникам было совсем уже приятно, на обед приглашался какой-нибудь индийский брамин, непременно молодой, холостой, симпатичный и перспективный.
— В церковь, — отвечал я.
— Да-да, как же я забыла — мамочкин новый бзик.
Ванита маму не жаловала. Возможно, потому, что мама всегда произносила ее имя — как, впрочем, имена всех моих подружек или потенциальных подружек — уничижительно-снисходительным тоном, словно имя являлось мелкопоместным титулом в какой-нибудь третьей стране. «Ванииита, — старательно, как бы боясь выпустить слог и ляпнуть «мамзель» вместо «мадемуазель», тянула мама. — Вам нравится в Нью-Йорке?»
Услышав эту фразу во второй раз, Ванита ответила «Видела я дыры и похуже». Кажется, именно при этих словах я впервые захотел Ваниту — очень возбуждает, когда за шутливым тоном твоей девушки сквозит презрение к твоей же матери.
— Остановите на углу Одиннадцатой, — попросил я в толстую шею таксиста.
В такси я всегда чувствовал себя щедрым, как раджа; кроме того, мне нравилось приезжать в последний момент — надо же где-то брать острые ощущения. Вооруженный этими ощущениями, я со скрипом повернулся, чтобы поцеловать Ваниту.
— Господи, да чем от тебя разит? «Джигги Джусом», что ли? С кем ты успел набраться, пока я спала, — неужто с герром Ниттелем?
Она слегка ревновала меня к «Применению свободы». Даже не слегка, а довольно сильно. Иногда Ванита в шутку жаловалась, что Ниттель мне дороже, чем она. В любом случае мне действительно было чему поучиться у старины Отто.
Как правило, если вы игнорируете один вопрос, вам задают второй. Ванита моментально сориентировалась и вновь подняла опущенную было тему «Куда мы пойдем в мой ближайший свободный вечер».
— Я совершенно свободна в среду, — быстро сказала она, — и в четверг после восьми.
— Я думаю.
Ваниту напрягала моя неспособность быстро предложить полдюжины способов совместного времяпровождения. Я выдвигал железные аргументы: она, Ванита, так много для меня значит, что я просто не могу выбрать ресторан, достойный такой женщины, да еще с приемлемыми для нас ценами, а в ответ выслушивал обвинения в софистике. Я гордился, что Ванита знает единственное слово, способное меня задеть.
— Ну так как? — поторапливала Ванита.
— Все еще думаю, — отвечал я тоном комментатора новостей.
Улицы были по-воскресному пусты. Мы мчались по Шестой авеню, как дурь по венам. Полоса солнечного света проникла в окно с восточной стороны и улеглась на Ванитиных коленях, обтянутых черными колготками, я же поймал себя на том, что рад похмельному синдрому. Иногда от похмелья большая польза — в другом состоянии элементарные умственные усилия представляются настолько легковыполнимыми, что выполнением приходится пренебречь. Но именно сейчас простой вопрос насчет среды казался мне идеально соответствующим уровню моих умственных способностей, поэтому я, не сомневаясь более ни минуты и с достойной лучшего применения непоколебимостью, выдал:
— «Камбоджийские деликатесы». Давай сходим в камбоджийский ресторан в Бруклине. В среду вечером или в четверг после восьми. Не знаю, как ты, а я бы с удовольствием поел чего-нибудь камбоджийского.
Меня всегда впечатляла цельность Ванитиного характера и определенность ее желаний (если они не касались наших с ней отношений). Скажу больше: эти качества побуждали меня стать таким же цельным и определенным. Увы, я был способен только на жалкую имитацию, да и то на первых стадиях. Лишь когда оказывалось слишком поздно — я уже вовсю давился свининой в кисло-сладком соусе, мечтая о клецках с начинкой, или глотал клецки, вожделея досаев[9], — мне удавалось определиться с собственными гастрономическими и локальными пристрастиями, каковое умение для ньюйоркца является первостепенным, поскольку ресторан в современном мире есть прежде всего средство самовыражения. Мало того: чтобы не походить на вечно колеблющихся типов, всегда осуждаемых мною в унисон с окружающими, я старался проявлять настойчивость, в данном случае — на камбоджийском ресторане. И не прогадал! Потому что «Камбоджийские деликатесы» оказались не только единственным известным мне камбоджийским рестораном, не только очень дешевым рестораном, но и рестораном, название которого полностью соответствовало его же специализации! Пока не поешь в ресторане, не узнаешь, хорош он или плох. Я в тот раз был полностью вознагражден: треугольнички жареного тофу оправдали звание «деликатесов» даже для моего искушенного нёба.
— «Камбоджийские деликатесы»! — повторил я. Звучало отлично — по крайней мере речь шла о еде, а я ведь не позавтракал. Однако я с прискорбием заметил, что, лишь изображая лояльность, человеку удается осознать степень своего предубеждения. Я натянул широкую улыбку, которая должна была скрыть мое позорное состояние, и посмотрел на Ваниту. Я смотрел на Ваниту, понимая, что смотрю еще и сквозь нее, а также сквозь проносящиеся за окнами кирпичные здания, снабженные зигзагообразными пожарными лестницами, сквозь флаги всех цветов радуги, сквозь ослепительные стекла — и за всем этим вижу прекрасный день, когда «абулиникс» начнет наконец вторжение в мой мозг.
— Обожаю, когда ты так рвешься в какой-то конкретный ресторан, — сказала Ванита. — Можно подумать, что ты беременный. — И она положила ладонь мне на бедро.
Я, в свою очередь, положил ладонь ей на бедро. Очень скоро нам с Ванитой придется решать, что делать: стать парой, остаться парой или перестать быть парой. Я уже предчувствовал побочный эффект вроде изжоги, и мне хотелось наслаждаться теперешним состоянием, пока возможно. Поэтому я взял Ваниту за руку, как юный влюбленный. Плевать, что этот романтический жест может пагубным образом повлиять на наше окончательное решение в пользу продолжения физических контактов — очень нежелательный исход событий, даже, я бы сказал, худший исход событий из всех возможных при равных остальных условиях. В конце концов, Ванита знала меня в контексте абулии, а люди, которым известны наши недостатки, способны (иногда) скорректировать наше поведение.
— Так что ты там надумал относительно Вермонта? — внезапно спросила Ванита.
Я опешил — мы с ней никогда не говорили о Вермонте.
— И не надо на меня смотреть как на сумасшедшую. Я видела твои записки. Сам оставил на комоде для всеобщего обозрения. «ВАНИТА, ВЕРМОНТ» — как сейчас помню. Не знаю, когда ты собираешься ехать, но имей в виду — у меня отпуск в августе. Две недели. Это намек.
Я сжал Ванитину руку.
— Намек понял.
И тут же решил отложить обдумывание отъезда в Вермонт до тех пор, пока не начнет действовать «абулиникс».
— Я тебя поцелую, хоть от тебя и разит перегаром, — заявила Ванита.
— Рискни, — промямлил я.
Глава четвертая
Я вышел на Одиннадцатой.
— Позвони мне, — сказала Ванита, и я ответил:
— Обязательно.
Я побежал к маминому дому. Я бежал по типичной среднеклассовой улице, мимо автомобилей всех марок и поколений, мимо опушенных первыми листочками деревьев, мимо здания начальной школы — бетонного, с алюминиевыми стеклопакетами, выкрашенного в основные цвета спектра. Обычно на улицах Нью-Йорка я не заострял внимания на особенностях архитектуры. Меня не оставляло ощущение некой предопределенности свыше: дескать, эта улица и этот дом уже заняты, незачем фиксировать их в памяти. Но Одиннадцатая улица действительно была славным местечком — если, конечно, представить на веранде себя или своих друзей. Мама переехала сюда всего за несколько месяцев до описываемых событий, после того, как во второй или третий раз порвала с доктором Хайаром. Так совпало, что именно в этот период она стала очень набожной.
Мама жила теперь в доме из коричневого камня, отличавшемся от остальных лишь тем, что его фасад скрывался за строительными лесами. В Нью-Йорк она переехала, «чтобы не расставаться с детьми», и, если вы представляете себе карту нашего славного города, вам ясно, что мама в последние годы медленно, но верно к этим детям приближалась. Сначала она жила у миссис Хоуленд в Верхнем Ист-Сайде; затем удачно съехала к доктору Хайару в небольшой престижный район, который, кажется, кроме нее, уже никто не называл Тертл-Бэй; наконец, сняла вот эту квартиру по соседству с больницей Святого Винсента — примерно за месяц до того, как стены последней стали могилой для жертв 11 сентября. Затем мама, видимо, на почве антитеррористической паранойи, порвала с доктором Хайаром — кстати сказать, славным дядькой с чувством юмора, практикой ортопеда, очень волосатыми руками и синуситом, — и теперь снова была одна. Бог знает, чем она занималась целыми днями. У меня сложилось впечатление, что арендодатель убеждал маму, будто фасадные работы близки к завершению, гораздо чаще, чем в подтверждение его слов на лесах нарисовывались люди в касках и комбинезонах. Меня возмущало, как этот прохвост и его команда умудряются растягивать, словно сетку на фасаде, мамин и без того не короткий переходный период, во время которого она старалась привыкнуть жить без папы, восполняя его отсутствие разными доступными ей способами.
Посещение воскресных служб в сопровождении детей мама стала практиковать сравнительно недавно. На самом деле ее приверженность Епископальной церкви находилась на стадии полной уверенности, что тернистый путь увенчается духовным саном. Мама всем и каждому готова была с помощью ярких примеров доказать, как сильно Церковь отклонилась от пути истинного. Она даже пыталась издать брошюру «Вегетарианство и Епископальная церковь» и припахала бедняжку Алису ее печатать. Мама считала, что Церковь, если, конечно, она намерена соответствовать требованиям времени — каковое соответствие всегда было под большим вопросом, — так вот Церковь должна принять на себя ряд нравственных обязательств наряду с запретом определенных продуктов питания. Последний пункт живо вызвал в памяти прошлогодний обед в День благодарения, на котором присутствовали мы с Алисой, доктор Хайар, бывший пастор из Кливленда с супругой, а также гвоздь программы — огромная поджаристая тофейка, она же индейка из тофу.
— Оооо! — снисходительно протянула супруга пастора, поджала губы и принялась жевать кусочек тофейкиной грудки одними передними зубами, чтобы как можно меньше чувствовать вкус.
Мы сидели в маминой темной гостиной, обшитой панелями темного дерева, в которой еще темнее было из-за сетки на фасаде. В комнате отсутствовали картины и безделушки, а в качестве украшения белел только прямоугольный барельеф с Распятием. Две клетки, каждая на своей полке, с попугаями Баджем и Гордоном, казались сувенирами из другого, почти экваториального периода маминой жизни.
Я затормозил, перевел дух и вспомнил, что считал словосочетание «Шарлотта Белл» шутливым названием кнопки звонка, пока мама не раскрыла мне свою девичью фамилию. Я надавил на звонок и принялся, смотрясь в стекло тяжелой двери темного дерева, приводить в порядок волосы, точно такие, как у мамы.
— Мам, отличная получилась тофейка, — поздоровался я. Тофейка действительно была совсем не так уж плоха.
— Надеюсь, эту тофейку не кормили костной мукой, — сказал экс-пастор, пригубил вина и в богатом послевкусии без труда выделил собственное остроумие.
— По-моему, для Церкви священник с чувством юмора — просто находка, — постно произнесла Алиса. Экс-пастор с супругой немедленно узрели в моей сестре начатки благочестия, а мама возрадовалась.
Каждому хотелось продемонстрировать доктору Хайару, как мы ничего не имеем против арабов, особенно если они являются преуспевающими врачами, и экс-пастор осведомился весьма деликатно, как у него обстоят дела с того самого дня, когда… ну то есть в последние несколько… в общем, вы понимаете, доктор Хайар.
— Все не так скверно. Мне до сих пор почему-то разрешено жить в небоскребах.
Благочестивая чета обменялась растерянными взглядами — дескать, не рановато ли шутить на такие темы. Я попытался смягчить впечатление от неуемного юмора доктора Хайара, выразив надежду, что пластырь на переносице последнего пока не стал причиной его озабоченности поведением отдельных патриотов из ООН.
— Двайт! — воскликнула мама.
Доктор Хайар хихикнул.
— Ну что ты! Пока причина моей озабоченности — только мой же синусит.
— Феликс очень ранимый, — заверила мама. — Мы вместе оплакивали… ну, вы понимаете. Но слезами горю не поможешь.
— Зато они отлично прочищают пазухи носа, — подхватил доктор Хайар. — Если бы я рыдал день и ночь, я бы уже давно вылечился. Зато теперь, вообразите, моя дочь обвиняет меня в попытке иссечения ливанской опухоли — так она это называет.
Алиса усмехнулась.
— Иссечение ливанской опухоли, говорите… Это случайно не то, что пытается сделать Израиль?
— В общем, да. С помощью соседей. — Несколько помрачневший доктор Хайар торопливо допил вино.
— Ближний Восток прямо-таки лихорадит, — констатировала экс-пасторша.
— Но мы стараемся помочь, — произнес ее супруг.
— Конечно, — отвечал доктор Хайар. — По-моему, в ближайшие несколько лет каждая из сторон будет помогать другой в нелегкой задаче самовыражения.
— Совершенно с вами согласна, — подхватила Алиса. — Терроризм — это форма лести, причем самая искренняя. Вот какие мы все свободные и честные.
Маме Алисины слова не понравились. Я смутился. Экс-пастор и его супруга уставились в свои тарелки.
— А знаете что, — сказала мама, — давайте сейчас встанем в круг, и пусть каждый скажет, за что он благодарен Америке. А все мы вместе благодарны Америке за то, что у нас есть такие люди, как Алиса. Они — наша совесть.
Из-за двери я слышал, как мама и Алиса наперегонки спешат вниз по лестнице. Раньше Алиса никогда не бегала по дому — по нашему старому дому, в Лэйквилле; она передвигалась так, словно делала одолжение, всем своим видом давая понять, что пребывание ее в этом жилище временное и сугубо вынужденное. Мамин риторический вопрос «Почему ты ведешь себя как внутренний враг?» в те времена звучал рефреном к каждому часу каждого дня. Но с некоторых пор мама стала очень лояльной по отношению ко всем животным, включая Homo sapience, и уже не жужжала с утра до вечера. Теперь она прекрасно ладила с Алисой, жившей всего в нескольких кварталах, ближе к центру. Отношения с папой у обеих были чуть прохладнее, поскольку именно он подал на развод. Мои же симпатии принадлежали папе — ведь он их не заслуживал, а значит, особенно в них нуждался.
Дверь открылась. После поцелуйства «в щечку» и обмена «добрыми утрами» мы направились в церковь Вознесения.
— Что-то у нашего Двайта лицо зеленоватое, — сказала мама.
— Еще какое! — Алиса быстро провела рукой по моей мятой щеке.
— Ходить в церковь, когда не в чем каяться, — только время терять, — парировал я.
— Двайт, мы же не католики.
Алиса сплела свои пальцы с моими, и мы принялись при каждом шаге взмахивать сцепленными руками. Мне это ужасно нравилось — до сих пор, хотя мы с Алисой давно вышли из соответствующего возраста, — и несмотря на то, что любой физический контакт с моей сестрой вызывал в памяти наш с ней пакт и, соответственно, ужас: вдруг он, пакт, будет в силе всю оставшуюся нам жизнь, каковая жизнь закончится взаимными утешениями последних из Уилмердингов, так и не сумевших создать семьи.
На маме был очень ее молодящий светло-зеленый костюм с отливом, появлявшимся, если смотреть под соответствующим углом; пока мы пробирались на свои места, она приветливо раскланивалась со знакомыми. Органист настраивался на радостно-пафосный лад. Алиса надела легкое светло-желтое платье, совсем простое, и выглядела как подружка невесты. К сожалению, прошли те времена, когда моя сестра носила устрашающий костюм, состоявший из ошейника, черных кожаных штанов и розовой рубашки с застежкой поло, причем накрахмаленный до железобетонного состояния подол заправляла в штаны с нарочитой небрежностью, так что он недвусмысленно топорщился под ширинкой. «Алиса, что у тебя за вид! Ты зачем под панка косишь?» — этими словами мама начинала каждое утро. Я не вмешивался, потому что был почти влюблен в свою чокнутую сестрицу, и только молча аплодировал.
Двери закрылись, стало почти темно. Пастор, псаломщики и певчие в шуршащих облачениях двинулись по нефу с разноцветными хоругвями. Служители епископального культа умеют устроить шоу, ничего не скажешь. Я наслаждался ощущением торжественности момента, которое всегда охватывало меня в церкви. Казалось, даже панели потемнели от многочисленных медитаций, даже солнечный свет не просто так, а со смыслом пронизывал желтоватый от ладана воздух.
Служба началась, но я думал о своем. Да, верно, одурачить меня не составляло особого труда; тем не менее я никогда ни секунды не верил в Бога. Поэтому я думал не о Нем или Его Сыне, а об «абулиниксе». И все же, пока я слушал, хотя и не слышал, преподобного Уитроу, лицо мое само собой приняло выражение неподдельного благочестия и созерцательности, каковые чувства голос преподобного без труда внушал менее скептически настроенным прихожанам, и очень скоро я обнаружил, что молюсь. «Боже, сделай так, — повторял я мысленно, — чтобы я достиг или получил каким-то иным способом, в идеале в течение двух-трех недель, но обязательно прежде, чем состоится вечер встречи выпускников — ибо Ты знаешь, как мало у меня времени, — чтобы я достиг, с помощью лекарства или без нее, такой ясности и здравомыслия, и сердечного успокоения, какие до сих пор не посещали меня во время моего темного, а впрочем, довольно приятного пребывания на грешной земле, хотя я их и не искал, по крайней мере не идентифицировал как таковые, — ибо я задумал пуститься в путь и чаю именно в пути начать поиски». Потом до меня дошло, что называть в молитве то, к чему я стремлюсь, сердечным успокоением, чревато, и я добавил: «Боже, дай мне разобраться в своих стремлениях».
Когда служба кончилась, мама поднялась со скамьи и направилась к преподобному за причастием. Я смотрел, как она идет по нефу, такая нарядная в зеленом костюме, такая стильная с новой короткой стрижкой.
— Мама шикарно выглядит, — шепнул я Алисе.
— Двайт, ты вообще понимаешь, что происходит?
— Конечно, понимаю. Отчасти.
— Наша с тобой мать стала ревностной приверженкой Епископальной церкви. Она теперь монахиня.
— Да? А я думал, что у этой церкви не бывает…
— Я тебе говорю. Чарли, — так маму называл папа, а вслед за ним и Алиса, — Чарли — сама себе секта.
— Разве это плохо? По-моему, ничего страшного.
— А как ты думаешь, почему она так разоделась?
Некоторое время Алиса на меня ужасно злилась, и сейчас мне хотелось сказать то, что ей хотелось услышать.
— Наверное, потому, что в нашей стране свирепствует индустрия красоты. Женщина хочет — не хочет, а должна стремиться соответствовать заданным стандартам привлекательности. Да?
— Чушь. Чарли так одевается, чтобы убедить себя: она сама выбрала одиночество.
— Ну, не знаю.
— А ты пораскинь мозгами — и придешь к этому же выводу.
На самом деле меньше всего мне хотелось раскидывать мозгами на тему, должна ли моя мать заниматься сексом, как часто, с кем, в каких позах, какие использовать вибраторы и смазки. Но Алиса — смелая женщина, не обремененная ни почтительностью, ни прочими аналогичными предрассудками.
— Мы с тобой должны убедить маму снова начать есть мясо, — заявила она.
— Кто бы говорил! — На всех семейных обедах Алиса вяло ковыряла вилкой даже блюда, не зараженные гормоном смерти, в то время как мы все за обе щеки уплетали мертвечину — возможно, именно тип питания моей сестры явился первым ударом, который пробил брешь в патриархате, царившем в нашей семье и зиждившемся на воинствующей всеядности. — Разве не ты клялась, что никогда не станешь навязывать родителям своего мнения? Мама стала вегетарианкой. Да ты просто прыгать должна от радости, причем вместе с бедными зверюшками.
— Мама стала проповедовать аскетизм. Поэтому и мяса больше не ест. А я, чтоб ты знал, ничего не имею против маленьких радостей жизни.
— Это против каких же конкретно радостей ты ничего не имеешь? Перечисли, сделай милость.
Но Алиса только смерила меня презрительным взглядом и слегка тряхнула головой.
Чтобы завершить службу как подобает, паства затянула псалом: «Утро настало, как Первое утро, / Дрозд распевает, как первая птица…», распространенный в массах Кэтом Стивенсом[10]. Когда мама, получив причастие, вернулась на свое место, я тоже пел стоя, присоединяя свой нетвердый тенор к хору, без сомнения, исключительно белых прихожан. Я не мог избавиться от мысли, что этот псалом предложила спеть именно мама и именно с целью заманить овечек вроде нас с Алисой, вскормленных на классике рока, в лоно Святой Церкви. Мама всегда боялась, что мы от нее отдалимся, и во избежание этого как могла старалась разделять наши интересы. С книгами у нее получалось; с музыкой — не очень. Например, через несколько месяцев после смерти Курта Кобейна[11] мама так прокомментировала — или, по выражению Алисы, промаментировала — это эпохальное событие: «Я видела фото бедняги. И кто только выбрал для него эту позу?»
Мы с Алисой все отрочество пытались выбраться из гетто классического рока, защищая музыкальный гений от лучших суррогатов в виде рок-н-ролла эпохи Родителей. В тот день мы ехали в супермаркет. Алиса, повернувшись к маме, изрекла:
— Чарли, Курт Кобейн был в полтора раза круче каждого из битлов. Он сочинял шедевры.
Как сейчас помню: в тот момент даже солнце скрылось.
— Допустим. В таком случае, Алиса, назови хотя бы некоторые из этих шедевров.
— «Трахни меня», — не растерялась Алиса. Я тоже считал эту композицию самой сильной в последнем альбоме.
Мама повторила название, поджав губы, и заявила:
— По-моему, это кошмар.
— Не кошмар, а выражение протеста.
Даже с заднего сиденья я различал сарказм в маминой улыбке, когда она с интонацией инквизитора спросила:
— И против чего же этот протест, милая?
— Против культуры, — последовал ответ.
Мама поймала мой взгляд в зеркале заднего вида.
— Да, — подтвердил я. — Против культуры во всех ее проявлениях.
— И что же вам, дорогие мои, не нравится в нашей культуре… или в ее проявлениях?
— Например, у нас пропагандируется жестокость, — предположил я.
— Мы ненавидим воинствующий цинизм, — заявила Алиса.
Бедная мама! Мне всегда хотелось, чтобы у нее был еще один ребенок, кроме — и уж получше — нас с Алисой. Однако желания самому стать таким паинькой у меня не возникало; также я не мог сподвигнуть на это дело сестру. Хотя Алиса отлично училась, ее поведение оставляло желать лучшего. Мое же добродушие, никогда не вызывавшее сомнений, прямо-таки било в глаза при родителях: я отчаянно подхалимничал, стараясь отвлечь их внимание от своей учебы; если мне это не удавалось, я бывал наказан за неактивное развитие умственных способностей. Мы с Алисой не давали маме ни малейшей возможности применить хоть какие-то воспитательные методы. Очень рано мы прекратили обычную для братьев и сестер междоусобную войну и заключили договор о союзничестве в борьбе против родителей. Папу вполне устраивал статус отца семейства с разделением обязанностей; он возглавлял семейный совет лишь виртуально и не принимал решений относительно наказаний или поощрений. Плюс он считал, что нас перевоспитать невозможно, как, впрочем, и всех остальных, начиная с него.
Мама тоже не требовала от нас ничего сверхъестественного; особенно ее лояльность проявлялась в отношении к Алисе. Главное, по мнению мамы, чтобы девочка росла счастливой гетеросексуалкой и чтобы одевалась, как счастливая гетеросексуалка. Однако Алиса упорно придерживалась в одежде стиля панка на ранней стадии развития, вдобавок время от времени бросала фразы типа: «Да, я сплю и с девушками, и с парнями. И что?» Алиса продолжала обличать и после того, как холодная война закончилась и нам перестало казаться, что мы родились на свет с единственной целью — превратиться в кучку пепла. В 1991 году моя сестра стала марксисткой и без устали убеждала папу в следующем: хоть она, Алиса, и считает, что с социализмом надо попробовать еще один, последний раз, однако не имеет намерения, когда революция наконец грядет, ни лично подвергать его (папу) экзекуции, ни сподвигать на это товарищей по партии.
— Давай, дочка, покажи зубки, — подначивал папа. — Партии не нужны бесхребетники. Твой отец — консультант по торговле фьючерсами. Если ты такого империалиста не можешь прикончить, на что ты вообще способна?
После этих пикировок Алиса всегда плакала — хотя вообще-то ее мало что могло довести до слез. Она готова спасти отцу жизнь, а он язвит!.. Скоро она зареклась есть мясо, а заодно и ходить с папой на охоту. Правда, рогатую голову каменного козла — настоящего каменного козла, трофея из последнего их с папой путешествия в Африку, — от изголовья своей кровати Алиса не убрала. Действительно, в стеклянных глазах светилась житейская мудрость — козел будто понимал, что некоторым внутрисемейным конфликтам противопоказано излишнее освещение.
Мы вслед за мамой встали в очередь за благословением и мало-помалу продвинулись к преподобному Уитроу. Раскрасневшийся преподобный нервно хлопнул меня по спине, скроил улыбку шоумена и сообщил, как его радует тот факт, что моя сестра и я вновь стали проявлять интерес к Церкви.
Я изо всех сил старался сдерживать пары «Джигги Джуса», пока мы сопровождали маму домой. Она вновь упомянула о том, насколько серьезно ее намерение поступить в семинарию и сподобиться рукоположения.
— Не имею ни малейшего желания докатиться до уровня домохозяйки, которая гребет по супермаркету с тележкой и только и думает, чего бы еще попробовать. Но и строить из себя представительницу богемы тоже не по мне. Двайт! — Мама остановилась посреди тротуара и обернулась. — Двайт, тебе не кажется, что Нью-Йорк имеет свойство растворять человека в себе? Человек начинает принимать городскую суету за собственное душевное волнение. С тобой так не бывало?
— Еще как бывало! — немедленно подхватил я с целью произвести впечатление чуткого собеседника. — Чтобы я стал таким вот бритоголовым хлыщом в обтягивающих джинсах и кожаном пиджаке, да еще с карманной собачонкой, — да никогда!
— Вот видишь, мама, — констатировала Алиса, — я давно говорила, что Двайт у нас голубой. Этим все объясняется.
Но мама от Алисиных домыслов всегда открещивалась — она мечтала о внуках.
— Что ты несешь? Двайт такой мужественный, — возразила она.
В этот момент я очень мужественно рыгнул, невольно утвердив маму в ее мнении.
Мама только вздохнула.
— Последствия продолжительного сидения в Епископальной церкви, — объяснил я.
Меня мутило. По воскресеньям вероятность как встречи с мамой, так и всех вытекающих отсюда последствий была заметно выше, чем в другие дни, — обычная, ничего не значащая статистическая конвергенция, которая, однако, может создать ложное впечатление.
— Мама, если бы я действительно злоупотреблял, я бы сейчас тут не шел. Я ведь легковес. Мне бы следовало пить больше. Или хотя бы чаще.
На северной стороне Одиннадцатой мы с Алисой расцеловали маму и заверили ее в скорейшей встрече с нами обоими. В маминых голубых глазах отразилась любовь, и я понял: она (любовь) так сильна, что мама сама ее боится. Думаю, мама настолько глубоко прониклась жизнью ближнего своего (например, мужа и детей), что увиденное потрясло ее, и она зареклась заглядывать на самое дно. Надо сказать, я прекрасно представлял, как человек может скрывать чувства от их избытка.
— Счастливо, — сказали мы друг другу и собрались расходиться.
Мама отодвинула щеколду калитки, исчезла в строительных лесах, но через несколько секунд снова появилась.
— Дети, сходите куда-нибудь, развейтесь. Вот, Двайт, возьми на мелкие расходы. — И мама вложила мне в ладонь несколько банкнот. — Своди в кино сестру, а то она совсем в книжках закопалась. И купи себе жвачку.
Я вернулся к Алисе, которая ждала меня на тротуаре, и спросил, хочет она в кино или не хочет.
— Может, попадется документальный фильм. Об эксплуатации трудящихся, например.
— Оставь деньги себе.
— Алиса, давай сходим. Признаю, последний раз, когда мы проводили время вместе, я вел себя неподобающим образом. Извини.
Алиса молчала. Действительно, мы не обсуждали тот случай с самой осени.
Наконец Алиса спросила:
— Ты с кем-нибудь встречаешься?
— А тебе-то что? Ты сама уже монашкой стала, как мама.
— И что тут удивительного? Я одна сейчас, потому что когда-то, в незапамятные времена, у мамы имелся муж.
— Называла бы уже вещи своими именами, как привыкла. Стесняться в выражениях ни к чему. Ты монашка, только служишь не Богу, а коммунизму.
— Итак, я монашка, потому что… Ну-ну, договаривай!
— Алиса, надеюсь, ты сейчас не ляпнешь ничего такого, о чем потом будешь жалеть. День тогда выдался нелегкий, и не только для тебя.
— Убедил. Расслабься. Да, я же задала тебе вопрос: ты с кем-нибудь встречаешься?
— Ты кого имеешь в виду — психоаналитика или девушку?
— Девушку. В смысле женщину.
— Да, вроде того. Я встречаюсь с Ванитой. До сих пор.
— Вроде того, — повторила Алиса. — Никогда определенно не скажешь.
— Алиса, я не могу преодолеть оставшуюся между нами натянутость.
— Ну у тебя и выражения! Будто разговорник цитируешь.
— Обычные выражения. Как у всех.
— Я не собираюсь препираться с тобой посреди улицы.
— Думаешь, мама следит из окна? Да тут из-за лесов ничего не видно. И не станет она подсматривать.
Алиса сказала, чтобы я оставил деньги себе. Я попытался засунуть купюры ей в кулак. Она быстро среагировала, но я оказался быстрее — и две двадцатки упали рубашками вверх на заплеванный жвачкой тротуар.
— Подними, — велела Алиса. — Мама увидит.
— А еще называешься членом коммунистической партии…
— Никаким членом я не называюсь.
— Странно: ты, член компартии, не учитываешь вероятность того, что деньги подберет какой-нибудь прохожий. И ведь не побрезгует, заметь. И до двух сосчитать не успеешь, как баксам ножки приделают.
— Двайт, подними деньги.
— Нет, Алиса, ты подними.
— Какой же ты идиот!
— Ты склонна все упрощать.
И с этой новой информацией — раньше я полагал, что абулия — мой единственный порок, — я повернулся на каблуках и зашагал прочь. Алиса сделала то же самое. Пройдя полквартала, у перекрестка, я оглянулся, чтобы узнать, не идет ли за мной Алиса — она не шла — или не поднял ли кто деньги. Ужасно неприятно было оставлять валяться на дороге целых сорок долларов, поэтому я решил вернуться за ними, а потом догнать Алису. Я полагал, что деньги в большей степени мои, а также знал, что Алиса любит меня — даже несмотря на то, что я ее брат.
Из пиццерии вышел тип, нагнулся и стал отдирать что-то от тротуара. Сорок долларов, что же еще! Я развернулся, сделал несколько шагов, скорчился, и меня вырвало скисшим «Джигги Джусом» вперемешку со снеками, такими же скисшими. От этого мне на время стало лучше во всех отношениях. Однако, как ни радовался я данному факту, я не мог не понимать, что мои ощущения вряд ли разделяет тощий дядька лет пятидесяти, в спортивных штанах, кожаных шлепанцах и футболке, возникший на веранде — надо полагать, своей собственной веранде, — в те минуты, пока я был целиком поглощен очисткой желудка.
— Ты что делаешь? Это же моя новая урна!
Я поднял на дядьку просветленный взгляд.
— Простите, у меня абулия.
Почему-то мне вдруг стало ужасно смешно. Мне было жаль незадачливого домовладельца, но не слишком, и я, время от времени оглядываясь, припустил бежать по синусоиде. Я радовался, что выздоровление мое не за горами; хотелось отпраздновать это событие, хотя бы и авансом.
Но едва я добежал до следующего квартала и остановился, с трудом переводя дух, как уныние вновь охватило меня, вся моя жизнь представилась в самом невыгодном свете, и я в который раз принялся пережевывать прошлое. Кроме того, мне было ужасно досадно, что придется ждать целых пять, а то и четырнадцать дней, прежде чем выяснится, что делать с «Пфайзером», Ванитой и съемной квартирой. В свою очередь, мрачное настроение имеет странное влияние на мой способ мышления: почему-то у меня появляются способности к дедукции, и я начинаю искать, на чем бы попрактиковаться. Вот и в ту минуту я не мог не вспомнить, что сегодня воскресенье — день, когда вся наша семья должна собираться (и в свое время собиралась) вместе; теперь же мы, четверо Уилмердингов, совершенно разобщены, и не только друг с другом, но и, пожалуй, со всеми представителями Homo sapience, носящими другие фамилии. До чего же мы, Уилмердинги, чужие — и среди своих, и среди остальных! Удивительно, как вообще двое представителей нашей семьи сошлись, чтобы произвести на свет еще двоих. Видимо, подобное происходит, когда двое одиноких людей пытаются сами себя убедить в том, что они не одиноки. Именно так создается большинство семей, и именно поэтому раса Одиноких достигла столь угрожающей численности.
Глава пятая
Результатом моей озабоченности нерегулярным питанием Дэна и моего же увлечения кулинарией в последнее время стали наши совместные воскресные ужины; я как раз подсаливал шпинат и грибы, когда в прихожей послышались шаги.
— Из тебя таки вышла бы идеальная еврейская мамочка, — поздоровался Дэн.
Его слова навели меня на опасение, что в результате действия «абулиникса» мне придется сменить пол и, пожалуй, выдержать бат мицвах[12]. Правда, через несколько минут я понял, что Дэн, несмотря на в высшей степени серьезный вид, шутит; что мне не суждено выносить дитя; и что меня, по всей вероятности, просто посетила фобия. Я вмял эти соображения в тесто для шпинатного пирога и для верности лишний раз прошелся по нему скалкой.
Чуть позже мы с Дэном сидели в гостиной, под сенью трехлопастного потолочного вентилятора, и оранжевый вечерний свет лился сквозь немытые окна.
— Классный пирог, — промычал Дэн с набитым ртом.
— Спасибо, — скромно ответил я.
— Двайт, как только почувствуешь действие «абулиникса», сразу же сообщи мне, ладно? Нам таки давно пора подумать, что делать с жильем. У меня три варианта: снять квартиру вместе с тобой, снять квартиру-студию в Бруклине или переехать в кампус при универе к таким же ботаникам.
— И какой вариант для тебя предпочтительнее?
— Ну, — начал Дэн, — если я поселюсь с тобой, мне обеспечено хорошее питание. Если я буду жить один, мне обеспечена полная свобода. Мистер Р. всегда повторяет: «Необходимый минимум для молодого человека — это три вещи: спортивная куртка, быстрый доступ в интернет и двухкомнатная квартира в Нью-Йорке». Естественно, имеется в виду квартира в Манхэттене.
— Отлично сказано. А я буду взвешивать свои варианты — пока «абулиникс» немножко не смухлюет с гирьками и не устроит перевес какому-нибудь одному. До этого радостного дня я буду изучать вакансии. В Вермонте.
— По-моему, изучай не изучай, а Вермонт был и остается штатом хиппи, яппи и фермеров.
Так как солнце сместилось за угол, и в гостиной стало мрачно, Дэн взял наши тарелки и свалил их в раковину, даже не подумав вымыть, а я пошел в свой закуток, чтобы проверить электронку. По многочисленным письмам с вопросами о вечере встречи я понял, что двадцать с лишним бывших одноклассников в воскресенье не потрудились проверить свою почту. Конечно, Наташа стояла особняком и в переписке тоже — она ответила, что, возможно, и приедет. Более того: из постскриптума я сделал вывод, что Наташа приглашает меня к себе в Кито!
От избытка чувств я лег на кровать, но через минуту встал. Удивительная возможность открывалась передо мной… кажется. Разумеется, нигде не написано, что мне нельзя ехать в Кито (если, конечно, по воле злого рока этот славный город не находится на Кубе).
Внезапно зазвонил телефон (он вообще всегда звонил внезапно). Я взял трубку, но молчал — хотел сначала по голосу определить, кто на проводе, а уж потом рассекречиваться.
— Алло! — кричала Алиса. — Алло!
Узнав от меня, что Двайт слушает, Алиса сообщила, что: а) я параноик; б) я ее достал; в) она просит прощения за то, что резко говорила со мной утром.
— Ничего страшного, — великодушно сказал я, довольный Алисиным извинением не меньше, чем Наташиным письмом. Содержанием последнего я тут же поделился с Алисой. — Я это к тому, Алиса, что мне, кажется, надо ехать. Наташа такая добрая, такая отзывчивая…
— Да еще с таким отзывчивым телом…
— И что с того? Она ведь еще и очень умная. Скажешь, нет?
— Не знаю. Я с ней сто лет не разговаривала.
— Вот я и подумал: было бы здорово провести несколько дней с умным человеком, да еще в стране, которая не входит в НАТО. Да, кстати: Кито ведь не на Кубе? Так вот Кито идеально подошел бы для чистоты эксперимента. В смысле, там бы я, как только лекарство начнет действовать, принял решения, которые сейчас способен только обдумывать. Да, ты же не в курсе! — И я изложил Алисе все, что узнал об абулии и «абулиниксе», особый упор сделав на тот факт, что лекарство разработано лучшими отечественными фармакологами и в сугубо филантропических целях.
— Двайт, как можно быть таким наивным? Ты что, правда веришь в существование абулии?
— Конечно. Что угодно поставлю под сомнение, но абулия действительно есть.
— Ага, прямо как социальная фобия — не было, не было, а года четыре назад фармацевты расстарались, изобрели. А с неврастенией наоборот — всю дорогу была, а потом самоликвидировалась.
— Может, просто все неврастеники страдают бесплодием? Точнее, страдали…
В наших спорах Алиса всегда выступала от лица цивилизации, а я — от лица природы; хотя вы, возможно, и полагаете, что природа сильнее, я, как правило, проигрывал. Спорить с Алисой — занятие неблагодарное. Она по образованию антрополог. Я же из антропологии вынес одно-единственное понятие — самоанализ. Тем не менее откуда, как не из самоанализа, растут ноги хронической неспособности принимать решения?
— Вот, например, я не могу решить, ехать или не ехать.
— Тогда, возможно, тебе следует исходить из соображений безопасности.
— Вот-вот. Возможно — ключевое слово.
Следующие два часа я провел в своем закутке и в столбняке от открывающихся возможностей. Потом опять позвонила Алиса.
— Поезжай, Двайт. — Ясно как день: она тоже немало времени посвятила обдумыванию моей ситуации. — Ты прав: к тому времени, как начнет действовать лекарство, ты должен оказаться на нейтральной территории. Бог знает, что на тебя найдет в Нью-Йорке — может, ты первой встречной предложение сделаешь. Или увидишь копа и поступишь в полицейскую академию. В Эквадоре ты по крайней мере не наломаешь дров. Наташа за тебя не пойдет, с работой в стране напряженка…
— Откуда такая уверенность насчет Наташи?
— Вот и поезжай, разберись на месте. Эквадор пойдет тебе на пользу. А то ты такой провинциал, ужас.
— Я провинциал? Да я же в Нью-Йорке живу!
— Что может быть хуже космополита-провинциала? — изрекла Алиса. Она всегда любила афоризмы.
Кончилось тем, что я стал подбрасывать монетки. Результаты этого проверенного временем способа принять решение изложены мною в Прологе. С максимальной точностью.
На следующее утро, в понедельник — тридцать пятый по счету понедельник, точно такой же, как предшествовавшие ему тридцать четыре понедельника — я пошел на работу в отдел технической поддержки. У меня все еще оставалась неделя от отпуска, однако я не был уверен, что эту неделю мне дадут прямо сразу. Поэтому, едва усевшись за стол, я позвонил Алисе.
— Разве я просила тебя названивать каждый день? — съязвила сестра.
— Ты звонила мне вчера целых два раза. — И я поделился с ней своими сомнениями.
— Соври, что должен лететь на похороны. Только обязательно на похороны родственника, никаких друзей и знакомых.
— Спасибо, так и сделаю. — Я быстро оглянулся, чтобы узнать, не подслушивает ли Рик. — Надо ведь и Ваните что-то сказать.
— И Ваните соври. Лучше врать другим, чем себе.
Я почему-то всегда придерживался противоположной точки зрения.
— Ты серьезно?
— В психологии формирования личности, чтоб ты знал, лжи отводится чрезвычайно важная роль. Для ребенка ложь — это способ отделить свой внутренний мир от мира взрослых. Ложь формирует независимость, посредством лжи человек очерчивает для себя территорию своей личной свободы.
Алиса, когда хотела, давала очень дельные советы.
— Не понимаю, почему ты отказываешься быть моим личным психоаналитиком. Ведь так хорошо начинали…
— Сходи к настоящему психоаналитику, и он тебе популярно объяснит почему.
— Только не думай, что я не умею врать. Одно время я, можно сказать, только и делал, что врал.
— А толку? С таким лицом, как у тебя, не врут. — Алиса говорила, точно щипала меня за небритую щеку.
Я написал Наташе письмо с потрясающей новостью о своем возможном приезде — и в результате почувствовал такой жестокий укол совести, что, едва кликнув «Отправить», позвонил Ваните на работу и заверил ее, что мечтаю о встрече и поедании камбоджийских деликатесов в четверг вечером.
— Чудесно. Раз ты так соскучился, давай не будем тянуть до четверга. Тем более что мы вообще редко видимся.
Я сказал, что раньше четверга никак не получится — у меня масса дел. И это была чистая правда. В тот вечер я отправился в медицинский центр специально для выезжающих в экзотические страны, где потратил уйму денег на инъекции и рецепты препаратов, которые, я очень надеялся, не противопоказаны больным, проходящим курс лечения «абулиниксом». Однако по сравнению со списком опасностей, подстерегающих белого человека в Эквадоре, несовместимость с «абулиниксом» показалась мне сущей безделицей. Если верить медсестре, в этой стране янки или там европеец ежесекундно подхватывает лихорадку денге, покупает фрукты у больных желтухой туземцев, срывается в пропасти на раздолбанных автобусах, успевая в полете вытряхнуть из штанов пару-тройку скорпионов.
— А пауки там водятся? — спросил я. — Ненавижу пауков. Если уж какой-нибудь твари приспичит меня укусить, пусть сначала зарычит.
Медсестра бегло просмотрела стопку памяток.
— О пауках ничего не говорится.
Теперь, когда на карте опасностей Эквадора для меня не осталось белых пятен, я почувствовал полное моральное право объявить о смерти воображаемого родственника, судьбу которого мне, возможно, скоро придется разделить, — и стал скорбеть по-настоящему. На следующее утро я попросил у Рика аудиенции.
Мы прошли в холл и остановились у автомата с шоколадными батончиками и жвачкой.
— Почему так надолго? — деловито осведомился Рик. — И почему я только сегодня об этом узнаю?
— Это был мой любимый дядя.
— Мои соболезнования. А как его звали?
— Э-э-э… Двайт. Меня крестили в честь него. В смысле, его звали так же, как меня. Плохое предзнаменование.
Рик скорбно кивнул.
— Тебе точно нужна целая неделя?
— Ну да. Церемония состоится в Кито. Это в Эквадоре. Но в Кито нужно лететь через Боготу. Могу на карте показать. А ведь там тропики. Влажность зашкаливает. Прибыть нужно никак не позже следующего понедельника. Никак не позже.
— Так, значит, похороны — ты ведь под «церемонией» имеешь в виду похороны — состоятся в Кито?
— Да, дядя очень любил этот город.
— Двайт, а что, собственно, твой дядя делал в Кито?
— Занимался управлением на среднем уровне.
— Вот как? И чем же он управлял?
— Концерном. Средних размеров концерном. Ну, там, импорт, экспорт, все такое. На самом деле мы были не настолько близки. Но я все равно очень скорблю, потому что теперь и не будем.
К этому моменту мелкие и обрывочные Риковы подозрения разрослись, как снежный ком, и он с видом инквизитора вопросил:
— А скажи мне, Двайт, от чего умер твой дядя? Не подумай, что я лезу в твою жизнь…
— Мммммммммм… Наша семья предпочитает об этом не распространяться. — Разговор, приняв незапланированный мною оборот, грозил катастрофическими последствиями. Настоящая неловкость являла собой ярчайший пример беспомощности Двайта, вздумавшего изменить свою жизнь. Чем проницательнее Рик, принявший позу Наполеона, смотрел мне в глаза, тем призрачнее становился образ Наташи — она таяла, как тает при первых солнечных лучах открытая во сне формула панацеи.
Решение пришло внезапно. Его подсказал ужас от осознания мною собственной несостоятельности.
— Видишь ли, Рик, — начал я, твердо глядя Рику в глаза, — мне кажется, с тобой я могу быть откровенным. Ты же мой начальник, вроде покровителя. Так вот. Мой дядя много лет страдал… — я шмыгнул носом, причем совершенно естественно, — он много лет страдал абулией. Семья скрывала этот факт как могла. Такое пятно на нашем имени…
И Рик меня отпустил.
— Здравствуйте. Спасибо, что позвонили в отдел двайтической задержки. Меня зовут Абу. Я решу ваши проблемы и помогу создать новые. — Эту фразу (с несущественными вариациями) я повторял по телефону в последующие два дня. «Пфайзер» ничуть не изменился, однако в свете приближающегося путешествия этот факт особенно бил в глаза. Теперь, когда отпуск был у меня в кармане, к моей пока не вылеченной абулии прибавилась клаустрофобия. В перерывах между звонками я тупо смотрел на перегородку, отделявшую меня от коллег, и думал, что художник, вздумавший изобразить невыносимую скуку, должен просто выкрасить холст именно в этот серый, неброский, ненавязчивый оттенок. Я раскачивался на стуле, прихлебывал холодный кофе, и кофе казался мне сваренным в доисторические времена, сохранившимся на дне глиняного горшка и найденным на раскопках какой-нибудь третьестепенной помпеи.
С одной стороны, я пытался противостоять хандре, впервые в жизни открывая клиентам страшную правду: «Похоже, у вас проблемы с процессором «Майкрософт». Не стоит волноваться — это отличный процессор, тем более что других все равно нет», — и таким образом почти подсознательно намекал клиенту на тот факт, что «Майкрософт» в гробу видал антимонопольную политику и все законы Шермана, вместе взятые. В то же время именно тогда я осознал, что, не простирай «Майкрософт» свои щупальца столь широко, у меня не было бы работы.
— Извините, — сказал в трубке мужской голос лет сорока-пятидесяти, без выговора, характерного хотя бы для какого-нибудь штата. — Вы не могли бы повторить, я что-то не понял.
И тут я действительно начал помогать дядьке на другом конце провода. Обычно клиентам очень неудобно, если у них какая-нибудь опция не функционирует, а может, их отпугивают и два другие обстоятельства — мой молодой голос и сквозящее в нем легкое презрение профессионала. Клиентам невдомек, что таких профессионалов среди оболтусов моего возраста более чем достаточно, а весь мой компьютерный гений сводится к высшему уровню в игре «Спид Скиинг Джава». Правда, на сегодняшний день от меня требовалось всего ничего: объяснить юзеру, как посредством нажатия шести клавиш реанимировать исчезнувший файл. Выслушав слова благодарности, я писал отчет и засылал его в базу данных под названием «Утопия». На самом деле занятие это было вовсе не такое уж неблагодарное, во всяком случае, идея систематизировать все проблемы, с которыми сталкиваются юзеры, на первых порах не производила впечатления бредовой.
Так прошли среда и полчетверга. В четверг в обеденный перерыв я прогулялся до Таймс-сквер, до кафе «Бельгийская картошка» (обожаю картошку-фри по-бельгийски, потому что ее предварительно вымачивают в воде — тогда крахмала меньше). Затем вернулся в «Пфайзер», по дороге размышляя, насколько перелет в чужую страну с целью встретиться с малознакомой, женщиной соответствует общечеловеческим представлениям о процессе принятия решения. (Билет я купил через интернет, но у меня было еще четыре часа на раздумья и отказ.) Если я найду в Наташе воплощение всех своих чаяний и надежд, то что она найдет во мне? А если не найду? Что я тогда стану делать, как оправдаю свое присутствие в Кито? И зачем вообще задаваться этими вопросами — они стары как мир, жеваны-пережеваны, но так и не переварены до нас, и не нам их переварить. Не лучше ли жевать мягкую от майонеза картошку? Вернувшись в офис, я специально заляпал оставшимся майонезом клавиатуру компьютера. Действие имело сакральный смысл: клавиатура олицетворяла корпорацию, майонез — бессмысленность и беспощадность работы, оправдывавшие мое недельное отсутствие в офисе и присутствие в Эквадоре, даже если второе являлось ошибкой внутреннего голоса, а первое — выстраданным решением.
— Что случилось? — с порога начала Ванда.
— Ванда, у меня к тебе вопрос.
— А у меня к тебе ответ.
— Ты замечала, какие у всех юзеров…
— В смысле лузеров?
— Ну да, лузеров. Ты замечала, какие у них виноватые голоса? Правда, странно? Будто им стыдно, что программа не работает.
— Еще как стыдно. Это же не кто-нибудь, это бизнесмены. Они, милый мальчик, верят в теорию Дарвина и в Компьютер. Если компьютер их не слушается, им кажется, что и с бизнесом ничего не выйдет.
В этот момент, как черт из табакерки, появился Рик.
— Дела идут? — бросил он. Рик обычно именно такими словами возвращал нас к суровой действительности.
— Идут. Как бы совсем не ушли, — процедила Ванда. — А как ваши, ничего?
Не прошло и пяти минут после ухода подозрительного и раздражительного Рика, как в моей почте возникло имевшее роковые последствия письмо от генерального директора Уильяма Старборда финансовому директору Джорджу Бейлуотеру. Я едва успел прочитать первые несколько строк — в них фигурировали числа, причем многозначные, — как одновременно с мелкими шажками Рика услышал собственное имя из его же уст. Я мгновенно отправил письмо в буфер обмена и с невинным видом обернулся.
— Двайт, ты, кажется, только что отправлял документ?
— Да. Я начал было читать, но ничего не понял. Мне удалить файл?
Рик проследил, чтобы я действительно уничтожил злополучное письмо.
— Меньше знаешь, крепче спишь, — пробормотал я. Иногда я сам не понимаю, что имею в виду, — такие у меня странные интонации.
По лицу Рика было видно, что он шутить не расположен.
— Двайт, прими мои соболезнования по поводу смерти дяди…
— Какие соболезнования, Рик! Дядя деньги в рост давал. Тебе-то я могу признаться. А больше о нем и сказать нечего. Ростовщик — он и в Эквадоре ростовщик. Самый обычный дядька, старый болтливый болван. Когда он узнал, что умер… — Тут из моих глаз брызнули слезы — не то от долго сдерживаемого смеха, не то от запоздалой скорби. В противоположном углу захохотала Ванда.
— Это еще что такое? Обеденный перерыв давно кончился!
— Извини, — сказали мы с Вандой почти в один голос, поспешно делая виноватые лица.
А чтобы отвести от себя подозрения, я решил потерпеть до следующего дня и только тогда восстановить файл.
Глава шестая
Я вышел из тоннеля в Бруклине, в той его части, где преобладает низкая застройка. В лицо повеяло прохладой с океана. Прямо над Нью-Джерси висела Венера, в смысле — вечерняя звезда. Впереди был вымученный вечер с Ванитой и камбоджийскими деликатесами. После деликатесов мы, возможно, пойдем в кино — если, конечно, к тому времени Ванита не возненавидит меня за то, что я лечу в Эквадор к другой женщине (я до сих пор не решил, стоит ли открывать ей глаза на истинную цель поездки).
Очень скоро рок привел меня к «Камбоджийским деликатесам». Это были именно они, возражения с моей стороны не принимались. Я настроился сказать Ваните правду — она бы все равно не поверила, что я собираюсь провести в Эквадоре целых десять дней, совершенно без дела и в компании со своим никому не нужным английским. Может быть, я попрошу Ваниту не рассматривать Наташу как соперницу. В конце концов, я действительно чувствовал себя связанным ею (Ванитой) и поэтому, пожалуй, не сумел бы войти с Наташей в серьезный контакт, даже если бы она (Наташа) дала мне повод. Или лучше просто выложить факты, и пусть Ванита оскорбится и бросит меня — сама бросит. А может, мне удастся убедить Ваниту (заговорив с нею вкрадчивым голосом), что я просто поступаю как чувственный и интеллигентный человек, считающий прямой разрыв дурным тоном и всю прелесть отношений видящий в их… ммм… неопределенности. Последняя опция имела еще и то преимущество, что могла внушить Ваните, считающей себя и чувственной, и интеллигентной, мысль, что именно от нее исходит инициатива изысканного декадентского полурасставания.
Ванита ждала меня на улице. На ней была серая юбка из хлопка и белая блузка с короткими рукавами и на пуговицах, каковые пуговицы еле сдерживали натиск бюста, выпиравшего из отворота однозначно, как Супермен из Кларка Кента. На плече висела лаковая зеленая сумочка, содержимое которой, на данной стадии отношений, кажется, доживающих последние минуты, я мог определить с точностью до пудреницы.
Мы поцеловались и рука в руке вошли в ресторан, навстречу судьбе.
Меню в сто двенадцать блюд ввергло меня в столбняк. Влюбленные часто ходят в первоклассные рестораны — что совершено неправильно. По крайней мере так мне показалось в тот момент. По-моему, самой яркой метафорой любви является меню бизнес-ланча. Ведь каждый индивидуум обладает строго фиксированным набором личностных характеристик, из которых нельзя выбирать — либо заказываешь все, либо встаешь и уходишь. Например, в Ваните мне всегда нравилась ее ко мне привязанность, но совершенно не вдохновляла ее же навязчивость; я восхищался Ванитиным умом, но предпочел бы, чтобы последний не так сильно подвергся шлифовке западной цивилизацией. Однако эти качества шли только в комплекте. Не оставаться же голодным…
— Интересно, что здесь самое вкусное? — спросила Ванита.
Еще утром я прочитал свой гороскоп и запомнил счастливое число на этот день — 55. Поэтому ответ мой прозвучал весьма уверенно:
— Закажи блюдо под номером 55. Что у нас тут? Ага, амок[13]. Отлично. — И еще более уверенным голосом я заказал нам по самой большой кружке пива.
Затем я через весь стол протянул руку и сжал Ванитины пальцы, проникновенно глядя в ее влажные, яркие, тревожные глаза. Всякий раз, когда Ванита на интуитивном уровне всегда безошибочно угадывала, что мои чувства к ней охладели, я из кожи вон лез, стараясь убедить ее в обратном.
— Двайт, что-то случилось или ты просто в своем репертуаре?
— Я подумал, что нам нужно иногда вот так смотреть друг другу в глаза. Ведь глаза — зеркало души.
Я очень надеялся, что Ванита прочтет на моем лице (и вспомнит потом, когда я предам ее — ведь она воспримет мой отъезд как предательство) — прочтет, стало быть, до чего нежно я отношусь (относился) к ней — матово-смуглой женщине, похожей, если уж об этом зашла речь, на антилопу или лань, лучше, чем следовало бы, адаптировавшуюся в каменных джунглях.
Второй очень действенный и не менее подлый способ поддерживать выдыхающиеся отношения — обвинить свою подругу именно в том, в чем сам грешен. Я уже открыл рот, чтобы спросить Ваниту, почему в последнее время она так упорно меня избегает, как прямо рядом с нами — точнее, между нами, — зазвонил телефон. Я, по своему обыкновению, подпрыгнул. Ванита извлекла мобильник из сумочки и, посмотрев на экран, усмехнулась:
— Это ты звонишь. Видишь, написано «Чемберз-стрит».
Ванита сунула мне телефон, но я ловко пасовал, словно имел дело с горячей картофелиной.
— Пожалуйста, если хочешь, я могу ответить. Но это точно тебя.
Мобильник продолжал надрываться. На нас начали оглядываться.
— Как это может быть меня, если это от меня? — зашипел я. — Тут что-то не то.
Ванита закатила глаза и пошла на улицу. Через несколько секунд я увидел, что она делает мне знаки с тротуара. Вообще-то я любил, когда Ванита делала подобные знаки — но только не в случаях с телефонами.
Когда мобильник наконец оказался у моего уха, на другом конце провода услышали нечто невразумительное:
— Эээээ… Алло. Спасибо, что подождали… что позвонили… Это… ээээээээ… Двайт…
— Двайт, ты где? — заорал Санч. — Ты в курсе, что ты вляпался? Пока не пойму, во что, но дело плохо.
— Ненавижу вляпываться. — Ситуация напоминала детство, которое, в свою очередь, напоминало жизнь с родителями и старшей сестрой.
— Ты знаешь типа по имени Рик? — Санч наслаждался ролью каркуши. — Это случайно не твой начальник? Так вот он звонил уже четыре раза. Мы были вынуждены тебя выловить. Хорошо еще, что я сообразил позвонить Ваните.
Ванита достала из сумочки листок и ручку и дала мне возможность записать сотовый Рика у себя на спине — отличной, крепкой, как у римского легионера, спине. Закончив, я похлопал спину между лопаток — дескать, прощай. Или все-таки до свидания?
Рик, услышав в трубке мой голос, заорал как резаный:
— Двайт, мать твою, где тебя черти носят? У тебя что, мобильника нет?
Я уже знал, в чем дело. Что все кончено. Что мне нечего терять.
— Рик, а кричать обязательно? Ты ведь знаешь, какое тяжелое время сейчас переживает моя семья… Зачем же выражаться?
Ванита подняла брови и улыбнулась интимной улыбкой. Она терпеливо ждала окончания разговора и, кажется, предвкушала нечто забавное.
— Во-первых, ты вечно опаздываешь, — начал Рик. — Я тебя постоянно выгораживаю. Во-вторых, твой мифический дядя. И фиг бы с ним — кто не врет? — но ты украл письмо личного характера, а это уже уголовное дело.
— Допустим. — Я тянул время, чтобы подготовить ответный удар. — Но имей в виду: я сейчас в ресторане с корреспонденткой одного делового журнала, очень, кстати, привлекательной девушкой, причем ее интересует не столько ужин, сколько сенсационные новости о ваших махинациях. И я, будь уверен, не утаил ни единой пикантной подробности. Ну вот, теперь я вполне оправдываю звание уголовника.
— Ты, урод, только попробуй!..
— Расслабься, Рик. Уже попробовал.
Однако что за преступная халатность: держать, фигурально выражаясь, в руках секретные корпоративные документы и даже не прочитать их, да и, если уж смотреть правде в глаза, даже толком не спрятать. Лоханулся ты, Двайт, ничего не скажешь.
Я продолжал:
— Рик, ты только представь масштабы убытков! Цены на акции будут ниже плинтуса! Конкуренты слетятся, как стервятники!
— Надеюсь, завтра ты не посмеешь явиться на работу, — процедил Рик. — Твое барахло мы тебе пришлем бандеролью. Ты, урод, ты хоть понимаешь…
— Смотри не прикармань мои карманные часы. — Единственным предметом, подходившим под определение «барахло», была кофейная кружка с толстым слоем кофейного же налета. — Не забудь про часы, Рик, — они достались мне в наследство от моего дорогого дядюшки. Смотри, зажилишь — по судам затаскаю! — Я вошел во вкус. Алиса была права насчет вранья.
Рик бесновался в трубке. Еще несколько секунд я послушал его вопли, потом нажал «Отбой».
— О каком дядюшке идет речь? — удивилась Ванита. — И о каких часах? Тебя только что выперли с работы, да?
— Да, — не без удовлетворения хмыкнул я. — Меня только что выперли. Из «Пфайзера». Вау. Меня выпферли! Пфакинг «Пфайзер»!.. — Однако звуки «п» и «ф» заглушали друг друга, и в каждом конкретном слове окружающие улавливали исключительно привычный звукоряд, поэтому никто, кроме меня, не засмеялся. Я взглянул на Ваниту. — Не волнуйся насчет дяди. Его нет в природе и никогда не было. Так что у него все в ажуре.
Мы вернулись за столик, где нас ждали дымящиеся куриные грудки. На почве увольнения аппетит у меня разыгрался будь здоров, и даже трясущееся на тарелке желеобразное нечто, этакий горячий кхмерский холодец, аппетита не отбило.
— Люблю амок! — воскликнул я, вонзая в «холодец» палочки.
Ванита получила исчерпывающие объяснения насчет того, что я сделал с пресловутым письмом и чего не сделал. Вдруг я понял: Рик, уволив меня, возложил на «абулиникс» тяжкий груз. Ведь мне теперь придется решать не простенькое уравнение с одним неизвестным — «Пфайзер» или не «Пфайзер»; нет, мне предстоит выбор из практически бесконечного числа организаций. Если бы я хоть прочитал это письмо, я бы мог получить свои пятнадцать минут славы и — как знать — хорошую должность, предполагающую отдельный просторный кабинет.
— Насколько я понимаю, — сказала Ванита, — мы должны напиться до белых чертиков?
— Конечно. Именно до белых чертиков и напиваются люди в день увольнения. Впрочем, как я уже говорил, нас всех все равно бы уволили. А где, кстати, находится этот гребаный Мумбай? Никогда не слышал о таком городе.
— Мумбай — тот же Бомбей. И тебе это известно.
Мы чокнулись пивом.
— За Мумбай! — воскликнул я в тот самый момент, когда Ванита провозгласила:
— За Бомбей!
Каждый из нас немедленно повторил тост другого — так слишком вежливые люди не могут разойтись в дверях и в итоге застревают. Мы в очередной раз застряли в собственных отношениях.
Через полчаса мы, оставив неприлично щедрые чаевые и решив забить на кино, вышли из ресторана. Держась за руки и поминутно останавливаясь, чтобы продолжить один растянутый во времени французский поцелуй, мы двинули к Кэрролл-Гарденс. Было уже темно и довольно холодно.
— Значит, ты теперь освободился, — в очередной раз произнесла Ванита. В ее голосе снова звучала тоска. Наверное, она опасалась, что я не ограничусь избавлением только от трудовой повинности. Или же попросту боялась, что по мере истощения моих сбережений я буду все реже ходить с ней по ресторанам или другим заведениям, то есть не смогу поддерживать видимость финансового паритета. Я старался прикинуть, насколько глубоко в Ванитином уме укоренились представления о том, что совокупляться (встречаться) можно только при условии социально-экономического равенства партнеров (влюбленных).
— Да, я опсвободился, — подтвердил я. n — Точнее, меня выпферли. — Но смешно уже не было, даже мне.
Я представил, как на вечере встречи предоставлю однокашникам список причин (одна другой уважительнее), по которым меня следует освободить от занимаемой должности: 1) я — дитя развода; 2) я уволен за разглашение секретной информации; 3) обязанности агента по делам выпуска меня достали. Как знать, может, однокашники проникнутся ко мне жалостью и подключат хваленую Школьную Дружбу. Я очень надеялся, что наша страна, несмотря на соответствующую пропаганду, пока еще не оплот меритократии. «Слава Богу, в Белом доме сидит Буш».
Ванита, не обращая на меня внимания, продолжала орудовать языком. В это время мрачный, тощий, бледный как смерть пижон в потертом пиджаке и бесконечном шарфе нас толкнул.
— Посторонитесь! Отклячились на весь тротуар!
Я не замедлил перечислить ему смягчающие обстоятельства наших действий:
— Я безработный! Моя подруга — иммигрантка! Сам отклячился, проститутка республиканская!
Ванита закрыла мне рот сначала ладонью, потом губами. Так мы продвигались дальше, время от времени останавливаясь для взаимной стимуляции, и скоро добрались до Смит-стрит. У спуска в подземку, как обычно, сидел уже примелькавшийся чернокожий бомж. При нашем появлении он застучал об асфальт своей кружкой и, широко улыбнувшись немногочисленными зубами, спросил:
— Какая нация больше всех заботится о том, чтобы подать ближнему своему на пропитание?
Ответить следовало «дать-чане». Но мы с Ванитой вздумали позабавиться и принялись говорить что в голову взбредет:
— Узбеки? — предполагала Ванита.
— Уругвайцы! — настаивал я.
И вдруг Ванита выдала:
— Эквадорцы!
Я собирался сказать то же самое, но слово застряло у меня в горле. Я поспешно выудил из кармана горсть мелочи и молча бросил бомжу.
Мы пошли прочь. Ванита сжала мне руку.
— Двайт, что случилось?
— Я хотел сказать «эквадорцы».
— Вечно я вылезаю не к месту. Нет, правда, я такая. Пойдем. — И она повела меня к себе.
Мы ввалились в Ванитину квартиру, на ходу раздеваясь, миновали гостиную и рухнули на огромную двуспальную кровать. Обо всем, что произошло дальше, восторженно отзывался медиальный переднемозговой пучок, ответственный за удовольствие; что же касается совести, ее отзывы были далеко не такими положительными. Я поверить не мог, что до сих пор ни словом не обмолвился о поездке.
После я встал с постели и принялся рассматривать фотографии, выстроившиеся на комоде. Раньше, лет десять назад, когда Манхэттен еще ее не отшлифовал, Ванита была далеко не такой хорошенькой — и любила фотографироваться. Снимали ее в основном университетские подружки, тоже неамериканки и тоже довольно неотесанные девицы. Зато теперешняя Ванита — настоящая красавица, подумал я. И эта красавица сейчас наблюдает у себя перед точеным носом мою лохматую задницу. Я вдруг осознал, на какую невыгодную сделку пошла Ванита: в условиях переизбытка женщин на рынке отношений между полами она вынуждена была снизить цену до неприличного уровня. А я воспользовался ситуацией. Что ж, пора отменять сделку.
— Ванита, по-моему, сейчас самый подходящий момент спросить, что ты во мне нашла.
— Когда ты стоишь спиной, мне трудно сориентироваться. Повернись.
Я повернулся и поспешно прикрыл хозяйство ладонью, будто защищаясь от удара.
— Ну, во-первых, ты очень любопытный экземпляр.
— Да нет же! Я даже не прочитал чертово письмо! Понятия не имею, что в нем было.
— Любопытный в другом смысле. Ты мне нравишься, потому что ты — это ты. Ну и еще есть с десяток причин. Ты — Двайт Уилмердинг. А теперь, когда ты освободился от своей бесперспективной работы, ты сможешь раскрыться в какой-нибудь другой сфере.
Ванита заснула под мой шепот. Я шептал ей на ушко разные ласковые пустяки — возможно, слова так легко слетали с языка именно потому, что за ними ничего не стояло. Определив по нескольким характерным подергиваниям, что Ванита крепко спит, я встал и пошел отлить. В зеркале мелькнуло мое лицо, и я с досадой произнес «Опять ты!». Я всегда так говорил — привычка.
Я собрал с пола одежду и уселся у окна, в кругу света от уличного фонаря, чтобы написать Ваните маленькое прощальное письмо.
Милая моя Ванита!
В субботу я улетаю в Эквадор — бывают же такие совпадения! Прости, для тебя моя поездка, возможно, настоящий шок. Поверь, для меня тоже. Однако удерживать меня бессмысленно, потому что я отныне должен учиться на своих ошибках. Я оправляюсь в Южную Америку главным образом для того, чтобы хорошенько все обдумать. Нью-Йорк на меня плохо действует: я принимаю городскую суету за собственное душевное волнение.
Но есть и еще одна причина — в Эквадоре меня ждет другая женщина. Ее зовут Наташа, она моя бывшая одноклассница. Она знает испанский и будет для меня чем-то вроде гида. Несмотря на то что Наташа — просто подруга, я не могу дать тебе гарантий, что между нами ничего не произойдет. Мне кажется, ограничивать свою свободу как минимум противно природе и, соответственно, философии.
Мой прогноз относительно наших с тобой отношений таков: я сначала должен преодолеть ряд личностных проблем и достичь соответствующего уровня в профессиональной деятельности, а уж потом претендовать на такую замечательную женщину, как ты. До сих пор я был для тебя лишь обузой.
Клянусь, я от этого страдаю. Надеюсь, ты страдать не будешь.
Спасибо за все. Возможно, у меня появятся еще поводы для благодарности. Если ты захочешь. В чем я сильно сомневаюсь. Видишь теперь, что у меня на душе? Целую.
Вместо того чтобы поставить подпись, я сложил письмо и сунул его в карман. Это действие спровоцировала сирена «скорой помощи»; фары на миг осветили комнату и скрылись за поворотом. (На следующий день я отправил письмо с папиного компьютера, а приведенные выше сумбурные фразы послужили к нему (письму) черновиком.)
Я вышел на улицу. Воздух казался синим от неона. У подъезда смуглый мужчина поливал тротуар из шланга. У него были широкий нос и прищур свергнутого принца — очень скоро я научился идентифицировать подобные лица как типичные для коренных жителей Анд. В то утро я просто отметил про себя, что дворник — неместный. Он выключил шланг, пропуская меня, и, наклонив голову, выдохнул улыбку, как иные выдыхают сдавленный смешок.
Глава седьмая
Поезд выползал за пределы энного по счету городишки, в котором, как и в предыдущих, все до единого здания были выкрашены белой краской. Колеса быстро наверстывали ритм — так зазевавшийся ребенок торопливо топочет, чтобы снова попасть в ногу со взрослым. Под полом враскачку и со звуком, характерным решительно для всех поездов, ходили шестерни — тудух-тудух, тудух-тудух. Я ехал к папе. Я собирался поиграть в гольф, выпить виски и под занавес — а может, и где-нибудь в середине, если представится подходящий момент — пока, что называется, при памяти; или лучше прямо с порога, чтобы сразу уже покончить с делом, иными словами, свалить его с плеч долой, — короче говоря, я собирался попросить у папы денег. У меня было твердое намерение честно рассказать ему об увольнении; я полагал, что в контексте своего тяжелого материального положения имею право на заем. Или пусть папа разрешит мне пожить у него, когда я вернусь из Эквадора. На самом деле я бы согласился на оба варианта в комплекте. По крайней мере в экономическом аспекте пожить у папы было бы весьма разумно, если, конечно, не считать морального ущерба, который я неминуемо потерпел бы в этом случае — ведь я не жил с папой в одном доме уже четырнадцать лет, да и тогда с нами были мама и Алиса: их глубокие внутренние противоречия, шаровыми молниями носившиеся в воздухе, отчасти нейтрализовывали папины разряды. Интересно будет узнать, что я в конце концов решу сделать, особенно если учесть, что я всегда мог твердо решить только одно — чего мне делать не следует. Был День шестой с начала курса лечения «абулиниксом».
Поезд, тяжко выпустив пар, остановился. Я ступил на перрон станции Уассаик и вместе с другими пассажирами пошел по платформе. Папа ждал на стоянке в своей шикарной новой машине.
Внезапно я подумал, что лучше сейчас вернуться в Нью-Йорк, поджав хвост и ни словом не обмолвившись о деньгах. Действительно, письмо из малоизученной страны третьего мира с мольбой «Папа, вышли денег» выглядело бы куда убедительнее, чем эта же мольба из уст стоящего рядом и трудоспособного на вид сына. В то же время мне как-то не верилось в полное папино банкротство, главным образом из-за новой тюнингованной «ауди» перламутрового цвета. Сколько же устричных ракушек пошло на такую громадину? Мама и Алиса уже прослышали о папином приобретении. Алиса заявила, что перламутр на покраску машины добывали из раскрошенных ногтей повстанцев всех третьих стран, вместе взятых, а мама только фыркнула: «Дай Бог нам всем так обанкротиться!» У меня до сего дня не было собственного мнения; когда же я увидел это ослепительное чудо, мнение тотчас появилось, и выглядело оно примерно так: «Раз папа позволил себе столь шикарную машину, он наверняка сможет ссудить мне немножко денег».
Папа выпустил из машины собак еще прежде, чем убедился, что я — это я. Они устремились мне навстречу, фыркая и приплясывая, чихая и виляя хвостами. Первым, отталкиваясь всеми четырьмя лапами, словно олень, скакал Маршалл — метис ротвейлера трех лет от роду, глянцевый, как вороново крыло. За ним спешил упитанный блондинистый Фрэнк — родезийский риджбек, тоже метис, любитель рыть землю, словно поросенок, почуявший трюфели. Эта пара — олень и поросенок — выглядела достаточно странно. Но еще более странной показалась мне новая собака, щенок желтого лабрадора, девочка, судя по застенчивости, удерживавшей ее в непосредственной близости от папиных ботинок.
Маршалл плясал от счастья, успевая ненавязчиво облизывать мои ладони. Я опустился на колени и принялся его гладить. В это время Фрэнк ткнулся своим пятачком мне в ляжку. К нам уже спешил папа, держа на руках норовящего вырваться щенка.
— Cave Canem, — расплылся в улыбке папа. — Латынь. Переводится: «Осторожно, злые собаки».
— Папа! — обрадовался я.
Я встал с колен, а папа опустил щенка на землю. Мы стиснули друг друга в объятиях. Мы ввели эту практику вслед за Клинтоном, когда он еще был на первом сроке — в то время прилюдно обниматься вменялось в обязанность честным или играющим по правилам мужчинам. Мы с папой всегда обнимались при встрече и на прощание.
— А почему ты не написал про нового щенка? Это лабрадор? Она просто чудо.
— Потому что Бетси нужно видеть. Посмотри, разве она не… разве ты не Бетси? — Папа повел рукой у желтой мордочки, и крошка Бетси не замедлила вцепиться ему в палец своими пока еще белыми зубками.
— На полукровку она не похожа, — сказал я. Раньше папа признавал исключительно полукровок, ибо они и только они «настоящие собаки». «Настоящих собак» папа вызволял из приюта для бездомных животных.
— Знаешь, Двайт, когда-нибудь, через много лет, ты поймешь, что дорос до желтого лабрадора. Тебе нестерпимо захочется купить щенка желтого лабрадора. Ты всю жизнь вкалывал, ты вырастил двоих неблагодарных детей — неужели ты не заслужил желтого лабрадора? — Папин цинизм отдавал дружелюбием, что было славно, хотя и нелогично. — Ты наконец развелся с женщиной, которую любил. Вот что осталось, и таков остаток…
Папа любил классику, прочел горы книг, еще больше держал у себя в кабинете, и я скорее по тону, чем руководствуясь собственной весьма ограниченной эрудицией, определял, когда его слова плавно переходили в цитату.
— А у меня вот ничего не осталось, — пробормотал или, скорее, промямлил я.
Мы все вместе поехали в клуб. Собаки и щенок, вывалив языки, устроились на заднем сиденье. Пожалуй, пора рассказать, что раньше, когда я был маленький, мы тоже держали собаку — золотистого ретривера по кличке Мистер, с царственным выражением морды, нежными бледно-палевыми завитками на спине и мировой скорбью в глазах, утишить которую могли только игры и ласки, и то ненадолго. Мама и папа стеснялись входить в физический контакт со мной и Алисой — исключение делалось для шлепков; мы с Алисой также стеснялись прикасаться друг к другу — исключение делалось для реслинга и карате, так что вся семья отрывалась на Мистере. Воистину ему доставались такие искренние ласки и бьющие через край эмоции, какие у нас находились друг для друга лишь в периоды невзгод и потрясений, несмотря на то, что мы все принадлежим к виду Homo sapience. Таким образом, Мистер являлся точкой приложения бесплодных усилий нашей родственной любви, измерявшейся в микро-рентгенах и потому невидимой, неслышимой и неощущаемой, однако имевшей судьбоносные последствия для здоровья внутрисемейных отношений. Мистер был своего рода картой, на которой наша взаимная любовь представала взору в масштабе 1/4. По крайней мере другие метафоры мне в голову не приходят.
— Всего девять лунок, — успокоил папа собак, и мы оставили их в машине с полуоткрытыми окнами и крекером перед носом у каждой.
На поле мы обычно обсуждали, в какой клуб мне лучше вступить. Потом я бил по мячу. Потом папа бил по мячу. Потом мы шли сначала за моим мячом, который улетал бог знает куда, а после за папиным, к лунке, и по ходу разговаривали на общие темы, такие как финансы, спорт и последние события в мире. Было время, когда все три аспекта сводились у нас к Тигру Вудсу[14].
Хоть я и не умел толком играть в гольф, мне нравилось носить одежду для гольфа. По моему глубокому убеждению, любая форма — в данном случае брюки фисташкового цвета и пуловер в розово-кофейных тонах (которые шли мне куда больше, чем школьный костюм) — позволяет на время перестать сомневаться в наличии промысла Божьего.
Утро было прекрасное, постепенно становилось жарко, птицы ликовали. Наша часть суши явно расслабилась в преддверии лета.
Когда мы поравнялись с первой лункой, папа как-то странно в нее заглянул. Обычная лунка представляет собой цилиндрической формы ямку, подумал я. Прежде чем вытащить мячик, папа произнес загадочную фразу:
— А эту-то Бернс пропустил!
И хихикнул. У меня не было ни малейшего желания выяснять, в чем дело, однако когда и по поводу второй лунки папа выразился столь же загадочно — «Надо же, и эту пропустил!», — я счел необходимым произнести «Ну?».
— Не «ну», а «извини, папа, не мог бы ты выражаться яснее», — поправил папа. И папа, и мама полагали (чуть ли не единственный случай, когда они были единодушны), что говорить «Ну?» некрасиво. Они считали, что деньги на высшее образование потрачены впустую, если молодой человек продолжает во время еды ставить локти на стол и говорить «Ну?».
— Я это и имел в виду. Так что там с доктором Бернсом?
И папа рассказал скандальную историю. Бернс был старожилом клуба, он числился в его членах еще со времен правления Никсона. А тут вдруг неделю назад доктора Бернса застукали на поле для гольфа в прямом смысле слова без штанов — он испражнялся в лунку номер пятнадцать.
— Тьфу, — отреагировал я, потому что очень не люблю в своих родителях этой черты — заводить при мне речь о естественных отправлениях человеческого организма. Я считаю подобные разговоры попыткой дать мне понять, что я до сих пор их маленький сынок. Так же я расцениваю мамину привычку мочиться во время разговора со мной по телефону. Не нужно быть дипломированным психоаналитиком, чтобы сделать вывод: родители, не стесняющиеся подобных действий перед детьми, тщатся создать искусственную интимность в отношениях, хотя о последней следовало заботиться значительно раньше и принципиально иным способом.
— Папа, можешь не продолжать, — отрезал я.
— В результате инцидента, — с серьезным видом продолжат папа, — Бернса отлучили от клуба. На целый год!
Мы шли к группе деревьев, точнее, рощице, которая, как остров, возвышалась на поле и в которую угодил мой мяч.
Однажды — мне тогда было семнадцать — я нарочно забросил мяч в рощу, чтобы был повод нырнуть в пятнистую тень и там разок-другой затянуться травкой, с которой я в те времена не расставался, поскольку искренне считал, что трава способна показать человеку предметы в истинном свете, а именно в истинном свете мне хотелось увидеть папу — чтобы выяснить, остался ли он славным малым, несмотря на то, что несколько от нас отдалился. Когда после процедуры я вышел из рощи, предварительно замаскировавшись глазными каплями и жвачкой, а также солнечными очками, меня ждал удар. Папа действительно предстал в истинном свете — и оказался добродушным краснолицым вампиром, гением фьючерсных сделок, который сам себя сделал тотемом племени финансовых консультантов, вместо того чтобы следовать зову своей дикой души, тянущей его за штанину куда-то в глушь, в Вермонт или, к примеру, в северную Калифорнию. Как свободный индивидуум делает выбор? Как из бесконечного множества судеб он выбирает судьбу именно этого отца, консультанта по торговле фьючерсами, любителя гольфа, обладателя недвижимости в одном из самых прелестных уголков северо-западного Коннектикута, не вылезающего из джинсов — национальной одежды белого электората, аккуратно посещающего вечера встречи выпускников, состоящего членом различных клубов и называющего себя — до сих пор (или по крайней мере десять лет назад) — Рокфеллером от партии республиканцев? Этот риторический вопрос еще долго не давал покоя моей семнадцатилетней голове, да и сейчас не дает.
Однако теперь, в свете моих недавних поступков и, в еще большей степени, в свете моего прогрессирующего нежелания самому расхлебывать их последствия, я попытался убедить себя в том, что поколение любителей виски и гольфа, к которому принадлежит папа, совсем не так уж кардинально отличается от моего поколения, воспитанного на травке и роке; что в процессе жизни практически никто не становится лучше; а также что папины глубокие познания в самых неожиданных областях, папина врожденная и иногда даже всплывающая на поверхность вежливость и поражающая воображение гибкость характеризуют его совсем не так уж отрицательно, несмотря на упомянутую мною слабость к виски и моральный ущерб, который я потерпел благодаря ему, пополнив — вместе с Алисой — ряды ни в чем не повинных жертв развода.
— Но самое смешное в деле с Бернсом… — не терял мысли папа.
— Пап, я не хочу знать, что там самое смешное.
— …что примерно за десять дней до инцидента его процитировала «Таймс» как одного из врачей, которые до сих пор выписывают пациентам «кроксол»…
— Папа, ну я же прошу…
— …несмотря на побочный эффект, который имеет место в девяноста процентах случаев. Это не что иное, как страшнейший понос! А Бернс — так было написано в «Таймс» — утверждает, что цифра сильно преувеличена! — При этих словах папа прыснул.
— Ну сколько можно!
Но папа не унимался.
— Да ты послушай, в чем штука!
— Мне надоело! Как ты не понимаешь?
— Штука-то в том, что «кроксол» выписывают… — папа выдержал эффектную паузу: —…при болезненной застенчивости!
— Уже можно разразиться гомерическим хохотом? — Пусть у папы сложится впечатление, что сухой остаток от моего дорогостоящего образования не так уж сух.
— Самое время, сынок! Великолепное чувство юмора. Ты весь в меня.
Надо же, папа мной гордился. Я был тронут до глубины души и уже открыл рот, чтобы пожаловаться на жизнь, но тут выяснилось, что поучительная история с доктором Бернсом — всего лишь увертюра к гораздо более долгому разговору о роли лекарственных препаратов в нашем американском обществе.
Папа поднял брови и постучал себя указательным пальцем по черепной коробке.
— Вот это и есть новый рубеж, — прокомментировал он.
Несмотря на казус с «кроксолом», папа решил сделать долю акций фармацевтических компаний решающей при повторной комплектации своего портфеля; ему казалось, что никогда еще он не проявлял большей прозорливости.
— А ты разве не обанкротился? В смысле…
— Не стану отрицать. — Папа внезапно остановился и устремил взгляд в туманную даль. Мне тоже пришлось остановиться и устремить. — Я, как ты выразился, обанкротился. Я был вынужден переписать дом на имя твоей матери. И от этого никуда не денешься. Но ты прекрасно знаешь, что до 2000 года никто не инвестировал в фармакологию.
Да, я прекрасно это знал, но даже после развернутого объяснения не мог понять почему. Я знал, что папа заставляет деньги клиентов работать; что инвестиции бывают очень рискованные; что от валютных спекуляций, фактических продаж, процентных ставок и тому подобного ожидается большая прибыль. Все просто: берется индекс среднего направления движения неких цен, индекс относительной силы некоего спроса, рассчитывается средний истинный диапазон, затем все данные заносятся в компьютер — и программа выдает сценарий, по которому и надлежит действовать будущему гению фьючерсной торговли, чтобы обойти конкурентов и сверкнуть улыбкой с обложки какого-нибудь «Бэрронз»[15], удивив жену и детей, которые без конца жаловались на неспособность указанного гения слушать, сами оставаясь глухими к откровениям этого самого гения, считая их (откровения) результатом воздействия алкогольных паров и пагубного влияния художественной литературы. По крайней мере до 2000 года процесс выглядел именно так.
— Двайт, я рассчитываю, что ты отнесешься ко всему сказанному как к коммерческой тайне. Тебе как своему сыну я доверяю судьбоносную информацию: будущее за фармацевтическими компаниями.
Можно подумать, я удостоился такого доверия на правах потенциального инвестора. Папина вера в будущее фармакологии обнадежила меня насчет «абулиникса»; я подумал, что, пожалуй, чем черт не шутит, он уже начал действовать, и попытался перевести разговор на свое.
— Папа, я должен кое-что сказать… думаю, тебе это будет интересно, потому что связано с темой нашего разговора, хотя, собственно говоря, и не совсем…
— Двайт, ты заметил, что у людей сейчас слишком много денег? Что они уже купили практически все, о чем только могли мечтать? — Будь снами Алиса, она бы не преминула заметить (ледяным тоном), что «люди», о которых папа ведет речь, на самом деле составляют долю процента от всего населения Земли. А я бы сказал: «Алиса, ты же понимаешь, о чем он» — на мой взгляд, с папы вполне достаточно и одного ребенка, убежденного в том, что единственно правильной реакцией на все удовольствия, которые предоставляет нам жизнь, являются постоянные мысли о тех, кто в силу прискорбных обстоятельств места не может их (удовольствий) вкусить.
— Да, они купили все, однако это «все» относится исключительно к материальным ценностям, — гнул свое папа. — Тут наша промышленность не дремлет. У нас и бытовая техника на все случаи жизни, и дома на колесах. Вот тебе одна причина застоя в экономике. Наш мир задыхается от перепроизводства того, что мы с тобой привыкли называть материальными благами. — С этими словами папа ткнул концом своей клюшки в мою, видимо, относя последнюю к упомянутым благам. — Зато на рынок товаров для внутреннего совершенствования пока не ступала нога делового человека.
К таким разговорам, больше чем надо соответствовавшим духу времени, в последние два года свелись наши отношения. Всякий раз, когда мы выбирались поиграть в гольф или покататься на лыжах, папа втягивал меня в диалог на тему «Как хорошо, что мы выиграли холодную войну». Можно подумать, мы с папой лично принимали в ней участие. «Во время холодной войны человек знал, зачем он встает по утрам. А что мы имеем теперь?» Папа, насколько я понимаю, старался подчеркнуть нашу с ним мужскую солидарность; в то же время причина, по которой я вставал по утрам, оставалась неизвестной нам обоим с тех самых пор, как я начал изучать философию в колледже — видимо, с целью причину эту выяснить.
Мы продвигались от лунки к лунке. Над нами висело низкое коннектикутское небо.
— Через десять лет, — развивал мысль папа, — у людей исчезнет предубеждение против лекарственных препаратов. Конечно, к арабам это не относится. Человек сам состоит из химических элементов. Да-да, из них, сынок. Нужно только подождать, пока эта простая мысль проникнет в сознание масс. Что ни возьми — хоть еду, хоть спорт, хоть секс, хоть дружбу, — все имеет свойства медикаментов, то есть определяет настроение и состояние человека. И так было всегда. Запомни мои слова: различие между натуральным и искусственным в недалеком будущем станет считаться предрассудком, широко распространенным в двадцатом веке. Какая разница, свои у человека мозги или он умный потому, что принял некий препарат? Люди сейчас относятся к таким вещам отрицательно, а ведь это не более чем атавизм, оставшийся от религиозной концепции так называемой души. Только не говори об этом Чарли.
— А вот вы с мамой всегда относились отрицательно к приему неких препаратов, если речь шла о моих мозгах.
— Ну, Двайт, нашел, с чем сравнивать! — С этими словами отец изящно размахнулся клюшкой и запустил мячик по идеально выверенной траектории. — Каково?! — Если бы я предварительно пожевал грибков, в небе мне привиделся бы тающий белый, как от самолета, след. — О чем это мы? Ах да, о твоих мозгах. Видишь ли, Двайт, марихуана не стимулирует умственную деятельность по крайней мере не каждый раз. Надеюсь, ты ее больше не употребляешь?
— Очень редко.
Мы добрались до края поля и стали искать в густой траве мой мячик.
— Марихуана, папа, порой доставляет удовольствие и снимает напряжение.
В нашей семье эта фраза бывала в ходу по самым разным поводам. Например, мама, однажды вечером зайдя в комнату находящегося на пике пубертатного периода сына и поведав ему (мне), что такое секс, как было бы хорошо, если бы со временем он (я) встретил девушку, которую бы полюбил, и занимался бы сексом с ней или в крайнем случае сам с собой, в частности, сказала, что секс доставляет удовольствие и снимает напряжение. Этой же фразой папа оправдывал перед Алисой свое пристрастие к виски. Сама же Алиса в период Запугивания мамы нетрадиционной сексуальной ориентацией, растянувшийся на целый 1992 год, с саркастической усмешкой заявляла, исключительно для поддержания имиджа, что лесбийская любовь доставляет удовольствие и снимает напряжение.
— Марихуана, как тебе известно, способна влиять на мотивацию. Ты, наверное, куришь примерно раз в две недели? — с нездешней проницательностью предположил папа.
— Какое там! Уже и забыл, когда последний раз курил.
— Двайт, я это к чему говорю? К тому, что думать о человеке и не принимать в расчет химию — все равно что строить дом, ничего не смысля в архитектуре. Каждый живет в конкретном доме с конкретной отделкой, мебелью и прочим. Только интерьер делает дом домом.
Я понимал, что в данном случае можно и поспорить. Вдобавок я знал: у неверия в то, что характер дается человеку раз и навсегда, пышная родословная. В частности, на интеллектуальном генеалогическом древе фигурирует шотландский философ Дэвид Юм. Однако я отлично помнил, как папа и мама внушали мне, что нужно быть честным с самим собой — именно это выражение было у них в ходу, причем, кажется, они полностью отдавали себе отчет в том, какие последствия может повлечь такая принципиальность. Поэтому папина готовность вместе с пятном от пальца стереть с зеркала заодно и человеческое лицо меня несколько напрягла.
Я начал говорить, что люди скорее всего и дальше будут придерживаться уже имеющегося весьма сомнительного, зато привычного представления о том, что такое здоровье; что подобные теории самым пагубным образом отразятся на таком явлении нашего общества, как массовое лежание на кушетке, в результате чего тысячи психоаналитиков останутся без средств к существованию; и что именно пугающие последствия перестройки человеческой психологии явились одной из причин последних событий, связанных с «Пфайзером», в результате которых я, как мне уже давно следовало признаться, остался…
— Ты просто не представляешь, какую роль сыграли фармацевтические компании в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках!
Опять не получилось. Я всегда считал себя достаточно образованным для того, чтобы слушать папины рассуждения, но мне никогда не хватало навыков для ведения с ним беседы. Если я говорил о чем-то неизвестном папе, он делал вид, что не слышит. Однако если я упоминал об уже известных ему вещах, он неизменно отвечал: «Конечно, я в курсе». Папа был непотопляем. Как большинство мужчин.
Он увлеченно приводил статистические данные. Пришлось его перебить:
— Вот интересно, кто-нибудь разрабатывает лекарство от слабовыраженного вялотекущего аутизма? Кривая заболеваемости в нашей стране неуклонно растет, особенно в пригородах, среди белых мужчин. Что связано с целым рядом обстоятельств…
— Понятия не имею. Никогда не слышал ни о каком росте никакой кривой.
— Ну так теперь слышишь.
Папа смерил меня подозрительным взглядом.
— А где ты вычитал про этот, как его…
— В «Уолл-стрит джорнэл». — Я выдержал папин взгляд. — Заметка была совсем коротенькая.
— И с каких же пор ты веришь желтой прессе?
— Наверняка заметку заказал «Бристол-Майерз», главный конкурент «Пфайзера». Подготавливает почву для выброса на рынок нового лекарства.
Папа, кажется, клюнул.
— Как, говоришь, называется болезнь? Слабовыраженный вялотекущий…
— Аутизм, пап. Характеризуется неспособностью признавать в окружающих начатки интеллекта. В легкой форме.
Настоящее золотое дно. По крайней мере так «Джорнэл» считает. И я так считаю. Правда, ученые еще не пришли к единому мнению…
Папа, похоже, никак не мог сообразить, разыграл я его или, напротив, поделился ценной информацией. К сожалению, он легко мог выяснить насчет заметки через интернет.
— А может, это и не в «Уолл-стрит джорнэл» напечатали, — подстраховался я. — В сети столько информации, только успевай читать.
Папа обнял меня за плечи. Скосив глаза на его руку, оказавшуюся непривычно близко, я заметил, какие у папы сравнительно лысые пальцы — на фалангах в сетке морщинок наблюдались единичные случаи тонких блондинистых волосков.
— Ну спасибо, Двайт.
Я скосил глаза в противоположную сторону, на шелковистую тонкую кудель и на нос, красный на самом кончике, будто у пришедшего с мороза ребенка. Свободной рукой папа сдвинул солнечные очки на темя и теперь щурил на солнце свои голубенькие, как барвинки, и столь же невинные глаза.
— Я серьезно, сынок. Ты такой внимательный. Это очень интересно — все, что ты рассказал. Говоришь, старый добрый «Бристол-Майерз»? Я-то давно заметил, как сильно выросла кривая заболеваемости этим… как его… вялотекущим…
— Им самым, пап.
— …Даже в таких пригородах, как Лэйквилль и Сэлисбери. Главный симптом — неспособность вступать в психологический контакт с этими, как их…
— С кучкой придурков.
— Вот-вот, с окружающими. Надо же… «Бристол-Майерз», значит, снова в игре. Проблема действительно существует. А что я всегда говорил?
Папа снова надвинул солнечные очки — посмотрел, дескать, сынок, в мои глаза, да и хватит. Теперь я видел только собственную персону, сплющенную, выгнутую, осклабившуюся и зеленоватую, словно огромное, хотя и дружелюбное насекомое. Следующим жестом папа выпустил меня из-под своей руки.
— Таким образом, вялотекущий, крайне слабо выраженный аутизм наблюдается у белых обеспеченных мужчин значительно чаще, чем у остальных слоев населения. В чем ученые видят причины такой выборочности?
— Заметка была совсем короткая. Я даже толком не помню, где ее нашел. Насколько я понял, ученые пока лишь на пороге новых открытий.
На почве вялотекущего аутизма у меня медленно, но верно развивалось чувство вины. Мама как-то, уже давно, выразилась следующим образом: все попытки предъявить к нему претензии папа встречает короткими гудками. В частности, за год и девять месяцев до разговора она с криками металась по краю бассейна, с легко угадывающимися намерениями размахивая оловянным подсвечником, однако папа демонстрировал олимпийское спокойствие и поражающие воображение способности к имитации звуков, издавая характерный для занятой телефонной линии писк.
— Конечно, проблема растущей кривой вялотекущего аутизма ни от кого не укрылась, — продолжал папа. — Наверняка даже ты не мог ее не заметить. Что ж, «Бристол» делает нужное дело. И «Джорнэл» тоже. Вот это и называется «правильно определить целевую аудиторию». В данном случае — ты ведь не будешь спорить, Двайт? — целевой аудиторией являются белые мужчины, живущие в пригородах. Да, именно белые, именно мужчины, именно в пригородах.
Мне стало совсем тошно.
— Знаешь, папа, играть с тобой в гольф — истинное наслаждение. Наверное, если бы мы чаще играли, я бы добился больших успехов.
Папа рассмеялся коротким лающим смешком.
— С логикой у тебя все в порядке, Двайт!
Очередной отправной лункой нашей беседы стала папина пышная фраза о том, как он гордится тем, что его сын работает в «Пфайзере». Разумеется, именно в сторону данного откровения были умышленно пущены его предыдущие мячи, в большей степени имевшие отношение к теории; сейчас же папа просто продвигался к конечной лунке верной, по принципу «от простого к сложному», дорогой. Он сообщил потрясающую новость: лекарственные препараты, оказывается, способны творить чудеса.
— Фармацевтические компании — это авангард промышленности.
— Правда?
— Конечно! — заверил папа.
Может, теперь он надо мной издевается? Я постарался уверить себя в обратном, и мне это удалось. Почти. Тем более что устойчивые поведенческие стереотипы родителей действительно крайне устойчивы.
Я напомнил папе, что «Пфайзер» нанял меня по договору субподряда, и на самом деле я числился в другой фирме, занимающейся технической поддержкой.
— И вообще ходят слухи, что скоро кучка мумбайцев… — Излагая все это, я ломал голову, старается ли папа с помощью хорошо продуманных славословий в адрес моего (бывшего) работодателя переманить меня на свою сторону в войне с мамой.
Я сказал, что у меня осталось от отпуска несколько дней, и я намерен — частично оттого, что в Нью-Йорке мой мозг постоянно подвергается атаке рекламы, которую я поневоле читаю и почему-то отлично запоминаю, — намерен, стало быть, отправиться в страну, где язык рекламных плакатов мне не знаком, и немного поразмыслить.
— Надеюсь, денег мне хватит, — намекнул я.
— А ты не собираешься поразмыслить о «Пфайзере»?
— Возможно, и о нем. Но в основном о себе.
— Надеюсь, Столбняк нам не грозит?
Перед моим мысленным взором встал День благодарения из отдаленного детства. Возможно, перед папиным мысленным взором встал тот же День. В моем сердце клюквенный соус, ароматная начинка и сама индейка занимали одинаковое положение, поэтому, пробормотав молитву, я не нашел в себе сил сделать выбор и притронуться к еде. Смехотворность причины, по которой я не мог решить, с чего начать, только усугубляла мою нерешительность. Я пускал слюнки над тарелкой, я смотрел на еду остекленевшими глазами — одним словом, я пребывал в состоянии, которое позднее получило название Столбняка, — ровно до тех пор, пока папа не замахнулся на меня вилкой с криком: «Да будешь ты есть, черт возьми?!» Я зажмурился, ткнул вилкой наугад и поднес неизвестную добычу ко рту. До сих пор помню, как челюсти свело от клюквы.
— Вдобавок я хотел бы встретиться с одной девушкой. С Наташей ван дер Вейден.
Хочешь, чтобы папа замолчал, — заведи речь о личном. Этот прием всегда срабатывает. Похоже, страх перед ролью доверенного лица уместно определить как синдром Уилмердинга-старшего или, проще, как слабовыраженный вялотекущий аутизм. По папе можно изучать типичную клиническую картину этого заболевания.
Он ловко перевел разговор на гольф.
Интересно, помнит ли папа Наташу? Она была у нас всего однажды, да еще в большой компании одноклассников, и ее появление, что символично, совпало с пропажей маминого любимого попугая из клетки, которую забыл запереть папа, упорствовавший в своем пофигизме. Попугай скоро обнаружился на верхушке огромного вяза, росшего на нашем газоне, — перепуганная птица, давясь всеми известными ей словами сразу, пыталась нам что-то объяснить. Я боялся, что попугай улетит в неизвестном направлении, в результате чего на папином счету окажется еще один непростительный проступок. Злостный и неисправимый супруг, папа все двадцать семь лет брака находился на испытательном сроке или, в случаях особо тяжких, получал «условно». Мама говорила: «Только посмей!» — и папа, как правило, смел. Он отличался феноменальной рассеянностью, в результате которой незакрытая машина угонялась, мусорные ящики не вывозились, а мороженое, задвинутое в кухонный шкаф, таяло и успешно заливало сахар, кофе и кукурузные хлопья. Я даже разработал теорию: чем чаще мама пилила папу, тем рассеяннее он становился, потому что каждый мамин выпад давал ему моральное право еще больше абстрагироваться от совместных с ней автомобилей, мусорных ящиков и кукурузных хлопьев.
Но вернемся к Наташе. В тот далекий день она ловко, как обезьянка, взобралась на дерево и заманила попугая к себе на плечо — тогда как мы, Уилмердинги, а также одноклассники, задрав головы, стояли на газоне. «Неординарная девочка», — сказала мама. «Она голландка», — объяснил я, не в силах придумать ничего другого. Наташа считалась в большей степени Алисиной подругой, чем моей одноклассницей. «Кажется, еще пять минут — и придется звонить ее родителям в Голландию», — мрачно прокомментировал папа. «Дункан, она, между прочим, спасает твою задницу». Наташа начала со всеми предосторожностями, но очень изящно, спускаться. Тут порыв ветра растрепал крону, вывернул наизнанку каждый листок и разогнал тучи. Наташа на мгновение застыла в сверкающем хаосе листьев. Оказавшись в непосредственной близости от земли, Бадж закричал, в точности как я его учил: «В чем дело, старина? В чем дело, старина?» Все засмеялись. В дом вернулось семейное счастье.
Правда, ненадолго.
Интересно, сам я когда-нибудь женюсь?
— Двайт, тебя что-то тяготит? — спросил папа самым ненавязчивым тоном, вручая мне новую клюшку.
— Нет-нет, — поспешно ответил я. — Пока ничего.
Разделавшись с девятью лунками, мы пошли обедать в клуб. Обед предварял двойной виски; мы чокнулись, каждый о своем.
— Темень, как ночью в торфянике, — сказал папа.
— Еще и дым — хоть топор вешай, — поддержал я.
— Горящий торфяник, — подытожил папа. — Двайт, ты знаешь, как важно держаться за хорошую работу?
— Ты «Пфайзер» имеешь в виду?
— А что же еще?
Я заверил папу, что сохраню его напутствие в сердце. Я и так уже корил себя за то, что подпортил папины дифирамбы будущему фармацевтики, намекнув на отсутствие верноподданнических чувств к оставшемуся в прошлом работодателю. Еще я думал о злых шутках, которые «кроксол» играет с людьми, страдающими болезненной застенчивостью. Я прикидывал, не сыграет ли «абулиникс» столь же злую шутку со мной, внушив мне, что мое «Я» — не более чем результат действия психотропных препаратов, и я лишь льстил себе относительно свободной воли, которой у меня вовсе нет и никогда не было. Зачем в таком случае вообще что-то предпринимать? Раз уж ты уродился пассивным корнеплодом, сиди и жди, пока тебя выкопают. И нечего воображать себя кротом.
Ни с того ни с сего папа спросил:
— Двайт, что ты знаешь об Австралии?
— То же, что и все. Каторжники, аборигены, сумчатые. — Я пожал плечами, исчерпав запас штампов.
— Дело в том, что я познакомился с очень милой женщиной…
Вот это удар так удар. Прямо под дых.
— С женщиной?!
— Представь себе. Женщины не так уж редки в природе. Она, видишь ли, живет в Брисбене. Вот я и подумываю, не слетать ли в Брисбен. Говорят, Австралия — удивительная страна.
— А вдруг она окажется как та болгарка? Подумай хорошенько, прежде чем лететь.
— Двайт, не может она быть как болгарка, если живет в Австралии. По-моему, Австралия — это все равно что Штаты в начале шестидесятых. Открытая страна, неосвоенная. Есть где развернуться.
— Да, папа, но я-то думал, что ты развелся с мамой только потому, что ты по природе своей одиночка. То есть я не умаляю серьезности для тебя этого шага, в смысле — развода. Но ты сам говорил «Я — одиночка». Я только цитирую. — Кажется, на слове «цитирую» мой голос несколько сорвался.
Появилась официантка с нашим заказом.
— Пожалуйста, вегетарианский сандвич и сандвич с мя…
— Мертвечину для него. — Я предвосхитил действия девушки. Когда она ушла, я, не в силах сдерживаться, воскликнул: — Надо же, австралийка!
Тип за соседним столиком оглянулся.
— Франсес, — гнул свое папа, — в высшей степени интересная женщина. Я очень надеюсь, что ничто не воспрепятствует нашей встрече лицом к лицу.
— Только не говори, что познакомился с ней через интернет.
— А хотя бы и так. И волноваться пока рано: если я с ней встречусь, это еще не значит, что я перееду в Австралию. Мы обсудим это дома.
— Ах, дома!..
— Двайт, да какая муха тебя укусила? Обычно ты ведешь себя гораздо лучше.
— Спасибо.
— Поговорим об этом позже.
— Правильно. Не спеши, а то успеешь. Папа… — Я должен был наконец признаться. — Папа, меня уволили. У меня нет ни гроша. У меня нет профессии!
Папа явно сконфузился.
— Единственное, что у меня есть, — абулия. Таков остаток.
— Абу… что?
— Не важно. Но она, по всем признакам, наследственная. — Я тряхнул головой. Во рту было горько и засушливо, как с бодуна.
Папа отреагировал на мое увольнение так же, как Ванита, — заказал еще виски.
— Боже мой, Двайт, так ты и правда в заднице! — Алкоголь развязал папе язык. — Ты же знаешь, как я тебя люблю, сукин ты сын!
Папа крайне редко позволял себе как крепкие выражения, так и выражения отеческой любви, поэтому, когда я услышал сразу и то, и другое, оба полюса моего сознания словно озарились нездешним светом, тогда как промежуточная зона погрузилась во мрак. Надеюсь, вы не сочтете меня плаксой, если я признаюсь, что на мой вегетарианский сандвич упали несколько скупых мужских слезинок.
Глава восьмая
Четыре порции виски кардинально изменили как папино настроение, так и его манеру вождения — на поворотах у нас с собаками дух захватывало. Мы ехали домой.
— А здорово ты под конец сделал этого пидора Рика! То-то его сейчас босс натягивает. Красиво ушел, давно пора было.
— Ты думаешь?
— Конечно. Ты же хотел освободиться? Вот и освободился. Эту страну погубит коррупция, попомни мои слова. А у тебя был отличный повод спрыгнуть с гребаного каноэ на полном гребаном ходу. — Папа непривычно много сквернословил.
Мы миновали озеро в Лэйквилле — оно сверкнуло тонко, как вода на жирной сковородке.
— Только не думай, будто мне параллельно, где ты и что ты. Да я ночей не сплю, все волнуюсь, как ты дальше жить будешь. Я знаю, что такое нерешительность. С другой стороны, у тебя душа чертовски чистая. Будь ты девчонкой, мы бы тебя ни за что из дому не отпустили. Вот и Франсес — ну, австралийка моя — спрашивала про тебя, так я сказал, в смысле написал, что сын у меня наивный, как грабли, — а это в наше время большая редкость. Ты же не обиделся из-за грабель? Веришь, Двайт, я люблю твою мать такой невыносимой любовью, какую не истребит даже самая невыносимая женщина. И знаешь что? Если бы я вздумал изобразить на бумаге, до чего скучаю по старушке Чарли, я бы нарисовал колесо без покрышки. Вот что я такое без Чарли! А ты говоришь!.. Тогда тоже весна была. Гребаная весна, на кой хрен она вообще бывает! Но ты же мой сын! Плоть от плоти! — Папа рассмеялся. — Я несу за тебя ответственность. И я этому рад, черт меня подери. Должок неоплатный, пожизненный кредит с процентами, вот что такое отцовство. Но ты стоишь геморроя. Наивный ты мой! Божьи грабли!
— Спасибо, папа. Я ценю твое отношение.
За окнами проносились вехи жизни в полной семье. Слева мелькнула молотилка, неизбежная, как ружье в спектакле: каждый в свое время неизбежно на нее залезает и еще более неизбежно с нее падает; мой случай отличался от остальных лишь благополучностью падения. За молотилкой мелькнул поворот к пруду, где мне однажды заехали шайбой в лицо, после чего я забил энное количество голов, обеспечивших нашим победу с разгромным счетом.
— Из тебя выйдет толк, сынок, если только ты не в своего папу пошел! — Папа снова рассмеялся.
— И не в маму, — пробормотал я. Мама, как вы помните, у меня монашка. — Пап, я никогда от тебя ничего подобного не слышал. — Мы как раз проезжали мимо места, где Алису сцапали копы за то, что она при помощи баллончика с краской написала на стеклянной двери кинотеатра «Миллерон» «СМОТРИ, НО НЕ ТРОГАЙ РУКАМИ».
— А признай, Двайт, классно быть занозой в чьей-нибудь заднице? Ведь так, кажется, вы с Алисой это называли? — Папа огляделся по сторонам с довольным видом гопника, который останавливает на светофоре свою сотрясающуюся от хип-хопа тачку.
— Для данного явления существует обширная терминология, — мягко заметил я. — Как у эскимосов для снега. Правда, сейчас их, кажется, принято называть инуитами?
— Двайт, ответь мне на один вопрос: это Алиса подсадила тебя на марихуану? Я всегда подозревал, что Симпсоны рядом с нами отдыхают. Черт меня подери, если Алиса не отлучила тебя от семьи!
— Никто меня не отлучал. По крайней мере пока. Не волнуйся, папа.
— Наверное, надо было чаще с тобой пить. Надо было самому тебя испортить, пристрастить к виски, что ли. А лучше поступить так со всей нашей семейкой. Ура Уилмердингам — четверым занозам в заднице общества! — Папа сделал умное лицо и паузу, затем произнес: — Стоит только выпить — и сразу тянет позвонить Франсес. Слава богу, из-за разницы во времени я редко это делаю. В смысле звоню. У нее такой приятный голос, мягкий, не то что у некоторых австралийцев…
— Папа, по-моему, ты преувеличиваешь роль испорченности ради испорченности в отношении меня и Алисы.
— Пожалуй, но ведь в преувеличении и состоит вся прелесть испорченности.
— Ты ведь не собираешься жениться на… — У меня язык не поворачивался произнести кошмарное имя австралийки. Наверное, папа станет называть ее Фрэнк. Год и девять месяцев назад папа с достойным лучшего применения красноречием разглагольствовал о необходимости одиночества и о том, что брак — один из наиболее часто встречающихся миражей в пустыне фальшивых отношений; а теперь он завел подругу.
— Хватит с меня свадебных колоколов, — отвечал папа. — Я еще в своем уме. С другой стороны, обрати внимание, я все один да один.
— Ты же сам этого хотел.
— Не до такой же степени.
— Алиса говорит, ты слишком много пьешь.
— А ты тоже так думаешь? — Папа снова издал лающий смешок.
Мы свернули с шоссе на нашу улицу. Ветер трепал кроны деревьев, и дорогу пятнали пестрые тени, менявшиеся мгновенно, как в калейдоскопе. Собаки встали на задние лапы, передними оперлись о кожаные спинки сидений и заскулили в предвкушении смены деятельности. Перед нами, в асфальтовой петле, возник наш старый газон, на котором уже проклюнулась свежая травка. Папа мягко затормозил у главного входа, мы выбрались из машины и, пошатываясь, поднялись на крыльцо с белыми колоннами «под Тоскану». И дверь, и крыльцо, и колонны были такие знакомые, что казалось, нас ждут, к нашему приезду готовятся. Но, конечно, никто не распахнул дверь нам навстречу — никого не было дома, потому что в доме жил папа, а мама не могла там жить — нервничала, «как актриса перед выходом», вот и переехала в Нью-Йорк.
Отключив сигнализацию, папа вошел в дом, чтобы позвонить Франсес.
— Небось только что проснулась. У австралийцев все не как у людей. Антиподы, что с них взять. Ты пока не польешь цветы? А я потом, как позвоню, посмотрю, сколько у меня денег.
Папа говорил сухо, из чего я сделал вывод, что деньги он намерен поискать для меня. Что ж, хоть в области финансов намечается стабилизация. Я повел собак на лужайку за домом.
Я включил воду и поднял шланг над клумбами. Я лил воду на лилии и гибкие ирисы, на махровые анютины глазки и на флоксы, стоящие стеной, и мне казалось, что я пытаюсь помочь им расслабиться и одновременно взбодриться. Потом я почти закрутил кран, оставив лишь тоненькую серебристую струйку, и положил шланг на клумбу, где по опорам карабкались штокрозы, а снизу ноготки кивали им оранжевыми головками. Как выяснилось, разведенные банкроты совсем неплохо умеют ухаживать за цветами.
Ноготки можно есть, поэтому я оторвал одну головку и принялся ее жевать. У челюстей и вкусовых рецепторов появилась работа, я же попытался сосредоточиться. Потому что чувствовал: необходимо обдумать мысль, а может быть, даже принять решение. Последнее казалось неким образом связанным не то с собаками, не то с цветами.
(В детстве папины регулярные и высоконаучные объяснения о том, как происходит процесс роста растений, заставили меня поверить, будто я знаю, каково это — быть зерном. С этого места поподробнее? Пожалуйста. Зуд лопающейся оболочки, энергичные толчки белесого скрученного ростка, подстрекаемого солнечным светом тянуться все выше, в то время как корешок цепко держится за вязкую сырую почву, казались знакомыми, почти привычными. Я физически ощущал, как росток, постепенно распрямляясь, вырывается из земли, которая сама расступается, выпуская его на простор. Что же касается ощущений ростка, выбравшегося наконец на поверхность, помедлившего немного, а затем решившего — растем! — своим тоненьким белесым нервом, заменяющим все то, что мы понимаем под словом «сознание», — так вот, что касается ощущений ростка, я уже довольно смутно представлял его состояние. А если проследить путь ростка дальше, когда уже и листья появлялись на нем, и яркие цветы, — тут я совсем терялся в догадках относительно его ощущений. Точно так же, как не мог я представить, что чувствует взрослая каприфоль, я понятия не имел, что чувствуют окружающие. Мама, папа, Алиса — что они чувствовали? Почему они — это они, и никто больше? Непостижимо. Однако, несмотря на некоторую собственную заторможенность, несмотря на то, что я был младшим в семье, я твердо знал: мама, папа и Алиса недовольны существующим положением вещей и ролями, которые они сами себе выбрали — по неведомым мне причинам.)
Цветы… Собаки… Цветочно-собачья чушь… Похоже, у меня очень редкий тип мышления — я выстраиваю совершенно невообразимые ассоциативные цепочки и сам же по ним же успешно захожу в тупик.
Я выключил воду, вытер руки и уселся на газон. Голова кружилась от выпитого. Я боялся, что новая форма жизни, обещанная «абулиниксом», не найдет определения в моем мозгу именно по причине своей новизны; точно так же, как я не мог в точности описать вкус ноготков, которые, забывшись, поедал один за другим, — не мог именно потому, что вкус их неуловимо отличался от вкуса всей известной мне доселе растительности.
Взрослые собаки знали свое дело — они уселись по бокам и принялись меня охранять. Бетси скакала в непосредственной близости от моих колен. Я услышал одышечную поступь и обернулся. К газону приближался папа со стаканом в левой руке и залихватским выражением левой половины лица.
— Бедняжка! — воскликнул папа. Левая половина лица дернулась в улыбке; правая сохраняла в высшей степени серьезное выражение.
— Она что, думает, будто нравится тебе? — спросил я.
— Ну да! Иначе стал бы я называть ее бедняжкой!
— Порой мне кажется, что ты кошмарный тип. — Раз я такое сказал, значит, я здорово набрался. Причем не смелости.
— А что поделаешь? Почему, по-твоему, у нас не заладилось с твоей матерью? Потому что мы исчерпали запас иллюзий. Со временем, Двайт, ты сам увидишь: чем старше становишься, тем больше у тебя иллюзий, и от каждой следующей иллюзии избавиться труднее, чем от предыдущей. Одна надежда: что попадется особо иллюзорная иллюзия, из которой ты не выпутаешься до конца дней своих. Если, женившись, ты до собственной смерти или до смерти жены не поймешь, что не можешь с ней жить, считай, тебе крупно повезло. Бедняжка Франсес, ха! Нет уж, на ней я не женюсь. В то же время, когда я о ней думаю, мне порой кажется… Если честно, у меня поразительные способности к самообману, из-за которых я чувствую себя намного моложе, чем есть. Вдобавок я здоров как бык и, пожалуй, протяну еще десяток-другой…
— И как тебя только угораздило стать моим отцом!
— Вообще-то получилось запросто…
— Пап, я серьезно. Может, циникам вообще нельзя разрешать иметь детей?
— По-твоему, циники должны мастурбировать на площадях? Осквернять память отца-основателя?
Последняя фраза немало меня озадачила.
— Не дрейфь! — В папиных глазах мелькнуло обаяние порока — вот с такими же глазами он, вероятно, много лет назад подбивал клинья к женщинам. — Я ведь совсем недавно начал понимать, какая это все суета… — Он со вздохом пожал плечами. — Все эти фьючерсы. Отцовство. Супружество. У меня была своя система, она работала, а потом перестала.
— Ты имеешь в виду фьючерсы?
— Однако согласись, усилия оказались не такими уж бесплодными. У каждого из нас была своя упорядоченная, с комфортом обустроенная личная жизнь. Поглощенные в высшей степени разнообразными душевными муками, мы не отвлекались на проблемы материального характера. Мы могли позволить себе сосредоточиться на страданиях — не то что представители менее обеспеченных слоев населения, вынужденные заботиться о куске хлеба. А это уже немало. — Я всегда поражался папиному красноречию. — Вы с Алисой получили прекрасное образование. В твоем случае под прекрасным образованием я разумею весьма престижную школу Святого Иеронима. И все же мысль о вечной суете, о суете на высшем уровне, преследует меня. Vita longa, ars brevis[16]. Только так и удается подстегнуть чувства. Жить помогает разум. Ох, зря я этого наговорил… Тем более тебе. — Целую секунду у папы был озабоченный вид. — Ты же все понимаешь буквально! Двайт, тебе нужно что-то сделать. Обещай, что до самой смерти не будешь замечать суеты! — Он засмеялся. — Найди работу, найди девушку! Голландка вполне подойдет. Вполне. Слушай, а не она тогда лазила на дерево? Такая высокая, светленькая, с чудной улыбкой? Я правильно помню? — Папа снова на меня взглянул. — Неужели вам в колледже не рассказывали о Диогене Лаэртском? Это ведь от него пошли циники.
— Вряд ли Диоген Лаэртский входил в программу. Цинизм может отрицательно сказаться на мотивации молодого человека.
— Ох, Двайт, из каких только книг ты этого понабрался? Вот и отдавай ребенка в престижную школу…
Я принялся оглашать весь список литературы. Мы шли к дому, собаки следовали за нами.
Запах дома, всегда один и тот же, всякий раз меня поражал. Пахло прохладой и немного железом — казалось, дух железных перекрытий проникал сквозь роскошные панели темного дерева; к железу и прохладе примешивалась сырость видавших виды ковров. Запах был довольно слабый, если только его не перебивали ароматы из кухни — а они его не перебивали ни в тот день, ни в последующие, ни в обозримые предыдущие. В доме было по-холостяцки пусто, в кухне ничего не пеклось, не жарилось и даже не закипало. Запах дома вызвал множество воспоминаний, разрозненных, обрывочных, на мгновение сплавив их воедино. Они накатили, как белая волна, как протоплазма, — и отступили.
Придя в чувство, я сказал:
— Вопрос, если руководствоваться теорией Куайна[17], в следующем: видит ли человек одну абстрактную реалию, которую мы с тобой называем кроликом…
— Допустим.
— Или же слово кролик тянет за собой целую цепочку понятий и представлений…
— Ну да. Нора значит кролик, кролик значит компания, а компания значит еда. Если я хоть что-нибудь хоть в чем-нибудь понимаю. Не бухти, Двайт… Майн Гот! Сто тысяч долларов…
Папа уселся в большое кресло на колесиках у дальнего конца стола и извлек из ящика чековую книжку. Мы находились у него в кабинете. Маршалл и Фрэнк, описав по полукругу, залегли каждый в свой домик с фланелевым матрасом. Я же сидел по другую сторону стола, как жалкий и вдобавок пьяный проситель, размышляющий: дадут, не дадут. Крошка Бетси царапала и тут же зализывала мою ладонь; прежде чем взять у папы чек, я отер ладонь о рубашку.
— Это поддержит тебя на плаву, пока ты не нащупаешь твердую почву. Держи!
Я сложил чек, не взглянув на сумму: боялся, что реакция, какой бы она ни была, окажется более бурной, чем следует по ситуации.
— Папа, не знаю, как тебя благодарить.
— Ты ведь не собираешься писать диссертацию по философии?
— Нет, что ты! — испугался я.
— Вот и хорошо. — Папа плеснул виски на три пальца для нас обоих. — Надеюсь, с философией ты завязал. Не могу себе простить, что не убедил тебя поступать в другой колледж. Мое влияние не менее непростительно. — Папа махнул рукой в сторону книжных полок. Между страниц непостижимым образом умещались тридцать лет вечеров. — И все же, Двайт, ты виноват в гораздо большей степени.
— Логично.
Я не спеша потягивал виски. На стене прямо передо мной висел портрет молоденькой Чарли — темный, глянцевый, парадный. Висели там также тяжелые старорежимные часы — прямо над камином, а рядом с компьютером выгибала шею настольная лампа, вся из себя минималистская. В детстве папин кабинет казался мне — честно говоря, это впечатление сохранилось до сих пор по крайней мере до тех пор, когда я сидел напротив папы с чеком в руках, — так вот, кабинет казался мне мировым равновесием в миниатюре, смести которое с лица земли не в состоянии никакие катаклизмы. Сам папа отличался внушительностью фигуры, был плотен, плечист, широк в кости, лицо имел мясистое, нос выдающийся — длинный, слегка раздвоенный на кончике. Нос этот являлся характерным признаком всех Уилмердингов; связь поколений прервалась на папе (у меня был мамин нос, у Алисы — ее собственный). Но теперь папина непотопляемость в моих глазах подверглась сомнению…
— Сиди спокойно, — сказал папа. — У тебя что, шило в заднице? Двайт, я хочу дать тебе совет. Извини, я слишком распустил язык. Ты не находишь, что от частого употребления непристойные выражения замылились, смягчились? Да на что ты там смотришь?!
Я смотрел на фотографию Двайта, висящую на противоположной стене. Двайт же, в черной мантии и квадратной шляпе, слегка наклонив голову, смотрел в объектив, будто ждал (и ведь ждал, мне-то лучше знать!), что вот сейчас вылетит птичка.
— Кажется, это было сто лет назад, — произнес я, хотя на самом деле ничего подобного относительно колледжа мне не казалось.
— Послушай, Двайт, что я тебе скажу. Запомни, детство — самый скверный способ подготовки к зрелости. Ты меня слышишь? Потому что детей учат всякой фигне, но ничего не говорят им о времени. О гребаном времени. Так вот тебе мой отцовский совет. Следовало бы чаще пичкать тебя этой байдой; еще лучше было бы пичкать байдой более адекватного отпрыска. — Папа явно хотел казаться более рассерженным, чем был на тот момент; он даже пытался рычать. — Так вот, не строй жизнь на своем детстве! Понимаешь, о чем я? Не строй жизнь на фундаменте своего детства, на сваях, на опорах или как их там! Иначе ты никогда не адаптируешься ни к чему другому. Понятно?
— Папа, я очень хочу принять несколько решений. И как только «абулиникс» начнет действовать…
— Но тебе уже известно все, что тебе известно!
— Что мне известно? — Я для храбрости залпом выпил остаток виски и действительно улыбнулся папе довольно храброй улыбкой.
— Сукин сын!
И он запустил в меня миниатюрным степлером. Я вовремя среагировал и нагнул голову.
— Вот так всегда! Чуть что — голову в песок! Страус! — Внезапно папа замолчал. — А знаешь, почему я не доверяю этим сукиным детям?
Я выглянул из-за руки, инстинктивно взметнувшейся, чтобы защитить лицо.
— Каким конкретно?
В меня полетела коробка влажных салфеток для чистки экранов и мониторов. Я поспешно растянулся на полу.
— Ах, ты так?! Отлично! Прячься, прячься — даст бог, помрешь, и все это кончится. Но я все же объясню, почему не доверяю мусульманам, этим террористам. По одной-единственной причине: потому что они не пьют! И если тебе надо упражняться в бренности… — Папа опорожнил свой стакан. Стакан просвистел у моего уха. — Если тебе нужна терпимость к слабостям и преступлениям, вся из себя такая гуманная… — Мимо другого уха просвистел мой стакан. — Тогда я скажу, что делать. Черт возьми, для тебя найдутся занятия похуже, чем быть первым дистрибьютором алкоголя на Ближнем Востоке. Главное — не реагировать на команду «Умри!».
При слове «Умри!» Фрэнк, родезийский риджбек, вскочил со своего матраса, подарил папе скорбный взгляд, перевернулся на спину и задрал лапы. Это проявление верноподданнических чувств я наблюдал краем глаза, так как все еще лежал на полу.
— Фрэнк, малыш, иди к папочке! — В папином голосе послышался всхлип. Пес ткнулся мордой папе в бедро, папа осторожно, большим пальцем, извлек катышек слизи из уголка умного, скорбного собачьего глаза. — Хороший мальчик! — Взглянув на меня, папа добавил: — Эй, вшивый сукин сын! Лови! Лови, любимый мой, родной!
И в меня полетела картечь металлических скрепок.
— Тебе нельзя было стариться, пока не поумнеешь, — процитировал папа.
— Пап, может, хватит?
— Нет, не хватит! Ты что, не знаешь, кто ты есть? А есть ты неуч, чертов… чертов…
Папа тряхнул головой, стараясь подобрать подходящее к ритму слово, я же снизу кое-что заметил. С этой точки выражение лица Двайта на фотографии было вполне однозначное. Это было выражение лица собаки, ожидающей подачки. Ужас охватил меня. Я наконец понял — и вскочил на четвереньки.
— Пес! Я — пес! Вот что мне известно! Я — зерно, которое выросло в собаку!
По папиному смущению я понял, что он хотел сказать нечто совершенно другое. Однако я, все еще на коленях, подполз к нему поближе и произнес:
— Я всегда выполняю человеческие команды. Я вечно надеюсь, что все спишут на мою наивность. А это развращает. — Неужели «абулиникс» уже начал действовать? — Признаю: я — пес.
— А что в этом плохого? — Папа пытался защищаться.
— То, что пес — не человек!
Тут Бетси метнулась и лизнула меня в шею. Косые лучи проникали сквозь окна, выходящие на юг, создавая пыли подсветку, в которой она золотилась пыльцой, отчего мне, коленопреклоненному, комната представлялась оранжевой сердцевиной ноготка, засильем пестиков и тычинок. Наверное, я был более пьян, чем полагал. Я встал и снова уселся в кресло.
— Итак, ты больше не собака. Какие у тебя соображения насчет собственного будущего?
— Я хочу начать новую жизнь.
— Этак ты до старости провозишься.
Я поднялся и обошел стол. Я положил руку папе на плечо. Он посмотрел на нее так, словно видел впервые.
— Просто не ешь больше моих ноготков, — попросил папа.
— Я хочу в свою комнату.
Я вышел из папиного кабинета почти твердо — всего-то раз не вписался в дверной проем.
— Спокойной ночи, — крикнул вдогонку папа.
Собаки, услышав, что хозяин повысил голос, принялись лаять.
— Спокойной ночи, — повторил он. Было пять часов вечера. Собаки продолжали лаять.
Я помедлил на лестнице у двери, на синей дорожке, через годы сбегавшей по ступенькам.
— Хорошо, что мы поговорили… — Голос у меня сорвался.
— Давно пора было!
Все таким же срывающимся голосом я произнес:
— В жизни все слишком долго.
— Кроме нее, — пробурчал папа. Я так и не понял, что (или кого) он имел в виду.
Эти слова звенели у меня в ушах и на следующий день, когда самолет оторвался от взлетной полосы аэропорта Кеннеди, вдавив меня в кресло и добавив к усилию осмыслить тот факт, что все мосты уже сожжены, скручивающее усилие. Я смотрел, как мегаполис внизу ужимается до размеров собственного макета, и это было душераздирающее зрелище, заставлявшее поверить: ни от людей, ни от их количества ничего не зависит. Вскоре и макет мегаполиса исчез; осталась только тьма: она мигала огоньками, но от этого не переставала быть тьмой.
Часть вторая
Глава девятая
Таксист стащил с меня рюкзак и закинул его в багажник, словно похищенного ребенка. Наташа открыла правую заднюю дверцу и жестом отправила меня на сиденье. Сама она села справа, а Бриджид — так звали не-блондинку — обошла машину и села слева от меня. Когда девушки одновременно захлопнули двери, стало очевидно: это похищение.
— Вы прямо как пара киднепперов, — сказал я. Потому что их и была пара.
Такси покатило, терминал остался позади. Наташа перегнулась через меня к Бриджид и прокомментировала:
— У Двайта невероятная интуиция. Он разве что будущее не предсказывает.
— Она шутит, — заверил я Бриджид. Затем повернулся к более осведомленной Наташе со словами: — Это неправда.
— А как ты тогда узнал, что Бриджид встречает именно тебя? Она ведь тебе не махала?
— Я узнал, что она встречает меня, потому что она меня узнала. Вот как. Вдобавок Бриджид — белая. — Я повернулся к Бриджид. — В смысле, ты белая, Бриджид. В смысле у тебя белая кожа. В смысле…
— Белая, — созналась Бриджид.
— Не то чтобы все эквадорцы смуглые. Вовсе нет. Среди них попадаются и белые. Иногда. Я все понимаю. Но…
— Придется раскрыть тайну. Я ему подмигнула. У белых есть такой секретный знак, чтобы они могли распознать друг друга в любой толпе. — Предполагалось, что мы с Наташей рассмеемся, но мы не рассмеялись. — Вообще-то я пошутила, — пожаловалась Бриджид с легким, не поддающимся идентификации акцентом.
Мне ужасно хотелось узнать, кто такая эта Бриджид, но спрашивать при ней было бы неприлично. Я вдруг с ужасом подумал, что Наташа могла рассказать мне о своей жизни в последние десять лет или даже написать нечто более важное, а письмо так и висит у меня в ящике, потому что я забыл проверить почту. Конечно, вполне вероятно, Наташа ни словом не обмолвилась о своей подруге; вдобавок я не мог вспомнить, была ли Наташа предусмотрительна раньше, в школе. Соответственно, сообразить, в ее стиле было бы написать о чем-нибудь таком в письме или нет, не представлялось возможным. Положение мое между двумя молодыми женщинами казалось несколько двусмысленным. С другой стороны, именно Бриджид спросила, благополучно ли я долетел.
— Вполне. — Я старался почаще вертеть головой, чтобы не выглядеть невежливым. — Иначе меня бы здесь не было.
— Как хорошо, что мы все здесь. А скоро будем в Кункалбамбе!
— Это очень живописный город, — начала Бриджид. Интересно, собиралась ли она продолжать?
— Расположенный в прелестной долине, — продолжила Наташа.
Бриджид:
— Рядом с тропическим лесом.
Наташа:
— Но он не слишком влажный.
— О таком климате можно только мечтать.
— В Кункалбамбе всем нравится.
— Приятно слышать.
И слышать действительно было приятно. Однако к тому времени, как такси высадило нас на пустой горбатой улице и Наташа открыла одну за другой три двери своей квартиры и стала открывать четвертую, мое приятное возбуждение перешло в куда менее приятную тревогу. Приехал на свою голову, думал я; вот утром, не успеем мы закрыть за собой четвертую (первую) дверь, как на нас налетят грабители или революционеры и обчистят до нитки. В лучшем случае.
Я положил рюкзак на пол и подошел к окну, чтобы сквозь металлическую решетку полюбоваться видом. Кито сбегал с поблескивающих склонов довольно мрачных гор, по всей вероятности, защищавших город с севера. Вдали висело облако; по краю его, словно обнаженный нерв, дрожала яркая изломанная линия. Несмотря на то что эта линия представилась мне собственным нервом, дрожащим от страха, я, повернувшись к окну спиной, довольно бодро выдавил:
— Наташа, я ужасно рад, что приехал.
— Ты прекрасно проведешь время.
Если бы она в этот момент не зевнула, фраза насчет времяпровождения прозвучала бы гораздо убедительнее.
— Может, выпьем за встречу? Хотя, наверное, это неделикатно — предлагать выпить чужого, в смысле — твоего, — предложил я.
Бриджид исчезла в спальне, мы наконец остались одни.
— Двайт, уже за полночь.
— Да-да, знаю. В Нью-Йорке тот же часовой пояс. — Я оглядел полупустую непривычную комнату. — Странно, правда?
Наташа сказала мне располагаться на диване в гостиной, а сама ушла в спальню к Бриджид, потому что они с ней были двоюродные сестры, или подружки-лесбиянки, или образованные европейки в дикой стране, или просто две женщины в квартире с одной кроватью — кто знает? Оставшись один в чистой прохладной кухне, я набрал из-под крана стакан воды — очень надеясь, что ее можно пить, — и принял две таблетки: «лариум» от малярии, а «абулиникс», соответственно, от абулии. После чего лег спать.
Как странно: люди прямо-таки рвутся в будущее, словно они там уже побывали, словно возвращаются на виллу после зимы. Только благодаря их ничем не обоснованной самонадеянности я кое-как, шаг вперед и два назад, продвигаюсь следом, не клацая зубами от страха. Но вот прочитаешь в «Таймс» о каком-нибудь таинственном и страшном происшествии — например, о том, как человек услышал шум около дома своей сестры, выскочил на улицу и провалился в заброшенную меловую каменоломню — просто провалился, земля сомкнулась, и с концами, тело так и не нашли, — вот в таких-то случаях и понимаешь, что в будущем никто никогда не был, что из будущего не возвращаются.
Мысль о том, что и мне не суждено отсюда вернуться, усугублялась пустотой квартиры. Здесь не слышно было звуков, характерных для обитаемого помещения; не видно было личных вещей, безделушек, намеков на беспорядок; здесь стояла только самая необходимая мебель, а на стенах, словно шрамы, в прямоугольниках белели обои, сохранившиеся в первозданном виде благодаря висевшим здесь некогда картинам или плакатам. Наташа, наверное, переехала так недавно, что казалось, будто она, наоборот, завтра съезжает. Не удивительно ли, что эти два противоположных состояния так мистически похожи? Впрочем, убеждал я себя, не стоит беспокоиться, один из побочных эффектов «абулиникса» — паранойя в легкой форме, первая ее стадия. Немудрено, ведь мозг пациента пытается подстроиться под новые стандарты сознания.
Глава десятая
— Наташа, с добрым утром! — крикнул я в сторону кухни, потому что оттуда доносилось что-то вроде пения. Как же здорово спать, думал я. В любом случае обстановка сегодня должна проясниться.
— Наташу мы увидим в одиннадцать. Тебя устраивает?
Поскольку на тот момент акцент показался мне скорее немецким, нежели голландским, я ответил:
— Ja, ja.
В колледже я учил немецкий. Они меня заставили.
Бриджид вышла в гостиную в белой футболке и в шальварах из красно-зеленого переливчатого шелка и уселась на подлокотник дивана. Она заплела у висков две косички, которые скрепила на затылке большой заколкой, так что их кончики, соединившись сначала с остальной массой волос — а волосы были густые и блестящие, как распаханный чернозем, — падали на плечи. Возможно, Бриджид считала такую прическу подходящей к ее, как бы это сказать, несовременному лицу с прямым миниатюрным носом и высокими точеными скулами. Кожа была такая нежная, что горстка угрей на щеке, казалось, только подчеркивает общую безупречность лица. Бриджид, улыбнувшись, протянула мне тарелку с тостами.
— Джем из томатов de arbol. То есть древесных томатов.
— Спасибо. — Я откусил кусок. — Мммм… Как вкусно! И совсем не похоже на помидоры.
— Да, больше напоминает гранат. — Бриджид владела голосом, как хирург владеет скальпелем. Зато глаза были нежные, беспомощные, словно она только что сняла толстые очки.
— Но эта штука хотя бы на деревьях растет? — спросил я, имея в виду неведомый фрукт.
— Да, — засмеялась Бриджид. — Видишь, в моих словах есть доля правды. А ты долго спал. Наверное, что-то приятное снилось?
— Вообще ничего не снилось.
— Со мной тоже так, когда я путешествую. Новая страна сама по себе как сон, правда? Потому и надобность в сновидениях отпадает.
Я жевал тост и обдумывал слова Бриджид, перемежая взгляды на нее со взглядами на стены и потолок. Я рассматривал комнату столь внимательно, чтобы Бриджид не засекла меня за рассматриванием ее лица (черты были острые, строгие, но в них ясно прослеживалась прежняя соблазнительная пухлость, намекавшая на бурную юность); тело было под стать лицу. Безусловно, Бриджит по определению не могла оказаться третьей лишней.
— Москит, что ли, залетел? — спросила она. — Ты как-то странно озираешься.
Вскоре мы вдвоем шли вниз по горбатой улице, перебегали проезжую часть, стояли на протянувшейся по всей длине дороги мощеной полосе — «Здесь раньше ходил трамвай, но теперь у правительства нет денег», — и снова бежали через проезжую часть. Все это сильно напоминало версию 3-D, ставшую уже антиквариатом, в которой лягушка должна перейти дорогу, умудрившись не попасть под машину, — и переходит до посинения, пока не лишится одной из трех своих жизней.
Потом мы ехали в трамвае туда, куда он шел, и держались за поручни-ремни — такие до сих пор можно наблюдать на некоторых ветках нью-йоркской подземки. Мы направлялись к приюту для детей, чьи матери сидят в тюрьме. Приют существовал на средства Католической церкви, а Наташа была там волонтером.
— Ничего себе! Наташа об этом и словом не обмолвилась. Она такая скромная. Наверное, будь она другой, Католическая церковь не доверила бы ей работать с детьми.
Бриджид объяснила, что матери в большинстве своем сидят за то, что украли еду для детей же, в то время как отцы надрываются где-нибудь на стройках в Испании или Штатах.
— А каково вообще положение в Эквадоре? Я имею в виду экономику.
— Я бы сказала, что недоразвитие здесь усугубляется — как это по-английски? — грабежом. — И Бриджид поведала, как нефтяные компании выкачивают из страны сырье, оставляя строителям нефтепроводов и низкоквалифицированным управляющим гроши; как МВФ ссужает деньги только при условии, что получит возмутительно высокие налоги с общего оборота; как местной промышленности не дают развиваться, превращают страну в сырьевой придаток, а в это время компрадоры прибрали к рукам денежный капитал и изображают из себя верхушку местной буржуазии… Повиснув на поручне, Бриджид с пафосом перечисляла основные признаки третьей страны — а ведь я просто так спросил. На повороте Бриджид качнулась, и я заметил, что она не бреет подмышки — прелестная, на мой взгляд, небрежность и притом echt Germanic[18].
Я не замедлил спросить Бриджид (несмотря на ее смугловатую кожу и темные волосы), не немка ли она, на что Бриджид не замедлила отреагировать:
— Так ты, значит, философ?
Я рассмеялся и отрицательно покачал головой, а Бриджид нахмурилась и обиженно сказала:
— И как тебе такое в голову взбрело? Я бельгийка. Почти.
— Бельгийка!
Если судьба посылает вам встречу с хорошенькой молодой бельгийкой, отнеситесь к ней как к неоднозначному и неповторимому существу, единственному в своем роде, — ведь (по крайней мере у меня) относительно бельгийцев не существует никаких национальных стереотипов. Может, Бельгия в контексте Франции — это что-то вроде Канады в контексте США? Может, контекст этот сугубо комедийный, и как канадцы, так и бельгийцы представляются нам исключительно вежливыми и законопослушными потребителями пива?
— Извини, Бриджид, я не всегда правильно идентифицирую акцент.
— Но ты симпатизируешь немцам, да?
— Ну… Во всяком случае, они в большей степени философы, чем… чем, скажем, нацисты.
Мы вышли из трамвая. Бриджид смерила меня таким подозрительным взглядом, что я вынужден был объяснить, до какой степени не люблю нацистов, и для пущей убедительности прибавить:
— Да что нацисты! Я и Буша-то недолюбливаю.
Бриджид весело взглянула мне прямо в глаза и, тряхнув волосами, улыбнулась.
Улицы были пусты, если не считать бегающих сломя голову бродячих собак, преимущественно сук, с набухшими лиловыми сосками. Мы миновали гулкую, словно заброшенную, площадь, по периметру обсаженную пальмами — вот не думал, что на такой высоте над уровнем моря растут пальмы; не меньше я удивился, задрав голову и увидев огромную крылатую статую, венчавшую пологий зеленых холм. Вся скульптурная группа, включая холм, напоминала разверстый капот некоего монструозного автомобиля.
— Это ангел? — предположил я.
— Нет, это Мария.
В детстве меня протащили по всем европейским музеям, так что Святое Семейство успело мне надоесть не меньше моего собственного. Вдобавок я достаточно насмотрелся изображений Благовещения. Но здесь, по странному замыслу скульптора, святой Гавриил и Дева Мария слились в одно целое. Возможно, именно этот образ был особенно почитаем эквадорскими еретиками.
Мы свернули на узкую улочку, пролегавшую между зданиями цвета хлебного мякиша и без опознавательных знаков. На пути стали попадаться тяжело груженные женщины; толпа постепенно сгущалась и мрачнела. Мы с трудом шли против течения. Пахло дымом, бензином, отбросами и мясом. Вскоре мы оказались перед стеной с отставшей местами штукатуркой и граффити «No al Plan Colombia!»[19]. Открылась железная дверь, монахиня в полном облачении впустила нас и тут же начала с Бриджид взволнованный, торопливый разговор на испанском языке.
Я стоял, как бутафорский индеец в табачной лавке, пока Бриджид не сказала:
— Давай я представлю тебя детям.
— Давай. А где Наташа?
Но Бриджид вопрос проигнорировала. Она кричала что-то детям по-испански, причем я четко различал свое имя. Не прошло и минуты, как я почувствовал себя Санта Клаусом: прелестные индейские дети с огромными улыбками, в которых обыкновенно недоставало одного-двух зубов, — с огромными, стало быть, улыбками на скуластых бронзовых лицах (ничуть не изменившихся, по моим представлениям, со времен цивилизации инков), набежали, повисли, полезли обниматься. Две храбрые девочки вскарабкались по обеим рукам великана, чтобы поцеловать его в обе щеки, причем одна из них (девочек) называла его (меня) guapo[20] — несомненно, у туземцев это была высшая похвала. У меня на языке вертелось только «Mucho gusto»[21] — фраза явно несоответствующая степени всплеска эмоций у человека, неожиданно выигравшего джекпот в лотерее под названием «Любовь к ближнему». Я был просто счастлив и жалел только, что в кармане не завалялись леденцы или шариковые ручки — очень хотелось подарить что-нибудь малышам. Пришлось опуститься на деревянную скамью и отдаться на их милость. В перерыве между объятиями я достал бумажник и вытряс из него все свои богатства — две монеты по двадцать пять центов, две по десять, восемь по одному центу, один пятак, а также читательский билет, несколько карточек на метро и несколько визиток нескольких знакомых и друзей, одного наркодилера и двух запредельно дорогих психоаналитиков. Дети что-то лопотали, смеялись, указывали на меня, будто я был неким экзотическим безобидным зверем, доставленным специально, чтобы их развлечь; я же только улыбался виноватой от непонимания улыбкой. Восторг от того, что я сумел доставить радость этим славным малышам, и страх, что через несколько минут я им надоем (сколько же, в конце концов, можно радоваться бессловесному зверю с идиотской улыбкой?), образовали в моем сердце такую едкую смесь, какой я не чувствовал с момента вручения диплома об окончании колледжа; глазам тоже было больно, я чуть не плакал.
Наверное, именно тогда я впервые ощутил желание в один прекрасный день завести детей — много детей, матерью которых станет Наташа!
С высот на землю меня вернула Бриджид возгласом:
— Наташа пропала!
Неизвестно почему я вскочил и виновато улыбнулся монахине: дескать, от таких персонажей, как мы с Наташей, всего можно ожидать. В первую секунду я решил, что Наташа, перебегая улицу, израсходовала последнюю жизнь и теперь находится в больнице — или, не дай бог, в морге.
Я стряхнул с себя детей, выбрался из их скопления и помахал на прощание.
Бриджид вручила мне конверт, на котором от руки было написано мое имя. Я сразу понял, от чьей руки: в памяти всплыли записочки, которые Наташа подсовывала мне под дверь, кажется, сто лет назад — в школе Святого Иеронима.
— Она и сестрам оставила письма, — сказала Бриджид. — И мне.
Господи, как же я теперь, после самоубийства, узнаю Наташу поближе? Как это нелепо — покончить с собой! И в то же время как благоразумно! Руки у меня тряслись, я еле надорвал конверт.
Дорогой мой Двайт!
Боюсь, ты решишь, будто я сыграла с тобой злую шутку. Ты можешь подумать, что я — совсем не та Наташа, которую ты так хорошо знал. Ведь я сама заманила тебя в Кито — и бросила. [Разумеется, далеко не та!] Бросила — не совсем подходящее слово, но все равно я очень перед тобой виновата. Попробую объяснить свой поступок.
Когда я тебя пригласила, я думала, что у тебя в Нью-Йорке полно дел. Я никак не предполагала, что ты прыгнешь в самолет и действительно прилетишь. Поэтому вопрос, хотела я тебя видеть или не хотела, даже не стоит. Все дело в том, что мне было очень плохо, а я пыталась убедить тебя в обратном: дескать, приедешь — сам увидишь, до чего славно я живу. А так как у тебя, Двайт, такая положительная энергетика, с тобой так спокойно [Да не со мной же! С тобой!], что мне, наверное, просто приятно было представлять тебя рядом.
Возможно также, что твой приезд страшил меня вот еще почему: ты так хорошо адаптируешься к любым обстоятельствам [Разве?], что я боялась собственной зависти к тебе и, как следствия, злости на тебя. Все очень сложно, Двайт, я влипла, но твоей вины здесь нет никакой. Буквально до вчерашнего дня я думала, что все, может, и обойдется. Вот почему я тебя не предупредила. Если честно, и это письмо я пишу только на всякий случай. Ты прилетаешь сегодня вечером. А у меня забронирован билет на самолет — впрочем, я могу его сдать. [Она еще хуже меня! Мы созданы друг для друга!] Но раз ты читаешь это письмо, значит, я уже в воздухе.
— Не верю! — воскликнул я.
У Бриджид был виноватый вид. Виноватый — но отнюдь не расстроенный. И у нее ничего, ничего общего не было с Наташей! Ни-че-го!
Бриджид очень славная. Хорошо, что ты с ней познакомился. [Премного благодарен.] Я тебя ей всячески расхваливала. [Тысяча благодарностей, бездушная, черствая кукла!] Надеюсь, вы с Бриджид [Чертов Джокер!] вдоволь попутешествуете по Эквадору. [Предательница! Где-Сядешь-Там-И-Слезешь!] Если же ты захочешь сразу уехать в Нью-Йорк, пожалуйста, пожалуйста, позволь вернуть тебе деньги за билет. [А кто мне вернет мечту?!] У меня денег полно, я ведь лечу домой, к родителям, а значит, не должна буду платить за квартиру, в Эквадоре же все очень дешево. И сказочно красиво!
— Ты что, до сих пор не прочитал? — встряла Бриджид.
* * *
Надеюсь, когда мы вновь увидимся, я буду для тебя прежней Наташей.
Письмо было подписано одними инициалами.
— Сколько ехать до аэропорта?
— Эквадор — тоже свободная страна. Подумай, что мы ей скажем? Сиди здесь, с нами, и страдай, а мы будем на тебя смотреть?
— Ты права. Мы должны посоветовать ей что-нибудь путное. Несомненно, это наобумное скольжение. — Я хотел сказать «необдуманное решение». — Мы должны ехать в аэропорт! Сию минуту! — Надо же, как я раскомандовался! Наконец я понял, чего хочу. Но почему, почему только теперь, когда Наташа уехала, — почему хотя бы не накануне?
Бриджид что-то прикидывала в уме. Наконец она мягко произнесла:
— Здесь это незаконно.
Что незаконно? Поехать в аэропорт незаконно? Но у меня куплен обратный билет!.. Что же это за страна такая?.. Я молчал, ожидая приемлемого объяснения со стороны Бриджид, не дождался его и сам спросил:
— Что? Что конкретно здесь незаконно?
Бриджид нахмурилась, прижала палец к губам и покосилась на мрачную, хотя и очень хорошенькую монахиню. Затем она отошла подальше, села на каменную ступеньку и взглядом велела мне сделать то же самое. Мне казалось, что сесть на ступеньку рядом с Бриджид означает капитулировать; я едва заставил себя повиноваться. Детские ноги за долгие годы выдолбили в камне углубление — во время дождя в нем, должно быть, образуется порядочная лужа. Какого же внутреннего усилия стоило отказаться от того, чего у меня даже никогда не было! Однако я скомандовал себе сесть, будто я был своей собственной собакой, — и в конце концов сел.
— Видишь ли, в Эквадоре очень сильно влияние Католической церкви. Аборты здесь запрещены законом. — Наверное, по моему лицу Бриджид поняла, что я ничего не соображаю, и продолжала: — Похоже, тебе Наташа об этом не написала? Ох, я, кажется, сболтнула лишнего!
Во дворе дети пели или, точнее, во весь голос скандировали, подстрекаемые сбрендившим аккордеоном.
— Мы здесь бессильны.
Бриджид встала, я тоже встал и принялся с достойным лучшего применения усердием отряхивать штаны. По крайней мере в этом действии был хоть какой-то смысл. Когда я наконец стряхнул всю воображаемую пыль, мы пошли к выходу, мы направились в будущее, и я сказал монахине «Gracias», когда она благословила меня крестным знамением, и тоже благословил ее тем же способом, в то время как Бриджид ограничилась простым «Adios».
Оказавшись на улице, в толпе, я спросил:
— А когда она узнала, что?.. И кто этот тип?
— Какой тип?
— Этот самый тип. — Тут меня толкнул какой-то тип, торопливо пробиравшийся сквозь толпу. — Оплодотворитель, вот какой!
— Не знаю.
Я прикинул, что будет не слишком вежливо просить у Бриджид письмо, которое ей оставила Наташа. Впрочем, я и не собирался разводить политес.
— Допустим. В таком случае кто такая ты?
В интонации Бриджид прозвучало неуместное, на мой взгляд, кокетство. Можно подумать, я подбивал к ней клинья.
— Нет, сначала скажи, кто ты такой.
— Ладно, поставлю вопрос по-другому. Откуда ты знаешь Наташу?
— Я… я приехала, чтобы поработать над диссертацией. Но теперь, так как две недели назад…
— Что тебя связывает с Наташей?
— В смысле?
— Например, у вас могут быть общие предки.
Бриджид отрицательно покачала головой. Я спросил, как долго они были знакомы. Три месяца, последовал более чем спокойный ответ. Стараясь еще хоть к чему-нибудь прикопаться, я воскликнул:
— Я даже не знаю, как твоя фамилия!
— А я вот твою выяснила. Вилмердинг, верно?
Да что она, нарочно, что ли?
— Никакой не Вилмердинг! У меня в роду викингов не было. — Я тряхнул головой. — Черт, просто ум за разум заходит.
— Если тебе все еще интересно, — с ее лица не сходила уверенная полуулыбка, — меня зовут Бриджид Лерман.
— Счастлив познакомиться, — съязвил я.
— Вот что, Двайт. — Бриджид в прямом смысле заняла твердую позицию, да еще и два раза притопнула. — В Наташином исчезновении я не виновата. Согласен? Можешь ей предъявить претензии. А мне не надо.
И она пошла вниз по улице, а я пошел за ней к внезапно материализовавшемуся трамваю — словно в пику утверждению, что он эквадорцам не по карману. На кой черт я приехал в эту крохотную, богом забытую страну осиротевших папистов, которые не могут позволить себе лишний трамвай? Я плелся за Бриджид, удрученный — да, именно удрученный — бегством Наташи. Как же я сглупил, позволив себе о ней размечтаться! А она! Она-то сама в каком была замешательстве, не говоря уж об интересном положении!.. И все же меня не отпускала мысль, что, если взять два замешательства и смешать их, получится — по законам диалектики — полное и блаженное взаимопонимание, которого иным путем не достичь…
Пока мы ждали своего номера, стал накрапывать мелкий остренький дождик.
— Мне очень жаль, — сказала Бриджид. — Ты, кажется, к ней неровно дышал.
Я посмотрел по сторонам. Взгляд мой задержался на развалюхе из самодельных кирпичей, на замызганных собачонках, с виноватым видом трусящих по обочине, на мальчишке лет тринадцати, в футболке с длинными рукавами, тянущего домой дрова, на дрожащих пальмах… Кито оказался гораздо холоднее, чем обещал, будто мексиканский город по ошибке поместили в Шотландии.
— И что я только здесь делаю?
Желая дать понять, что проблема целиком и полностью моя, Бриджид сказала «bof» — возможно, именно так во франкоговорящих странах принято реагировать на риторические вопросы.
Я часто моргал, голова кружилась.
— Ты все еще хочешь поехать в Кункалбамбу, Двайт Уилмердинг? — На сей раз Бриджид правильно произнесла мою фамилию. — Конечно, это не мое дело. Но имей в виду: я совершенно свободна.
— Дай подумать. — Я и не переставал думать или по крайней мере моргать.
— А ты всегда так долго думаешь?
Я метнул на нее мрачный взгляд.
— Извини, — смутилась Бриджид. — Думай, конечно, сколько понадобится. Наташа говорила, что ты настоящий философ.
— Послушай, а тебя-то почему все это не удивляет? Я имею в виду Наташино исчезновение. По тебе ни за что не скажешь, что ты удивлена. Или взволнована. В смысле, я, конечно, за полную эмансипацию, однако аборт — не шутка…
— С Наташей все будет в порядке. Она сильная. Впрочем, тебе ли этого не знать? А я… я не особенно расстроена, потому что Наташа… как бы выразиться?.. непостоянная, вот. Правда? Так просто взять и скрыться, никого не предупредив…
Головокружение не прекращалось. Наверное, надо было съесть на завтрак побольше тостов с древесными томатами.
— Так что меня все это удивляет, — продолжала Бриджид. — И в то же время совсем не удивляет. Понимаешь?
— Еще бы.
Я не знал, что конкретно не удивляет Бриджид: а) Наташино поведение; б) мироустройство; в) ее собственный склад ума. Но я помнил, что один из самых действенных способов ладить с людьми — соглашаться со всем, что они говорят, даже если ничего не понимаешь, а остальное приложится или воспоследует.
— Значит, ты не прочь…
— Не прочь. — Бриджид пожала плечами. — Я ведь совершенно свободна.
На каждой остановке в трамвай залезали новые пассажиры, при этом никто не выходил, и скоро давка образовалась такая, что, когда двери открывались, набившиеся в трамвай кричали тем, кто надеялся в него набиться: «No hay donde! No hay donde!»[22] Когда Бриджид перевела мне эту фразу, я с удовольствием присоединил свой голос к общему хору. Потом трамвай остановился и остался стоять. Эта внезапная остановка вкупе с внезапно изменившимися планами показалась мне роковым предзнаменованием.
Вдруг над нашими головами зазвучала песня, явно грустная, но в очень бодром исполнении всех пассажиров, включая Бриджид. Прочувствованное пение время от времени срывалось на еще более прочувствованный речитатив, в котором преобладали сопрано. Песню дружно пропели дважды; всякий раз, когда дело шло к трагической развязке, лица поющих освещало особенное воодушевление. Едва смолкли последние аккорды, трамвай снова тронулся. До чего же эти эквадорцы музыкальный народ! Я чувствовал себя лишним, выключенным из хора вместе с плачущими младенцами и мрачными стариками, и мне захотелось немедленно выучить эту, по всей видимости, народную песню. Когда мы с Бриджид, протиснувшись сквозь стеной стоявшие тела и миновав занесенные к поручням руки, наконец снова попали под холодный дождь, на твердую землю города Кито, я попросил ее перевести песню.
— Ту, что пели в трамвае? Моя любовь меня обманула. Мое сердце — в твоих руках.
— Мое сердце в твоих руках…
— Я в отчаянии. Но мне не хватает мужества…
Тут Бриджид замолчала, и я стал ее подгонять:
— Мужества для чего?
— Чтобы уйти от тебя. От тебя — моей любви.
— Это же грустная песня! А у них были такие счастливые лица…
— Бедная страна — веселая музыка. Связь очевидна. Так повсюду в мире. Ты был в Индии? Ладно, хватит… — Бриджид резко подняла руку, словно отмахиваясь от просившегося на язык существительного. — Я бросила писать диссертацию.
— Твоя диссертация касалась жизни Кито?
Бриджид съежилась и принялась тереть предплечья, покрывшиеся от холода гусиной кожей.
— Нет, диссертация у меня по большей части о сельве. Но две недели назад я ее бросила. — Она неубедительно пожала плечами. Потом улыбнулась. — Так что меня здесь больше ничего не держит.
Мы засмеялись и пошли к дому, на ходу репетируя песню: «Un amor que no es amor» — как будто про Наташу. Похоже, страх, терзавший меня накануне вечером, улетучился. В конце концов, я ведь, ни секунды не колеблясь, решил выучить песню наизусть, точно так же, как решил предпринять путешествие по Эквадору вдвоем с малознакомой иностранкой, причем именно это второе (по времени первое) решение не омрачали никакие, даже самые обоснованные дурные предчувствия. И мне было так хорошо, что я заподозрил: в организме уже начались необратимые изменения, по завершении которых в мою жизнь войдет счастливая уверенность.
Глава одиннадцатая
В автобусе нас притиснули друг к другу. Под нами было изодранное виниловое сиденье, колени наши находились практически за нашими же ушами, словно у опустившихся на корточки переростков. Наконец видавший виды дизельный двигатель затрещал, расчихался и загудел; однако, несмотря на то, что автобус уже выруливал с обочины, торговцы сладостями, пряностями и бутилированной водой и не думали вылезать.
— Перед нами одна из сложнейших дилемм, — сказала моя новая подруга Бриджид. — От чего хуже изнывать — от жажды или от желания опорожнить мочевой пузырь?
Поесть нам светило только в Баньосе, часов через шесть, поэтому вместо воды я купил пластиковый пакетик с мягкими мясистыми бобами в прозрачной жидкости. Бобы выглядели очень аппетитно и не разочаровали при более близком знакомстве. Они были упругие, солененькие, с неописуемым, видимо, сугубо эквадорским привкусом.
— Как это называется, Бриджид?
Бриджид наблюдала за последним торговцем: вот он идет, покачиваясь, к двери, вот соскакивает на полном ходу и взрывает носом придорожную пыль.
— Не знаю, Двайт.
— Просто объедение.
Я нажимал пальцами на пакетик и выдавливал бобы — по крайней мере штуковины выглядели как представители семейства бобовых — прямо в рот. Мы планировали остаться в Баньосе на ночь, утром отправиться в Кункалбамбу, славящуюся идеальным климатом, и завершить следующий день на Тихоокеанском побережье, потягивая коктейли с ромом и любуясь ослепительным закатом. Этот последний пункт плана нам так и не удалось осуществить.
— Интересно, а как переводится «Баньос»? — спросил я.
— «Баньос» значит «ванны».
— Да, я бы сейчас с удовольствием принял ванну. Ты точно не будешь есть?
Бриджид отрицательно покачала головой. И хотя она не могла ответить, что я такое ем, причмокивая от удовольствия — боже, как же спрошу эти бобы в лавке, если не знаю их названия? — все равно Бриджид была настоящим ходячим справочником по Эквадору. Мы везде расплачивались долларами — да-да, американскими долларами; их присутствие только обостряло ощущение новизны. Бриджид объяснила, что правительство хочет сдержать темпы гиперинфляции сукре — национальной валюты, получившей название в честь одного из храбрейших офицеров армии Боливара, который победил испанцев и завоевал Эквадору независимость в 1822 году, причем решающее сражение называлось Битвой при Пичинче, в каковом названии Пичинча — не что иное, как гора, и мы ее увидим, как только спустимся в этой битком набитой колымаге по бульвару вулканов, названием своим обязанному великому путешественнику Гумбольдту (слава которого не достигла ушей простого американского философа Двайта Уилмердинга). А что это за высокие деревья с бледной пятнистой корой и плешивыми кронами? Это эвкалипты. А как называются мужские фетровые шляпы, затеняющие лица индианок в ярких полосатых шалях — резкие, словно из камня высеченные, лица? Полагаю, шляпы-пирожки.
— Черт возьми, Бриджид! Слушаю тебя и не понимаю, о чем я только думал, когда пошел на философский факультет! Нужно было найти колледж, где изучают факты и ничего, кроме фактов.
— Знаешь, Двайт, у меня много знакомых американцев, но ты — единственный, кто соответствует моим представлениям о том, каким должен быть настоящий американец.
— Правда? Интересно. — Я и сам не мог понять, чего мне больше хочется: парировать или сказать что-нибудь приятное. — Знаешь, Бриджид, я как раз думал о том, что ты — бельгийка до мозга костей. Ты такая же вся бельгийская, как бельгийская картошка с майонезом.
— Что-что? — Бриджид рассмеялась, по своему обыкновению, внезапно. Ее смех каждый раз (я успел заметить) был как сигнал: дескать, представление закончилось, пора и раскошелиться.
— Ты не расслышала?
— Так я, по-твоему, похожу на представительницу семейства Валлонов или, к примеру, Флемингов?
— Нет. Ты что-то вроде квинтэссенции настоящего бельгийца, потому что ты любишь точные определения и замечаешь малейшие несоответствия.
— Ой, я прямо расту в собственных глазах! А ведь я родилась не в Бельгии.
— Да? — Такой уж сегодня день — все оборачивается не тем, чем казалось. Я задумчиво прожевал очередной боборотень.
— Я тебе не говорила? У меня только мама бельгийка. Мой папа из Аргентины, и в Аргентине мы жили, пока мне не исполнилось пять лет. И звали меня Бри́джида — это уже в Бельгии злоумышленники переставили ударение и отбросили одну букву. Но пусть не думают, — продолжала она с вызовом, — что я позволю им писать мое имя как Бригитта.
— Значит, ты бельгийка только наполовину. Наверное, ты подсознательно стараешься скрыть этот факт, потому и производишь впечатление стопроцентной бельгийки.
— Стопроцентной? Только не на бельгийцев! Им родословная дороже живого человека. Каждый год выходит альманах аристократических семейств — «Le Bottin Mondain». Раскупается моментально. Bof! Знаешь, есть такой бельгийский деликатес, les petites crevettes grises? Так вот мой папа этими словами называет бельгийцев. По-английски — серые креветки. Они ужасно предсказуемые, в смысле — бельгийцы.
— А ты вроде как гордишься своим происхождением?
— Я горжусь, что наполовину аргентинка. Знаешь, я ведь почти не помню Буэнос-Айрес, поэтому мне просто нравится статус иностранки в Бельгии — ну, также, как нравится думать, будто я особенная, не то что все эти бельгийские снобы.
Я сказал Бриджид, что она очень противоречивая.
— Только на первый взгляд. На самом деле в моей… моем… — Она неопределенно махнула рукой в сторону собственного солнечного сплетения.
— Dans ta coeur? — подсказал я. — Dans ton tete?[23]
Секунду Бриджид смотрела с недоумением, потом согласилась:
— Ну да, где-то там. Где-то очень глубоко я наивная до неприличия.
Странным образом это вымученное признание позволило нам наконец закрыть тему и углубиться в созерцание проплывавшего (точнее, трясшегося) за окнами третьего мира. Гиганты с рекламных щитов взирали на сбившиеся к обочинам лачуги, крытые жестью, на пыльной улице два мальчика по очереди пинали облезлый футбольный мяч, а над пестрыми заплатами поселка уступами возвышался действующий вулкан. Склоны его были засажены кукурузой, а вершину венчала снежная нашлепка.
Автобус остановился в Латакунге. Томимый жаждой после соленых «бобов», а также уверенный, что жидкость необходима для скорейшего поступления в кровь продуктов распада «абулиникса», я купил литровую бутылку воды. В итоге всю дорогу до Баньоса мой мочевой пузырь демонстрировал нездешний стоицизм. Сил мне придавала мысль, что мои мучения смехотворны по сравнению с выпавшими на долю узников фашистских застенков — то есть с мучениями, которых отец Бриджид счастливо избежал, эмигрировав вместе со своим психоаналитиком и по совместительству женой, когда в Аргентине установилось военное положение.
Бриджид бросила скорбный взгляд на практически пустую бутылку.
— Двайт, ты лопнешь.
— Это будет еще не скоро, — улыбнулся я, предлагая ей допить остатки воды. Вдруг до меня дошло. — Бриджид, а ты случайно не еврейка?
— Поздравляю, — сказала она. — Хоть что-то угадал. Мой папа — наполовину еврей.
Я поинтересовался, каково это для маленькой девочки — быть иностранкой в квадрате.
— Не знаю, никогда об этом не думала. Я почему-то не могла даже думать о…
— Ясно. Знакомо до боли.
— О боли? Да, именно о ней. Я старалась не думать о ней, не зацикливаться.
Посмотрев в окно, я сказал, что Анды не похожи ни на одни горы, которые мне доводилось видеть.
— Линия мягкая, будто салфетку неровно порвали.
— Какое удачное сравнение.
— Бриджид, откуда ты знаешь английский?
— Вообще-то я три года училась в Нью-Йорке.
— Да ты что? А не могли мы с тобой не заметить друг друга, пройти мимо? В Нью-Йорке столько народу… — Но, посмотрев еще раз на Бриджид, я сам счел свое предположение бредовым.
— Не могли, — твердо сказала Бриджид.
— Ты же тогда еще не знала, что я — это я. Значит, и смотрела невнимательно. Кстати, моя родная сестра — тоже антрополог. Она преподает в Нью-Йорке.
— Везет тебе на антропологов.
— Мою сестру зовут Алиса. Алиса Уилмердинг. У меня даже книга ее с собой.
Я порылся в рюкзаке и выудил «Сервивализм потребителя», издательства «n+1", в мягкой обложке, ценой 18 долларов 95 центов.
— Тут, насколько я понял, главная мысль вот какая: люди покупают гораздо больше вещей, чем способны использовать за отпущенный им срок жизни, а все потому, что подсознательно хотят уверить себя, будто будут жить вечно. Ну, может, не вечно, однако достаточно долго, чтобы успеть сносить всю одежду, разломать всю мебель и дождаться, пока перегорит вся бытовая техника.
— Для Эквадора это неактуально.
— Алиса писала о страсти к накопительству, являющейся частью американской культуры. Ведь традиционный американский гараж просто ломится от всяческого барахла. В приложении даже есть описи вещей, которые Алиса обнаружила в самых типичных гаражах, причем она их публикует вместе со страховыми расценками. Алиса говорит, что наш отец не читал ее книгу, иначе уже давно бы ее, Алису, начал пилить. Вот смотри, это его гараж сфотографирован. Алиса говорит, люди склонны копить книги, которые никогда не станут читать, — а она всегда говорит то, что думает. А я говорю: «Нет, наш папа читает все подряд», а она: «Все, кроме того, что пишет его дочь». А потом мы друг на друга дуемся. И не только по поводу книг и папы.
— Значит, ты не разделяешь взглядов своей сестры?
— Не знаю. Я еще не дочитал ее книгу. По-моему, краткость книге только на пользу — хоть хорошей, хоть плохой.
Что там книги — жизнь коротка! Я часто думал эту чужую мысль. Однако, когда автобус резко повернул, и взору моему предстала группка эквадорцев, мысль показалась неожиданно свежей. Эквадорцы с озабоченным видом стояли у откоса — вероятно, какой-то водитель на повороте не справился с управлением, вылетел непосредственно на обочину, а с нее скатился по зеленому, довольно пологому склону.
— Вау! — сказал я.
В глазах Бриджид не мелькнуло и тени удивления. Впрочем, может, она просто серьезная девушка, отсюда и выражение глаз, словно иллюстрация к сцене с лопнувшим шариком для Иа. Улыбка сходила с лица Бриджид не постепенно, как у других, последний отсвет не мелькал на щеках — нет, улыбка исчезала сразу, будто захлопывался сейф, всем своим видом выражающий секретность и важность спрятанных в нем бумаг. Я всю дорогу задавался вопросом, нравится ли мне общество Бриджид и чего я ожидаю от ее общества. И так как даже приблизительно ответить сам себе не мог, то пришел к выводу, что ошибался, полагая, будто «абулиникс» уже начал действовать.
Едва дождавшись, когда автобус остановится в Баньосе, я рванул под табличку с надписью «HOMBRES», не нуждавшейся в переводе благодаря невыносимой вони, исходившей из помещения. В нем я невероятно долго и с нездешней силой мочился, испытывая огромное наслаждение. Когда боль в районе мочевого пузыря уступила место приятной легкости, я подумал, как же я люблю мочиться, или чихать, или опорожнять кишечник, или извлекать из ушей серу, или сморкаться, или кончать, или сплевывать, или, если тошнит, вызывать рвоту — и все такое прочее. Пусть мне не суждено стать мудрым и решительным, зато по крайней мере у меня вся жизнь впереди, и никто не отнимет удовольствия, которое я получаю от выделений самого разного рода. Если же учесть, что это удовольствие абсолютно бесплатное, нейтральное с точки зрения нравственности и в высшей степени доступное, причем в широком ассортименте, стоит ли жалеть, что я родился в мире, на девяносто процентов состоящем из продуктов распада? Что есть человек, как не яд, находящийся внутри него? Черт возьми, мне нравится избавляться от этого яда!
— С облегчением, — поздравила Бриджид.
— Я чувствую себя на миллион долларов.
— В Эквадоре на миллион можно разгуляться. А пока хорошо бы найти ночлег долларов за пятнадцать.
И мы пошли искать ночлег, причем я смотрел исключительно вверх и вбок, на водопад, извергающийся по зеленому склону почти невидимой в сумерках горы; струи были такие белые, будто вода сама вырабатывала энергию для собственной подсветки. По одной загорались звезды, тьма сгущалась; сгущались и тучи москитов.
Статной женщине с длинным, острым лицом Бриджид сказала, что нам нужен номер для молодоженов — возможно, из экономии, или потому что успела в меня влюбиться, или чтобы создать впечатление, будто мы — пара, кто ее знает. Не исключено, что таков ее стиль обольщения; не исключено также, что она решила сразу отмести все мои подозрения на возможность между нами романтических отношений, поскольку развитию последних отнюдь не способствует один на двоих туалет. Не говоря уже о том, что Бриджид, как и я, живой человек и вправе не понимать собственных желаний. Возможно, мне повезло, думал я, поднимаясь по лестнице вслед за Бриджид и во всех деталях обозревая ее задницу, а везение — понятие растяжимое, это с какой стороны смотреть; бойтесь, как говорится, заветных желаний — они иногда сбываются. Вот интересно, хоть одна религия, хоть одна секта считает противоречивость обязательным условием духовного совершенствования? Убеждает ли неофитов, что полное разочарование им не грозит, также как не грозит и полное удовлетворение, причем во всех аспектах?
— Для молодоженов несколько экстравагантно, — прокомментировал я, войдя в замызганную комнату с желтыми крашеными стенами, двухэтажной кроватью и единственной лампочкой под потолком.
— Это единственный свободный номер.
Бриджид вместе с рюкзаком пошла в ванную. Некоторое время оттуда доносились урчащие и хрюкающие звуки, а также звуки борьбы; наконец появилась Бриджид с накрашенными губами и глазами и в мятом платье бежевого цвета. Интересно, в Латинской Америке все бельгийские туристки носят в рюкзаках такие платья?
Мы вышли в свежесгущенную темноту и по наущению Бриджид выбрали итальянский ресторан, где пили плохое вино и ели пасту из кукурузной муки, больше похожую на пластилин, приправленный уксусом.
— Извини, — смеялась Бриджид. — Эта забегаловка — будто многократный ксерокс с настоящего итальянского ресторана.
Я спросил, играла ли она когда-нибудь в испорченный телефон.
Бриджид шаловливо и отрицательно покачала головой.
— Нет, но с удовольствием научусь.
— Ничего не выйдет. Нас только двое. Будет не смешно. — Я отхлебнул скверного, сильно бьющего в голову вина — оно казалось поклепом на всю область Кьянти. — Мы приговорены к взаимопониманию.
— Жалко. — Бриджид скроила прелестную в своей ненатуральности злобную гримаску — за весь день она не позволила себе ничего подобного. Я понял, почему в западной цивилизации алкоголю отводится столь важное место.
Но больше ничего интересного мы не делали. Мы поднялись на крышу гостиницы, в импровизированный бельведер, и сыграли три партии в «Поставь подряд четыре»[24]. Первые две я проиграл, зато третью выиграл, а выиграв, в непривычном приступе великодушия отказался от четвертой партии и пошел один в e-mailярию, каковые е-mailярии, похоже, вылезают, как грибы, в любом месте, где ступит нога автостопщика. На пальцах объяснив хозяину свои намерения, я получил доступ к клавиатуре и написал следующее письмо.
От: wilmerdinqansich@mail.fianet.com
Кому: Natasha@arenqueroio.ne
Тема: Hola
Дорогая Наташа, пишу тебе в большой спешке. Ни о чем не беспокойся и делай то, что считаешь нужным (закон природы). Надеюсь, твои здоровье и душевное состояние в порядке, а внешние факторы тебе благоприятствуют. Здесь классно! Мне ужасно нравятся как Эквадор, так и общество Бриджид, которая, пожалуй, от меня далеко не в таком восторге. Наверное, ты меня ей перехвалила. Шутка. Мы сейчас в Баньосе. Это прекрасный город. Один водопад чего стоит. Да, пока при памяти: я тебя люблю.
Я никогда не говорил Наташе, что люблю ее, и написал эти слова, совсем не имея в виду ее обязать. Но ведь еще утром меня сделали Санта Клаусом, плюс я был немного пьян. Меня обуревало желание на кого-нибудь излить чувства. Я шел по синим пыльным улицам, низко в небе — руку протяни — всходила луна, и меня охватывали приступы странного счастья: я одновременно был спокоен, взволнован и свободен.
Однако по возвращении в гостиницу я столкнулся с невозможностью передачи счастья даже на ничтожные расстояния. Подозреваю, что этот факт существенно омрачает жизнь самых счастливых людей. Бриджид явно ждала меня под дверью; более того, у нее размазались помада и тушь, из чего я заключил, что Бриджид чем-то расстроена.
— Ты жалеешь, что здесь нет Наташи. Я тоже очень жалею! — И Бриджид резко села на нижнюю кровать.
Я попытался ее утешить.
— Вовсе я не так уж сильно жалею. Просто Наташа необыкновенная!
— Знаю.
— Наташа удивительная женщина, — продолжал я, хотя Наташин образ за сегодняшний день успел несколько поблекнуть. — Не думай, пожалуйста, что я тебе не сочувствую.
— Без нее ничего не клеится.
— Ты права.
Я хотел подчеркнуть именно этот факт, чтобы Бриджид не заподозрила меня в излишнем внимании к ее персоне или по крайней мере в том, что внимание это носит далеко не дружеский характер и вызвано ее комплектом для сна — шортиками и эротичным топом. Повыше и пониже топа — впрочем, возможно, и под ним, за исключением, конечно, сосков, которые должны быть значительно темнее (конечно, я не мог угадать, какого они размера, и еще более трудной задачей представлялось определить степень их чувствительности), — так вот, повыше и пониже топа кожа у Бриджид была бледно-оливкового оттенка, какой бывает у смуглянок, давно не загоравших под настоящим солнцем. Кожа поблескивала от собственной гладкости, и это казалось мне так красиво, что я отвернулся и поспешил забраться на верхнюю кровать.
— Завтра едем в Кункалбамбу? — спросил я.
— Да, и опять на автобусе, — вздохнула Бриджид.
Глава двенадцатая
Утром мы снова вскинули на плечи рюкзаки и двинули на вокзал. Свет поднимался над пыльной улицей клубами, будто по ней хлопали выбивалкой для ковров; близость гор давила на домишки, заставляя их втягивать крыши, во мне же пузырилась радостная решимость. Правда, Бриджид смотрела хмуро: возможно, она все еще жалела, что я — не Наташа; возможно даже, она думала, будто я жалею, что она — не Наташа.
Я было собрался прояснить ситуацию, но тут из темной лавки, на бегу поддерживая спадающие шорты, выскочил парень в очках и одном резиновом сапоге. Маленький, коренастый, смуглый, будто загримированный под тиковое дерево, он бежал и кричал «Бри́джида! Бри́джида!», и в его устах это звучало как «Эврика! Эврика!».
Тревога на лице Бриджид сменилась удивлением, затем радостью, которая, в свою очередь, превратилась в жалость, когда Бриджид, стряхнув рюкзак, бросилась на шею этому кривоножке, а он стиснул ее, как клещами. Обнимаясь, Бриджид и кривоножка производили впечатление многочисленного и эмоционального семейства. Они стукнулись плечами и прижались друг к другу лбами, что предположительно было в обычаях некоего малоизученного племени. С минуту они взволнованно говорили по-испански, затем Бриджид подтолкнула кривоножку ко мне. Черные волосы у него были подстрижены «под горшок», как у мальчика, отправленного в частную школу, в широконосом лице застенчивость боролась с беззащитностью за процентное соотношение. Кривоножка выбросил вперед правую руку, шагнул ко мне и представился Эдвином — по крайней мере я так расслышал.
— Estoy[25] Двайт Уилмердинг, — отважился я. — Me han robado[26].
Наверное, я выдал не ту фразу из разговорника. Потому что Эдвин как-то смутился. Зато Бриджид Эдвиновы слова удивили гораздо больше, чем мой испанский.
— Его зовут не Эдвин.
— Si, — подтвердил Эдвин в мою сторону. — Me llamo[27] Эдвин.
Я в знак согласия кивнул сначала Бриджид/Бри́джиде, затем Эдвину/не-Эдвину и предоставил им самим разбираться, кто есть кто. После короткого совещания Бриджид мрачно сказала:
— Ладно, теперь он Эдвин.
Выяснилось, что, когда Бриджид в научных целях жила в его кочующем по Oriente племени, Эдвин звался Дайка.
— Да ну? Как-как называется племя? Где-где оно кочует?
— Oriente значит восток, сельва, Амазония.
Оказывается, в Эдвиновом племени Бриджид провела последние четыре месяца, в то время как сам Эдвин не видел родичей полтора года, с тех самых пор, как они откочевали вниз по реке, а он решил зарабатывать на жизнь гидом по дебрям Амазонии.
— А я не видела Дайку — точнее, Эдвина, — целых…
— Почему он сменил имя?
— Он говорит, потому что захотел походить на каннибалов.
Я кивнул Эдвину, имея в виду одобрить благоразумность такого желания.
— Они называют каннибалами всех, кто не является хапони, — пояснила Бриджид.
— Так они вегетарианцы? В смысле — племя хапони? Которое кочует по Oriente?
Бриджид рассмеялась.
— Что ты! Они едят обезьян, капибар, пеккари, тапиров и множество других животных.
По крайней мере я знал, кто такие обезьяны.
— Они едят обезьян, а нас называют каннибалами? Обезьяны — это же приматы. Как люди. Посмотрите хоть на меня. Видите, какой я волосатый?
— Я заметила, — произнесла Бриджид до обидного равнодушно.
— Мы не каннибалы. Кто угодно, только не каннибалы. Нам всего-то и надо, что хорошо выглядеть да иметь источники дешевой энергии. Как бы нас получше назвать?
Пока я произносил эту тираду, Эдвин принялся во второй раз трясти мне руку и энергично говорить по-испански. Я уловил слова hombre afortunado[28].
— Что-что?
— Он тебя поздравляет, — хихикнула Бриджид. — Он говорит, что для медового месяца нет ничего лучше Oriente.
Бриджид принялась что-то объяснять Эдвину. Эдвин взглядом выразил мне свои самые искренние соболезнования.
— Я ему сказала, что мы не женаты. Он выразил надежду, что мы хоть немножко помолвлены; пришлось его снова разочаровать. — Тут выражение лица Бриджид, по обыкновению, мгновенно изменилось. — У него здесь, в Баньосе, невеста, и он водит туристов в сельву, чтобы заработать на свадьбу.
Эдвин бросил на меня взгляд, который, по его представлениям, должен был вызвать море сочувствия.
— У него пока недостаточно денег. Он не умеет делать себе рекламу.
В это слабо верилось. Потому что Эдвин теперь переключился на меня. С достойным лучшего применения жаром он рисовал совершенно непонятные, но от этого не менее заманчивые перспективы и очень скоро совершенно меня убедил.
— Бриджид, а что он сказал?
Она почему-то не хотела переводить, но я был настойчив.
— Он предлагает экскурсию по сельве. — Бриджид смотрела в сторону, будто обращаясь к кому-то четвертому. — Он говорит, что за пять дней можно забраться в самую глушь. Однако… — Тут она заговорила по-испански, причем я уловил слово «Кункалбамба». Надежда постепенно сползала с Эдвинова лица.
— Да, — сказал я. — Пойдем с Эдвином. Пойдем в Oriente. — Мне нравилась иностранность этого слова (точно такое же впечатление в свое время на меня произвело имя «Наташа»); вспомнились и Ниттелевы рассуждения о чудодейственной силе шороха листьев. — Кункалбамба не убежит.
— Двайт, я же только что из сельвы. Теперь я хочу куда-нибудь, где… где весело.
— А в сельве разве не весело?
— Обхохочешься, — буркнула Бриджид.
— Обхохочешься! — радостно повторил Эдвин. — Обхохочешься! — заверил он и стал произносить это слово на все лады, надеясь, что хоть одна интонация, да убедит нас принять его предложение.
Я же сделал важное в своей парадоксальности открытие: я так жаждал побыть наедине с Бриджид, что мне хотелось несколько отложить это «наедине». Целых десять лет, если не больше, я менял девушек как перчатки (порой между двумя любовницами и недели не проходило); будто заядлый курильщик, я зажигал очередной роман от окурка предыдущего, часто не успевая между затяжками глотнуть воздуха. И мне ужасно нравилась нынешняя моя без-Ванитность в сочетании с близостью Бриджид — сравнительно миниатюрной, подвижной, немного недовольной Бриджид с миндалевидными глазами. Я хотел выждать, пока «абулиникс» вступит в свои права и убедит меня начать с ней отношения — или отказаться от этой затеи.
Наконец Бриджид, под двойным напором со стороны меня и Эдвина (как выяснилось, представители племени пожирателей обезьян напирают совершенно так же, как представители племени пожирателей картошки по-бельгийски), согласилась.
— Двое против одного. Вы победили. С вами все ясно — ты, Двайт, хочешь повеселиться, а Эдвин хочет заработать.
— А еще, — сказал я, стараясь произвести впечатление чуткого человека, — еще я хочу понять, откуда ты пришла.
— От верблюда, — отрезала Бриджид.
Глава тринадцатая
А теперь я, с вашего позволения, сделаю монтаж — вырежу первые два дня путешествия. Читайте текст бегущей строкой. В процессе продвижения по сельве главные герои пришли почти к полному взаимопониманию. Они резвились, как дети, причем героиня, позволив герою втянуть себя в приключение под руководством второстепенного персонажа (получившего по сто долларов от каждого из главных), заметно повеселела, больше не бурчала и не хмурилась.
Видавший виды джип, управляемый безбашенным Эдвином, пробуксовывает на размытой дороге, Бриджид и Двайт любуются многочисленными водопадами. Наконец искатели приключений проезжают контрольно-пропускной пункт в засиженном мухами пограничном городишке под названием Пуйо и оказываются в сельве. Бриджид переводит с испанского на английский и обратно, попутно демонстрируя собственные весьма впечатляющие познания в местной флоре и фауне; к последним относятся лианы, напоминающие реквизит фильма о Тарзане, кайманы, часами выжидающие под водой, прикинувшись бревнами и выставив на поверхность одни только выпуклые ноздри, а также муравьи-листорезы, в затылок следующие по тропе с кусочками листьев на спинах, будто флотилия крошечных парусников. В первый вечер лагерь разбивается на высоком берегу, и путешественники наблюдают, как отраженное небо, блестящее, словно литое серебро, зашкуривает внезапно налетевший ливень; когда же он не менее внезапно прекращается, легкие их заполняет густой аптечный запах — из глубины сельвы тянет камфарой, мазью от боли в суставах и бог знает чем еще. Путешественники сидят вокруг походной плиты, лица их от москитов повязаны банданами, Бриджид смотрит на чадящую свечу, как анархист на совещание Большой Шестерки, и этот факт, а также присутствие Эдвина, да еще, пожалуй, назойливый звон насекомых, смягчает, или притормаживает, электрические разряды между героем и героиней; немалую роль в процессе смягчения и торможения играют их диаметрально противоположные взгляды на жизнь, а также полученное ими воспитание. И все же герой и героиня сочувствуют взглядам друг друга; впрочем, не исключено, что путешествующие по сельве вообще склонны к сочувствию, особенно по утрам, когда солнечные лучи прорезают клубы пара, как в бане. Бриджид и Двайт, проснувшись, лезут в лодку-долбленку, и та под управлением Эдвина скользит вниз по течению. Веслами Эдвину служат обрывки хлопчатобумажных жалюзи с виниловым покрытием. Вскоре лодка причаливает, путешественники высаживаются на серый песок, смешанный с гравием, чтобы забраться еще глубже в сельву. На сей раз на них резиновые сапоги и толстый слой репеллента. Над головами надрываются обезьяны-ревуны, и Двайт отмечает, что крики их — точь-в-точь плач человеческих младенцев. Он наблюдает, как в душистой влажной тьме изредка вспыхивают красные, несколько приплюснутые гроздья геликоний[29]; такая же красная подсветка у неопознанных монструозных, поразительно неприличных на вид корней, истекающих бесцветным соком; еще реже — и гораздо ярче — сияет водопад, открывающийся на прогалине: косые лучи заходящего солнца золотят воду, что низвергается будто с зеленой стены, и сразу хочется раздеться до белья (Эдвин, впрочем, и так в одном белье) и нырнуть в самую пучину, в грохот и радужные брызги. Вечером второго дня лагерь разбивают на возвышенности, позволяющей обозревать реку и рваные силуэты дальних гор, травленные на сизом небе: через несколько минут, когда небо станет совсем темным, следов иглы гравера и видно не будет. Фонарики выхватывают из мрака любопытные глаза древесных существ — паукообразных обезьян, как Эдвин с помощью Бриджид объясняет Двайту, — чтобы через секунду удивить обоих, вытащив из колчана, прикрепленного к рюкзаку, бамбуковую стрелу с отравленным наконечником и одним точным выдохом пустив ее в ночь.
— Ты что делаешь? Ты хотел убить обезьянку?
К счастью, Эдвин промахнулся. Поэтому на ужин мы ели патаконес (или картофельные оладьи с начинкой из мягкого сыра) и ароматную папайю на десерт. В нью-йоркском ресторане «Папайа папаши Грея» этот фрукт мне не особенно нравился, однако теперь, в сельве, я съел свою порцию с огромным удовольствием и красноречиво улыбнулся Эдвину, желая показать, как мне было вкусно.
Эдвин кивнул с достоинством ничего не понявшего человека и продолжал внимательно слушать Бриджид. Любой другой индивидуум, не обремененный знанием иностранных языков, на моем месте почувствовал бы себя лишним. Но мне все казалось восхитительным — и замшелое бревно, на котором я сидел, и звуки непонятного языка, и дрожащий от звона москитов воздух. Я был даже рад, что можно помолчать, потому что и сам вряд ли сумел бы донести свои мысли до слушателей. Вот уже два дня я почти физически ощущал, как в душу мне заползает нечто огромное, вкрадчивое, многообещающее; вклинивается постепенно, медленно, но верно. Я даже позволил себе размечтаться, как по возвращении в Северную Америку стану ездить по городам и весям Штатов и Канады в качестве хорошо оплачиваемого, но кристально честного лектора (оплачивать мою работу будет, конечно же, «Бристол-Майерз») и рассказывать о действии «абулиникса». «Недавно я побывал в амазонской сельве…» Да, именно так будут начинаться мои вдохновенные выступления. Конечно, я понятия не имел, как они будут заканчиваться, но благодаря «абулиниксу» раньше времени не заморачивался.
Наконец Эдвин пожелал нам с Бриджид buenas noches и скрылся в зарослях. И звуки его шагов (а передвигался Эдвин осторожно и неторопливо, мягко пружиня на своих плоскостопых ногах), и свет наголовного фонарика скоро поглотила сельва — шаги смешались с перекличкой ночных существ, фонарик сгинул в широколиственной темноте, не пропускавшей даже и лунный свет.
Я несколько смущенно поинтересовался у Бридж, что это с Эдвином.
Бриджид, сдерживая смех и еще какие-то чувства, объяснила:
— Он хочет устроить себе ночлег, как у настоящего хапони.
— Но он же и есть хапони, — заметил я, пока мы шли к хижине, крытой тростником.
Наши фонарики выхватили из темноты три гамака, висящие на грубо обтесанных балках. Гамаки болтались в нескольких футах от пола, представлявшего собой наспех утоптанную грязь. Я втащил в хижину рюкзаки.
Бриджид села в свой гамак, под москитную сетку.
— Можно? — спросил я, присаживаясь в гамак рядом с ней. Мы стукнулись плечами, локтями (совсем как пара игральных костей в кулаке) и головами.
Вслед за мной Бриджид выключила свой фонарик; теперь темноту сельвы ничего не нарушало, и наши голоса зазвучали интимно — а может, просто проникновенно.
— Кажется, Эдвин старается вести себя как настоящий индеец по большей части для меня. Ведь здесь, в зоне туризма, охота на обезьян вообще запрещена.
— Зачем тогда ему духовое ружье?
— Это часть имиджа. На самом деле Эдвин никогда не был хорошим охотником.
И Бриджид рассказала, что до семнадцати лет Эдвин воспитывался в евангелистской миссии, где новообращенным христианам внушали мысли не только о греховности анимизма, полигамии и употребления галлюциногенов, но также и охоты.
— Долой христиан! — воскликнул я. — Что бы они понимали!..
Бриджид поведала также, что Эдвин ушел из миссии, когда умерла его мать, и воспитанием племянника решили заняться двое дядьев, придерживавшихся более традиционных взглядов на жизнь и обитавших в особо труднодоступных местах.
— Эдвину было не меньше семнадцати, когда он впервые взял в руки духовое ружье.
— Так, значит, он поэтому ушел в город? Потому что не котировался среди своих?
Бриджид, кажется, начала терять терпение.
— Видишь ли, после того, как здесь разлилась нефть — в прямом смысле здесь, совсем рядом от нашего лагеря, — хапони настолько разозлились на правительство, на нефтяную компанию, а заодно и на весь цивилизованный мир, что ушли вниз по реке, чтобы больше никогда не иметь ничего общего с белыми. Ушли, да не все. Эдвин, например, остался. Он думал, что, зная испанский, сможет заняться бизнесом в Пуйо. Как видишь, дело у него не ладится. А потом он в автобусе познакомился с женщиной, которая стала его невестой. Вообще-то у меня диссертация на эту тему.
— Диссертация на тему «Романтическое знакомство в автобусе»? — Кто ее за язык тянул? Я совсем не хотел знать, на какую тему у нее диссертация.
— Если угодно, диссертация у меня на тему возникновения в среде хапони явления, условно называемого туземным абсолютизмом. Сейчас они хотят жить так, как жили их предки. На самом деле уже не осталось аборигенов, которых бы не коснулась западная цивилизация, рыночные отношения и прочее, — так называемых первобытных людей. Сейчас мы имеем дело с туземцами, которых западная цивилизация коснулась; некоторые перед ней отступили, другие гордо ее отвергли, третьи в ужасе бежали — они очень трепетно относятся к своей культуре. Даже если от этой культуры остались одни воспоминания.
— Так Эдвин хочет казаться хапони старого образца?
По легкому смещению плеча Бриджид я понял, что она кивнула.
— Нас учат не романтизировать представителей культур, которых мы не понимаем, не пытаться говорить от их лица. Вот почему твоя сестра занимается Америкой — сейчас модно исследовать самих себя, свои корни. Но я, конечно, все равно романтизирую. Наверняка этим занимаются все антропологи. Нам хочется найти культуру принципиально новую. А хапони… Они более непосредственны, чем мы, у них психика не такая сложная, чувства не такие противоречивые. И это никакая не романтика, просто факт. Эдвин — не самый яркий пример, хотя…
— Значит, в диссертации ты защищаешь права туземцев быть туземцами?
— Ничего я не защищаю. Я просто излагаю факты. Втайне, конечно, я «за», но объективно должна быть «против». Ведь в конце концов жизнь вынудит их приспособиться… Чем больше они тянут с этим, тем труднее им придется в будущем, верно?
— Верно, — ответил я, имея в виду личный опыт. — Интересная, наверное, была работа.
— В этом-то вся моя беда. Кто-то еще раньше решил, что тема выигрышная. Я несколько месяцев задавала всем членам племени разные вопросы, причем вопросы мои явно были для них не в новинку. Но меня это не насторожило. Индейцы отвечали как по бумажке и будто хотели от меня поскорее отделаться. Прошел не один месяц, прежде чем я додумалась спросить: «К вам уже приезжали антропологи?» Разумеется, приезжали. И диссертация на мою тему, оказывается, уже была написана.
— Ох. Вот облом. Сочувствую.
— А знаешь, почему сразу никто не признался? Потому что-я приглянулась одному индейцу, он хотел, чтобы я прожила у них подольше. Причем мой поклонник никак не мог взять в толк, почему мне обязательно надо написать что-то новое. Он так говорил: «Разве правда, сказанная дважды, перестает быть правдой? Разве, говоря правду, ты не укрепляешь ее?» Каково?
— А мне нравится его точка зрения.
— Да что ты! Скажи это моему научному руководителю. А заодно и членам комиссии.
— Но ведь твой поклонник прав. В смысле, зачем нам еще целый набор новых правд, когда вокруг столько старых, причем совершенно не задействованных?
— И какую же из них ты предлагаешь задействовать?
Я собирался ответить Бриджид поцелуем, как вдруг темноту хижины прорезал луч Эдвинова фонарика.
Оказалось, он не учел, что постройка шалаша из пальмовых листьев занимает порядочно времени, особенно с непривычки. Через несколько минут, обменявшись пожеланиями спокойной ночи, мы зависли, каждый в своем гамаке, словно куколки в коконах, и принялись прислушиваться (по крайней мере я принялся) к звукам сельвы — чавкающим, клацающим, ритмичным, ширящимся, завораживающим.
Глава четырнадцатая
— Погоди. Так я не поняла, почему у тебя нет девушки.
Я успел порядочно провисеть в гамаке без сна (уснуть мешало волнение), когда вдруг, бог знает почему, мне на ум пришли эти Алисины слова. Возможно, воспоминание об определенном эпизоде, втайне от самого себя, начало развиваться во мне из крохотного зернышка (или из гаметы) потому, что я не спал, лежал на спине и смотрел в темноту. Возможно, именно эти обстоятельства места и образа действия вызвали в памяти прошлый август, когда мы с Алисой катались на катамаране у нижней оконечности Манхэттена.
Была суббота. Мы взяли катамаран напрокат — все лето собирались и вот наконец дозрели.
— Люблю, чтобы обо мне думали, будто я веду здоровый образ жизни, — сказала Алиса, расправляя юбку и придерживая лопасть колеса. — Интересно, сколько раз в год нужно заниматься спортом, чтобы когда-нибудь признать, что вообще им не занимался?
Мы крутили педали, приближаясь к месту, где вода Гудзонова залива смешивается с океанской водой, когда Алиса вновь спросила, почему у меня нет девушки. Облачность была нулевая, небо высокое и звонкое — такой уж выдался день.
Алисин вопрос поставил меня в тупик — я полагал, что несколько минут назад популярно объяснил почему.
— Алиса, ты ведешь себя как папа. Я же объяснил.
Крутя педали бок о бок с Алисой, я пытался втолковать ей, что мое общение с девушкой сводится по большей части к разговорам, а также какая от этих разговоров остается неудовлетворенность, особенно если учесть, что говорю я всегда примерно одно и то же. Причем, излагая свои соображения друзьям, я неудовлетворенности не испытываю — ведь, по моему глубокому убеждению, дружба есть не что иное, как идеальный форум для обмена предварительными умозаключениями и маргинальными комментариями, и я допускаю, что высокий коэффициент заблуждений в этих умозаключениях и комментариях вполне извиняется тем обстоятельством, что друга я не привязываю к себе за ногу, как в потешном забеге, и не обязываю его ни вступать в альянс со своими заблуждениями, ни отрицать их, поскольку как первое, так и второе весьма болезненно. Однако в отношениях сексуально-романтического характера мне всегда хотелось быть в той же мере рыцарем правды, в какой и рыцарем своей возлюбленной, то есть в разговоре с девушкой правда, причем не запятнанная моими словами, была для меня актуальнее всего остального. Все это я изложил Алисе, добавив, что для того, чтобы завести постоянную подругу, мне необходимо приплюсовать любовь к правде (правде, которую я уже любил, хоть и безответно), а не начинать с любви и надежды как с возможного довеска к правде.
Это была самая моя продуманная и развернутая речь со дня переезда в Нью-Йорк, и Алиса (во всяком случае, мне так казалось) слушала внимательно.
— Ну ты загнул. Прямо как на защите диплома! — съязвила Алиса, едва я закрыл рот.
— Сама небось на своих лекциях не хуже загибаешь, — парировал я.
— Хотя бы и так. Но я, чтоб ты знал, уже засунула так называемую правду сам догадайся куда. Не понимаю, почему бы просто не сказать бедной девушке то, что ты должен ей сказать.
— Кого это ты разумеешь под «бедной девушкой»? — Разговор происходил за несколько дней до Ваниты и через пару дней после Надин — на тот момент забытой окончательно и бесповоротно. — Да я бы с радостью сказал, но…
— А знаешь, в чем все дело? Ты просто не можешь ничего такого сказать, потому что воображаешь у себя внутри некие особые, сугубо личные залежи правды. Не понимаю, как эта иллюзия состыковывается с твоим кредо — соглашаться со всеми подряд и по всем подряд вопросам. Залежи правды, запретная зона — тоже мне невидаль! Да такое у каждого есть. Все тешат себя надеждой, что где-то в самой глубине души представляют собой нечто невиданное и неслыханное. Я бы добавила, что и неописуемое, по причине крайней размытости. Зато свое, родное. Именно отсюда растут ноги у дурацкой поговорки «Своя рубашка ближе к телу».
Я крутанул педаль сильнее, чем требовалось, и в отместку обрызгал Алису водой. До чего же быстро она забыла наш разговор!
— Скажи, Алиса, ты все еще куришь марихуану? Потому что я ведь только что объяснил…
— Ты объяснил все, кроме главного: почему у тебя нет девушки. Кстати, почему ты не ходишь к психоаналитику? Заметь, не в первый раз спрашиваю. По слухам, очень помогает.
— А почему ты не встречаешься с Дэном? Заметь, я тоже не в первый раз спрашиваю. — Мы с Алисой периодически любили действовать друг другу на нервы. — Он, как и ты, очень умный и циничный. Отличная вышла бы пара.
— Я схожу с Дэном в кафе, если ты сходишь к психоаналитику. Договорились?
Я напомнил Алисе, что в качестве служащего отдела технической поддержки славной корпорации «Пфайзер» получаю всего лишь 46 тысяч долларов в год и не могу позволить себе психоаналитика. У меня даже нет медицинской страховки (мало ли что я там говорил маме и папе); если меня переедет автомобиль, когда я, весь в своих мыслях, буду фланировать по проезжей части, я бы предпочел (мне так думалось) скончаться на месте, чем отделаться переломами, — тогда по крайней мере родителям не придется оплачивать больничные счета.
— Ну так поговори с мамой или папой. — Алисин совет прервал мои размышления о внезапной, красивой и легкой смерти от удара бампером.
— Вот от этого мне точно сразу полегчает!
— Я имела в виду — насчет денег, — нетерпеливо вздохнула Алиса. — Попроси у них денег на психоаналитика.
— Извини, не въехал. Нет, не годится — папа ведь банкрот…
— Только формально.
— А маму я не хочу впутывать. Не хватало, чтобы она в прямом смысле слова расплачивалась за мои бзики. Еще начнет себя винить.
Лопасти катамарана шлепали по воде, нарушая блаженную тишину. За катамараном бежала мелкая волна, омывая блестящий, как фольга, винт.
Я оглянулся. Нижний Манхэттен сиял, будто выточенный из цельного куска стекла; здания, особенно два самых высоких, были такими гладкими на вид, даже скользкими, что мыслям моим не удалось задержаться на них — сползли, даже не оцарапавшись. Вода подо мной была не менее ослепительна, зайчики дробились, нагоняя сон, мелкие волны дрожали каждая сама по себе, отражали солнце вразнобой, словно фасетки небывалой стрекозы.
— Я придумала. — Алиса снова отвлекла меня от созерцания. — Давай я буду твоим психоаналитиком. Назначу тебе сеансы два раза в неделю. Я серьезно. В этом семестре у меня вполне сносное расписание.
— Но ты же моя сес… — Я с сомнением посмотрел на Алису. — Ну, не знаю. Некоторые мои излияния будут касаться наших отношений.
— Положись на меня. Я горы книг по психоанализу прочла. А главное — я с тебя денег не возьму.
— Похоже, другого выхода нет. Прилечь на твою кушетку? Тебе не кажется, что это судьба?
— Давай попробуем. — Алиса улыбалась, а мне нравилась ее улыбка. Алиса мне вообще всегда нравилась, пожалуй, даже слишком. Например, когда мы еще жили в Лэйквилле, в нашем старом доме, произошел следующий инцидент. Были рождественские праздники. Алиса дала мне и моему приятелю по порции ЛСД и велела через пару часов рассказать о своих ощущениях. Приятель (не кто иной, как Форд) вскоре полностью ушел в просмотр пинк-флойдовской рок-оперы «Стена» и, когда я попытался его отвлечь, вцепился в подлокотники, попутно — из песни слова не выкинешь — обливаясь слезами. Я же очень боялся, что меня тоже вот так проймет, и пошел искать Алису. Я нашел ее в спальне — она читала в постели, завесив полог, и полог этот, в свете недавнего эпизода с Фордом, показался мне кирпичным. А поскольку Алиса в то время была особой всегда готовой и презирающей условности и вообще сама дала мне ЛСД, я решил, что она одобрит все, что бы я ни подумал или ни сделал под кайфом. Поэтому я забрался к Алисе на кровать и попытался поцеловать ее. «Нет, Двайт, — сказала Алиса. — Ты очень славный, умный и симпатичный, но целоваться с тобой я не стану. Инцест — это табу даже для меня».
— Ты ляжешь на кушетку, — продолжала Алиса, на сей раз с катамарана, — я закурю толстую сигару…
— Видишь ли, мои проблемы во многом связаны с тобой. Как же ты будешь их распутывать? — С другой стороны, говорят, лучший способ разобраться с проблемой — усугубить ее. Чем хуже, тем лучше — в свое время любила цитировать Алиса. В ее устах фраза звучала как лозунг. — Ладно. По крайней мере не придется рассказывать о детстве, — согласился я.
— Вот и отлично. На самом деле это одна из проблем психоанализа — как психоаналитику расценивать заявления пациента? Ведь он не может проверить их правдивость… Так вот…
— Ты хочешь сказать, что лучший психоаналитик — это собственный брат или сестра?
— Ох и любишь ты обобщать! Ничего, мы и эту твою склонность обсудим. Скомбинируем когнитивный подход с более фрейдистским…
— Слушай, а разве мои склонности — это не твои склонности? Алиса, мы оба нуждаемся в помощи. Наши с тобой проблемы — будто две стороны одной медали. Как это называется по-научному?
— Феномен сверхрешительности. Мы и его обсудим. Отчасти он обусловлен тем, что мы с тобой принадлежим к социальному классу и поколению, у которого родители живут слишком долго, оставаясь при этом сильными в экономическом аспекте.
— Ты, кажется, решила устроить мне промывание мозгов по-коммунистически?
— Ни мама, ни папа не выказывают ни малейших признаков нарушения здоровья: тем более речь не идет о скорой смерти хотя бы одного из них. Возьми любую сказку: у героя или героини родители либо умерли, либо недееспособны. А иначе разве бы они находили клады и женились на принцессах?
— Ну, не скажи. Папа, например, слишком много пьет. Это опасно для здоровья. А мама…
— Папа всю жизнь много пьет. А мама… мама тоже всю жизнь. У них уже иммунитет выработался к алкоголю и взаимной нервотрепке.
— Предлагаешь их убить? — спросил я. — И взять деньги? У мамы денег все еще хватает.
— Ничего, недолго осталось — она же папе постоянно дает якобы в долг. Порождая очередную нервотрепку. Но ты ведь все равно любишь родителей.
— А ты любишь меня. И это — тоже наша проблема. У нас с тобой нечто вроде неудовлетворенного кровосмесительного…
— Будь добр, говори за себя.
— Я никогда не предлагал кровосмешения в прямом смысле слова.
— Максимум, что тебе светит, — получить от сестры психологическую помощь.
— А разве своими кушетками ты меня не соблазняешь? И разве это не нервотрепка?
— Не нейтрализованный эротический перенос типичен для клинических случаев.
— А вот сейчас ты злоупотребляешь доверием пациента. Я даже не знаю, что значит этот твой эротический перенос.
В общем, мы договорились, что я буду приходить к Алисе домой по будням, перед работой. И, словно этот договор и был для нас пунктом назначения, мы повернули к берегу. Позади, над Бэттери-парк, парили несколько воздушных змеев с квадратными головами. Хвосты их извивались как-то неестественно, словно у сперматозоидов под стеклом микроскопа.
— Да, вот еще что, — вспомнила Алиса. — Нам нужно обсудить твою работу. Это зло, которое…
— Техническая поддержка — не зло. Техническая поддержка вне категорий Добра и Зла. Ты точно не устроишь мне промывание мозгов по-коммунистически?
— Дареному коню в зубы не смотрят.
— Не слишком прогрессивная мысль.
Катамаран ткнулся в пристань.
— Кстати, Алиса, а ты-то сама с кем-нибудь встречаешься? В смысле, поддерживаешь ты отношения сексуально-романтического характера?
Этот термин — отношения сексуально-романтического характера — придумала именно Алиса. Согласитесь, уже от звукоряда всякое желание пропадает. Правда, в одном из отелей штата Колорадо функционировал некий председатель профсоюза, с которым Алиса вела — по крайней мере еще совсем недавно вела — бурную переписку на впечатляюще широкий круг тем. Она даже летала в Колорадо, чтобы с ним встретиться, — и вернулась с километром пленки, подтверждающей, что грубоватый, а впрочем, довольно симпатичный председатель действительно существует в природе. С другой стороны, в последний раз я обнаружил у Алисы в квартире только фотографии мамы, папы и двух собак, а также себя.
— Мне не хватает Джоша, — призналась Алиса.
Я сделал вывод, что грусть в ее голосе обусловлена в равных долях тоской по Джошу и сожалением, что от тоски по Джошу уже почти ничего не осталось.
— Мне тоже кое-кого не хватает, — вздохнул я.
Глава пятнадцатая
Алисин прикид наводил на мысли об эпохе хиппи — она напялила полосатые шелковые пижамные штаны и футболку с символикой почившей в бозе этно-группы и с надписью «ПОЗНАКОМЬСЯ С ЧЕЛОВЕКОМ, БОЛЕЕ ДРУГИХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ТВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ». Но Алиса не забыла и про толстую сигару а la старина Зигмунд — из-за входной двери на меня пахнуло тяжелым дымом.
— Как же их тяжело раскуривать, — пожаловалась Алиса с порога.
Я только тряхнул головой и вошел в квартиру.
— Садись — или можешь лечь — там, где тебе удобнее всего. Сам понимаешь, специальную кушетку я дома не держу.
Я уселся в кресло с обивкой из бежевого вельвета.
— Ну, как жизнь, Алиса?
— Ладно, можешь говорить мне «Алиса», а не «доктор Уилмердинг», но имей в виду — мы не будем обсуждать мою жизнь. Во всяком случае, я не буду.
В кресле я чувствовал себя как на коленях у дружелюбного великана — слишком удобно, чтобы думать о собственных страданиях. Поэтому я встал и осмотрелся.
— Классная все-таки у тебя квартира.
Папа дал Алисе кучу денег еще до того, как обанкротился, так что она смогла купить не только эту вместительную двушку в доме довоенной постройки, но и отличную мебель и даже несколько картин и вещей авторской работы. Чтобы свести к минимуму городской шум, Алиса установила двойные стеклопакеты. Они вкупе с матовыми лампами, потолочным вентилятором, лениво двигающим лопастями, комнатными растениями, зеленым иранским ковром ручной работы и ярко-красной абстракцией на холсте, в полумраке напоминавшей нечто вроде последних проблесков сознания у неизлечимого узника дома скорби, создавали впечатление оазиса, неизвестно каким самумом занесенного в каменные джунгли. Снаружи солнечный свет заливал охристые кирпичные стены и соседние окна — но это снаружи.
— Может, перейдем в спальню? — предложил я. — Кровать как-то ближе к кушетке. Слушай, а мои перемещения тоже что-то значат? В смысле, ты как психоаналитик их фиксируешь?
Узкая кровать в спальне была застелена покрывалом прелестного лавандового оттенка, свидетельствующего о непорочности хозяйки. Разубеждало в данном предположении внушительное и недовольное чучело каменного козла, нависшее над изголовьем, — трофей из последнего сафари, предпринятого папой и Алисой. Конечно, я уже видел этого козла, но впечатление было, как всегда…
— Алиса, а разве козел не напрягает парней, которых ты приводишь?
Пожалуй, козел действует на психику каждого потенциального Алисиного любовника (думал я, пробуя кровать на мягкость) примерно так же, как постер из бывшей Восточной Германии — на нем ухмыляющийся алчный буржуин со значками доллара вместо зрачков тянет ручищи к изрыгающим дым фабричным трубам, возвышающимся в центре непрезентабельного рая для рабочих, — тянет, стало быть, ручищи, пока по пальцам ему не шандарахнет монструозный красный молот. Внизу надпись: «Unsere Antrwort!» Перевод: «Наш ответ!» Пальцы сами собой начали ныть.
Алиса уселась в кресло, обитое нейлоном и больше похожее на лыжную куртку, и опустила горизонтальные жалюзи. Синеватый, как рентгеновские лучи, дым шел из ее насмешливого рта и медленно рассеивался под действием невидимых потоков воздуха.
— Я не стану задавать наводящих вопросов. Ты должен сам заговорить о наболевшем. Тогда конечный результат будет походить на процесс лечения. Конечно, я не тешу себя надеждой, будто ты в это веришь. Итак, что у тебя на сердце, мой маленький братик?
— Гм… Пожалуй, начну вот с чего: мне кажется, что с тобой, Алиса, я могу быть откровенным. А это уже хорошо. Еще хорошо, что ты уже знаешь мою самую грязную тайну — хотя, может, мы вскроем и что-нибудь похуже. Я имею в виду свое нездоровое к тебе влечение. Насколько я в курсе, до таких тайн нелегко бывает докопаться.
— Не болтай ерунды, на самом деле ты меня не хочешь. — Алиса закашлялась — раньше ей не случалось играть в ценителя сигар. — Знаешь, почему ты сумел мысленно перешагнуть через запрет инцеста? Потому что ты подсознательно стремишься уйти от постоянных отношений с женщиной, вот тебе и нужен недосягаемый объект желания. В данном случае лучше табу ничего не придумаешь. — Алиса издала рыгающий звук и снова закашлялась. — Для тебя, Двайт, это самая удобная сексуальная фантазия, потому что на самом деле ты не хочешь, чтобы она осуществилась. Инцест — фаворит в западной культуре. Нужны острые ощущения, драматизм, патетика? Приплети инцест, и дело в шляпе. Универсальный сюжет, хоть и надуманный. Видишь ли, проблема не в том, что мы с тобой — или любые другие братья и сестры — хотим переспать друг с другом. Проблема в том, что на самом деле мы этого не хотим. А ведь насколько легче было бы, будь все наоборот. Мы любим друг друга, мы хорошо знаем друг друга, нам, слава богу, не надо знакомиться с родителями друг друга. Так почему же я, — Алиса перешла на риторические интонации, — почему же я фигурирую в твоих эротических фантазиях? Почему?
— Не фигурируешь, Алиса, клянусь!
Алиса выпустила очередное кольцо дыма и пожала плечами.
— Хорошо, я тебе объясню. Все дело в том, что я — единственная девушка, которую ты действительно хорошо знаешь, точнее, которую ты узнавал единственно правильным способом. Узнавал постепенно, неизбежно. Неизбежно, потому что у нас с тобой не было выбора. Ты не давал и не получал уродливо-конкретных характеристик, равно как и обрывков информации, обязательных для современного урбанистического романа, когда человеку приходится изощряться, чтобы выставить свою весьма ординарную личность в наиболее выгодном свете. В ход идут избитые фразы, старания выглядеть сексуальнее, иные приманки. Человек все время старается выпятить себя, любимого, доказать, что он — именно то, что надо объекту его вожделения.
— Алиса, погоди!
— Двайт, как ты думаешь, почему «Медсестра и солдат» так популярны среди людей вроде нас?
— Ты имеешь в виду группу «Медсестра и солдат»?
— Конечно. Зайди на urge.com, почитай отзывы — все, буквально все считают такую модель отношений идеальной. О чем и пишут.
— Но постой…
— Нет уж, слушай, раз пришел к профессору-адъюнкту и разлегся на ее кровати. Какова основная тема песен «Медсестры и солдата»? Мне одиноко, мне страшно, все, что мне нужно, — маленький домик, где можно скрыться хоть на время. Скажешь, нет? Но это чувство не из тех, в которых хочется признаваться. А если вдруг случайно оно всплывает, то какое облегчение узнать, что есть люди, которые чувствуют то же самое. Первая реакция: «И ты такой же?» И дикий восторг. А на самом деле ты выяснил сущую ерунду — другой чувствует единственно то, что способен чувствовать в силу собственной неразвитости.
— Алиса, ты ведь слушаешь «Медсестру и солдата». Наверняка гораздо чаще, чем я. У тебя небось и пиратские записи есть.
— Да, я их слушаю. Постоянно. Они бесподобны. Но если мне встретится человек, разделяющий мое мнение, я потеряю к «Медсестре и солдату» всякий интерес. Таким образом, мы думаем так же, как все озабоченные белые молодые люди с высшим и незаконченным высшим образованием, живущие в развитых странах. А знаешь, что особенно интересно…
— Слушай, кто из нас пациент? Вроде как я должен изливаться.
— Извини. Эта сигара как-то странно на меня действует. Вызывает повышенную болтливость.
Алиса поднялась и вышла. Я услышал тихий всплеск и шипение в районе туалета. Вернулась она уже без сигары, зато с блокнотом, и снова уселась в кресло.
— Вернемся к нашим проблемам. То есть к твоим. Я специально купила блокнот и намерена исписать его вдоль и поперек.
— Крупный экземпляр. — Я покосился на Алисины колени. — Таким и убить можно.
Алиса не удостоила меня ответом. Зато удостоила взглядом инквизитора.
— Итак, мои проблемы… — Закрыв глаза, я пустил мысли на самотек, понимая лишь одно: их поток столь стремителен, а сами они столь крепко переплелись, что выделить пару-тройку и предъявить Алисе просто невозможно. Наконец я выдал: — Мама с папой решили бы, что мы с ума сошли.
— Часто ли ты принимаешь во внимание возможную реакцию родителей на твои действия? — изрекла Алиса тоном давно и успешно практикующего врача.
— Ммм… Нет. С другой стороны, я совершенно уверен, что в подсознании у меня безвылазно сидит чувство вины, вытекающее из постоянных мыслей о том, что скажут родители. Да, именно. По крайней мере я так думаю. А еще у меня чувство, будто я все время жду с их стороны какого-то глобального обвинения. Вот. Пожалуй, я уподобляюсь подсудимому в ожидании решения суда. Только судьи — родители. А еще — правда, не знаю, относится это к делу или нет…
— Продолжай. Веди ассоциативную цепочку. Ее как инструмент психоанализа пытались дискредитировать, и все же…
— Так вот. Я только что сказал, будто чувствую, что пока ничего не произошло. Понимаешь? Смотри, вот у тебя висит постер, еще со времен существования Восточной Германии. Какие события произошли — Стена рухнула, целый мир изменился, нам больше не грозит ядерный холокост. А где ощущение, что что-то случилось? Его нет. По крайней мере у меня. Зато есть ощущение, будто у меня повышенная сопротивляемость событиям. Я не чувствую, что они произошли, даже если на самом деле они произошли.
— Ну…
— Знаю, знаю, что ты хочешь сказать: текущих событий никто не ощущает. Но я, когда говорил о сопротивляемости, имел в виду и события личные. Мама и папа развелись, я завел девушку, поменял работу, и все равно…
— Да, о твоей работе мы обязательно поговорим.
— Не заставляй меня думать о работе, когда я уже должен на ней быть. — Я посмотрел на часы. — Половина! Ужас. За психоанализом время просто летит. Наверное, именно поэтому подготовка психоаналитика занимает годы. Но прежде чем уйти, Алиса, я скажу. Главное откровение сегодняшнего сеанса — это моя непроницаемость, сопротивляемость, иммунитет к событиям — называй как хочешь. Именно отсюда у всех остальных моих проблем ноги растут.
— Кажется, я понимаю, — авторитетно заверила Алиса, будто и вправду поняла. — Подумай об этом, Двайт. Подумай о холодной войне, о…
— Свободные ассоциации! Вот к чему ты клонишь! По крайней мере одна у меня есть: холодная война — это брак мамы с папой. Тут тебе и соперничество сверхдержав, и гарантированное взаимное уничтожение, и столкновение интересов… Ты согласна? Здорово! Раньше я никогда не занимался свободными ассоциациями! — Я принялся хрустеть пальцами. — Холодная война — мама и папа — фильм «На Золотом озере»[30] — олимпийское золото — фильм про Нострадамуса[31] — песни «Красный восход» и «U2»… — Я щелкнул пальцами впустую уже три раза. Ассоциации иссякли. — Вот блин! Не работает! На самом деле, когда я говорю «мама и папа», я всегда представляю одну маму. Папа — постольку-поскольку. Черт. Начал за здравие…
— Ничего, Двайт, не расстраивайся. На сегодня вполне достаточно. Не забывай думать о холодной войне. Помни: наши с тобой самые важные для становления личности годы были отравлены страхом перед грядущим Армагеддоном. Следовательно…
— Не знаю, у меня вроде не отравлены. Никогда всерьез не верил, что настанет конец света. Конечно, я не обольщался насчет людей, но чтобы начать ядерную войну… Нет, не так уж они плохи. Сомневаюсь, что и русские повелись. Разве что в один прекрасный вечер перебрали бы водки и нажали бы не на ту кнопочку…
— Правильно. Выходит, ты признаешь, что вопрос, доживем ли мы до двадцати пяти, действительно стоял? Помнишь, как взрослые спрашивали: «Двайт, кем ты станешь, когда вырастешь?» Разве у тебя не было ощущения, что ты над ними смеешься, независимо от профессии, которую ты называл? И потом, — продолжала Алиса, — разве ты не испытал шок, уже в средней школе, когда Стену разрушили и стало ясно, что нам и вправду есть к чему готовиться? А планов-то на взрослую жизнь никаких! Мы и в мыслях не держали, что вообще вырастем, — будущее для нас отменили. Для наших желаний всегда существовал потолок — или горизонт, если тебе так больше нравится. Так далеко в будущее мы не заглядывали…
— Интересная мысль.
— Зато теперь, Двайт, ты должен найти место своим желаниям. Место в мире, о котором в детстве и не помышлял.
— Не зря тебя назначили профессором-адъюнктом. Я под впечатлением.
— Если ты под впечатлением, откуда тогда сарказм в голосе?
— Сарказм? У меня и в мыслях не было! — И ведь действительно не было. Может, Алисе послышалось? Или сарказм таки проклюнулся? Мне уже казалось, что психоанализ засасывает меня: я стоял в зеркальном коридоре, Двайты — каждый следующий меньше предыдущего, но до отвращения похожие друг на друга, — множились в дурной бесконечности. — Алиса, я тебя люблю, — сказал я. Что еще я мог сказать, лежа на ее кровати?
— Я хочу, чтобы ты кое о чем поразмыслил. Какой аспект жизни ассоциируется у тебя с гарантированным взаимным уничтожением?
— Не знаю. Уничтожение — смерть — «Благодарные покойники» — шоу Косби[32] — семейные узы — летние каникулы… Не работает, хоть тресни!
— Какой же ты тормоз. Мама и папа. Их отношения закончились, как и холодная война, только на десять лет позже. И развод был не меньшей неожиданностью. — Вдруг Алисины глаза затуманились. — А теперь… — попыталась она произнести, но голос сорвался. — Теперь…
— Алиса, ну что ты! Не надо! — Я уже было вскочил, чтобы обнять ее, но тут схема «врач — пациент» усилила свои позиции, и я остался в горизонтальном положении.
— Все в порядке. — Алиса проглотила ком. — Они все равно никогда не были настоящей парой. Все к лучшему. Я даже рада. Я только хочу, чтобы мама снова сошлась с доктором Хайаром. Он мне всегда нравился. — Алиса шмыгнула носом. — Такой шутник… — Алиса уставилась в пространство. Наконец она взяла себя в руки. — Двайт, как по-твоему, мы не ерундой сейчас занимаемся?
Я задумался.
— Это очень интересно. А значит, не ерунда. Все, что интересно, — не ерунда. Мне так кажется. Я приду завтра, ладно? Мне пора…
Алиса встала меня проводить. Всю дорогу до прихожей на лице ее одно дурное предчувствие сменялось другим.
— Может, будем заниматься психоанализом только два раза в неделю? Извини, но четыре раза — это слишком.
— Два так два. Хорошее число. Четное, опять же. Ты как, успокоилась? Ну, насчет мамы с папой? Мне-то параллельно. Пожалуй, людям вообще нужно чаще разводиться. Чтобы меньше действовать друг другу на нервы. Больше абортов, больше разводов… Глядишь, жизнь не будет так напрягать.
В 2000 году Алису арестовали на съезде республиканцев в Филадельфии за то, что она в ответ на Поправки к закону об особо тяжких преступлениях собрала группу единомышленников, скандировавших «Больше абортов! Больше разводов!» в лицо участникам съезда. Алисе тогда пришлось целую ночь провести в кутузке, где ее не только не пустили в душ, но даже не разрешили позвонить адвокату.
— Больше перерывов для посещения уборной! — Алиса окончательно успокоилась. — Это ведь архисерьезная политическая проблема. Возьми хоть мексиканские фабрики, работающие на экспорт, хоть вьетнамские фабрики по обработке сырья — там же людей даже в туалет не выпускают!
— Обязательно над этим поразмыслю. — Я взглянул на часы — отличные часы, подарок родителей по случаю окончания колледжа. Они работали от вибрации тела, их не нужно было заводить. — Если я через пять минут не появлюсь на работе…
— Тогда до среды. — Алиса опиралась о косяк двери. — Да, вот еще о чем ты должен подумать: о том, каково тебе жить в обществе потребления, которое постоянно вымогает по кусочкам твою мечту и растрачивает эти кусочки черт знает на что; которое не дает тебе накопить хоть немного страсти — столько, сколько хватит на стоящее дело.
— А что, есть надежда, что общество потребления перейдет в новую стадию развития?
— Физический труд на свежем воздухе пошел бы тебе на пользу. — Еще до того, как заняться изучением содержимого типичных американских гаражей, Алиса жила среди людей народности акха, обитающей в Лаосе. Их обычай мазать жениха сажей, грязью и навозом, чтобы тот правильно понимал семейную жизнь, произвел на мою сестру неизгладимое впечатление. Однако гораздо больше ей нравился уклад жизни народности ну, обитающей в Китае: там женщина имеет право принимать у себя любого мужчину, какой ей понравится, а детей, рожденных от разных отцов, воспитывает совместно со своим братом.
Когда открылись двери лифта, я проскандировал:
— Больше абортов! Больше разводов!
Алиса вытянулась по стойке «смирно», бодро отсалютовала, едва не зацепившись локтем за косяк, и, внезапно поникнув, закрыла за мной дверь. У меня перед глазами все еще стояли ее полосатые пижамные штаны и заношенная футболка. Что она делает целыми днями? Что она станет делать сегодня? Возможно, почитает, потом сходит в университет, проведет занятия, вернется и снова будет читать или писать до поздней ночи, потом примет мелатонин и провалится в глухой, не приносящий отдохновения сон.
Выйдя от Алисы, я припустил в сторону офиса. Утренний воздух холодил руки, как недоученный параграф; в косых лучах завис запах карандашной стружки; проанализированные чувства улеглись каждое на свою полочку. Бодрящие и довольно положительные ощущения отравляла тревожность школьника со стажем: каждый учебный год оттачивает его чутье, натиск осени он встречает во всеоружии, он морально готов к неизбежному соперничеству, экзаменам, провалам, конфликтам. Осенние предчувствия не притупляются и после окончания школы: до сих пор я меряю жизнь не годами, а отрезками в девять месяцев с передышкой в три месяца; до сих пор осенью хожу на работу с ощущением, которого слова «в этом году должно случиться что-то грандиозное» не раскрывают, как троечное сочинение не раскрывает идей какого-нибудь великого гуманиста. Сегодня предчувствие казалось неоспоримым, как статистические данные, но от этого ничуть не более определенным; именно от него, от предчувствия, а вовсе не от утренней прохлады, меня потряхивало и даже, я бы сказал, колбасило.
Глава шестнадцатая
Возможно, не всем читателям нравится, что в книге такое количество описаний пробуждения. Однако недовольным надо признать, что пробуждение — очень важная, хотя и недооцененная, часть жизни — даже если оно не завершено. Так вот, после второй ночи, проведенной в сельве, и на одиннадцатый день с момента приема «абулиникса» я проснулся от ощущения чего-то хорошего и открыл глаза навстречу утру с готовностью малыша, крепко помнящего, что сегодня наконец-то он может заглянуть под елку.
И что же я увидел, открыв глаза? Бриджид, лежащую в гамаке под москитной сеткой. Она лежала на спине, запрокинув голову и поместив сцепленные руки (насколько можно было судить по очертаниям) между ног. Веки ее трепетали — впрочем, возможно, то была игра света, проникавшего сквозь ячейки москитной сетки и дрожащего на ее правильном милом лице с высокими скулами — заметно, кстати сказать, посмуглевшем за последние дни.
Я надел свою любимую футболку, мягкую от многочисленных стирок, с надписью «ЗАРЯЖАЙ МОЗГИ — ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ», выбрался из-под москитной сетки, натянул резиновые сапоги и не без труда извлек из рюкзака потрепанное, с загнутыми уголками «Применение свободы». Я стал в луче света, где четче видны были клубы пара, поднимавшиеся, точно в сауне, и, пролистав несколько покоробившихся от сырости страниц, нашел свой любимый отрывок, дважды обведенный карандашом:
Когда мы наконец добились критического ощущения уверенности относительно сущности мировой просьбы [die Weltbitte], мы тотчас поняли, что являлось для нас самой большой опасностью, по крайней мере до сих пор. Мы стояли посреди леса, изо всех сил прислушиваясь, но, к вящему своему разочарованию, не различали других звуков, кроме шума ветра в листве. Какой заманчивой представлялась нам перспектива выделить хотя бы один членораздельный звук!.. Вместо этого мы вынуждены были ждать — ждать мировой просьбы. Мы проявляли неслыханное — и мучительное — терпение; мы не поддавались на провокации сознания, готового к слуховой галлюцинации. А теперь, достигнув наконец запоздалой уверенности, мы поняли, что лишь благодаря терпению с честью миновали переломный момент. Если бы мы приняли его за Тот Самый момент, это означало бы крушение всех наших надежд — и бессрочное изгнание.
Поистине велик философ, способный измыслить такой бред!
После завтрака я послушно и не теряя оптимизма плелся за Бриджид и Эдвином сквозь сумрак сельвы, пульсирующий, словно зрачок. Ни один листок не шевелился, будто сельва затаила дыхание. Эдвин между тем выбирал дорогу так, чтобы оставаться в пределах досягаемости от хорошо заметной широкой тропы. Подлесок редел, зато кроны деревьев поднимались все выше и делались все гуще; пространства прибавлялось, клаустрофобия отступала. В то же время становилось жарче и мокрее. Сельва словно вытягивалась в высоту, я чувствовал себя как на дне колодца.
Эдвин разрешил мне взять мачете и попробовать расчистить путь. А когда я, по его наущению, раздавил несколько лимонных муравьев и дочиста облизал ладони, Эдвин ободрил меня широкой улыбкой и двойным выбросом вверх больших пальцев рук. Бриджид тоже принимала участие в наших забавах, а когда мы с Эдвином вздумали разукрасить друг другу лица густым алым соком ачиоте[33], она с энтузиазмом, эквивалентным нашему, рисовала на Эдвиновых щеках волнистые, в высшей степени первобытные линии.
— Из тебя вышла бы отличная дикарка, — заметил я.
— Под стать тебе, — скокетничала Бриджид.
— Ну, до Эдвина нам обоим далеко, — поспешно сказал я.
Я до ушей намазался репеллентом, но все равно мои ноги и руки ниже локтя были усеяны укусами, которые, точно почки, пробивались из-под густой свалявшейся шерсти. Поэтому, несмотря на непривычное умиротворение в душе, я плелся в хвосте нашей маленькой процессии, одной рукой остервенело расчесывая укусы, а другой отмахиваясь, больше для проформы, от озверевших москитов. Эдвина, как ни странно, москиты совсем не трогали.
— Бридж, — сказал я за обедом (мы снова ели патаконес), — ты не могла бы спросить Эдвина, почему его не кусают лос москитос?
— Двайт quiere saber[34] бла-бла-бла лос москитос.
— Те mostrare[35] бла-бла-бла cuando[36] бла-бла-бла, понятно? — доходчиво объяснил Эдвин.
Однако после обеда мы продолжили путь, причем на первый взгляд казалось, что мы просто лезем напролом, не представляя, куда идем и зачем. Мы пробирались вброд по залитым зеленоватым светом прогалинам, руками разгребая густой воздух. Наконец — день уже клонился к вечеру — Эдвин, обернувшись ко мне, указал своим мачете на толстые корни цвета корицы, принадлежавшие неопознанному дереву, которое как-то умудрилось вырасти поодаль от остальных.
— Mira, aqui[37] бла-бла-бла necesitas[38], — сообщил он.
Дерево было примерно в два человеческих роста высотой; под его кроной из сердцевидных вощеных листьев, среди других корней и других листьев — гниющих и растущих — только что не шевелились, точно щупальца осьминога, толстые корни.
— Si? — осведомился Эдвин.
— Si, — заверил я, но на всякий случай спросил у Бриджид, что бы это значило.
— Эдвин говорит, что это — бобохуариза. Ее сок отпугивает москитов, зато от него выпадают волосы везде, где только он коснется тела.
У меня вдруг закружилась голова. Я попытался стряхнуть головокружение, но тут перед моим мысленным взором возникло беспрецедентное видение. Меня ласкали пальцы невидимой в темноте незнакомки. Расстегнутая рубашка обнажила мой абсолютно гладкий торс; расстегнутые брюки упали на пол, открыв ноги… И что же? Ноги больше не прятались стыдливо под волосяным покровом; нет, они, гладкие, как у младенца, отсвечивали в темноте воображаемой комнаты! Неужели эти… мм… видения — результат действия «абулиникса»? Конечно, «абулиникса» — его и только его!
— Скажи Эдвину, что мне нужно как можно больше этого сока! Сото quisiera[39], — попросил я. — Quisiera macho![40] В смысле mucho[41]!
Запасливый Эдвин достал из рюкзака ручную дрель и пластиковый желоб. Я смотрел, как в бутылку медленно набирается матово-желтая жидкость.
Я разделся до трусов и стал натираться прохладным, успокаивающим зуд соком. Бриджид вызвалась намазать мне спину между лопаток, куда я сам ни за что бы не добрался. От прикосновения ее теплых нежных рук у меня по коже, несмотря на жару, побежали романтические мурашки. Эдвин тоже получал удовольствие от процедуры — он ржал, называя меня loco[42]. В слове слышалась ломка устоев, нарушение запретов, побуждение к вольнодумству — и я залез рукой в трусы и стал весьма распущенно распределять сок по своим ягодицам, точь-в-точь как у Аполлона Бельведерского, если бы не шерсть.
— Эдвин говорит, что никогда не видел более волосатого человека.
— И больше уже не увидит. Ни он, ни кто другой. — Я натер все, кроме лобка, головы и изгрызенного москитами лица. — Вуаля! — воскликнул я, оборачиваясь к Бриджид. — То есть mira[43]!
Я распростер объятия, однако, увидев улыбку Бриджид, испугался, что у меня эрекция (я успел напрочь забыть о сатириазисе, побочном эффекте «абулиникса»), и поспешно отвернулся.
К счастью, мой член вел себя вполне прилично.
По наущению Эдвина я набрал две бутылки идеального эпилятора и отсек еще четыре корня от невероятной, великолепной, бобохуаризистой бобохуаризы — воистину прекрасного растения, которое я, если уж смотреть правде в глаза, методично уничтожал.
— Двайт, тебя действительно так напрягает твоя волосатость?
— На самом деле тут все субъективно. Согласись, очень многие с удовольствием избавились бы от лишних волос. — Я подмигнул Бриджид и продолжал, обливаясь потом, орудовать мачете, словно какой-нибудь берсерк. Бутылки постепенно наполнялись. Однако под взглядом всезнающей, высокоморальной Бриджид я не мог избавиться от мысли, до чего неприятно было бы заниматься выкачиванием сока ради пропитания, за нищенскую плату, словно прополкой или сбором бананов, по восемь часов в день и без выходных.
— Эдвин считает тебя занятным. Он говорит, что белые, как правило, ведут себя в Oriente как в музее. Пожалуй, он прав, — признала она с неохотой.
У меня, впрочем, несмотря на то, что я до изнеможения намахался мачете и взмок, как мышь, настроение было настолько хорошее, что даже в сарказме Бриджид мне слышалось тщательно скрываемое восхищение. Я разогнулся и стал одеваться под жидкие хлопки Бриджид и Эдвина. Я связал корни бобохуаризы побегами тамши, которыми меня снабдил Эдвин, водрузил их на рюкзак, и мы продолжили путь. И ничто вокруг не выдавало судьбоносности дня.
К вечеру мы оказались на склоне холма, откуда открывался великолепный вид. Под нами была река — ее извивы стремились к точке отсчета, с которой мы начали путешествие. Вокруг простиралась Oriente, а вдали высились мягкие очертания Анд — будто салфетку неровно порвали. Сбоку салфетка дымилась — это действовал вулкан. Эдвин пошел готовить ужин, а я со всеми предосторожностями обнял тоненькую, дробненькую Бриджид за талию.
— Бобохуариза действует, — сказал я.
Пожалуй, можно было придумать что-нибудь понежнее.
Выпавшие волосы кололись в штанах, щекотали под рубашкой, как будто в моей одежде ходил линючий пес. Чудодейственный сок, похоже, вызвал не столько внешние, сколько внутренние перемены; в последние несколько часов я ощущал почти исключительно проникновение в кровь продуктов распада «абулиникса». Изменения в организме необратимы, радовался я — и с наслаждением подчинялся невидимым захватчикам, действовавшим на клеточном уровне. Решение, принятое внезапно — решение избавиться разом от всех волос на теле (кроме лобка), — казалось мне первым благовещением «абулиникса» — да, именно благовещением! Я упивался сознанием, что «абулиникс» не подведет меня и в будущем, когда придет время или когда наступит срок — что раньше.
Насколько я понял, Бриджид предпочитала, прежде чем подставить губы, обсудить пару-тройку мировых проблем, поэтому продолжил мысль насчет бобохуаризы. Мысль эта посетила меня внезапно (пора привыкать к внезапным мыслям и решениям!) и казалась почти гениальной.
— Так вот, — начал я издалека. — Я безработный, а у тебя проблемы с диссертацией.
— Забудь про диссертацию.
— Тем более. Вот что я придумал: давай нарубим бобохуаризы, отвезем ее в Штаты, сделаем химический анализ сока и запатентуем формулу, воспроизведенную в лабораторных условиях. У нас эта ниша на рынке косметических препаратов — депиляция в смысле — не заполнена. Да что там не заполнена — пустует! Мы с тобой наживем целое состояние!
Бриджид передернула плечами. Похоже, моя гениальная мысль ее не вдохновила.
— Это я к чему? — продолжал я. — Здорово будет, если ты найдешь новую тему, я за тебя порадуюсь, но если не найдешь — не расстраивайся. Помнишь, ты восхищалась способностью хапони ничего не делать и получать от этого удовольствие? А я смогу купить депилятор в любой аптеке.
— Не знала, что тебя посещают такие суетные желания. Наташа, видимо, просто забыла предупредить.
— У меня только одно желание суетное. А все остальные — благородные. Деньги поделим пополам. Ты можешь на свою долю стать первой бельгийкой-основательницей — точнее, подрывательницей — основ этого, как его? — неолиберализма. Короче, разновидности капитализма, которая тебе особенно не по душе.
— А тебе она, выходит, по душе?
— Не знаю. Я только учусь, только накапливаю информацию. А если мне не придется работать, я смогу все время тратить на учебу. Ну, что скажешь? Представь, больше никаких проблем с депиляцией в районе бикини!
— Поразительно, как человек может измениться всего за один-два часа.
— Да дело не во мне! Ты разве не заметила, что сейчас весь цивилизованный мир ополчился на волосатость? Волосатостью отличаются жители севера и запада; они же и основные потребители. Я хочу сказать, цивилизация волосатых одновременно является цивилизацией потребления. Подумай, в недалеком будущем все женщины будут абсолютно гладкими, а у мужчин будут пышные шевелюры — но исключительно на головах! Короче, Бриджид, не знаю, как ты, а я считаю, что нам крупно повезло.
— Да неужели? Ты, выходит, решил поставлять на рынок бобохуаризу, сделать ее импортом, облагаемым пошлиной? Должна признать, я считаю…
— Скоро ты будешь считать денежки!
— Да какая муха тебя укусила? Ты раньше себя так не вел.
— Знаю, Бриджид, знаю, что не вел. Но человек ведь не погода — его поведение нельзя спрогнозировать. Я тебе должен кое в чем признаться. Еще совсем недавно я страдал хронической неспособностью принимать решения — может, слышала?
— Как, ты тоже?
— Иначе это расстройство нервной системы называется абулия. Но сегодня, по неведомой причине, — «абулиникс» запретил о себе упоминать, — сегодня у меня особенный день. Судьбоносный, я бы сказал. Сегодня я понял, что если я в один момент решил избавиться от волос на теле; если убедился, что техническая поддержка — не мое призвание, а мое призвание — найти бобохуаризу и начать ее продавать; и если я теперь знаю, что не напрасно сделал неправильный вывод из Наташиного письма и прилетел в Эквадор — потому что я мог попасть туда, куда должен был попасть, только таким вот кружным путем; и если вдобавок я обнаружил, что в мои чувства и мысли словно влили свежую кровь, то есть я стал быстро соображать и вспыхивать, как солома — а разве это не одно из главнейших условий счастья, — то… — Под влиянием «абулиникса» мои чувства обострились, мысль заработала с невероятной скоростью; казалось, я в нескольких фразах смогу описать свою жизнь до мельчайших подробностей; простое открывание рта сделает меня Демосфеном.
— То?
Однако тут-то я и застопорился.
— То, значит… — Я тянул время, а сам думал, какое все-таки чудодейственное средство «абулиникс»: если предположить, что его длительное употребление не ведет ни к нервным расстройствам, ни к сердечной недостаточности, ни к другим нарушениям здоровья, то мне до самой смерти ровно ничего не грозит.
— То? — настаивала Бриджид. — Если, если, если — что если?
Я пылко сжал ее пальцы. Наверное, Бриджид расценила мой жест как двусмысленный — она пискнула «Quoi?», однако, наряду с двусмысленностью, в ее голосе слышалась уверенность в том, что будущее нужно встречать во всеоружии и без излишних сожалений превращать в прошлое. Свои соображения я попытался передать Бриджид еще более плотным сжиманием ее пальцев. Я вложил в ладонь и собственные соображения по поводу нашего взаимного желания — что оно абсолютно закономерно и правильно, а разговор наших рук — идеальная к исполнению его, желания, прелюдия. Во время принятия решений, сказал я себе (но лишь таких, которые можешь принять), опирайся на созидающее чувство, сделай своим единственным принципом честность, но научись отличать объекты решений от объектов уверенной и осторожной настойчивости. Представь, что по камешкам переходишь бурный поток — точно так же просчитывай каждый шаг.
— Ах, Бридж, Бридж! — Меня переполняла благодарность к монстрам фармацевтической промышленности, производящим перевороты в медицине. Я крепче стиснул руку Бриджид.
— Ты мне тоже очень нравишься, — пролепетала Бриджид, пытаясь ответить на мое пожатие. — Mais tu es completement fou. Un fou. Знаешь, что я сказала? У тебя и вправду не все дома.
— Были, — признался я.
Глава семнадцатая
Эдвин, взглянув на нас, хихикнул и сообщил, что пойдет еще раз попробует соорудить хижину из пальмовых листьев. Я надеялся, что его слова являются показателем сексуального напряжения между Бриджид и мной, каковое напряжение Эдвин (обладающий, как и всякое дитя природы, недалеко от нее ушедшее, врожденным чутьем на такие дела) моментально просек и деликатно оставил нас наедине.
Однако, когда мы добрались до нашей палатки, сексуальный настрой у Бриджид как рукой сняло.
— Мне очень неудобно, — сказал я (Бриджид уселась в гамаке. На лице у нее явственно читаюсь «Не влезай — убьет».) — Я совсем забыл про Эдвина. Деньги поделим на троих. Только представь, какую свадьбу сможет закатить Эдвин!
— Ты совершенно случайно узнал о бобохуаризе и теперь вздумал вывезти образцы из Эквадора и даже получить патент? Извини, Двайт, этого не будет.
Бриджид сняла сапоги и забралась под москитную сетку.
— Или ты хочешь повторения пройденного? Тебе мало того, что уже случилось с Южной Америкой? — Бриджид тряхнула головой, и свет от ее наголовного фонарика метнулся, точно вспугнутый беззащитный зверек. — Хочешь, чтобы получилось как с каучуковым деревом?
— А что с ним такого получилось? Вообще первый раз слышу, что каучук растет на деревьях.
Бриджид погасила фонарик — теперь мы сидели в кромешной тьме, какая, наверное, бывает только в сельве, — и спросила, известно ли мне, что резина попала в Европу из Южной Америки.
— Все откуда-нибудь да попадает, — философски заметил я, устраивая задницу в гамаке и стягивая резиновые сапоги, в то время как Бриджид объясняла, что в 1870 году один англичанин, совершенно безнравственный тип, контрабандой вывез из Бразилии семена каучукового дерева, в результате чего, не успела мировая общественность и глазом моргнуть, в Британской Малайзии раскинулись плантации каучуковых деревьев.
— Так что с середины двадцатого века Бразилия, Эквадор и Перу — страны, на территории которых исторически росло каучуковое дерево, — вынуждены резину импортировать, — мрачно закончила Бриджид.
Я хохотнул.
— Да, это так жестоко, в этом такая ирония судьбы, что действительно есть от чего рассмеяться. Это очень смешно, Двайт, — вывезти из страны ее основное достояние и начать ей же его продавать. А если ты вывезешь из Эквадора бобохуаризу и в качестве депилятора начнешь продавать ее богатым белым леди в Кито, Лиме и Нью-Йорке, результат будет тот же.
Несколько мгновений я прислушивался к шуму сельвы.
— Может, поделимся прибылью с эквадорцами?
Бриджид не ответила. Чем дольше слушаешь сельву, тем громче кажутся звуки — они нарастают, как звон единственного москита, который не встречает отпора со стороны спящей мертвецким сном жертвы. Звуки словно кромсали мое приподнятое настроение, и вот края уже обвисли жалкой, неровной бахромой. Мною овладело непонятное беспокойство. Нужно было что-нибудь сказать, и я сказал:
— Почему тогда эквадорцы сидят и не чешутся? Где их инициативность? Почему они ждут, когда явится безнравственный тип вроде меня, почему сами не сделают деньги на бобохуаризе?
— Это интересная особенность их психологии. Но вот еще что интересно: у тебя такие замашки потому, что ты родился и вырос в Новой Англии?
— А при чем здесь Новая Англия?
— Хорошо, объясню. Новая Англия очень богатая страна, и именно там начиналась нынешняя Америка. Согласен?
— Ну да, согласен.
— В Новой Англии у людей, помимо богатства, есть свобода — конечно, в той мере, в какой она вообще может быть. Согласен?
— Согласен.
— Зато страны Южной Америки, как ты, возможно, успел заметить, бедны и экономически зависимы. И компаний, производящих косметику, здесь единицы.
— Допустим. — Похоже, Бриджид вздумала инсценировать один из Платоновых диалогов, а мне отвела роль чурбана, который, как попугай, повторяет «Да, Сократ, верно, Сократ», пока не обнаружит, что противоречит сам себе.
— А как ты думаешь, Двайт, почему в Северной Америке засилье косметических компаний, а в Южной их почти нет?
— Знаешь, Бриджид, иногда у тебя прямо-таки менторский тон.
— Только иногда? Учту на будущее.
Я покачивался в гамаке. Вокруг шумела сельва; шум нарастал, что-то капало, сочилось, хлюпало, чавкало, чвокало, чмокало — в общем, отсыревало всеми способами.
— Что же ты замолчала, Бриджид?
Пусть говорит — у нее по крайней мере голос приятный.
И Бриджид стала говорить. В свете вышеизложенного, говорила она, весьма странно, что Новая Англия, а за ней и все Штаты, так разбогатели, в то время как Южная Америка прозябает в бедности. Я воспринимал данное обстоятельство как должное, по крайней мере до тех пор, пока Бриджид не подчеркнула, что Южная Америка напичкана природными ресурсами, в то время как Новая Англия свои скудные ресурсы растранжирила, причем в рекордно короткие сроки.
— Допустим, — снова сказал я, однако с меньшей уверенностью: в палатке было темно, хоть глаз коли. Казалось, что сельва — это огромный кокон; он стремительно вертится на единственной нитке, а в нем вертится наша палатка, наши гамаки, мы сами. Это верчение сбивало меня с толку.
— Пожалуй, мы такое положение вещей воспринимаем как должное, однако… — И Бриджид снова сделала экскурс в историю, рассказав о невероятных залежах полезных ископаемых, которые еще только начинают разрабатывать, об удивительно плодородных почвах на побережье, а также упомянула обстоятельство, в которое я никогда не верил — впрочем, я никогда не придерживался и противоположной точки зрения: я просто об этом не задумывался, — упомянула, стало быть, следующее обстоятельство: в Южной Америке сохранилось индейское население, оно многочисленно, не раздробленно, и его легко поработить. — В Новой же Англии, напротив, нет ничего, чем могла бы заинтересоваться Европа, — ни серебра, ни золота. Климат там тоже похож на европейский, а в Южной Америке и, конечно, на Карибских островах можно выращивать сахарный тростник, хлопок, кофе, табак, индиго. И что из этого следует?
— Ты меня спрашиваешь? Ты же у нас всезнайка.
— Bof, — фыркнула Бриджид. — Итак, я знаю — или предполагаю, как тебе больше нравится, — что метрополиям, вследствие всех вышеперечисленных факторов, было легко отказаться от Новой Англии, да и от всей Северной Америки. Зачем им колонии, в которых нет ничего принципиально нового?
И в темноте, на ощупь, Бриджид принялась разматывать тугой кокон своей мысли: Америка могла добиться как номинальной, так и фактической независимости от старых европейских метрополий и в конце концов справиться со всеми трудностями, характерными для молодого государства, потому что на первых этапах развития ее промышленность являлась идентичной промышленности метрополий, а не дополняющей эту промышленность. Новая Англия организовала собственное производство, ориентированное на местный рынок, и постепенно построила независимую экономику, опирающуюся на сильных производителей и состоятельных потребителей. Попытка сделать то же самое, предпринятая в Эквадоре и ряде других стран Южной Америки после Второй мировой войны, провалилась из-за волны долговых кризисов, прокатившейся по континенту в восьмидесятые годы двадцатого века.
— И вот Южная Америка снова в тупике. В ней видят только сырьевой придаток и поставщика дешевой рабочей силы, — заключила Бриджид.
— Печально, — сказал я, и мне действительно было печально, как будто «абулиникс» и не начинал действовать. Однако он действовал: я вообразил первых американских Уилмердингов, которым скудная земля Новой Англии показалась раем. От мысли, облеченной в слова, до ее визуального воплощения перед мысленным взором — всего один шаг; я думал о своей семье, о конкретных Уилмердингах о счастливой случайности, которую принято называть божьей милостью, — и сам себе виделся неким вымышленным персонажем. Им повезло; их везение обеспечило мое везение — а что мне с ним делать, с везением? Мне казалось, что я просто сижу и жду, когда еще больше подфартит.
— Бриджид! — позвал я.
— Что? — откликнулась Бриджид.
Недовольный, несколько даже наглый тон ее тотчас напомнил мне Алису — она тоже вот так умела отозваться, как девушка, которую все достали и которой осточертело сидеть в четырех стенах. Я хотел было поздравить Бриджид с тем, что ее познания в истории и экономике глубоки, или же утешить ее, сообщив, что выражение «горе от ума» к ней не относится; однако поймал себя на мысли об Алисе: ей повезло с предками так же, как и мне, а при распределении мозгов повезло гораздо больше. Наверняка, думал я, в последние десять лет ход мыслей Алисы был тот же, что и Бриджид; правда, незаметно, чтобы ей от этого стало приятнее жить. Алисино образование напоминало шествие по этапу: с каждым новым отрезком пути она только больше мрачнела. Этап привел Алису к престижной работе в университете и пакету привилегий с полной медицинской страховкой. Однако на обратной стороне этой шоколадной медали оказалась хроническая неспособность радоваться однозначно положительным моментам — собственным ровным зубам, ясному уму, длинным ногам, изящным сапожкам. Отсюда вытекало и Алисино нежелание ходить в хорошие рестораны, завести бойфренда или хотя бы подружку. И вообще наслаждаться жизнью.
— Знаешь, Бриджид, — начал я, прежде чем успел обдумать свои слова, — ты какая-то неживая, словно мозг на ножках. Не скажу, что это плохо, но, по-моему, это должно мешать тебе в личных отношениях, вернее, вообще пресекать на корню всякие намечающиеся отношения.
Когда Бриджид заговорила, я прямо слышал ядовитую улыбочку.
— Возможно, Двайт, я просто не похожа на живых людей, которые в Нью-Йорке, к счастью, попадались тебе на каждом шагу, вследствие чего ты почувствовал себя таким одиноким и потерянным, что прыгнул в первый же самолет и полетел к незнакомой, по сути, Наташе. А вместо Наташи теперь вынужден общаться со мной. Мои соболезнования.
— Бриджид! — Я выпростал руку из-под сетки в надежде, что Бриджид сделает то же самое, и таким образом будет восстановлен физический контакт через взаимное стискивание пальцев.
— Похоже, дерево доставило тебе больше радости, чем я. Извини. Но кто ты такой, чтобы, обнаружив в Амазонии неизвестное растение, вести себя так, будто сам его вывел? Можно подумать, ты — Адам, а бобохуаризу посадили специально для тебя.
— Ты говоришь о библейском Адаме?
— Да уж, конечно, не о Древе познания, соком которого ты намазался!
— Разве в школе тебе не объяснили, что от Древа познания лучше держаться подальше? Если бы ты не ограничилась первыми пятью страницами…
— Я не собираюсь дискутировать с тобой о вопросах теологии. Я просто могла бы показать, до чего довела Эквадор в целом и Эдвина в частности уверенность, что для поднятия экономики достаточно иметь сырье.
— Показывай что хочешь, только меня в свою веру не обращай, ладно?
— Тебе, выходит, странно, что я во что-то верю? А сам-то ты во что веришь, кроме счастливого безволосого будущего западной цивилизации?
— Я, Бриджид, верю в разные вещи. Например, в себя.
— Ну-ну. Очень интересно.
Примерно на этой стадии разговора я почувствовал, как что-то щекочет мою руку — ту, что я выпростал из-под сетки. Жесткий мех, больше похожий на щетину, возил по кончикам пальцев. Молясь, чтобы мех не принадлежал пауку, я отдернул руку и спрятал ее обратно под сетку.
— Вот ты, например, веришь в любовь? — поспешно спросил я, плотнее подтыкая сетку под спальник. — Я верю. Правда, у меня любовь ассоциируется с семьей — ведь она и приводит к семье, — а с семьей связаны не самые приятные воспоминания. Еще во что верю? Сейчас… Вот. Секс доставляет удовольствие. Телевидение развлекает. Сон освежает. Свободная торговля приносит прибыль. Видишь, я могу и дальше продолжать, хоть до утра. Так вот я верю, что составляющая счастья в жизни присутствует. — Подумав с минуту, я добавил: — А еще я убежденный противник смерти. А значит, и пауков.
Раньше мне никогда не приходилось дотрагиваться до тарантулов. Но то, до чего я дотронулся, точно было тарантулом.
— Я тоже противница смерти. В Эквадоре в большинстве смертей повинен детский понос.
— Разумеется, я тоже против поноса. И не думай, пожалуйста, что у меня нет политических убеждений. Я, если хочешь знать, демократ. Я всегда голосую за демократов.
— Спокойной ночи, Двайт. Давай оставим твои политические убеждения на утро.
Зря я сказал про демократов, тем более под занавес.
Теперь Oriente шипела, будто в нашей планете, как в огромном надувном мяче, образовался прокол. Воздух выходил со свистом, планета скукоживалась, а мне оставалось лишь слушать. Подумать только, один-единственный паук — а может, и не один, — совершенно изменил фактуру звуков сельвы.
— Вот говорят — легкие планеты, озоновый слой… Бриджид, как ты думаешь, может человек в таком лесу оставаться человеком? Разве не лучше жить в саванне? Может, пусть ее вырубают, эту сельву, а? Ну, станет в мире немного жарче — и что в этом плохого? Вырубки зато можно превратить в поля для гольфа. А, Бриджид?
— Знаешь, Двайт, по-моему, ты сегодня перегрелся. Bonne nuit. — В голосе Бриджид слышалась неприязнь. — Fais de doux reves[44].
— Ты ведь тоже ни во что не веришь, — догадался я. — Ни в антропологию свою, ни в туземный абсолютизм, ни в Бельгию. Вот что ты будешь дальше делать, ну, когда мы выйдем из сельвы?
Я закрыл глаза, чтобы их не залила процеженная сквозь москитную сетку тьма. Что мне делать — извиниться перед Бриджид? Дотронуться до нее? Никогда еще моя арахнофобия не принимала столь тяжелой формы. Как, впрочем, и абулия.
Прошло, наверное, минут десять, прежде чем я уловил подозрительные ритмичные постанывания со стороны соседнего гамака. А я-то думал, что она спит! Надо же! Я прислушивался к сдавленным вздохам, вскоре перешедшим в предательские всхлипы. Я больше не сомневался: Бриджид — извращенка из тех, что заводятся от ссор! При таком раскладе наше с ней одиночество показалось мне непоправимым. Дрожа от негодования, я засунул руку в штаны и тоже принялся за дело. Увы! Мне всегда бывало трудно возбудиться на ровном месте, без подходящего образа перед глазами. Ничего не помогало, пока я не представил, как обнаженная смугленькая Бриджид идет впереди меня вверх по винтовой лестнице. Эта прелестная картинка неожиданно сменилась воспоминанием о Ваните, расстегивающей белую блузку под шаром, обклеенным осколками зеркала и вертящемся на шнуре под потолком моего закутка на Чемберз-стрит. А потом Наташа каталась на карусели, где вместо лошадок и верблюдов были обнаженные мужчины в непристойных позах; Наташа тоже была обнаженная и улыбалась своей неподражаемой улыбкой. И снова Бриджид шла вверх по спиральной лестнице, чуть наклоняясь на поворотах…
— Двайт, могу я спросить, что ты делаешь? — Голос, принадлежавший настоящей Бриджид, прервал мои фантазии.
Через несколько минут член меня послушался, и я честно сказал:
— Мастурбирую.
— Что?!
— Мастурбирую. То есть рукой стимулирую пенис с целью достичь оргазма. — Я прервал процедуру. — А ты что делаешь?
— Я… я плакала, если тебе от этого легче. — По ее срывающемуся голосу я понял, что это правда.
— Ой. — Мне стало так неловко, что я отдернул руку от члена. Я бы и его отдернул, если б мог.
— Знаешь, Двайт, я так ждала встречи с тобой. У меня такое представление о тебе сложилось!
Я молчал. Наконец мне удалось выдавить:
— У меня тоже были свои представления. О Наташе. И что? Оказалось, Наташа меня совсем не знает, а я не знаю Наташу. Мне очень жаль, что она ввела тебя в заблуждение относительно меня, но…
— Но что с тобой сегодня случилось?
— Ничего. — Заявление получилось прямолинейное; в нем даже слышалась безнадежность — я одним махом, в приступе стыда, отказывался от Бриджид, от бобохуаризы, от «абулиникса».
— И со мной ничего. — Бриджид умудрилась одновременно буркнуть и шмыгнуть носом. — Ты, Двайт, и есть это «ничего». Давай продолжай развлекаться. Надеюсь, ты воображаешь групповуху депилированных представителей западной цивилизации.
Глава восемнадцатая
В конце концов Бриджид действительно уснула. Наверное, кромешности темноте добавляет каждая пара ни зги не видящих глаз; когда хотя бы одну пару смаривает сон, видимость становится чуть лучше.
У меня пропало всякое желание прикасаться к своему члену, причем лет на пятьдесят вперед. Однако не все порнографические видения той ночи были выдуманные. Я лежал на боку, вытянув руки по швам, а мозг настырно прокручивал один и тот же эпизод из недавнего прошлого, словно надоевший старый фильм, который каждый ночной канал считает своим долгом показывать хотя бы раз в месяц.
Ванита стояла в дверном проеме и говорила что-то вроде:
— Ладно, хоть вечеринка в честь дня рождения Форда и не тянет на настоящее свидание, она по крайней мере компенсировала мне моральный ущерб от воскресного обеда в обществе родителей и молодого человека нашей касты, которого мне прочат в мужья. В конце концов придется подчиниться, но пару-тройку лет я еще потяну резину. А тебя родители не достают с женитьбой на девушке из порядочной семьи?
— Вслух не достают. У мамы, похоже, предубеждение против белых протестантов в целом как касты. Ну, из-за алкоголизма, апатичности, равнодушия и так далее.
— Значит, ты можешь спокойно жениться на любой женщине?
— Кроме тебя.
Я невольно вздохнул с облегчением, и Ванита рассмеялась.
Хотя сейчас все было прекрасно — несколько коктейлей с водкой пошли мелкими пташечками, в голове после утреннего сеанса психоанализа перекатывалось дивное ощущение избавления от психического недуга, рядом была прелестная молодая женщина, — я действительно радовался, что женитьба откладывается на неопределенный срок, и можно спать спокойно.
— А у этого индийского юноши, — продолжала Ванита, — даже нет любимого французского фильма, я уточняла. — Произношение у нее было безупречное, только от выпитого окончания слегка смазывались. — Кстати, а у тебя какой любимый французский фильм?
— Любимый французский… Надо подумать. — И я поведал Ваните, что когда-то смотрел фильм, в котором нарядные французы все время улыбались, пели (разумеется, по-французски) и танцевали с разноцветными зонтами. Я даже название припомнил — «Les Parapluies de Cherbourg». Я так и не понял, чему Ванита адресовала ухмылку — моему произношению или моему вкусу; впрочем, может быть, у индусов плохое произношение подразумевает плохой вкус и наоборот. — Не подумай, что я вообще люблю красочные жизнеутверждающие сказочки, — заверил я. — Но эта мне понравилась. Я знаю, в будущем мне придется несладко, поэтому сейчас стараюсь избегать всего, что намекает на страдания. Или на наличие мозгов, потому что во многих знаниях…
Ванита поперхнулась глотком вина и всхрюкнула.
— Скоро увидимся? — спросила она с утвердительной интонацией.
— Угу. — Я потянулся, чтобы поцеловать ее в щеку — обычай, широко распространенный в Нью-Йорке, но она отпрянула и отчетливо произнесла:
— Я не могу с тобой целоваться.
— Да успокойся, я только в щечку. Не такой уж я сердцеед, каким кажусь.
— Надо было тебя предупредить. У меня есть бойфренд. В Бостоне.
— Ну и хорошо, — сказал я, и тут она в меня вцепилась и стала целовать взасос, вовсю орудуя языком. Естественно, я отвечал тем же. Этого требовала элементарная вежливость: если женщина просит французского поцелуя, верх хамства ей его не обеспечить.
Вскоре явился Дэн, чтобы узнать, не хотим ли мы поучаствовать в групповом кайфе. Я перевел:
— Он спрашивает, не хотим ли мы принять экстази в компании… в компании еще нескольких человек. Как-никак сегодня день рождения Форда, — добавил я под влиянием стадного инстинкта.
Ванита сначала промямлила что-то на тему «Я приличная девушка», а потом удивила меня, выдав:
— Отлично! Я никогда не принимаю внезапных решений. Тем более я на бюллетене.
В гостиной Санч, Форд и Кэт, девушка Форда, сдвигали диваны, потому что Кэт настойчиво прогнозировала групповуху. Дэн тем временем взобрался на карточный столик и, каким-то чудом на нем балансируя, стал снимать стенные часы.
— Не желаю их наблюдать!
— В этой связи интересно вспомнить Бодлера, — произнесла Ванита. — Он оторвал от часов стрелки и нацарапал на циферблате «Времени всегда меньше, чем кажется».
— Надеюсь, Двайт, эта девушка для тебя не слишком умна, — сказал Форд. И с неподражаемым выражением лица пошел за неизбежным ночником, изрыгающим неосязаемую разноцветную лаву, — наследием интерната при школе Святого Иеронима.
Дискотечный зеркальный шар под потолком разбрызгивал свет; зайчики скакали по стенам и по лицам шестерых, рядком усевшихся на двух диванах. Я сел посередине одного дивана, Ванита — посередине другого. Мы оказались друг против друга. Музыка, до того струившая по ногам теплые электроволны, стала набирать обороты и затягивать сначала ноги, а потом и мозги в воронку.
— Кто это играет? — спросил я, ни к кому конкретно не обращаясь. — А то меня уже повело.
— Теплое молоко, — отозвался Санч.
— Так группа называется?
— Нет, я хотел сказать, что звучание этой музыки эквивалентно вкусу молока непосредственно из молочной железы любого млекопитающего.
Данное меткое замечание было встречено одобрительным мычанием. Через несколько минут Форд вопросил:
— Слушайте, а кого-нибудь уже торкнуло? — И беспомощно огляделся.
— Меня, — решил я его поддержать. Действительно, ладони вспотели, и желудок вел себя как-то неадекватно. Вдобавок начали с шипением испаряться мозги в районе затылка.
— А ты кто? — удивился Форд.
Но тут пробрало всех. Кэт встала и подняла руки.
— Умираю хочу заняться йогой! Давайте поприветствуем солнце! Повторяйте за мной!
Кэт спрыгнула на пол, мы последовали за ней, выстроились в затылок и раскинули руки.
— В Индии все совсем иначе, — сказала Ванита. — Там в основном мужчины…
— И это не лишено смысла, — на всякий случай ответил я. Я не понял, что конкретно делают в основном мужчины в Индии, однако было очевидно, что некоторые вещи мужчины действительно делают в основном, в отличие от не-мужчин.
Я вытянул руки вперед и, повторяя за остальными, стал поднимать их к некоей духовной точке, зависшей над моим теменем. Следующим упражнением было стиснуть ладони в бесшумном хлопке и, растопырив пальцы, медленно опускать руки, как бы процеживая свет. Мы повторили его раз шесть.
— К сожалению, для других асан здесь мало места, — сказала Кэт. — Но разве все мы не почувствовали, как наши легкие наполнились свежим воздухом? Восхитительно, правда?
Каждый с должной степенью снисходительности выразил свое «ага», и мы снова уселись на диваны.
— Кэт у нас хиппи, — сообщил Санч.
Форд:
— Хиппи хорошие. Только одеваются ужасно.
— И на голову больные, — добавил Дэн.
Кэт:
— Мы здесь все такие умные… Только подумайте — понадобились миллионы лет эволюции, чтобы получились такие умные люди, как мы.
— Шаг вперед и два назад, — сказал Дэн.
— Как хорошо, что ты здесь, — сказала Кэт Ваните.
Ванита улыбнулась, открыв зубы, на которых неизвестный стоматолог нажил целое состояние.
— Когда ты в компании — единственная девушка, это порой напрягает, — продолжила Кэт. — Все посмотрите на нашу новую подругу Ваниту и подумайте: «До чего же она хорошенькая!»
Четыре голоса с энтузиазмом подтвердили правоту Кэт. Санч — бог знает, под влиянием ее слов или просто так — начал расстегивать рубашку.
— Покажи нам свои соски! — заорал Форд.
— Ни за что! — испугалась Ванита.
Форд:
— Я имел в виду Санчевы соски.
Санч откинул голову, распахнул рубашку, поймал в чашки ладоней свои отвислые и рыхлые, как мешочки с горохом, мужские груди и покачал их. Мы с Фордом заржали, а Кэт произнесла:
— По-моему, это самые красивые соски в мире.
— Спасибо, — сказал Санч. — Этих слов я ждал с тех самых пор, как меня разнесло.
Форд:
— А вы знаете, что во время весеннего шоу эксгибиционистов наш Санч уезжает на остров Падре и там эксгибиционирует в надежде, что кто-нибудь похвалит его соски?
Санч во время шоу эксгибиционистов вообще не совался на улицу. Тем не менее он сказал:
— Все мои беды от общажной жизни. Мы, парни из общаги, требуем, чтобы женщины показывали нам свои груди, а на самом-то деле нам нужно, чтобы мир… чтобы миру захотелось взглянуть на наши груди. Вот почему на нас приходится такой большой процент операций по смене пола.
Кэт:
— Вперед, Санч. У нас же групповой кайф. Давайте хоть раз будем откровенны. А то вы, ребята с Чемберз-стрит, вечно имеете в виду не то, что говорите.
Форд:
— А Двайт разве не исключение?
— Хороший вопрос, — сказала Кэт.
— Двайт, покажи свои соски! — потребовал Санч.
Форд:
— Ванита, ты видела, какой наш Двайт блондинистый с головы до ног? Настоящая европеоидная горилла. Его пора в музей сдать.
— Что-то у Двайта испуганный вид, — заметила Кэт. — А давайте поговорим о том, какой Двайт у нас замечательный.
И все поговорили о том, какой я замечательный, — все, кроме Ваниты, но я не обиделся, потому что она в этой дискуссии была самой искренней.
Кэт уже завелась:
— Двайт, расскажи нам о своих фобиях!
— Нет у меня фобий. А все потому, что я не далее как сегодня в первый раз был на сеансе психоанализа. Так что все фобии…
Дэн:
— Откуда у тебя деньги на психоанализ?
— Сестра помогает.
Мои слова не вписались в коллективную эйфорию, поскольку были неверно истолкованы. Мне стало неловко перед Кэт. В то же время я чувствовал себя превосходно, великолепно, сногсшибательно. Еще и потому, что моя нога касалась Ванитиного бедра сквозь сиреневую — видимо, вискозную, а может, и креповую — юбку.
— Нет, Двайт, не верю, что у тебя нет фобии, — не унималась Кэт. Она сидела между мной и Дэном, так что ей удобно было расстегивать мою синюю рубашку «Брук Бразерз».
Санч:
— А может, его самая главная фобия — что его поймают, посадят в круг, разденут и начнут задавать вопросы?
Действительно, я очень боялся продолжения дружеского допроса — и странным образом ничуть не меньше боялся его прекращения.
Кэт, однако, успела забыть о моих фобиях; мысль эта прямо на глазах улетучилась из ее головы, уступив место другой, не менее экстравагантной.
— Умираю, хочу, чтобы мне облизали глазное яблоко! Вот ты, например, Санч, — ты когда-нибудь облизывал глаза? — И Кэт пальцами оттянула веки. — Попробуй!
— Не скажу, что всю жизнь мечтал, но так и быть, давай свой глаз. — Санч потянулся к роговице Кэт, топча наши коленки и возя по ним трясущимся животом.
Вскоре мы уже без разбору облизывали друг другу роговицы. Потом на полу почему-то оказалось несколько больше предметов гардероба.
— Обожаю Нью-Йорк, — сказала Ванита. — Он не перестает меня удивлять.
— Обожаю Ваниту! — сказало как минимум два голоса.
— Двайту подфартило, — сказал Форд.
И действительно, я чувствовал себя везунчиком, потому что смелая Ванита согласилась на эту авантюру и даже начала расстегивать собственную блузку, в то время как Кэт с Дэном не оставляли попыток стянуть рубашку с меня.
Кэт, со смехом:
— Двайт, ну ты и вылупился! Все посмотрите, как Двайт вылупился на Ваниту! Похоже, он еще не видел Ваниту без блузки!
На самой Кэт выше пояса остался только черный кружевной бюстгальтер. Прежде чем расстегнуть крючки, уже занеся за спину руки, она посмотрела мне в глаза.
— Двайт, — сказал Форд, — как ты думаешь, что ты сейчас увидишь?
— Ванита, погоди, не раздевайся. Пусть сначала Двайт кое-что сделает. Двайт, хочешь побыть Нострадамусом?
Я бы посмотрел в Дэновы честные глаза, если бы сумел оторвать свои собственные глаза от Ванитиной оголяющейся груди. Я был счастлив совершенно по-идиотски, так что не мог разобраться, где кончается идиотизм и начинается счастье.
— Двайт, загляни в Ванитины груди и…
Кэт:
— Да-да, Двайт, скажи нам, что ты видишь…
Дэн:
— Двайт, сейчас твоему взору предстанут два магических кристалла. Будь добр, поведай нам, что тебе в них откроется.
— Спокойно, Двайт. Мы же все тут млекопитающие, — заверила Ванита Двайта, который пялился на ее левую грудь, выскочившую из чашки бюстгальтера. — Пожалуйста, скажи, что завтра я об этом напрочь забуду.
Форд:
— Двайт, это твоя обязанность. Ты смотришь в будущее, которое мы напрочь забыли, Нострадамус ты наш.
— Нам всем будет счастье. — Общий хохот. — Правда, я не вижу своей работы. В смысле «Пфайзера». Никаких «Пфайзеров», зато этот, как его…
— Он собрался увольняться, — пояснила Кэт.
— Да, — подтвердил я. — Но это еще не все. Мы все уволимся.
Дэн:
— И станем звездами эротического кино?
Мне открылось, что женские груди — объекты вечного восхищения. Но даже под кайфом я понимал, что данное заявление на открытие не тянет, и карьеры предсказателя я на нем не сделаю. Равно как и никакой другой карьеры.
— Что я вижу? Я вижу пульсирующий радиомаяк. Наверное, он передает сверхсекретное сообщение.
Ванита:
— Это называется сосок.
— Как бы это ни называлось, оно передает волны счастья и километры хороших новостей.
Санч:
— А поконкретнее?
— Спокойные новости. Больше новостей, меньше событий. Просто все хорошо. Вот что я провижу в ближайшем будущем.
Из бюстгальтера показалась вторая грудь.
— Спокойствие в квадрате для всего мира! Бесконечная взаимная нежность! Утешение скорбящих! Безбедная безработица для каждого!
Дэн:
— Да здравствует Двайт — нежный Нострадамус!
— Люди принимают экстази целыми семьями! — Я вошел во вкус. — Все мы немножко голубые! Или розовые! Бесплатные групповые сеансы психоанализа для всех желающих! Причем на нудистских пляжах и за счет государства! Яркие зонтики и никаких дождей!
Все смеялись; правда, Дэн смеялся ехидно. Я уже не мог остановиться:
— Конец холодной войны! Хотя она и так уже кончилась… Значит, больше никогда не начнется! Теплое молоко и гарантированная страховка для всех честных млекопитающих, согласных на двадцатичетырехчасовую рабочую неделю!
Теперь мы сидели кружком, держась за руки. Мальчики целовали девочек, девочки целовали девочек, мальчики время от времени целовали мальчиков, и все вразнобой твердили, что в мире с этого дня будет больше нежности, причем нежность начнет изливаться непосредственно из нашей гостиной. Особенно если установить веб-камеру. Мы не сомневались, что глобальная нежность постепенно затопит весь мир, и никто (кроме, пожалуй, Дэна, который без энтузиазма отнесся к этой перспективе) не понимал, почему мы не можем вот так беспорядочно целоваться каждый день, искренне держась за руки.
— Больше новостей, меньше событий! — без остановки повторял уже абсолютно голый Санч. Бог знает откуда он вытащил чупа-чупсы и каждому вручил по палочке.
— Да здравствуют волны нежности, сметающие все на своем пути! — провозгласил Форд, встал, спустил трусы и начал со смаком демонстрировать хозяйство, очень напоминавшее баранью ножку с вегетарианскими гороховыми тефтелями.
Кэт:
— Нежность всему миру! Особенно Ближнему Востоку!
Потом стало тихо. Мозги с разной скоростью очищались от кайфа; по углам, как пыль, копилась суровая действительность. Прошло около часа. Мы всё слушали надуманные жалобы бесполого скандинава под аккомпанемент вялых ударных и опухших струнных, игравших кто в лес, кто по дрова. Последняя композиция альбома намекала на полный распад группы; пожалуй, она его даже подтверждала. В окне забрезжило утро. Постепенно все расползлись по своим закуткам. Я повел Ваниту на пожарную лестницу.
Рассвет был лавандового оттенка и в вихляющихся ослепительных крапинках; мы уселись на крашеные металлические ступени и по очереди стали курить последнюю сигарету, экспроприированную у Дэна (он в очередной раз завязал).
— Ты куришь? — спросила Ванита.
Я интенсивно замотал головой:
— Никогда.
— И я не курю. Отвратительная привычка. — Ванита засмеялась, поежилась и снова затянулась.
— Замерзла?
— Не замерзну, пока сама не признаюсь. Двайт, спасибо тебе за вечер. Именно из-за таких, как ты и твои друзья, родители и не пускали меня в Нью-Йорк. Ах, Нью-Йорк… — произнесла Ванита.
Над домами, как два стража, возвышались башни-близнецы. На другой стороне улицы дремали, изогнувшись буквой зю и чудом не падая во сне, такие же пожарные лестницы. В общем, город контрастов в этот час казался особенно романтичным.
— Как насчет Бхагавад Гиты? — Вообще-то я имел в виду Камасутру.
Ванита вскинула изогнутые брови.
— Мне импонирует идея «удовольствие без оргазма». В смысле, как ты думаешь, если не зацикливаться на оргазме?..
— То что?
— То его проще будет достичь?
Ванита сочла, что улыбка вполне сойдет за ответ; мы направились в мой закуток и там, словно свободные представители грядущей благословенной расы, еще не достигшие половой зрелости, занимались петтингом, избегая оргазма, до тех пор, пока Ванита не сказала, что ей пора на работу.
— На работу? А как же бюллетень?
— Надо, Двайт, надо. На днях увидимся?
— Вставай. — Дэн тряс меня за плечо, как какую-нибудь яблоню.
— Не смей меня будить! — огрызнулся я. — Мы же решили больше не работать.
— Я и не говорю «работай». Я говорю «вставай».
Дэн стащил с меня стеганое одеяло.
— Иди за мной, — велел он.
При нашем появлении в гостиной лампа отрыгнула очередной неосязаемый психоделический сгусток. Босые пятки слегка прилипали к дощатому полу. Вокруг, словно цветы с целлофановой сакуры, розовели обертки от чупа-чупса.
Я выглянул в окно и проследовал за Дэном к пожарному выходу. В утреннем воздухе еще витали флюиды Ванитиного дыхания; из района пяток поднялась легкая дрожь, когда они (флюиды) запутались в шерсти у меня на икрах. Я стал взбираться по узким металлическим ступеням пожарной лестницы, и под ложечкой приятно захолодило: пальцы на ногах оказались цепкими, почти как у примата. Однако меня не отпускало ощущение, что происходит нечто скверное. Возможно, ощущение это возникло из-за воя сирен.
— Иди-иди, — подгонял Дэн.
— Хорошего ждать не приходится, да?
Зачем тогда торопиться? Может, лучше помешкать? И все-таки я в конце концов вылез на крышу. Там уже торчали Санч, Форд и Кэт, в разной степени раздетые и поглощенные происходящим. Я посмотрел туда, куда смотрели все. Из пробоины в боковой стене башни, в шести кварталах от нас, вырывался огромный сгусток дыма. Мне казалось, что все происходит в телевизоре. И вдруг, как муха, ползущая по экрану снизу вверх, на фоне массивных зданий, а затем и на фоне безоблачного неба, возникло нечто крохотное и назойливое.
— Это что, бомба?
— Предположительно самолет, — сказал Санч.
Форд:
— Пора тебе назад в летную школу, старина.
— Ну ладно, у нас же их две, — сказал я, имея в виду башни. По инерции вчерашнего оптимизма я пытался во всем видеть положительную сторону. — Обычно в городе только одно высокое здание, поэтому… — «Муха», следовавшая с юго-запада, взбивала за собой белую полоску. — Смотрите! Еще самолет! — Я глазам не верил. — Он летит на помощь первому! Или, может, в него пересадят всех пасса…
Глава девятнадцатая
Проснувшись, я к собственному ужасу обнаружил, что все еще нахожусь в Oriente. С тоской я натянул пахнущую вчерашним днем футболку, откинул москитную сетку, осмотрелся в поисках пауков и выбрался из палатки на нетвердых, как с похмелья, ногах. Эдвину и Бриджид я адресовал виноватую улыбку магната, разорившегося на бобохуаризе; Бриджид вдобавок в качестве компенсации за моральный ущерб имела удовольствие лицезреть ссутуленные плечи приговоренного за сексуальные домогательства.
До полудня я плелся за Эдвином и Бриджид, чавкая сапогами в патоке серебряного света. Сверху, с монструозных деревьев, то и дело срывались крупные теплые капли — ночью прошел ливень.
Мне было нестерпимо стыдно за вчерашний идиотский энтузиазм, а также отчасти стыдно за всю свою удобную жизнь. Личная составляющая этой самой жизни — оказавшаяся на поверку ее единственной составляющей — истончилась, как пролитый на пол клейстер; я жаждал поскорее выбраться из дезориентирующей Oriente, вернуться домой и продолжить мною лично разработанную версию непредосудительного американского стиля жизни, в которой не предусмотрено никаких притязаний. Точнее, я сам не знал, чего хочу. Но я твердо решил, как только мы выберемся из сельвы, распрощаться с Бриджид, сесть в автобус до Кито (пожалуй, захватив с собой несколько корней бобохуаризы) и улететь из Эквадора. «Абулиникс» ли подействовал, или самовнушение, на котором зиждется польза от БАДов, а я принял решение на всю оставшуюся жизнь: как только вернусь в Штаты и найду новую работу, столь же непыльную, сколь и предыдущая, перестать забивать себе голову решениями. (Подумать только, до чего незаметно тоска переросла в злость…) Едва я окажусь в удобном кресле; в собственном доме, обработанном от пауков; перед телевизором за просмотром качественного шоу; едва я смогу есть нормальную американскую еду, сидя по-человечески за столом на стуле с мягкой обивкой; каждый день надевать чистое белье, залезать под горячий душ, когда вздумается; пользоваться пеной для бритья, станком со сменными кассетами и шампунем с кондиционером; едва вокруг перестанет чавкать сельва — жизнь покажется мне удивительной и прекрасной. А если моим детям она таковой не покажется, если они станут стыдиться своего инертного отца, я им задам. Сопляки, что бы они понимали!
— Двайт, ты как себя чувствуешь? — обернулась Бриджид на мое сопение.
— Похоже, у меня индивидуальная непереносимость «лариума». — А почему бы и нет? — Пройдет.
Наконец наступило время обеда. Эдвин развел костер прямо там, где его посетила мысль перекусить, устроился чуть поодаль от нас с Бриджид и занялся поджариванием жирных личинок. Бриджид не присела отдохнуть — она стояла и смотрела на меня. Я поеживался под ее взглядом — ну что она смотрит, когда я весь потный, свежеоцарапанный, когда глаза у меня на мокром месте, а волосы так и сыплются с икр и предплечий, будто я подцепил неизвестную, но от этого не менее кошмарную болезнь? Что она смотрит с такой откровенной жалостью? Что она такого увидела?
— Кстати, — начал я, — наука убедительно доказала, что мужчинам следует время от времени заниматься мастурбацией. Во-первых, это безопасно… — Я принялся загибать пальцы.
— Двайт, почему у тебя такой несчастный вид?
— Разве? Вид как вид. Обычный вид. Я просто подумал, что, когда мы выберемся из сельвы, я, пожалуй, вернусь в Нью-Йорк. Все в полнейшем порядке.
И я, избегая упоминаний об «абулиниксе», поведал Бриджид, как пришел к решению изменить свою жизнь, а теперь понял, что менять ничего не надо.
— Сначала я не хотел тебе говорить, хотел тебя удивить своей решимостью. Новообращенные обычно вызывают подозрения.
— Да? И в какую же веру ты обратился?
— Не знаю. То есть я стал верить в действия! Мне надоела рутина. Я ведь ничего не делал. Изо дня в день только и знал, что одевался, сдавал одежду в прачечную. Ел, чистил зубы. Ходил в туалет и на работу. Встречался с девушками или думал, где бы познакомиться…
— Так у тебя есть девушка?
— Видишь ли, Нью-Йорк — патологически несправедливый город. Там столько незанятых привлекательных женщин, что им практически не избежать связи с типами вроде меня. А я еще стараюсь поддерживать такие отношения… Нет чтобы сразу развязаться! Вдобавок…
— А как же Алиса?
— Послушай, Бриджид, такой посредственности, как я, нельзя рассчитывать, что ее будут принимать всерьез.
— Ты разве посредственность? По-моему, ты вообще ни на кого не похож. Более того — ты очень странный.
— Я пытаюсь тебе втолковать, — Бриджид своими вопросами никак не давала мне добраться до сути дела, — что хотел измениться или обратиться в новую веру — называй как хочешь. Но мои пристрастия, мои интересы, мои знакомые и друзья, а также мои убеждения безнадежно посредственны, иными словами, типичны для представителей моего поколения и социального круга. А сегодня я принял твердое решение — уступить собственной природе и вести жизнь безнадежной посредственности, не пытаясь вылезти за раз и навсегда определенные мне рамки. — Вид у Бриджид был такой расстроенный, что мне стало неловко за собственное вялое огорчение. — Нет, Бриджид, все не так плохо. Сейчас мне двадцать восемь. В этом возрасте еще можно искать Святой Грааль. Вот если бы я, скажем, в сорок два рыскал по сельве, вот тогда…
— Значит, я тебя теряю?
— Невелика потеря. Даже если я избавлюсь от всех волос, в смысле на теле, все равно вряд ли потяну на симпатичного парня. — Бриджид могла бы и оспорить это заявление. — Умственные способности у меня сомнительные, то есть ум, конечно, есть, однако его сразу не разглядишь. — Бриджид не возражала. — Вдобавок я представления не имею о ситуации в мире — ты же сама меня недавно просветила на эту тему.
— Зато ты изучал философию.
— Изучал, ха! Сказать тебе, что такое мое изучение философии? Одна-единственная распаханная борозда на целине! Знаешь, как писал Отто Ниттель? Он писал: «Человек, изучивший все философские теории, с полным правом может считать себя новичком». Вот. — В подтверждение своих слов я кивнул.
— Как это верно.
— Нет. — Я заглянул Бриджид в глаза. — Очень долго, Бриджид, я считал себя таким вот новичком в жизни. Но на самом деле я выработал целую систему привычек посредственности, целый стиль жизни посредственности, да так, знаешь ли, одно за одно цепляется, одно тянет другое, будто я над этой системой двести лет корпел. Вот по такой дорожке я и шел всю сознательную жизнь и по ней решил — твердо решил! — продолжать идти. Мне все время казалось — и будет казаться, — что я чему-то учусь и в какую-то сторону меняюсь, и в этом счастливом неведении я и буду пребывать. Чем, по-твоему, все это кончится?
— В один прекрасный день ты с пистолетом ворвешься в переполненный супермаркет, да?
— А вот и нет. — Внезапно мне стало удивительно спокойно, чтобы не сказать лениво. — Я буду ездить по штатам и проповедовать. — Перед моим мысленным взором возник Двайт при галстуке и на трибуне, и я прослезился. — Я буду проповедовать Евангелие от Посредственности, и слушать меня будут типичные посредственности. Я им скажу, что новая жизнь не наступит до тех пор, пока мы не откажемся от старой и не примиримся со своей тотальной, махровой, прогрессирующей посредственностью. — Я вообразил целый зал тучных, лысых, согласно кивающих и рыдающих под влиянием стадного инстинкта посредственностей. — Пока мы не проникнемся осознанием собственной посредственности до последнего желудочка наших среднестатистических американских сердец! Или желудочков сердец. До желудочков наших полных невежества сердец!
— Ну ты даешь. Может, тебе в театральном поучиться? Стал бы отличным комиком.
— При чем здесь комики? Я хочу акклиматизироваться в своем рыхлом и уже подвергшемся распаду теле, которое будет ласкать несовершенная, но любящая женщина, — я подумал о Ваните; под ложечкой засосало, — пусть не с всепоглощающей, то хотя бы с неподдельной страстью. Если, конечно, мне повезет. И с этой абстрактной женщиной мы построим свой раек на земле. Надеюсь, моя работа не будет связана с подмазыванием колес неолиберального капитализма и не повлияет существенно на дальнейшее обнищание жителей третьих стран и расхищение мировых природных богатств. — Я огляделся по сторонам, не без удовлетворения представив себе на месте сельвы пустырь. — Однако я не собираюсь играть роль жвачки на ботинке американской промышленности или, если хочешь, палки в ее колесе. Вот так. — Поверх темной головки Бриджид возник призрак посредственности — и пополнил запасы моего красноречия. — А по святым воскресным дням я буду выпивать не меньше шести чашек кофе, просматривать газеты и ездить за покупками. А еще мы с женой будем ходить в музей, где плюнуть некуда от туристов, и смотреть по телевизору все шоу подряд. Пока я не умру от рака простаты, мы каждый день будем заниматься сексом — если, конечно, ни у кого из нас не случится головной боли.
— Двайт, по-моему, у тебя жар.
— Я просто хотел сказать, что, хоть я и посредственность, мне тоже нужно что-то свое и кто-то свой — для того чтобы вести здоровую, счастливую…
— Счастливую? Да неужели!
— Хорошо, не счастливую, а просто нормальную жизнь. Я буду основоположником новой, спокойной, совершенно нормальной, приятной, если на то пошло, но не особенно выдающейся… да, и совсем не разнообразной жизни. Да, буду!
Бриджид, кажется, мои идеи не трогали. С ее лица не сходила болезненная гримаска — улыбка, вызванная моей тирадой, боролась с разочарованием, причем последнее побеждало с численным превосходством три к одному. Что и говорить: интеллигентная, воспитанная, чертовски привлекательная Бриджид, Бриджид, которая так хорошо поет и свободно или близко к тому владеет тремя современными языками, — Бриджид была мне не по зубам.
Я представил, как жахну кулаком по аналою и выдам в лицо сборищу посредственностей: «Мы разочаровываемся в жизни исключительно потому, что изо всех сил стремимся избежать разочарований. Мы постоянно и самым аморальным образом предаем трудящихся и безработных в лице народа Эквадора и других народов, ибо не в состоянии наслаждаться прелестями нашего привилегированного стиля жизни. Наш мир так устроен, что мы, члены общества потребления, просто обязаны быть счастливыми». Бурные, продолжительные аплодисменты. Лицо проповедника принимает безмятежное выражение, как у Будд из пористого песчаника, в изобилии представленных в мамином глянцевом альбоме. Впрочем, аудитория не замечает снизошедшей на проповедника нирваны.
— Наверное, ты прав, — произнесла рассудительная Бриджид. — Подобная многословность — признак посредственности. Допустим. Только что в данном случае хорошо? Ты осознал, что ты не такой уж новичок, как предполагалось. Ты думал, ты открыт для любых событий. Но истинная причина, по которой ты столько времени оставался открыт, в том, что тебя ничем не проймешь. А значит, о твоей открытости и речи нет. И замечательно, что ты наконец это понял. С тобой ничего не может случиться. Бывают такие люди.
Я стал было возражать:
— Да нет же! Посредственность сродни гениальности, потому что в обоих случаях окружающие тебя не понимают.
Но тут Эдвин принес обед. Мы ели молча, и, должен признаться, жирные личинки уже не казались мне такими вкусными, как в первые дни. Видимо, тогда я просто перепутал два понятия — новизны и удовольствия.
После обеда мы продолжали путь, насколько я мог понять, к вершине холма. Эдвин почему-то взялся выбирать самые заросшие, самые нехоженые тропы. Мы подныривали под низкие ветки, топтали папоротники, раздвигали лианы, так что я просто не видел леса за деревьями. А деревья… Деревья были высокие. В одном я узнавал каучуковое дерево, в другом — красное дерево, в третьем — сейбу[45], но в основном это были просто деревья, столь же многообразные, сколь и неизвестные. Отдуваясь, я лавировал между стволов и слушал разговор Бриджид и Эдвина, происходивший на непостижимом языке, здорово напоминавшем испанский. Слова значили для меня примерно столько же, сколько птичий свист, или стрекотание цикады, или резкий, скрипучий крик скрытой в листве обезьяны. По мере того как день клонился к вечеру, мои собственные мысли казались мне все более чужеродными, будто не слова теснились у меня в голове, а лепетали листья и капали капли вокруг меня. Уже вечером, когда серебристый свет, сочившийся сквозь кроны, стал бронзовым, а тени полезли друг другу на плечи, я споткнулся о хорошо замаскировавшийся корень неизвестного дерева — не бобохуаризы и не каучукового дерева и не красного — и впал в мысленную немоту. Мне чудилось, будто одна-единственная мысль или слово прервут пульс сельвы — неровный, учащающийся с каждой секундой. В голове воцарилась первозданная пустота. Я едва стоял на ногах от клаустрофобического ужаса, когда нам открылась полоска земли, тянущаяся, как дорога, в оба конца, и гладкая, будто выплеснутая одним долгим плавным движением.
Внезапное появление полосы шириной примерно в десять футов, словно выбритой в зеленой шевелюре, спасло мою психику и сохранило мне способность рассуждать логически. Как ни странно, на «дороге» не наблюдалось никаких следов.
— Что это, Бриджид? — Я задал вопрос, но меня не оставляло подозрительное ощущение, что я знаю ответ.
— Сейсмические исследования, — сухо ответила Бриджид. — Так по крайней мере их принято называть.
Где-то я уже слышал это словосочетание. Память услужливо откликнулась на звукоряд, и перед глазами возникла картинка: мы в нашем старом доме, в Лэйквилле, только что поужинали, и Алиса по обыкновению втянула папу в дебаты, на сей раз по поводу… как же их… вот — добывающих отраслей промышленности.
— Наверное, не нужно было тебя сюда приводить.
— А скоро мы выйдем из сельвы?
— Скоро. Должна же быть хоть какая-то польза от этой мерзости. В данном случае она показывает, что сельва скоро кончится.
— Тогда чего мы стоим? — Я вел себя нетерпеливо, вызывающе, даже агрессивно — возможно, под действием «абулиникса» (впрочем, не знаю, есть ли у него такой побочный эффект). Не исключено, что «абулиникс» стирает из памяти пациента разницу между выражениями «инстинкт самосохранения» и «не плюй в колодец». Я открыто хамил Бриджид, от которой зависело мое возвращение из сельвы в Нью-Йорк.
— Вот только не надо ля-ля, — сказал я. — Нефтяные компании проводили сейсмические исследования на предмет залежей нефти. А может, они заплатили индейцам за доставленные неудобства?
Бриджид не ответила. Мы шли в затылок по «дороге», нам пекло в спины, стаи москитов, за сутки удвоивших свои ряды, вылетали на промысел — казалось, их раздражало такое явление природы, как закат солнца.
И тут я увидел темную, почти черную землю — вырубку или пустошь. Земля не реагировала на оранжевые лучи, способные даже грязь на миг превратить во что-нибудь приемлемое. Сельва по обеим сторонам «дороги» редела, постепенно переходя в этакую тропическую живую изгородь, растительный покров становился все более тощим, и глухая чернота постепенно заполняла собою пространство до самого горизонта. Вскоре от сельвы остались разбросанные там и тут деревца — мертвые вперемежку с дышащими на ладан и пока вполне живыми; на этих последних еще трепетали листья — к вечеру, как обычно, поднялся ветер. Примерно в двух милях, прямо над деревьями, взвивался до самого неба огромный язык пламени. Опять это почти мистическое ощущение — будто я знаю, от чего бывает такое пламя.
Эдвин повел нас краем, вверх по холму, где сельва была не особенно густая. Кладбище деревьев осталось позади и чуть сбоку, а слева вдруг открылось нечто вроде бассейна, только вместо воды в нем была черная жижа, усыпанная пожухлыми листьями. Какой-то шутник воткнул в жижу несколько крупных зеленых листьев, видимо, желая создать эффект лотосов или лилий в живой воде. Не хотел бы я провести отпуск на берегу такого озера.
— Посмотрите налево, — произнес я голосом бодрого гида, — в отдалении вы видите облезлые деревья, а за ними — столб пламени. Достаньте свои бинокли и фотоаппараты. Под фотографией можно будет подписать «Станция по сепарации нефти при нефтепроводе». Добро пожаловать к истоку величайшей реки планеты.
— Извини, Двайт, по-моему, ты не дорос до подобных зрелищ.
— А ты мне поведай о том, как Эквадор оказался в ловушке убыточных цен на сырье, о том, что он экспортирует огромные партии нефти, креветок и цветов, чтобы иметь средства на импорт товаров… Не трудись, я в курсе. Мой отец — консультант по торговле фьючерсами. Высококвалифицированный. Был. А моя сестра придерживается ультралевых взглядов, и я тоже не вчера на свет родился и кое-что смыслю в этом… как его… — Термины сами лезли на язык. — В том, как национальная экономика, основанная на экспорте сырья, влияет на положение в стране и на инфляцию. Так что незачем было меня сюда тащить.
— Вижу, ты многое позаимствовал у своего отца…
— Кстати, он считает меня, — я сглотнул, — псом, которого научили приносить тапочки.
В висках вновь застучала клаустрофобия, она же сельвофобия. Не знаю, сколько бы я пребывал в столбняке от страха за свой рассудок, если бы Эдвин — милый, славный Эдвин! — не обратился к Бриджид столь же вызывающим и недовольным тоном, как я час назад.
— Что он говорит? — Внезапно меня захлестнула жалость к Бриджид. Чувства мои окончательно растрепались. — Бриджид! — воскликнул я виновато и беспомощно.
— В очень вольном переводе заявление Эдвина звучит так же, как твое, а именно: я — садомазохистка, раз притащила вас сюда.
— А разве я называл тебя садомазохисткой?
— Еще он считает, что я хотела сделать больно ему и себе, раз заставила его сюда вернуться. — Бриджид говорила по обыкновению живо и вроде даже весело, но я-то видел, как она ссутулилась, скрючилась — резко, будто ей дали под дых. Я не сбрасывал со счетов печальную вероятность, что и Бриджид не сбрасывает со счетов печальную вероятность, что Эдвин поставил ей удивительно точный диагноз.
— Ты не садистка и не мазохистка, — заверил я. — Ты очень милая. И я милый. Как правило. Постараюсь вести себя лучше.
Но Бриджид не обернулась, не взглянула на меня, и только по ее ссутуленным плечам, да еще опираясь на недельное знакомство с этой странной не странной, а уж точно иностранной женщиной, я понял, что она торопливо приводит в порядок выражение своего подвижного лица.
Мы продолжили подъем и вскоре попали в незагрязненную часть сельвы. Солнечный свет приобрел оттенок грейпфрутового сока — выжимок едва хватало, чтобы различить на краю вырубки заброшенную хижину. Воздушное пространство патрулировали летучие мыши, огромные, как истребители. Вырубка густо поросла папоротниками; на ней не осталось ни одного дерева, но папоротники щетинились столь однозначно, подступали столь решительно, что каждому, принадлежащему к виду Homo sapience, становилось ясно: сельва вздумала напомнить ему о врожденном страхе перед неопознанными прикосновениями в темноте — и преуспеет.
Эдвин опустил фонарик на землю и принялся неторопливыми, выверенными взмахами мачете расчищать землю по периметру (диаметру?) светового пятна. Папоротники и приспешники папоротников валились штабелями, а невозмутимый Эдвин вел с Бриджид рассудительный разговор.
— Почему он все время повторяет nada nada? — не выдержал я.
— Здесь ничего нет, ничего не осталось.
— Скажи Эдвину, по-моему, он очень хороший гид. Давай приплатим ему за нефтяной бассейн — наверняка он нечасто сюда водит туристов.
— Он их вообще нечасто водит. Ты же знаешь — бизнес у Эдвина не клеится. Именно поэтому мы и потащились с ним в сельву.
Эдвин наконец покончил с порослью, разогнулся и стал что-то говорить Бриджид довольно неуверенным тоном.
— Он сомневается, что поступил правильно: возможно, ему следовало уйти со своим народом вниз по реке.
Эдвин вызывал у меня приятные ассоциации с чем-то слишком простым — и оттого, видимо, сложноопределяемым.
Бриджид взглянула мне в лицо; я зажмурился от ее наголовного фонарика.
— Двайт, прости меня! Зря я вас с Эдвином сюда притащила. Вечно я все делаю не так.
— Да ладно, не расстраивайся. Завтра будет новый день. И потом, с чего ты взяла, будто все делаешь не так?
Но Бриджид, ни слова не говоря, ушла в чащу. Причин у нее могло оказаться две, три, четыре; прикинуть, сколько она будет отсутствовать, я был не в состоянии. Я подозревал, что главная причина — в том, что я весьма смутно себе представляю, как обращаться с этой женщиной; теперь, когда я остался наедине с Эдвином, меня осенило, и я решил поговорить с ним как мужчина с мужчиной.
Я торопливо пролистал разговорник в поисках нужных испанских слов. Возможно, «абулиникс» все-таки действовал — я съел уже половину. Я вытащил баночку из кармана и теперь подступал к Эдвину, потрясая ею, как гремучая змея — хвостом. Ловко и незаметно, словно наркодилер, я сунул баночку в Эдвинову прохладную плоскую ладонь и загнул его несколько куцые пальцы.
Эдвин сверкнул глазами; впрочем, возможно, это был просто ночной оптический эффект. Я произнес заготовленную фразу:
— Estes te puede aider. Наверное. Это тебе поможет. Как по-испански «наверное»? В любом случае, tiene ипа para dia. Solamente ипо. Каждый день. Todo los dias, о’кей?
Пожалуй, если бы Эдвин все время жил в Баньосе, я бы мог взять у него адрес и выслать ему еще «абулиникса» — вдруг Эдвин захочет продолжать курс лечения? Хотя, если под действием «абулиникса» Эдвин уйдет вниз по реке, значит, «абулиникс» Эдвину больше не понадобится. Размышления мои прервал хруст — невидимый Эдвин открыл баночку, извлек капсулу, прожевал ее (чего делать вообще-то не рекомендуется) и проглотил, не запивая водой. Затем он довольно сильно — и не без доли сарказма, насколько я мог понять в темноте, — стукнул меня лбом в лоб.
Я сердечно пожал ему руку.
Начался дождь. Мы с Бриджид спрятались в хижине, крытой тростником. Крыша протекала, струйки воды буравили земляной пол. Я зажег наголовный фонарик и осмотрелся. В первый момент я принял темные пятна, сплошь покрывавшие уцелевшую стену, за мох, лишайник или плесень. Но через секунду с ужасающей ясностью и ощущением, что время застывает, я понял: пятна на самом деле — огромная армия пауков, и многие отряды уже пошли в наступление.
— Бриджид, — промямлил я. — На стене… пауки… Они тут кишмя кишат!
Кажется, никогда и нигде, разве что в кино, я не слышал, чтобы человек задыхался от ужаса.
Я схватил Бриджид за руку и выволок ее из хижины.
Всю ночь Бриджид, Эдвин и я выбирались из сельвы. К рассвету мы дошли до дороги. Вскоре перед нами затормозил грузовик, и водитель, торговец фруктами, с любезной беззубой улыбкой предложил подвезти нас до Эдвинова автомобиля. Мы уселись в кузове между благоухающих корзин с гуавами, лимонами, грейпфрутами, папайями, гуанабанами и апельсинами. Мы заваливались набок на поворотах, подпрыгивали и жестоко бились на колдобинах, почти не разговаривали — мы смотрели назад, на раскисшую красную глину дороги, словно рукой нетрезвого кондитера выдавленную из картонного кулька; или по сторонам — сквозь щели в досках кузова видны были деревья, опять деревья, все время деревья, потом пейзаж оживляли курица, свинья, или мул, или крестьянин на велосипеде, или босоногий малыш с портфелем, или необработанный садовый участок, или хижина на сваях, в которой надрывался телевизор.
Глава двадцатая
Диван с шерстяной обивкой в Алисиной гостиной накануне казался таким неудобным, что Алиса разрешила мне спать вместе с ней на кровати. Целый день мы торчали у доктора Хайара, вместе с ним и мамой смотрели по Си-эн-эн террористические атаки и вот наконец-то освободились. Я рухнул на кровать не раздеваясь и прямо поверх одеяла, тут же отрубился и всю ночь проспал, будто ничего не произошло; теперь же я открыл глаза и смотрел на Алису. Она начала было растягивать губы в улыбке, но передумала.
— Ну ты и спишь, — сказала Алиса.
— Рядом с тобой я бы и еще поспал. — Я посмотрел в Алисины добрые синие глаза, заметил, что сосудики полопались, и меня захлестнула позавчерашняя нежность. Я потянулся и со смехом поцеловал Алису прямо в губы.
В следующий момент я уже лежал на полу, и голова гудела от удара об угол комода.
— Ой! — простонал я. — Больно!
Алиса зажгла на прикроватной тумбочке лампу от Тиффани с зеленым абажуром.
— Двайт, ты что, совсем рехнулся?
— Алиса, прости.
— Давай выметайся.
Я поднялся на ноги.
— Да ладно, успокойся. Поцелуй относится всего-навсего к разряду тактильных ощущений. — Говоря так, я все же начал искать свои ботинки. — Наверняка есть народы, у которых целоваться с родными сестрами считается абсолютно невинным занятием. Я это сделал без задней мысли. Просто я…
Я сел в Алисино шикарное кожаное кресло и стал зашнуровывать ботинки.
— Просто ты ненормальный, все неправильно понимаешь.
— Да не имел я в виду никакого продолжения! Вот позавчера мы на Чемберз-стрит наелись экстази, так все перецеловались! И ничего такого в этом…
— Ну да, конечно. Обычный вечер перед трудовой неделей накануне нападения на родную страну. А нам все равно. Мы, четверо оболтусов, нашли себе девчонок и устроили групповой кайф. «Старина, завтра на работу, а сегодня гуляем!» А вчера ты просто отдыхал от позавчера. То-то я смотрю, ты такой благодушный.
Ботинки были зашнурованы, но на ногах я держался нетвердо. Готовый к выходу, я встал; я бы много дал, чтобы этот выход отложить.
— Алиса, прости меня. Позволь я все объясню.
— Знаю я твои объяснения.
— Да, я не совсем адекватный. Видишь ли, в жизни…
— Ты хочешь сказать, что у тебя иммунитет к аккультурации? Чудненько. Наверное, отчасти я сама виновата — очень уж мы с тобой откровенничали. Иди найди себе девушку, с ней и целуйся.
— Просто чтобы ты знала: мой язык еще никогда не прони…
— Спасибо. Просто камень с души. Думай, что я прогоняю тебя за игнорирование основ цивилизации в целом, а не за один извращенный поступок. Может, полегчает.
— Мне очень стыдно.
— Про четверг можешь забыть. Психоанализа больше не будет. И я еще рассчитывала сделать из тебя что-то приемлемое!..
— Ты как психоаналитик мне очень помогла.
— Не очень, судя по твоему поведению.
— Ладно. Спокойной ночи, Алиса. То есть я хотел сказать «Удачного тебе дня».
Я пошел в ванную, якобы чтобы использовать ее по назначению, а на самом деле чтобы посмотреть на себя в зеркало. У Алисы было специальное зеркало с увеличением и подсветкой, позволяющее увидеть, что одна волосина в левой ноздре растет вкось, или точно определить, сколько копоти за день скопилось в порах (даже если день обошелся без выбросов в атмосферу). Я уставился самому себе в невыразительные глаза, увидел расширенные поры; черты мои расплывались и двоились — наверное, так же воспринимал свое отражение в хляби сам Творец. Я понял, что ситуация нуждается в озвучке.
— В чем твоя проблема? — произнесли мои преувеличенные губы.
Я щелчком перевернул зеркало и для маскировки спустил воду. Проходя мимо спальни, я сказал:
— Алиса, я всегда буду тебя любить. Ты же знаешь.
Она прямо подпрыгнула на кровати.
— Еще бы. На то мы и одна семья, чтоб всегда друг друга любить. Уходи!
Удерживая жетон в телефоне-автомате, вдыхая позавчерашние дым и пыль, наблюдая, как просыпается Шестая авеню, и то и дело охаживая себя кулаком по ляжке, я набрал номер Ваниты Триведи.
— Рада… тебя слышать. Хоть ты меня и разбудил. Господи, рань-то какая! Ты как себя чувствуешь? Больше ни с кем не познакомился?
— Пока нет. А ты?
— Я мало кого знаю в Нью-Йорке. Хотя раньше мне так не казалось. Ты сейчас что делаешь? Не занят? Может, позавтракаем вместе?
Я спустился в метро — оно работало, несмотря на трагедию в центре Нью-Йорка; как ни странно, я вел ту же жизнь, делал то же самое, словно робот с заданной программой, — и сел на поезд до Бруклина. Не прошло и получаса, как я, обнаженный, лежал рядом с обнаженной Ванитой в ее огромной белоснежной постели. Потому что до Бруклина ходит экспресс.
Часть третья
Глава двадцать первая
Я попрощался с Эдвином в полутемной лавчонке, украшенной фотографиями редких эквадорских зверей, которых нам не посчастливилось увидеть в сельве. Эдвин с издевательской улыбкой подарил мне на память фотографию мохнатого паука. Мне нечего было подарить Эдвину, и я попросил Бриджид поблагодарить его и пожелать ему удачи от моего имени. Уже выходя на улицу, я разразился сердечным и бесполезным «Adios».
Бриджид надела солнечные очки.
— Что-то его гложет…
— А тебя?
— Эдвин обещал сообщить о своем решении. А ты сейчас куда — обратно в Кито?
— А ты?
Бриджид, по своему обыкновению, передернула плечами.
— Я бы хотела поехать в Кункалбамбу. Надо же как-то дотянуть до конца отпуска.
Я начал прикидывать, не стать ли хозяином своей судьбы и, вместо того чтобы терпеливо дожидаться рака простаты (автомобильной аварии; крупного теракта — нужное подчеркнуть), не принять ли решительные меры по самоуничтожению. В любом случае я счел за лучшее отложить подробную разработку этого плана до возвращения в Нью-Йорк.
— Значит, в Кункалбамбу? Я рад.
— Радоваться будешь, когда вылезешь из автобуса после двадцатичетырехчасовой тряски.
Двадцатичетырехчасовая тряска оказалась двадцатисемичасовой. Должен заметить (следовало сделать это гораздо раньше), что никто в здравом уме не порекомендует путешествовать по Эквадору лицам, недолюбливающим автобусы или ненавидящим по двадцать раз подряд слушать одну и ту же кассету с vallenatoes и cumbias (в вольном переводе это означает «неунывающие децибелы горных дорог»), а также лицам, которых бесят попытки каждой крестьянки усадить к ним на колени малыша — хоть и симпатичного с лица, но в переполненном вонючем памперсе. В той же мере поездки в Эквадор противопоказаны лицам, не одобряющим стремление водителя автобуса тормозить перед каждым голосующим.
Как бы то ни было, мы наконец прошли (проехали) последний круг и высадились в долине Кункалбамбы. Автобус взобрался на вершину горы и выпустил пар, а мы начали спуск в раскаленную зеленую долину, держась раздолбанного серпантина. По обочинам с неравными интервалами стояли вытесанные кустарным способом кресты, долженствовавшие напоминать о трагических случаях на дороге. Белые, они выделялись на фоне подернутых дымкой ступенчатых гор и будто наливались светом в быстро наполнявших долину сумерках. Вот так десятилетиями сумерки наполняли долину, горы подергивала дымка, а яркая крестовая изгородь неумолимо густела.
— Что, Двайт, опять перед твоим мысленным взором вся жизнь проносится?
Еще в Баньосе я поведал Бриджид о своих воспоминаниях, умолчав о том, с чем они связаны. Выходило, что я вообще ничего не сказал.
— Двайт, о чем ты сейчас думаешь? Наверняка ничего интимного в твоих мыслях нет. Какой же смысл держать их в секрете?
Я прикинул, что в данном случае, поведав правду, ничего не потеряю, — и, была не была, признался, что мои неправильные чувства к Алисе, похоже, поставили крест на моих же матримониальных перспективах.
— Полная ерунда, — усмехнулась Бриджид.
Далее я признался, что по прошествии времени моя презренная обстоятельность, а также цепь случайностей в отношениях с Ванитой заставили меня изменить мнение о собственной импульсивности, которая раньше казалась не подлежащей сомнению.
— И это ерунда — ты невероятно импульсивный!
Клубок начал разматываться. Я поведал Бриджид, что в ночь на 11 сентября перебрал экстази; что участвовал в групповом кайфе и выражал ничем не обоснованный оптимизм, который вскоре опровергли известные события; а также что эти события заставили меня усомниться в способности наркотиков в целом просветлять ум и выявлять способности к ясновидению.
— Судя по твоей интонации, ты сам не веришь в то, о чем говоришь. А ты правда принимал наркотики в ночь на 11 сентября? Это ты зря.
— Мы же не знали, что произойдет. А то бы мы отдали экстази террористам!
Бриджид взглянула на меня не то с восхищением, не то с ужасом.
— Короче говоря, я сомневаюсь в адекватности своего поведения. Я никогда не могу решить, что делать, поэтому просто продолжаю делать — или начинаю делать что-нибудь другое.
— Будь добр, еще раз и помедленнее.
— Хоть десять раз — сути дела это не меняет, — сказал я, смутно желая прожить другую жизнь.
Утешало одно: все хорошее, что я слышал о Кункалбамбе, оказалось правдой. Мы вышли из автобуса, когда солнце только начинало клониться к закату, и направились в прелестный спа-отель, разрекламированный у Бриджид в путеводителе. Там оставался только один habitacion, представлявший собой оштукатуренный коттедж, внутри желто-оранжевый, как персик; главной достопримечательностью «персика» являлась огромная двуспальная кровать, а также вполне приличный диван — не то что наша развалюха на Чемберз-стрит. Коттедж стоил тридцать пять долларов в сутки. Тридцать пять долларов в полунищем Эквадоре предполагали, что постояльцы вправе рассчитывать на известную роскошь.
Сойдя с крыльца на газон, я уселся в пластиковое кресло. Долина Долгожителей… Так по крайней мере обозвал ее путеводитель. Если верить последнему, жители долины были этакими Мафусаилами среди метисов, поскольку в условиях экваториального лета, мягкого климата и плодородных почв долины жили абсурдно долго — в среднем до семидесяти восьми лет. Я по-ковбойски закинул ноги на деревянную ограду и стал любоваться пейзажем. Шафранные лучи упали на горы — надвигающиеся, закрывающие полнеба — и высветили каждую расщелину, каждый уступ, каждую складку, неровность и шероховатость. Потрясенный, я откинулся в кресле и испустил глубокое «вау». Появилась Бриджид в свежей футболке, гаремных штанах и шлепанцах и села рядом. Свет из шафранного стал золотым, затем медным, затем розоватым; облака походили на груду головешек, от малейшего дуновения готовых рассыпаться пеплом, но пока то и дело вспыхивающих красным. Мы глаз не могли отвести от неба: на один закат оно выплеснуло столько красок, сколько я не видел во всех закатах за всю жизнь. Напоследок небо пустило лиловую полоску — и внезапно уронило на наши головы абсолютную ночь с соответствующими сезону звездами и слаженным хором сверчков.
— Вау. С ума сойти, какой coucher du soleil[46]. Кажется, и смерть бы здесь встретил. — Я старался, пока живой, говорить бодрым тоном.
— Я тебе соучувствую, — отозвалась Бриджид. — То есть я чувствую то же самое. Ох, мой английский все так же хромает. Если бы ты со мной разговаривал, он бы улучшался. Иначе…
— On pent parler le francais, si tu veux. Je comprends — plus ou moins.[47]
— Beaucoup moins que plus![48] Твой французский еще хуже моего английского. А по-английски ты специально не хочешь говорить так, чтобы было понятно.
— Бридж, мне ужасно нравится, когда ты говоришь по-английски. «Я тебе соучувствую»? Классное выражение, надо запомнить и пустить в обиход. Серьезно.
Ужинали мы на террасе. Ужин состоял из крупы кин-ва с морковью, выращенных без применения удобрений и приправленных так, что почему-то было вкусно. Пожалуй, в епископальном вегетарианстве что-то есть, крутилась у меня задняя мысль, пока мы с Бриджид обсуждали навязшие в зубах темы: американских, немецких, израильских, скандинавских, норвежских, английских и французских туристов, так и норовящих нарушить первозданную идиллию третьего мира или наследить в неолиберальном раю. За соседним столиком сидела молоденькая загорелая еврейка, стриженная под мальчика, с россыпью веснушек на носу. Я спросил, как в этих широтах развлекаются.
— Тут полно колес и травки, — последовал прямой исчерпывающий ответ.
— Правда? Это я люблю. — Пожалуй, несколько часов назад я слишком критично отзывался о наркотиках.
— Тут есть такая фигня, называется кактус «Сан Педро». Сначала пьешь кипяченый сок этого кактуса, и от него тебя рвет. Зато потом так торкает!..
— Бридж, ты слышала? — Почему бы не попробовать новый наркотик? Как говорится, новинка в роток… А молоденькой еврейке я сказал: — Я сейчас сижу на очень сильных колесах. Они лечат хроническую неспособность принимать решения, хотя, если честно…
— В Израиле на них точно был бы спрос.
— А где ты живешь в Израиле? В смысле, ты живешь в той части Израиля, которая принадлежит Израилю, или в той, которая не совсем?
— Слушай, это у твоих колес побочный эффект такой? Любопытство, знаешь ли, не порок, но…
— Да, — сказал я. — Думаю, это побочный эффект. А зачем у вас девчонки служат в армии? — Последний мой бзик был — что служба в каких-нибудь войсках пойдет мне на пользу. У них там режим, физическая подготовка и тренинги всякие…
Бриджид ткнула меня локтем под ребро.
— А это Бриджид. Она из Бельгии, — сообщил я всем сидящим на террасе с целью возбудить любознательность у представителей разных национальностей. Кажется, зря я это сделал. Мне хотелось загладить ошибку (ошибки), которой (которых) я сам от себя не ожидал, и я пригласил Амиру и всех присутствующих в бар. В тот вечер была акция «Закажи один напиток и получи второй бесплатно», и я принялся убеждать новых еврейских знакомых, что, если хоть одно решение в жизни далось им с трудом, непременно нужно попробовать «абулиникс», который вдобавок имеет свойство усиливать действие алкоголя. — Таким образом, — распинался я, — сегодня я получу не два, а четыре напитка по цене одного.
— Мы нелюбим алкоголь, — заявил Амирин друг. — Наркота лучше.
— Извини, Бриджид, — сказал я несколько позже, когда мы с ней сидели на террасе на качелях. — Я просто хотел проявить дружелюбие. Понятия не имею, что делается в Израиле и вообще где бы то ни было. Все, умываю руки.
— Это у тебя получается лучше всего.
— Знаешь что? Я знавал людей, которые секли, что к чему на Ближнем Востоке. И кому от этого легче?
Однако Бриджид проигнорировала мой аргумент. Мы сидели в полной темноте на качелях и потягивали через соломинки бонусные мохитос в количестве четыре. Бриджид бухтела что-то о затяжном конфликте между Израилем и Палестиной с молчаливого согласия Штатов. А когда я предположил, насколько по сравнению с этими агрессорами хороша Бельгия, Бриджид разразилась рассказом о возмутительной авантюре бельгийцев в Конго, а заодно проанализировала их же вероломную политику разжигания межнациональной розни среди и без того враждебно настроенных племен хуту и тутси в Руанде.
— Ты специально училась портить людям настроение? Такая красота вокруг, я никогда ничего подобного не видел, а ты грузишь меня ужасами. Зачем? Все равно я помочь не могу. Мне, конечно, очень жаль, что за наше с тобой пребывание здесь заплачено человеческими жертвами. В смысле, я хочу сказать… я хочу сказать, какой смысл обо всем об этом знать, если изменить ситуацию не в нашей власти? Все равно что яд пить. Ты так не думаешь? А кто в здравом уме станет пить яд? Разве что Сократ. — Может, я бы тоже выпил. (И я потянулся к соломинке.)
— Что ты имеешь в виду? Слушай, а твое лекарство не оказывает разрушительное действие на мозг?
— Что я имею в виду? Ты, Бриджид, хочешь, чтобы человечество было счастливо. Очень благородно. Но ты-то тоже в некотором роде принадлежишь к человечеству. Значит, твое собственное счастье фигурирует энным пунктом в глобальном плане. Насколько я заметил, от воспоминаний обо всех когда-либо учиненных зверствах, финансовых авантюрах и политических интригах у тебя настроение не повышается. Ведь не повышается?
— Tu es nul![49] — Бриджид решительно спрыгнула с качелей. Я чуть не упал с них же.
— Хочешь, я лягу на диване? — Я пытался быть учтивым.
— Я уже ничего не хочу! И мне параллельно, где ты ляжешь и что вообще ты будешь делать! Я с тобой целую неделю. Ты болтаешь не покладая языка, но о своих таблетках и словом не обмолвился. А первой встречной сразу все выложил!
— Я стеснялся.
— Таблетки, значит, придают решительности? Если бы мне нужно было их принимать, я бы решила надавать тебе по шее. Мастурбировать у меня под носом ты, выходит, не стесняешься, а про лекарство сказать стесняешься?
Я смутился не столько от упоминания одного конкретного случая, сколько от мысли, что Бриджид теперь считает, что я мастурбирую регулярно.
— Придерживаешься принципа «Что естественно, то не безобразно»? Может, ты думаешь, что я тоже мастурбирую?
Я потянул сначала из правого стакана, потом из левого, чтобы чем-нибудь занять рот. Наконец я выдал:
— Ты любишь мастурбировать?
Бриджид фыркнула.
— По-моему, ничего хорошего в мастурбации нет.
И она пошла по каменным ступеням с террасы на террасу и скоро скрылась в темноте; ее отсутствие, так же как ее присутствие, вызвало у меня целый ряд вопросов, в частности: броситься следом или не бросаться?
По опыту мне известно: когда человек не знает, куда деться, он проверяет электронную почту. В растрепанных чувствах я прошел к администратору отеля и встал в очередь, ожидая, пока загрузится заторможенный в этих широтах интернет. Мой ящик был завален предложениями по увеличению пениса и получению разнообразных долгосрочных кредитов. Правда, среди спама нашлось место и для Ванитиного письма.
От: lakti17@hotmail.com
Кому: wilmerdingansich@mail.fiqnet.com
Тема: [без темы]
Не исключено, что тебе интересно, как я себя чувствую. Не волнуйся: разница почти незаметна.
Помнишь, на первом свидании мы с тобой говорили о карме? Теперь я думаю, бывает ли вторичная карма, то есть такая, которую обусловливает ежедневная рутина. Для индивидуумов вроде тебя, наверное, предусмотрен третий вид кармы — обусловленной разнообразными глупостями.
Не желаешь ли посмертный экскурс в популярную психологию? Вот что я говорю друзьям: «Он был очень простодушным. Я строила планы. Это случилось как раз после 11 сентября. Вечер накануне получился такой чудесный, что я потом все время надеялась на его повторение». А чтобы быть совсем уже честной — с собой, а не по отношению к тебе, — я признаю и твою физическую привлекательность, и твой заразный энтузиазм (клише, но что поделаешь!), а еще скажу, что ты производишь впечатление — от которого не так-то просто избавиться — очень отзывчивого и внимательного человека. А еще ты американец на все 100. Думаю, общение с тобой помогло мне адаптироваться в Нью-Йорке.
От всей души желаю тебе как следует развлечься в стране с самым дружелюбным в мире населением.
Отвечать совсем не обязательно.
В.
Мир никогда не был столь лояльным по отношению к необдуманным словам, как с момента изобретения электронной почты. Поэтому я написал:
Ванита, спасибо за честность насчет разнообразных глупостей. Ты совершенно права.
Как раз перед отъездом мне было предъявлено еще одно весьма обоснованное обвинение. В настоящий момент я сравниваю конструктивную критику моего отца с твоей критикой — и постепенно прихожу к выводу, что являюсь и всегда являлся СОБАКОЙ, у хозяина которой не все дома. Остается только лаять. Или потихоньку скулить. Гав!
К тому же у твоего письма есть еще один плюс. Я теперь вижу, что ты от меня освободилась, и это здорово. Наверное, было бы еще лучше, если бы я встречался со многими замечательными женщинами (не по сравнению с тобой замечательными — ты несравненная!) и потом оставлял их, убежденный, что избавляю их от большого геморроя. Ты от меня избавлена — разве тебе от этого не лучше? Лично мне лучше от одной мысли «Ванита свободна».
Д.
PS: Кстати, Наташи здесь нет.
PPS: Гав!
PPPS: Извини — что взять с придурка? Просто, по-моему, это большое заблуждение — считать, что при разрыве непременно нужно быть милым. Тогда женщина будет упорствовать в заблуждении, что ее возлюбленный — порядочный человек, и ей будет жаль потерять этакое сокровище.
Затем я написал Дэну:
От: wilmerdinpansich@mail.fignet.com
Кому: dan rorschach@defunct.com
Тема: [без темы]
Времени нет, есть вопросы.
а) Как дела?
б) Как ты полагаешь, входят ли серьезные невольные воспоминания в список побочных эффектов?
в) А мысли о самоубийстве? (Спрашиваю чисто гипотетически, из простого человеческого любопытства.)
г) Жаловались ли добровольцы на прогрессирующую молчаливость и/или на глупое поведение, особенно по отношению к женщинам, если они (добровольцы) мужчины и если параллельно с этим поведением у них не сформировались никакие решения?
Я бы написал подробнее, до чего славно провожу здесь время, но за мной к компьютеру очередь на километр.
Возможно, только повинуясь дикому желанию помириться со мной, Бриджид вздумала попробовать рекомендованный Амирой местный галлюциноген. Как бы то ни было, когда я вернулся в наш коттедж, там торчали два весьма колоритных типа, явно местные и столь же явно не эквадорцы. Они вели переговоры с Бриджид, а две девицы-гринго хиппового вида, увешанные бусами и прочими вампумами, хихикали на диване.
Я кивнул каждому в отдельности, а всем вместе пожелал buenas tardes. Бриджид бросила на меня вопросительный взгляд, я взглядом постарался выразить готовность исполнить любое ее желание. До сих пор финансовыми делами занимался я. Сорок долларов. Сплошное вымогательство. Но мы не стали торговаться.
Чилиец в футболке с изображением Бодхисаттвы запихал банкноты в карман. Его приспешник вручил нам двухлитровую бутылку с мутной жидкостью цвета разбавленной «кока-колы». Под крышкой сгруппировались подозрительного вида хлопья.
— Отвар из листьев. По его словам, лучше пить с утра, тогда целый день хорошо.
Чилиец вскинул брови и покрутил у виска указательным пальцем. Он посмотрел сначала на меня, затем на бутылку, затем на Бриджид, закатил глаза и раскатал губищи.
— Я рад, что ты доверяешь местным, — сказал я, когда местные убрались. — Я вот не стал бы с ними связываться.
— Да нет же, это я думала «Ладно хоть Двайт им доверяет». Если бы не ты, я бы на сделку не решилась. До твоего прихода я только вопросы задавала.
— Забавно. — Мне было уже все равно. — Ты сама не веришь, хотя веришь, что другие верят. Видимо, это и есть идеальная модель. Значит, все будет хорошо.
Глава двадцать вторая
Примерно через девять часов нас с Бриджид начало усиленно рвать. Корчась в ожидании своей очереди под дверью туалета, я заподозрил, что мои умозаключения относительно маленьких радостей, доставляемых разнообразными очищениями организма, оказались лжетеорией.
— Mon Dieu, — в перерывах стонала Бриджид. — C’est affreuse. Combien des heures est-ce que cela peut…[50] — Она закашлялась и, судя по шуму, нависла над унитазом.
Перед моим мысленным взором, словно хэллоуинская процессия, потянулась цепь ошибок отрочества, юности и молодости. Первым шло зеленое лицо Двайта Уилмердинга наутро после дегустации водки, за ним следовала его же физиономия с оловянными глазами после выкуривания первого косячка. Впрочем, кто теперь скажет, что тогда так сильно торкнуло беднягу Двайта? Может, виной всему половая зрелость, когда восприятие начинает зависеть от сексуального возбуждения, или от пост-коитального разочарования, или от облегчения после акта мастурбации — и никогда не бывает одинаковым? Не говоря уже о том, что Двайт воспитывался двумя родителями — метод, столь же активно, сколь и ошибочно рекомендуемый обеими главными политическими партиями, в то время как совершенно очевидно, что он провоцирует шизофрению. Эти ошибки ни в какое сравнение не шли с одной, роковой — подсаживанием на «абулиникс». Однако бриллиантом в шутовском колпаке, безусловно, являлось распитие рвотного отвара — последнюю мысль я додумывал, ломясь в закрытую дверь.
Бриджид освободила помещение, и я скорчился над белым другом.
Жизнь не удалась, думал я, наблюдая, как остатки вчерашнего апельсинового сока с вкраплениями более твердых съеденных мною субстанций кружатся против часовой стрелки в водовороте унитаза. Я дополз до дивана и уже на нем — лежать было невыносимо, обивка морщила; поролон бугрился — решил, что часов через двенадцать, когда действие зелья наконец прекратится, подумаю о более быстром и надежном способе свести счеты с жизнью. Нужно будет написать прощальное письмо родителям и отправить его на Алисин электронный адрес. И непременно рассказать в письме об «абулиниксе». Мой бесславный конец станет достоянием общественности — и, как знать, может, стук моих слабеющих пальцев по клавиатуре не пропадет втуне и я совершу хоть один социально значимый хороший поступок.
Вдобавок самоубийство, я чувствовал, придаст моему существованию хоть какой-то смысл.
Медленно, очень медленно, словно муха в густом сиропе, металась Бриджид. Ее плющило так, что время от времени она практически растекалась по широкой кровати. Эти моменты Бриджид перемежала стонами или плачем.
— Бриджид, прости, — промямлил я.
— Oui, oui. Je suis tout a fait d’accord[51]. — Она снова поднялась. Все происходило так медленно, словно у времени садились батарейки. Бриджид поползла в туалет. Оттуда послышались звуки сухих спазмов. Казалось, протяжно кричит огромная больная птица, а допотопный магнитофон зажевывает пленку с записью ее криков.
Время шло, Бриджид не возвращалась. Я встал и несколько поспешнее, чем позволяло мое состояние, пошел посмотреть, что происходит. Бриджид сидела на кафельном полу на коленях, скорчившись, подавшись вперед и бессильно уронив голову. Ее темные волосы рассыпались по лицу. Так, наверное, падает пилигрим, на одном дыхании взлетевший на верхнюю террасу древнего храма, куда и жрецы-то в свое время не каждый год поднимались. Мне было невыносимо жаль это несчастное скрюченное создание.
Вдруг Бриджид вскочила на ноги. Я отпрянул.
— Теперь ты чувствуешь разницу? — спросила она, оглядываясь по сторонам с улыбкой, подобной восходу солнца. — Как здорово! Еще минуту назад я умирала, а сейчас прыгать готова! — И Бриджид стянула свитер, оставшись в одной футболке и широких штанах. Под футболкой интеллигентно выделились маленькие груди. Также я заметил, что у Бриджид загорелые предплечья.
— Да ну! — Я опустился на кровать и постарался почувствовать радость от того, что страдальцев в комнате стало ровно вдвое меньше.
Бриджид взяла меня за руку.
— Тебе все еще плохо?
— Уже хорошо. Я… — Мое эго билось головой о стенки, по телу шел гул. Я стал заикаться, как пиратский диск. — Я… Я…
— Пойдем со мной.
И меня подвели к креслу, стоявшему у окна. Я покосился на Бриджид, которая смотрела в окно. У нее было такое нежное, даже просветленное лицо, что для меня словно мир перевернулся. Буквально в одну секунду, точь-в-точь как говорила Бриджид. Однако я боялся, как бы давешние мутноглазые позеленевшие Двайты не испортили впечатление, и воскликнул:
— Останься! Останься! — и стиснул теплую руку смугленькой Бриджид, почти невидимой в прохладном полумраке.
— Я никуда не ухожу, — отвечала Бриджид, обнажая зубы, что характерно для представителей вида Homo sapience, если они дружелюбно настроены.
— Погоди, как это у тебя получается? — Я стал усиленно улыбаться, не называя ключевого слова — пусть сама догадается. Бриджид догадалась и снова обнажила зубы.
В конце концов я выглянул в окно. На травинах висели капли росы. Они были распределены с такой точностью, будто кто-то затемно ходил по долине с пипеткой и линейкой. Я сказал «Вау!» — еще и потому, что сверкающий луг обрывался непосредственно перед горами, склоны которых были покрыты сетью тропинок и неправильными четырехугольниками небольших плантаций, а в самой дали, словно макет из олова и бальзы, терраса за террасой возникал из утреннего тумана миниатюрный город.
— Благодарение Богу! Благодарение Господу нашему за то, что Он сотворил окна!
— И двери, — добавила Бриджид, закидывая в мой рюкзак свой свитер, две бутылки с водой и два мясистых древесных томата. Мой мозг был не настолько затуманен, чтобы я не помнил: мои солнечные очки, а также блокнот со Списком Важных Дел уже там.
Я был рад выбраться из отравленной рвотными парами комнаты. Пошатываясь, мы с Бриджид выползли на главную террасу. Высоко в невозможно голубом небе заданным курсом шли два плоскодонных кучевых облака. По склонам гор скользили их тени — так по дну бассейна скользят тени пловцов.
После довольно продолжительного промежутка времени мы снова оказались на нашем крыльце и сели рядом. Из громкоговорителей, замаскированных высоко на деревьях, над крокусами и фиалками, над генцианами и драконьими орхидеями, слышалась до боли знакомая песня «Air Supply»[52]: «Солнечный день — это повод для секса. Пасмурный день — это повод для секса…» Цветы с каждым повтором кивали все слаженнее.
— Какая… хорошая… песня…
Певец (вместе с бэк-вокалом) не сомневался: нигилизм будет побежден только не нуждающимся в поводах сексом в сочетании с минимумом слов и аккордов. Раньше я не представлял, сколько в мире гениев; мне стало обидно за группу, не удостоившуюся ни строчки положительных отзывов. Мы с Бриджид качались на качелях до самой середины следующего шедевра, «Каждая женщина в мире»; тут Бриджид сказала «Не хочу быть каждой», и мы пошли развлекаться дальше.
У бассейна нам встретилась Амира. По нашему виду она поняла, что мы достигли просветления, и известным жестом одобрила наш выбор. Бассейн был битком набит практически голыми немцами и евреями, мрачными и/или окосевшими после экстази, — каракули волн набегали на их торсы, делая белые белее, а смуглые — зеленее.
— Какая милая сцена, — произнес я, а сам подумал, что лет шестьдесят назад сцена была бы куда милее.
Мы вместе побрели в западном направлении, по грязной дорожке из красного кирпича. План был следующий: забраться на гору, посмотреть с горы на долину и вернуться в отель.
— И все? — удивился я. — А как же цель?
— Я свою предложила. Можешь добавить еще целей.
— Просто подняться и спуститься? Туда и обратно? А в чем тогда смысл нашего путешествия?
— В движении.
Кузнечики в придорожной траве потрескивали, как электрические разряды, свет пятнами шлепался на застывшие, ослепительные листья невозможно тропических и просто тропических деревьев. Мы шли мимо кофейных кустов. Странно, подумал я, почему эти блестящие ярко-красные ягоды находят бесславный конец в кишках североамериканцев в виде учащающей пульс черной жижи. Ягоды — в смысле зерна — были рассыпаны для просушки у крытой жестью хибарки; они казались лежбищем сирен, поющих на недоступной человеческому слуху частоте. В воздухе вибрировали запятые, точки и волнистые линии голосов — сверкающие, беззвучные.
— Так, наверное, видел мир Ван Гог. Во всяком случае, у меня такое впечатление. А у тебя? Посмотри, трава волнистая, земля волнистая, даже воздух волнистый!
Единственный способ отойти от бесконечной перцепции — разговаривать. Однако, разговаривая на родном языке, можно заплутать, особенно если вы (как я) доверчивы до такой степени, что принимаете за чистую монету все, услышанное от самого себя.
— В такие дни, Бриджид, — начал я, — мне кажется, что еще чуть-чуть — и мы с тобой осознаем себя как экзистенцию. — Во мне говорил Отто Ниттель, разжеванный, но не переваренный, — его философия проступала сквозь мои мысли, как водяные знаки сквозь чернильные каракули.
— Дни? Почему ты говоришь о них во множественном числе? Мы ведь только сегодня испытали это странное, всепоглощающее…
Как-то так получилось, что я теперь шел впереди Бриджид. Я остановился перед лощиной, или arroyo, забиравшей вправо, и взмахом руки изобразил «Только после Вас». Листья призывно шелестели, над ними обнадеживающе круглился свод.
— Ты уверен, что нам надо сюда лезть?
Я взял Бриджид за руку и потащил ее в лощину.
— Возьми меня за другую руку. За ту, которую уже стискивал.
Я поменял правую руку на левую и повел Бриджид за собой. Между деревьями едва можно было пролезть, и по мере сужения прохода я ощущал, как изменяется мое сознание: воспоминания вызывали ассоциации, ассоциации трансформировались в мировоззрение. Повинуясь моему решению, мы неуклонно забирались в чащу. Я не мог дать разумное объяснение этому решению, но дело было сделано, действие предпринято — я чувствовал, что, пожалуй, теперь не потеряю след, как не теряет след гончая — уж очень соблазнительно пахла свобода.
— Просто верь мне, Бриджид, как я верю тебе.
— Именно поэтому я не могу тебе верить! — Бриджид тоже была готова ко всему, однако ее готовность напоминала кроличье ухо, этакий локатор: малейшее подозрение — и кролик припустит по лугу. Впрочем, все мы немножко локаторы, все мы с разной степенью точности улавливаем данные из внешнего мира.
Я остановился на тропе. Под ногами чавкала непросыхающая грязь. Я обнял, да что там обнял — сгреб Бриджид — настоящую личность, прелестную женщину, к тому моменту, безусловно, уже преданного друга — и прошептал ей в пушистенькое розовое ушко:
— Я тебе верю, потому что ты умная, справедливая и эрудированная. Извини за примитивный язык. Я думаю, что ты очень хорошая. И я верю в себя, потому что я с тобой.
Бриджид слегка отстранилась и спросила:
— Почему ты раньше ко мне не прикасался?
— Я прикасался.
— Едва один раз и всего лишь за руку. Ох! Я так плохо говорю по-английски!
— Знаешь, у меня ощущение, будто ты видишь меня насквозь…
— Ничего подобного.
— Моя прозрачность для меня оскорбительна. По-моему, для тебя она оскорбительна тоже. — И такими конструкциями выражается носитель великого английского языка! — Вот я и думал, что не нравлюсь тебе. А сейчас я пытаюсь сказать, используя весь свой скудный словарный запас, что ты можешь делать со мной, что захочешь. Вероятность того, что я подчинюсь любому твоему решению, очень велика.
— Так вот оно, твое решение! Чтобы я решала, как тебя использовать! Ты все жизненно важные решения принимаешь под кайфом?
— Я этот наркотик никогда раньше не пробовал. «Абулиникс» в сочетании с отваром «Сан Педро»? Надо обмозговать… — И я двинулся дальше по тропе, забиравшей вверх. Я нашел длинную гладкую палку и опирался на нее, как на посох. — Возможно, «абулиникс» усиливает действие отвара или наоборот. — Я оглянулся. Вид у Бриджид был взволнованный. — А хочешь, я прямо сейчас запишусь в борцы за мировую справедливость? И мы будем бороться вместе.
— А как ты подпишешься? То есть надпишешься? В смысле, запишешься? Чертов язык.
— Очень просто. — Я извернулся под рюкзаком, так что он оказался у меня на груди, и нащупал блокнот с многочисленными Списками Важных Дел. Я написал на чистом листке «Справедливость». Рука слегка дрожала. — Готово. Только здесь должен быть глагол. Не знаю какой.
— Служить справедливости?
— Годится. — Я приписал «служить». — Довольна?
— Так просто? Тогда признавать… — ласково приказала Бриджид.
— Наверное, лучше сначала написать «признавать», а потом «служить»…
Бриджид пожала плечами.
— Делай что можешь.
— Это тоже записать?
— Да, пожалуй.
И я записал, диктуя сам себе: «Делать, что могу, и все записывать».
— Дальше, Бриджид!
Под пятую точку мне очень кстати подвернулся валун. Я смотрел на раскрасневшуюся Бриджид: щеки под густым румянцем стали еще смуглее, расширенные зрачки казались следствием духовного порыва, а не последствием вчерашнего происшествия.
Она начала было говорить, но рассмеялась, и я записал: «Любить Бриджид».
— Правильно. Только…
Я и это записал.
«И ободрять ее. То есть делиться с ней своим энтузиазмом, но это не по-английски звучит».
Я нетвердой рукой выводил буквы родного языка и потом с недоумением их рассматривал, словно какую-нибудь клинопись.
— Погоди, Бриджид, не так быстро.
— А теперь встань.
Я написал «А теперь встать» и встал — неуклюже, как неопытный репортер, обвешанный своим репортерским снаряжением.
— Поцелуй… хотя нет, не надо…
Я успел исписать и перевернуть страницу и теперь ждал дальнейших указаний.
— Что ты сказала? Повтори, пожалуйста, — и твое желание тотчас будет исполнено.
— Я хотела назвать свое имя, но тут мне в голову пришло слово «Рай».
Трудное слово, обязывающее.
— У тебя возникла ассоциация с садом?
— И тут до меня дошло, что в раю нет третьего лица. В Раю нельзя сказать «он» или «она», а можно только «ты». Понимаешь? Каждый из двоих может сказать о другом «ты» и никак иначе. Потому что обитателей рая всего двое. Только ты и я, только я и ты.
— Постой-постой…
— Здесь все такое яркое, такое зеленое… — произнесла Бриджид извиняющимся тоном.
— Ты вроде хотела, чтоб я тебя поцеловал, — напомнил я.
— Раз мы в раю, нам нужен плод, — сказала Бриджид.
У меня в рюкзаке были древесные томаты, но я очень надеялся, что Бриджид говорит не о них. Я прижал ее к себе. Она вся трепетала.
— По-моему, Бриджид, повторять пройденное в раю негуманно. И потом, мы не обязаны есть все плоды, о которых говорим, правда?
— А я как раз представила себе плод, будто специально для тебя. — Она улыбнулась. — Плод, который я бы хотела, чтобы Двайт… чтобы ты съел.
— Гм… — Она себя имеет в виду? И вообще, к чему она клонит? Я задавался этими двумя вопросами, пока на голубую хлопчатобумажную футболку Бриджид не опустилась бабочка, причем без какого-либо пособничества с нашей стороны.
— Una mariposa, — узнала Бриджид. Mariposa аритмично взмахивала крыльями — темными, в прожилках, с нефритовой каймой и красными бинди, как у индусов во лбу.
— Я тебе потом расскажу про плод. — Бриджид взяла меня за руку и моей рукой спугнула бабочку.
Несколько мгновений подряд сначала распухли, а потом с треском лопнули.
Мы пошли дальше. Я стал писать в блокноте «Разработать план».
Под словом «план» я имел в виду «поцеловать Бриджид».
«Подумать», — писал я, когда Бриджид позади меня поскользнулась и упала.
«Быть смелым, чтобы вести ее» — я зачеркнул «ее» и написал «тебя». Затем я услышал за спиной «Посмотри» и начал выводить это слово, когда что-то упало мне на лицо — и прилипло.
Глава двадцать третья
Я задергался, как эпилептик, пытающийся сплясать тарантеллу. Я хлопал себя по всем местам и орал: «Бридж, он здесь? Он на мне? На мне?!!»
У Бриджид были такие огромные глаза, что я чувствовал себя уже укушенным. Вопли перешли в простое нечеловеческое «Аааааааааа!!!!!!».
— Сначала я подумала: «Ну вот, теперь он окончательно сошел с ума». — Бриджид хохотала как не в себе. — Но потом… потом… — От смеха Бриджид начала икать. — Успокойся, нет на тебе никаких пауков.
— Поклянись Богом, — сказал я, снимая с лица паутину.
На секунду Бриджид удалось прекратить смех и икоту:
— Клянусь. На тебе нет пауков.
Пока я отплясывал, перед моим мысленным взором проносились кошмарные видения. Я подфутболивал мягкий мячик в окружении огромных шипящих сковородок; на меня надвигалась Алиса в хэллоуинском костюме — черное платье, открывающее руки и груди, со шлейфом в виде крытой черным крепом повозки, по бокам которой болтаются шесть бутафорских ног; папа сидел у себя в кабинете за столом, но на электрическом стуле, а мама за перегородкой дергала за ниточки марионетку в виде огромного попугая. Да, что ни говори, Нью-Йорк — центр вселенной, а мы живем в самом центре Нью-Йорка, со всеми вытекающими.
— Давай теперь ты пойдешь первая. У тебя ведь нет арахнофобии.
Бриджид изо всех сил старалась сделать серьезное лицо.
— Видишь ли, Двайт… Как это по-английски? — И Бриджид сконфуженно указала на свою промежность. Брюки были мокрые. — Я не смогла сдержать недержание! — И она снова зашлась хохотом, на сей раз истерическим, до слез. — Мне ужасно стыдно. Но ты такой смешной! — Хохот перешел в рыдающее хихиканье. Бриджид расшнуровала ботинки и стащила брюки и трусики. — Извини, — хихикнула она, вручая мне одежду.
Со мной случился столбняк.
— Неожиданный поворот событий. — Впрочем, не такой уж он был неожиданный. Я переложил древесные томаты в карман рюкзака, а на их место запихал вещи Бриджид. Она ухватила бутылку с водой и принялась поливать себя между ног, хихикая и извиняясь одновременно.
— Да ладно. В конце концов, зачем в раю штаны?
— Теперь тебе придется снять свои штаны и отдать их мне. Трусы можешь оставить.
— И на том спасибо. — Я снял штаны и протянул их Бриджид.
— Теперь я санкюлот!
В бо́ксерах у меня заиграл ветерок. Я поднял рюкзак и пошел вперед. Я все время искал глазами паутину и нес рюкзак на вытянутых руках, словно служка — свечу или пещерный человек — факел. В кромешности первобытных страхов периодически слабо вспыхивала не менее первобытная надежда.
— Мне так стыдно, что я описалась, — произнесла Бриджид.
— Забудь, проехали. А кстати, что это за плод, который ты специально для меня измыслила? — Хорошо бы этот плод нейтрализовывал синдром сродни похмельному, одолевавший меня вот уже несколько часов.
— Я сегодня все время думаю о рае и об Утопии. Не знаю почему. Может, это последствия отвара. Вдобавок я взмокла, как мышь, и описалась! А еще я думаю, раз всех людей пустили в рай…
— Насколько мне известно, в рай пускают далеко не всех.
— Это моя фантазия — ну, просто мне хочется, чтобы пускали всех. Рай без границ!
— И для преступников тоже? И для посредственностей?
— Да, особенно для преступников. И для всех посредственностей. Рай должен быть для каждого. Мне так хочется. Я всех приглашаю. — Она резко обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. — А тебе было бы страшно превратиться в меня?
— Что-что? Превратиться в тебя? Да. В смысле, если в этом весь вопрос — то да, страшно.
Бриджид, кажется, огорчилась. Огорчившись, она похорошела.
— Извини, Бридж, для меня превратиться в тебя значит… Господи, не понимаю, зачем мы об этом говорим. Для меня превратиться в тебя значит стать красивой, умной, классной женщиной. Конечно, тут есть свои преимущества. Правда, придется думать твои мысли. А ведь один бог знает, что у тебя на уме… Но давай ближе к делу, то есть к плоду.
— В раю всегда и на все хватает времени. У каждого будет столько времени, и такая великолепная память, что в конце концов — когда пройдет очень много времени — каждый человек успеет побывать всеми людьми по очереди. Понимаешь? За всю историю человечества каждый человек побывает в шкуре всех остальных людей в мире. И тогда наконец мы станем хорошо относиться друг к другу. Вот, например, мы с тобой — каждый из нас будет относиться к другому лучше, чем к самому себе.
— На это потребуется целая вечность.
— Разумеется. Именно вечность. Я настаиваю. Подумай: если хоть раз каждый побудет другим, разве тогда наконец люди не станут…
— Конечно, станут.
— Нет! — Бриджид ущипнула меня за плечо. — Ты должен со мной взаимодействовать! Думать, чувствовать, а не поддакивать! Если бы ты побывал мной, ты бы взаимодействовал!
Лощина (она же arroyo) сузилась; пришлось перестроиться в колонну по одному, и дискуссия наша сама собой сошла на нет. Бриджид пробиралась по опасной дорожке первая, без всяких посохов или просто палок, зато с мыслями о рае. Наверное, отвар следовало пить не в такой враждебной среде, как живая природа, которая не предполагает ни кресел, ни диванов, ни плееров — одних только пауков. Как бы то ни было, я, вобрав голову в плечи и стараясь ступать след в след за Бриджид, размышлял о круговороте душ во времени, который Бриджид назвала раем. Интересно, думал я, как бы остальным обитателям рая понравилось быть Двайтом Б. Уилмердингом. Почувствовали бы они, что я (мы) менял (меняли) подруг, пробовал (пробовали) наркотики и занимался (занимались) философией потому, что мне (нам) нравилось начинать, но не нравилось продолжать? А потом, сообразив, что запах просроченных начинаний может распространиться на всю мою (нашу) оставшуюся жизнь, обернутся ли эти души, успевшие временно побывать Бриджид — Бриджид, согнувшейся в три погибели передо мной, Бриджид с идеальной попкой, так эротично прикрытой моими штанами, — обернутся ли они назад, ко мне (к нам), скажут ли «Хватит, Двайт»? Возможно, именно этого «хватит» я всю дорогу и ждал… Я совсем запутался и надеялся только, что «хватит» будет исходить от Бриджид. Во всяком случае, я бы на ее месте, оставшись наедине с типом вроде меня, обязательно бы обернулся.
Бриджид резко повернулась на пятках.
— Я дальше не пойду. Посмотри. К несчастью, ты был прав — тут действительно водятся пауки.
Из-за ее плеча я увидел огромного паука, неприлично раззявившего все свои восемь ног в самом центре блестящей паутины. На паутине было написано «No pasaran»; впрочем, возможно, надпись мне только глючилась. Не то слепая, не то неграмотная бабочка, пафосная, словно из салона Тиффани, влипла прямо на наших глазах.
Мне вспомнился день, когда я узнал, что Наташа улетела и я, значит, зря проделал такой путь. Я вздохнул и сказал:
— Пойдем назад.
— Oui, c’est juste, mais…[53]
— Что «mais», Бридж? Ты посмотри, какой паучище!
— А ты посмотри на то, что за пауком. Видишь? Всего несколько метров — и мы будем на поляне. Там трава, там больше света, больше… больше света и воздуха.
— Гм… Давай попробуем его обойти. Как ты думаешь, эту тропу кто-то специально проложил? В смысле, она не из-за дождей образовалась? То есть не только из-за дождей…
— Конечно, нет. Тут не обошлось без мачете.
Чаща за пределами тропы действительно казалась совершенно непроходимой.
— Чертовы пауки, — пробормотал я. — Хорошо бы их всех уничтожить.
Однако такой ход мыслей показался мне недостойным продвинутого примата, и я решил не опускаться до уровня членистоногих. Внезапно у меня созрел план. Я достал из рюкзака блокнот и вырвал из него древний Список Важных Дел. Вот что в нем было:
полторы банки маринованных помидоров
полбанки стручковой фасоли
1 красный перец
кедровые орешки
базилик
кус-кус [по всей вероятности, я собирался готовить для Дэна]
медицинская страховка?
прикладные программы?
туалетная бумага
позвонить:
Ваните
маме
папе?
Я тщательно скомкал Список и заговорщицки посмотрел Бриджид в глаза:
— Понимаешь, что я задумал?
Бриджид мрачно кивнула.
— Я пробегу, затем ты. Ясно? — Вот он, настоящий смелый поступок. Спасибо судьбе за «абулиникс»! И за отвар спасибо! (Если, конечно, к вечеру я не отброшу коньки от этого сочетания.)
— Да, но давай… — начала Бриджид.
— Что?
Собственная смелость трепыхалась у меня в кулаке, и я не собирался ее выпускать. Однако прежде, чем я успел хоть что-нибудь сообразить, мы уже стояли на коленях в грязи и целовались как сумасшедшие. Я елозил руками по волосам и ушам Бриджид, она делала то же самое со мной. Скоро мы перестали понимать, где чей язык, где чьи губы и где чьи десны; под воздействием хаоса слизистую упругую твердь выворачивало, взрывало и плющило. Кажется, никогда еще я так классно не целовался — разве что в четвертом классе, в часовне, со Стефани Петтигрю. Тогда поцелуй длился всего секунду — секунда сначала растянулась, как пружина, но потом, когда все же прошла, снова сжалась, чтобы втиснуться на свое место в потоке времени.
— Вау! — выдохнул я. — Настоящий бельгийский поцелуй. Французы отдыхают.
— В Бельгии такого точно никогда бы не произошло!
Мы продолжали в том же духе. Несомненно, между нами возникла пресловутая «химия» — этим словом бросаются все кому не лень, но никто не может дать точное объяснение.
Наконец я встал — насколько позволяла растительность — и снова морально приготовился к штурму.
— Если погибну, прошу считать меня пламенным борцом за мировую справедливость.
— Не волнуйся, посмертная слава тебе обеспечена. Всемирная паутина пополнится твоим мемориальным сайтом.
— Вот только не надо про паутину.
— Хорошо, отныне я забыла это слово.
— Бридж, ты представляешь, как мы вляпались?
— Нет. — Глаза ее наполнились слезами, она вымучила улыбку. — Не представляю.
— Поехали.
Я досчитал до трех, потом до четырех (четные числа все же лучше), швырнул бумажный комок в угол паутины и подождал, пока безмозглое чудовище метнется к добыче. С воплем «Ааааааа!» я понесся прямо на паутину, размахивая руками и круша нависающие ветки и как минимум еще одну паутину и в это время успевая думать — ужас, видимо, ускорил процесс получения логических выводов, — думать, стало быть, о том, что я боюсь пауков не только потому, что они волосатые паразиты, которые подкрадываются незаметно, не только потому, что они часами ждут в засаде и легко ведутся на бумажные комки, не только потому, что все они однозначно ядовитые, а еще и потому, что они волосатые, как человеческие лобки и как я сам в недавнем прошлом, а главное, потому, что у них восемь конечностей, как у пары совокупляющихся человеческих существ. И когда я, орущий, отражающий атаки листьев, вырвался на поляну, где росла трава — трава, предсказанная Бриджид, — я выдохнул, упал на колени и поцеловал мягкую землю, будто прошел курс извращенного супербыстрого психоанализа и теперь уж точно обрел адекватность — блаженную, вожделенную, полную.
Бриджид упала в мои безволосые объятия.
— Пожалуйста, Двайт, скажи, что на мне нет пауков. J’ai peur![54]
Мы принялись осматривать и ощупывать друг друга. Вскоре я пришел к выводу, что Бриджид особенно беспокоит обстановка у меня в районе паха. Я же, в свою очередь, очень волновался за ее груди. От пауков можно всего ожидать, думал я. Вдруг эти волосатые сластолюбцы питают пристрастие к женским соскам?
Кто-то засмеялся — не исключено, что я. Как бы то ни было, я присоединился к смеющемуся, и мы стали кататься по перистощетиннику лисохвостому пурпурному, очень кстати выросшему на склоне холма. Мне ужасно нравилось целовать Бриджид. Наконец я нашел самое лучшее применение своему рту — разве сравнится с поцелуями процесс изречения философской зауми? «Ммммммм», — стонал я, пока Бриджид не опрокинула меня на спину и не нависла надо мной.
— И ты столько терпел? Какая-то извращенная стыдливость. Я уже думала, что не нравлюсь тебе.
— Дело не во внешности. Ты такая вспыльчивая.
— У меня маленькая грудь, — философски прокомментировала Бриджид.
— Зато попка какая! И лицо. На самом деле главное — лицо. И мозг. Который находится за лицевой частью черепной коробки. Но движущий фактор — попка. А вообще все дело в том, что ты — это ты. Не знаю, как объяснить. Наверное, слова еще не придумали. Или уже забыли.
— Почему ты мне нравишься? А ты мне ужасно нравишься. Я хочу выучить разговорный английский, чтобы выражаться, как ты. Только я бы хотела выражаться более понятно. — Бриджид смотрела на меня сверху, встряхивая волосами. — Почему ты лишь сейчас сделал первый шаг?
— Бридж, пойми, не так-то просто из абулии сразу перейти к решениям. И перейти непросто, и объяснить тоже.
— Хоть раз в жизни ты можешь сказать определенно? — Она рывком подняла меня и стащила через голову мою рубашку. — Что тебе непросто объяснить? Может, ты боишься? — Ее пальцы, как паучьи лапы, побежали по моей безволосой груди.
— Нет, нет! — Какого же волевого усилия стоило мне это «нет»! — Я действительно боюсь — но я боюсь стать… стать…
— Mais qu’est-ce que tu veux dire enfin? — Бриджид смеялась. — Ca va, d’accord? N’importe quoi que tu dis, ca va. Avec moi.[55]
Я чувствовал, что и через много лет этот день будет казаться мне сверкающим мечом, разрубившим мою жизнь на «до» и «после».
— Я боюсь… я ужасно боюсь стать социалистом!
Бриджид прищурилась.
— Чего тебе действительно стоит бояться, так это оставаться таким странным.
— Сама посуди, какие мысли мне придется думать и сколько всего знать!
— Но ведь и я не на сто процентов социалистка.
— Имей уже смелость признаться! Ты тоже социалистка. Тоже — потому что Алиса, моя сестра, — социалистка. Так что я знаю, с чем это едят. Я знаю на эту тему больше, чем тебе могло показаться. Следовательно…
— Хорошо. — Бриджид ладонью прикрыла свой пухлый, вводящий в искушение рот. — В конце концов, давно надо было все рассказать. Теперь ты, наверное, рассердишься, что я так долго тянула. Но вспомни, как сам тянул.
— Что? Ты же не… — Я приподнялся на локтях, чтобы поцеловать ее. — Ты же не коммунистка? — Чмок. — Потому что с социализмом я еще худо-бедно разберусь, а вот… — Чмок. — Надеюсь, ты не анархистка? Потому что… — Чмок. — Потому что у меня, конечно, есть черные штаны и рубашки, но они… — Чмок. — Не рваные и не грязные. А то, что рваное и грязное, то не черное. Так что… — Мне хотелось расцеловать всю Бриджид, прежде чем я узнаю, что она задумала стереть Штаты с лица земли. — Ведь Америка всегда будет доминировать в мире, да? Как по-твоему?
Бриджид шарила в своем бумажнике. Я боялся, что сейчас она достанет двадцатку и популярно объяснит мне скрытый смысл денег. Но она двумя пальцами извлекла маленькую, как на паспорт, фотографию (такие делают автоматы, только монетку в щель опусти), а на фотографии — я глазам своим не поверил, — на фотографии были запечатлены… мы с Алисой, году примерно в восемьдесят последнем, предположительно в Миллертон-Молл. Алиса улыбалась одними губами, глаза у нее были грустные; я же смотрел в объектив жизнерадостно, как щенок, и наверняка ожидал вылета птички. Точно такое выражение я видел на фото в папином кабинете в незапамятные времена, целых восемь дней назад. Пес всем своим видом спрашивал: «Тапочки принести?»
Бриджид держала фотографию на уровне сердца — и улыбалась. Я точно помнил, что у меня при себе ничего подобного не было, значит, Бриджид не могла ее стащить; как не могла скачать, а тем более распечатать ее из моей головы и даже из интернета. В то же время собственное замешательство давало мне повод подозревать, что на вечере встречи я появлюсь в сопровождении сиделки, которая сделает присутствующим следующее печальное заявление: в результате роковой ошибки на пост агента по делам выпуска они избрали жертву наркотиков.
— Теперь ясно? — спросила Бриджид.
— Нет. Bonne nuit. — Я даже не пытался притворяться, будто хоть что-нибудь понимаю. Несомненно, мне светит моя подростковая комната в Лэйквилле вкупе с папиным опекунством. У моего рта остановилась ложечка с чем-то протертым. «Ну, за меня, сынок!» — сказала мама в самое ухо.
Внезапно вместо ложечки к моему рту красноречиво приложилась Бриджид. Вот так сюрприз! Обычно адекватные члены общества не слишком жалуют неадекватных и не любят с ними целоваться.
— Прости. Алиса обманула тебя — для твоего же блага. Она решила, что мы с тобой идеально подходим друг другу. Она мне так и сказала: «Бриджид, мой брат — твой идеал».
Я записал 1:0 в пользу непонимания против неадекватности и весь превратился в слух.
— Алиса одно время была моим психоаналитиком. Понимаю, в это невозможно поверить, но ты, пожалуйста, постарайся. Мы ведь вместе учились…
— Я поверю во что угодно, — кивнул я.
— Да, Алиса так и сказала: он тебе поверит. Кто-кто, а Двайт поверит… Двайт — это ты, — доходчиво объяснила Бриджид.
— Вы, значит, говорили обо мне? — Похоже, все свихнулись, один я нормальный.
— Конечно, есть мужчины, которые в большей или меньшей степени разделяют мои взгляды. Но, несмотря на их заявления, им не нравятся женщины вроде меня. Я не люблю поддакивать, я резкая и, пожалуй, слишком умная. Я нравлюсь только занудам, и то редко. Mais — ouvre tesyeux.[56]
С последним побуждением я согласился — хоть грамматическая конструкция была непривычная — и посмотрел Бриджид в глаза. Радужки потонули в широченных зрачках. Бриджид коленками, как рогаткой, прижимала меня к земле. Она взяла мою правую руку и приложила ее к своему сердечному клапану. Даешь отряд смугленьких Бриджид в каждый сумасшедший дом!
— Вообще-то, может, они не такие уж и зануды, просто мне не нравятся. Вдобавок левые, как правило, на редкость некрасивы. Не знаю почему. Наверное, антропологам стоит изучить этот феномен. Но ты… ты точь-в-точь такой, как рассказывала Алиса. — Не знаю, что за смысл вкладывала Бриджид в эти слова, но вид у нее был совершенно счастливый. — Я как увидела тебя в аэропорту, сразу почувствовала: ты меня примешь, ты будешь мой. Вот почему мне так странно было, что ты ко мне не прикасаешься. Обычно люди задаются этим вопросом — принимать друг друга или нет — только после секса. А до этого у меня никогда не доходило. Но мне кажется, что с тобой…
— Что?
— Мне кажется, — Бриджид помедлила, — что тебе кажется, будто я — часть природы. Например, как куст, или змея, или птица…
Я засмеялся. В голове тяжело перекатывался мозг.
— …или водопад, или поросенок, или лебедь.
— Бриджид, я люблю тебя. — Ничего себе! — Но я ведь ненормальный!
— Но ты меня любишь? Теперь мне не кажется, что ты ненормальный.
— А как же Алиса… Как она…
— Она дала фотографию в качестве доказательства. Веришь? Я у нее занималась в Нью-Йорке. Она меня консультировала. И она же посоветовала с этим кончать. Понимаешь?
Изумление осталось, адекватность вернулась. Бриджид забралась рукой мне в боксеры, принялась шебуршить, но вовремя вспомнила, что речь вообще-то идет о моей сестре.
Алиса, объяснила Бриджид, узнав, что я думаю, не поехать ли в Эквадор к Наташе («Очень славная женщина. Теперь мы настоящие подруги»), так вот Алиса решила свести меня (меня) с ней, то есть с Бриджид, которая на тот момент находилась в Эквадоре и как раз забила на свою злополучную диссертацию.
— Уговорить Наташу было нетрудно, потому что на самом деле ты очень всполошил ее своим обещанием приехать. Конечно, не обошлось без некоторых неудобств — например, пришлось потрудиться, чтобы Наташина квартира выглядела так, будто она действительно уезжает. Кстати, не думай, что Наташа — мне правда очень стыдно, — не думай, что Наташа полетела делать аборт. Она не беременна, по крайней мере неделю назад не была. Пришлось сочинить эту беременность, чтобы ты не рванул в аэропорт. А то вдруг в этот день вообще не было рейсов в Голландию? В любом случае Алиса говорила, что ты очень доверчивый и вдобавок не знаешь испанского. Твоя сестра — просто фантастическая женщина!
— Фантастически вероломная. — Я ушам своим не верил.
Бриджид снова пошебуршила у меня в боксерах и скроила полувиноватую улыбку.
— Ты ведь не очень сердишься?
Над нами нависал пласт меловой почвы; точно такой же наблюдался с противоположной стороны. В долине рос только перистощетинник лисохвостый пурпурный: зеленый вблизи, он в перспективе действительно сливался в пурпурную щетину. Бриджид прикасалась, как священнодействовала; перистощетинник отреагировал на появление ветерка неглубоким реверансом.
— Хорошо-то как! — выдохнул я.
Я по-прежнему лежал на спине, Бриджид сидела на мне верхом. Сквозь ее распущенные темные-претемные волосы я смотрел на солнце — и видел множество радуг. Справа от ее головы кренился ястреб — точь-в-точь как идущий на посадку самолет. Значит, я стал благословенной жертвой заговора трех восхитительных женщин. Это открытие заставило меня подскочить и вытряхнуть Бриджид из футболки.
— Не волнуйся, я не псих.
Ее бюстгальтер производил впечатление глазных пластырей, наклеенных на абсолютно здоровые глаза, и явно ей мешал, так что я его быстренько снял. При виде вздрагивающих грудей я не смог сдержать смех.
— Обещай, что с возрастом поумнеешь, — попросила Бриджид.
— Обещаю. Таким занудой стану, мало не покажется. Лет через дцать. — Я не сомневался, что так оно и будет.
Пока же я чередовал благочестивые поцелуи в лобик с бельгийскими поцелуями, а также с игрой языка на крохотных и твердых, как нераспустившиеся почки, сосках. Бриджид начала издавать звуки, характерные для женских особей Homo sapience и предвещающие переломный момент в физиологических ощущениях. Однако здесь, из уважения к мадемуазель или, если угодно, сеньорите Бриджид Лерман, я прерву свое увлекательное повествование. Возможно, читатель удовлетворится утверждением, основанным на личном опыте автора, а именно: для двоих весьма странных и испытывающих взаимное влечение молодых социалистов, между которыми не стоит ничего, даже презерватив, — так вот, для этих молодых людей взаимный оральный секс в лучших традициях 69 (то есть в одной из самых живописных долин экваториального пояса и под действием сильнейшего наркотика, усиливающего ощущения) является отличным средством выхода на новый виток отношений, особенно когда у женщины, находящейся сверху, оргазм сопровождается эпилептическими подергиваниями конечностей, каковые подергивания вызывают у мужчины мощную эякуляцию, сравнимую по силе со струей из садового шланга. Автор настоятельно рекомендует такое времяпровождение.
Кончив, мы развалились на траве. Опте animal post coitum triste est?[57] Как бы не так! Теперь, в новом, социалистическом состоянии, после секса я ощущал прилив радости и хотел повторить все сначала, причем немедленно.
— Бриджид, так что там с плодом? Кажется, я понял. Бриджид, я тебя раскусил — ты и есть этот плод!
При слове «плод» в глазах Бриджид мелькнула пратоска — возможно, прапамять услужливо подсунула картинку изгнания из рая, — а я вытащил из рюкзака наши древесные томаты. Мне хотелось съесть свой томат — надо же было чем-то заняться до следующей эрекции. Второй плод я протянул Бриджид. Я подумал, что древесный томат с успехом заменит пресловутое яблоко. В отличие от съедения последнего, его съедение не повлечет за собой кары. Я очистил плод армейским ножом. Фактически я не оставил ничего, кроме влажной мякоти, разделенной рыхлой перегородкой на три части. В одну из частей и вонзились мои зубы.
— Какая же вкуснятина эти древесные томаты! Похожи на гибрид персика с яблоком, но гораздо лучше и того, и другого. Давай это и будет наш с тобой плод? Я не стану пытаться его запатентовать. Клянусь. — Чем-то древесный томат напоминал наш аномальный роман.
— Вообще-то я имела в виду совсем другой плод — опасный…
— Хорошо. — Раз я теперь храбрый и решительный, значит, буду продолжать в том же духе. — Давай рассказывай про свой опасный плод. Я вслед за тобой что угодно съем. Mi casa, su casa[58], или как его там.
Примерно на этих словах стало ясно, что день уступил вечеру — полдюйма, но уступил. Было светло, как минуту назад, однако белый свет местами тронуло золотое тление.
— Плод. Или, может, наркотик. Са m’est egal.[59]
Эту последнюю фразу я не понял.
— Просто мне сначала представлялся фрукт, — продолжала Бриджид. — Достаточно его съесть, чтобы мир совершенно изменился. Вообрази, ты его ешь, и тебе вкусно и сочно, а изменения уже начались, причем необратимые.
— Так это и есть депортация из рая.
Бриджид пожала плечами — жест, на мой взгляд, недостаточно благочестивый.
— С того дня, как ты вкусил от плода, тебе достаточно прикоснуться к продукту или вещи, чтобы немедленно понять, как этот продукт или вещь попали к тебе в руки. Сейчас в мире не стало места магии вещей. Процесс их изготовления больше не тайна. Вещь попадает к человеку выхолощенной, стерильной, у нее нет прошлого, только конвейер. Понимаешь? А если мы съедим этот плод или наркотик…
Собственно, мы его уже съели. Сердце запрыгало.
— …нам хватит одного прикосновения ко всему, что выросло на земле или было сделано человеком, чтобы понять, как оно росло или делалось.
Голова кружилась — надо же, я не единственный философ на свете.
— Мы это почувствуем, — вдохновенно продолжала Бриджид. Я заподозрил, что в ее планы входило пробраться на водопроводную станцию и вылить «Сан Педро» в резервуар, из которого вода поступает в дома простых американцев. — Перед нами как будто дверь распахнется. Конечно, если процесс сопровождался болью, унижениями или чрезмерной усталостью, это от нас тоже не укроется. Жить в нашем мире с такой чувствительностью будет трудно. Зато и сам мир может измениться.
— Знаешь, мне как-то жаль бедных потребителей.
— Ты же называл себя социалистом.
— Да, называл, — подтвердил я. — Но ведь все жители западных… то есть северо-западных… короче говоря, богатых стран станут носить перчатки не снимая.
У меня оставался второй древесный томат. Я начал нежно его очищать.
— Черт возьми, Бриджид, мы никогда уже не сможем радоваться жизни! Этого-то я и боялся.
На землю сыпались аккуратные кусочки красно-желто-зеленой кожуры. Но я чистил древесный томат исключительно на автопилоте, глядя не на него, а на нечто совершенно другое. Такое ощущение бывает, наверное, если летишь над океаном, и вдруг крыло самолета задевает поверхность воды и, словно пену, смахивает с нее способность отражать, и ты видишь то, о чем всегда знал, читал, слышал, — кораллы, ушедшие под воду горы, животных и рыб, от планктона до нектона: пока плавающие трупы и уже улегшиеся на дно скелеты… Так вот я все это увидел отчетливо и в одно мгновение. Мало того, под воздействием отвара неолиберальный капитализм показал мне свое истинное неприглядное лицо. На душе стало санпедрово и санпедристо.
Я взглянул на Бриджид. Она, оказывается, все это время не умолкала. Сейчас она говорила вот что:
— Я хочу, чтобы ты радовался жизни. Но также я хочу, чтобы ты разделял мои убеждения. Вот почему я придумала этот плод. Ведь на самом деле его нет! Ну не странно ли?
Я тоже чуть не плакал — определенно все дело было в смутных предчувствиях. Мне наверняка придется вплотную заняться политической экономикой, чтобы подтвердить свою не нуждающуюся в подтверждениях интуицию. Однако я был намерен продолжать в том же духе — не только ради истины, но и ради Бриджид, удивительной и прекрасной по всем статьям, включая те, по которым она пока не стала удивительной и тем более прекрасной. Если присутствие просвещенного Двайта будет с завидной регулярностью скрашивать существование Бриджид, она, Бриджид, вскорости совсем избавится от недостатков.
— Держи. — Я протянул ей несколько долек древесного томата.
— Ты порезался.
Действительно, кровь из указательного пальца попала на нежно-оранжевую мякоть. Несмотря на это, Бриджид взяла зловещую дольку из окровавленных рук и съела ее.
— Надеюсь, у тебя нет СПИДа, — произнесла она, прежде чем слизнуть кровь с моего пальца.
И это было символично.
Я помог Бриджид встать, и мы пошли по склону горы, не поднимаясь и не спускаясь, держась канавы и имея все основания предполагать, что она приведет нас к нашему спа-коттеджу.
— Что-то есть неправильное в том… — начал я.
— …чтобы возвращаться той же дорогой, что пришли, — подхватила Бриджид.
По-прежнему надо было отслеживать пауков. Однако в моих глазах пауки утратили зловещий ореол, и я простил этих отовсюду гонимых заложников эволюции. Продвинутые приматы вроде меня — совсем другое дело: им (нам) никакая эволюция не указ.
Мы шли молча, держась за руки, когда дорога позволяла, и наконец добрались до тропы, убегавшей вниз к отелю. Мы стали спускаться, я первый, Бриджид за мной; одновременно со спуском и с наступлением сумерек ослабевало действие наркотика, и наша эйфория стремительно шла на спад. Тропа уперлась в лужайку; перед нами были бунгало, в некоторых уже горел свет, подчеркивая быстрые сумерки.
Я обернулся и поцеловал Бриджид. Сумерки сгущались, в мире стремительно темнело, новые Адам и Ева на ощупь искали спасения от темноты — последняя казалась мокрой и вязкой.
Я сделал полусимволичный шаг с невидимой тропы на газон и провозгласил:
— Да будет этот час первым часом моей новой жизни. Начинаю отсчет: час первый, год нулевой.
— Не говори так.
— Почему? Давай вместе: День Первый! Год Нулевой!
И Бриджид поведала мне, как красные кхмеры, захватив в 1975 году Пномпень, тоже объявили Год Нулевой и принялись с энтузиазмом резать и морить голодом своих собратьев-камбоджийцев и угробили около двух миллионов.
— С социализмом все не так просто, — подытожила она, когда мы уже подходили к бунгало.
— Намек понял, — заверил я.
По мощенной камнем дорожке шла Амира в купальнике и с полотенцем на плечах. Улыбаясь широкой улыбкой соучастницы, она воскликнула:
— Теперь вы точно тронулись! Классно торкает, да?
— Все было замечательно. Кроме пауков, — отозвалась Бриджид.
— Я стал социалистом, — похвастался я.
— Демократическим социалистом, — напомнила Бриджид.
— Совершенно верно. Демократическим. Который никогда не опустится до насилия.
— Вообще-то, — сказала Амира, — мы тоже здорово отъезжали, пока кто-то не помянул палестинцев и на несколько минут всем кайф не поломал. — Она пожала плечами — банально, как обычный человек, а не как Бриджид. — Если тяпнул «Сан Педро», о политике лучше не говорить.
— Почему же, если прикольно? — возразил я. — Нас, демократических социалистов, никакие темы не обескураживают.
Глава двадцать четвертая
На следующее утро голова была свежая до такой степени, что я с ужасом решил, будто вчерашние происшествия мне приснились. Я вышел на балкон, бросил взгляд на собственные боксеры, и все встало на свои места.
Я огляделся. Солнце растапливало остатки тумана, и я изобразил несколько приветственных асан. Высаженные вдоль террасы маки трепетали на утреннем ветерке, а небо, огромное, бледное, тихонько гудело словно колокол — несмотря на то, что я никогда еще не был таким трезвым. Я обернулся и заглянул в комнату. Обнаженная Бриджид сидела на постели.
— Да здравствует демократический социализм! — заорал я. — Только еще более демократический и еще более социалистический, чем когда-либо в истории!
— Что я наделала? — С этими словами Бриджид с головой забралась под одеяло. Но я-то знал, что она придуривается, а она знала, что я придуриваться и не думал.
Я успел получить несколько оргазмов в самых разных позах, пока Бриджид услаждала мой слух сказками о неоколониальной зависимости, жестокой власти метрополий и коррумпированности местной элиты.
— Не может быть! — реагировал я.
— Да что ты! — возмущался я, одновременно кончая.
— Вот уроды! — мурлыкал я в пушистое ушко.
Когда мы наконец спокойно улеглись, я вспомнил о парне из самолета.
— Бриджид, а как получилось, что у бизнесменов в Колумбии с профсоюзами никаких проблем?
— Просто членов профсоюзов часто убивают парамилитаристы. Но сейчас, — и Бриджид свернулась у меня под боком, — сейчас я не хочу говорить о политике. Сейчас говорить нужно о чем угодно, только не о ней.
Что угодно оставалось главной темой разговора на всем протяжении пути в город Кункалбамбу.
Нам обоим нужно было проверить электронную почту, поэтому мы направились в местную е-mailярию. Больше всего мне хотелось получить письмо от Алисы, но в ящике обнаружился только издевательский бюллетень от Коалиции с Сэккетт-стрит, проповедующий глобальную справедливость:
В юридической системе и практике надзора, имеющих место в Соединенных Штатах, начались долгожданные важные изменения. Хотя они идут по большей части без проведения соответствующих референдумов, многие сознательные граждане сами всеми способами готовы помочь министру юстиции мистеру Эшкрофту. Один из самых простых способов — пересылать всю свою электронную почту нашему протектору. Министр юстиции будет внимательно прочитывать каждое письмо в поисках фактов, которые указывают на то, что вас необходимо взять под стражу без предъявления обвинения, без суда и без адвоката. Возможно, эти шаги следовало предпринять гораздо раньше.
Пожалуйста, пересылайте все электронные сообщения по указанному ниже адресу.
Вот что я написал Алисе и министру юстиции:
От: wilmerdinqansich@mail.fianet.com
Кому: biq.al@muqqletonia.net
Переслать: ashcroft@iustice.gov
Алиса, в один прекрасный день… впрочем, я совсем не сержусь и никогда по-настоящему не сердился ни на тебя, ни на кого другого. Но теперь все изменилось! Я ОЧЕНЬ ЗОЛ — не на тебя, а на тех, кто изобрел неолиберальную глобализацию и неоконсервативную реакцию, и я намерен кое-что предпринять против этих несознательных граждан. Что — я пока не решил, зато решил многие другие вопросы, а к тому времени, как мы увидимся, наверняка решу еще больше, о чем не замедлю тебе сообщить.
Пока же я весьма польщен тем, что ты в своей сестринской любви разработала хитроумный план. Большое спасибо. По-моему, каждый втайне мечтает пасть жертвой подобного заговора. Потому что в результате обманчивость любви временно берет верх над бессмысленностью жизни.
Не знаю, что дальше произойдет со мной и с Бридж. Мне кажется, неправильно строить слишком далеко идущие планы. Возможно, из меня получится сказочный муж — если меня пожелают увидеть в этом качестве. Но мы очень рады, что все так вышло. На самом деле я уверен, что не смогу выразить свою благодарность тебе, поэтому и не буду ее выражать.
Как у тебя дела? Что ты делаешь? Читаешь? (В смысле, понятно, что в этот самый момент ты читаешь, но я о другом…) Позавчера я так отчетливо представил тебя в полном одиночестве…
Всего.
Двайт.
Прежде чем приняться за остальные письма, я набросал для бывших одноклассников, а также для министра юстиции, следующее сообщение:
Привет выпускникам школы Святого Иеронима 1992 года! Особый привет министру юстиции Эшкрофту!
Просто хочу напомнить, что обратный отсчет начался. Всего через пять дней мы встретимся — и оторвемся!
Надеюсь, что каждый из вас выработал устойчивую толерантность к алкоголю и успел зарезервировать номер в отеле. Тем, кто не успел (не выработал), придется ночевать под мостом или напрашиваться в постель… нет, не ко мне. Меня заняли. Хотите подробностей? Или уже слышали о моем необычайном путешествии в Эквадор? А может, вам не терпится узнать о новом лекарстве, исцеляющем ум и волю? Его скоро будет предлагать каждый семейный врач (конечно, только лицам, имеющим льготы, медицинскую страховку и этого самого семейного врача). Если вы к числу этих лиц не принадлежите, вам придется лечить голову в канадских лесах.
С момента выпуска я сделал не так уж много, однако судьбоносные события умудрились произойти даже со мной. А если я такой интересный, какие же тогда остальные? Увидите, если придете на вечер встречи.
Д. Уилмердинг, агент по делам выпуска.
Папе и маме, каждому отдельно, с неизбежной копией министру Эшкрофту, я написал так:
Дорогие мама и папа, разведенные, но в моем сердце неразлучные!
Я пишу вам из города Кункалбамбы, что в Эквадоре, и спешу сообщить хорошие новости — надеюсь, они окажутся хорошими и для вас.
Я встретил девушку. Удивительно и необъяснимо, но эта девушка, или, точнее, в тридцать лет уже вполне себе женщина, а также бельгийка, хотя и аргентинского происхождения, — так вот эта девушка — подруга Алисы. Алиса, как нам известно, личность неоднозначная. В этой связи вы, возможно, не слишком удивитесь, если я скажу, что Бриджид убедила меня стать социалистом! Не волнуйтесь, социалистом демократического толка. (Мы против насилия, хотя время от времени, насколько я понял, не брезгуем разнообразными уловками.)
Поскольку вы, наверное, захотите узнать, при каких обстоятельствах произошло мое обращение, а я не умею врать, признаюсь, что я стал социалистом во время секса, который ты, папа, а вслед за тобой и я считаем относительно безопасным для здоровья, но оказывающим сильное локальное действие галлюциногеном.
Тем не менее я счастлив сообщить вам, что мой внутренний голос сопротивлялся до последнего.
Вы (особенно мама) также будете рады узнать, что отныне я намерен вести умеренно воздержанную жизнь (кроме вечера встречи, где две силы — моей воли и наседающих однокашников — явно будут неравны). Также я намерен принять участие в изменении мира в лучшую социально-демократическую сторону. В этой связи я почему-то надеюсь, что сумею зарабатывать денег достаточно не только на предметы первой необходимости, но и на новые диски, если буду точно знать, что ни у кого из моих знакомых нет этого диска и я не смогу поиметь с него копию. Поэтому любая финансовая поддержка с вашей стороны будет принята с огромной, хотя, пожалуй, недостаточной благодарностью с моей стороны.
Что бы ни говорили, я не намерен вести классовую борьбу против тебя, папа, только потому, что ты являешься одним из многих избирателей, голосующих за правых, а следовательно, не делаешь погоды в политике. Принимая во внимание, что ты мой родной единственный отец, я заявляю, что департамент отца для меня, социалиста (демократического), превалирует над всеми остальными департаментами.
Папа, как поживают собаки? Ощущаешь ли ты вселенское одиночество? Ощущаешь? Я так и знал. Мама, а как твои попугаи? Сам я очень рад, что стал принимать «абулиникс», лекарство от хронической неспособности принимать решения, о котором — мне очень стыдно! — я ни словом не обмолвился ни тебе, мама, ни тебе, папа, но которое действительно помогает, и еще как! Возможно, вы сочтете меня нахальным, однако, по-моему, вам обоим «абулиникс» бы не повредил — вы ведь после развода находитесь в подвешенном состоянии (по-научному это называется абулия) и, наверное, хотели бы как-то уже спуститься… подняться… обрести твердую почву. В общем, попробуйте принимать «абулиникс» — и сами увидите, что я имею в виду, но не умею выразить.
Я хочу поблагодарить вас обоих за ваши методы воспитания, которые не всегда казались мне идеальными, хотя сейчас я понимаю, что, если бы вы ругали меня чаще, я бы только стал агрессивным и, пожалуй, менее отходчивым.
Папа, теперь ты видишь, что я очень часто думаю о тебе и о собаках, и — хотя ты мой отец и поэтому, согласно человеческой природе, почти враг — я думаю о тебе и о них с невыразимой любовью. Мама, такую же, если не более сильную, любовь я питаю к тебе, хотя ее уравновешивает уважение, потому что ты — женщина с принципами и до сих пор по понятным причинам не одобряла мой образ жизни.
С любовью, Двайт Белл Уилмердинг, ваш родной и единственный сын, исцеленный «абулиниксом» в возрасте двадцати восьми лет и почему-то довольный жизнью в этом кошмарном мире.
P.S. Сочувствую, что оба ваши ребенка стали левыми. Может быть, учитывая уровень нынешней медицины, попробовать еще раз? Вдруг новые дети будут более удачными?
Я уже кое-что рассказывал о североамериканском этапе своей жизни, поэтому не стану здесь приводить все полученные и отправленные мною в тот день письма. Однако близящееся к завершению повествование вопиет о включении в него еще одного письма, что я сейчас и сделаю.
От: dan rorschach@defunct.com
Кому: wilmerdinaansich@mail.fignet.com
Тема: Re
Суицидальные наклонности? Двайт, это не к добру.
Надеюсь, ты читаешь это письмо, а стало быть, жив. Если же ты мертв, клянусь, я устрою в твою память вечеринку в лучших традициях Чемберз-стрит периода 1997–2001 гг.
КСТАТИ: НЕ ВЗДУМАЙ КОНЧАТЬ ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ! Насчет «абулиникса» ты таки прав. У добровольцев действительно наблюдались суицидальные наклонности, не говоря уже о случаях самоубийства, причем наблюдались в прискорбном процентном соотношении. Очевидно, решение разом покончить со всем и является первым важным решением, принимаемым некоторыми людьми. И, как показывает практика, последним.
Но! Самое интересное, Двайт, что суицидальные наклонности появились у тебя. Потому что ТЫ НИКОГДА НЕ ПРИНИМАЛ «АБУЛИНИКС»! Прости. Мне правда очень стыдно. Я сам узнал об этом только позавчера.
Оказывается, я стащил твою баночку из партии плацебо. В инструкции об этом, по понятным причинам, не написали ни слова. Узнать можно было только из рецепта. А я не проверил. Мне это даже в голову не пришло.
Прости, что так получилось. Я правда раскаиваюсь. Я знаю, ты и поездку-то затеял отчасти — или от целого? — потому, что по неизвестным мне причинам хотел, чтобы лекарство подействовало именно в Эквадоре. (Придется тебе рассказать, как оно было там, да еще с Наташей. У меня все одно к одному — и без изменений. Штудирую закон подлости.)
Возможно, ты стал подумывать о самоубийстве потому, что ждал Эффекта, а его не последовало. Мне очень жаль. Могу организовать для тебя официальный курс лечения, когда приедешь. Кстати, когда ты приедешь?
Слегка беспокоящийся о тебе,
Дэн.
P.S. Надеюсь, на почве плацебо ты не открыл у себя гомосексуальные наклонности?
Я написал Дэну, что жив, здоров и по-прежнему гетеросексуален, только слегка заинтригован, и крутнулся в кресле.
— On у va?[60] — сказала Бриджид.
Она закончила с письмами и успела рассчитаться со служащим е-mailярии. Я поднялся и смерил его взглядом. Сутулый, похож на вечного студента, щеки впалые, губы тонкие, в глазах ожидание нездешней любви, и волосы уже заранее отпущены и зачесаны назад.
— Cuanto?[61] — спросил я и вручил ему пачку захватанных и мягких, как застиранная майка, однодолларовых купюр. Со сдачей в кулаке я вышел на улицу.
Через дорогу простиралась городская площадь, пустая и с удручающе сухим фонтаном посередине. Бриджид взяла меня за руку и стала спрашивать, что случилось. Старик в соломенной шляпе и засаленном пиджаке уселся на скамейку и принялся, ковыряя в зубах, смотреть на нас — потому что больше смотреть ему (и вообще) было абсолютно не на что.
— Бриджид, ты знаешь, что такое плацебо?
— Знаю: это нейтральная субстанция, которую под видом лекарства дают группе добровольцев для чистоты эксперимента.
Я кивнул.
— А зачем тебе? Двайт, у тебя что-то случилось?
— Ровным счетом ничего. — По глазам Бриджид я понял, что она поверила. — Все в ажуре.
Эпилог
В бутике на Элизабет-стрит мы присмотрели для Бриджид жиденькое летнее платье, намекавшее на ее сочувствие движению хиппи, но не выпячивающее этот факт, и одновременно развеивающее впечатление о Бриджид как о синем чулке демократического социализма. Я протянул кассирше карту «Visa», а Бриджид сказал:
— Вроде сшито не в сыром тайваньском подвале в четвертую смену. Тогда бы оно раз в десять дешевле стоило. Как думаешь?
— Двайт, таки сразу видно, что ты эти деньги не своим горбом заработал. — Дэн, околачивающийся рядом, округлил свои кошачьи глаза.
— Видишь ли, мне кажется, что посредством долгов по кредиткам я сближусь с неплатежеспособными народами третьих стран, не говоря уже о доверчивых американских потребителях. И потом, я хочу блеснуть на вечере встречи. Покажусь с шикарно одетой красавицей-невестой, на новой шикарной машине… — Машину мы, разумеется, позаимствовали у папы.
— Ну-ну. Выходит, в Эквадоре тебя постиг кризис среднего возраста… Двайт, разуй глаза — люди так больше не поступают. Сейчас неактуально лететь в Латинскую Америку, принимать психоделики и под лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» изливать сексуальную энергию на прелестную социалистку. Извини. — Последнее слово Дэн адресовал Бриджид. Затем продолжил проповедь: — Сейчас — это тебе не тридцать пять лет назад.
— Мы не отступим до их полной капитуляции, — заверил я.
— До чьей полной капитуляции?
— Их. Плохих парней. Смотри, разве не странно, что неолибералы и неоконсерваторы — одни и те же лица? Спорим, ты об этом не знал! По-моему, настало время разобраться с терминологией.
— И не говори. Начать рекомендую со слова «социализм».
— Двайт, — вмешалась Бриджид, — объяснил мне свою концепцию. Он одевается в старые футболки и рваные шорты, тем самым сообщая окружающим, что я люблю его за его персональный магнетизм. Потому что он разгильдяй и социалист.
— Это я научил ее слову «разгильдяй», — похвастался я.
Мы отрывались все утро. Скачали через мобильник «Лучшие хиты «Air Supply»», и я уже предвкушал, как стану изгаляться на аллее кампуса школы Святого Иеронима и орать «Солнечный день — это повод для секса…», а Бриджид будет подтягивать припев своим приятным меццо-сопрано. Пока же я прикалывался над полицейскими. За окнами белой папиной «ауди» Коннектикут сменился Массачусетсом, а затем Нью-Гэмпширом — по обеим сторонам дороги впечатляюще высились голые гранитные глыбы.
— Бриджид, меня, возможно, попросят сказать речь. — Я переключил скорость. — А я не знаю, что говорить. Какие у тебя соображения?
— Говори покороче, — посоветовала Бриджид.
Я вытащил из кармана блокнот и поспешно свернул на обочину.
— Вот, Бриджид, напиши здесь: «Краткость». Но этого мало. Нужна тема.
— Перечисли самые важные события за последние десять лет.
— Даже не знаю. Развал Советского Союза и, как следствие, беспрецедентная возможность управлять миром посредством законов и правосудия? Каковое правосудие Штаты скомпрометировали своим стремлением к глобальной гегемонии и принципом «Все животные равны, но некоторые равнее»? Да, еще не забыть сказать о навязанной Вашингтоном и не оправдавшей себя модели глобальной экономики и распространении интернета. А? Как ты думаешь, Бридж? О терроризме упоминать не буду, потому что не знаю, как с ним бороться.
— Только убивая террористов. Больше никак.
— Пожалуй.
— Все это хорошо, но что случилось лично с тобой за последние десять лет? Если не считать меня.
— Почему это тебя не считать? Как раз можно не считать все остальное. Хотя ты права. Поменьше определенности. Запиши еще: «Работа и любовь». Найти хотя бы что-то одно за десять лет — уже хорошо.
Бриджид оказалась отличным штурманом; по зеленым знакам мы быстро добрались до города с намекавшим на национальную терпимость названием Комити и наконец попали на дорогу, ведущую к Утиному пруду. С детства меня впечатлял момент неожиданности, когда, один за другим отметая повороты, игнорируя развилки и перекрестки, путешественник по неведомой причине оказывается в пункте назначения — и неизменно удивляется, что оказался именно в нем. Перед нами замаячили красные кирпичные стены школы Святого Иеронима. «Ауди» последней модели — она и есть «ауди» последней модели.
— Хит номер пять! — провозгласил я, и из стерео потекла вязкая композиция. Мы ползли по стоянке, ища, где бы приткнуть машину. Бриджид подтягивала рефрены, как оперная дива со смертного одра, — «по-о-о-о-вод для се-е-кса». Мы удостоились нескольких завистливых взглядов — как от нынешних, так и от бывших питомцев школы. Я выбрался из машины, небрежно хлопнув массивной и очень дорогой белой дверцей, — и наткнулся на старину Эндрю Мулланда; теперь он был спортивным промоутером в Сан-Франциско.
— Старина Уилмердинг! — произнес он, обнимая меня. Я его тоже обнял. На самом деле объятия оказались одновременными. — Классный музон. Не говоря уже о тачке.
— «Air Supply» всегда недооценивали. Познакомься, это Бриджид.
— Очень рад.
— Я тоже очень рада.
Бриджид смотрела на ярко-зеленую траву, на здания в колониальном и неоготическом стилях, на выкрашенные белой краской изгороди и явно разделяла мою мысль — насколько нелепо было отдать такого индивидуума, как я, в такое заведение, как школа Святого Иеронима.
— Похоже, это весьма выходящая из ряда вон школа, — предположила Бриджид.
— Конечно, ведь сюда приняли Уилмердинга, — подтвердил Мулланд.
— Не забывай, старина, сюда приняли и тебя, — отреагировал я.
— Ну, когда меня принимали, я еще головкой не хворал.
Здороваясь, пожимая руки, представляя Бриджид, хлопая по подставляемым плечам, улыбаясь во все семьдесят семь зубов и даже успевая на ходу целовать разнополых малышей, точно кандидат на пост президента, я по дорожке из красного кирпича проследовал через прилизанный сад и наконец доставил собственную персону, а также Бриджид и Дэна, к зданию старшей школы. Воссоединение класса было запланировано в Нижней столовой, где на стенах были вырезаны наши имена и где нас ждала кошмарная столовская еда, подзабытая за десять лет, зато теперь вполне легально сдобренная виски, водкой и пивом.
— Да ты настоящая спортсменка! — сказал я, переводя дух между приветствиями.
— Здесь гораздо легче, чем в сельве.
По степени сохранности в запомнившемся мне виде школа походила на опечатанное место преступления. За десять лет не изменилось ровно ничего: красные кирпичные стены по-прежнему намекали на неприступность, сосны по-прежнему возвышались вокруг прудов, стабильно подсвечиваемых синим с наступлением темноты, и остро пахло юностью.
Абсолютно лысый Артур Риббл (в настоящее время специалист по болезням головного и спинного мозга) спросил об Эквадоре. Я сообщил, что первое народное восстание в Южной Америке произошло в Кито в 1809 году.
Когда моим путешествием заинтересовалась Луиза Колдер (ныне нью-йоркский художник-инсталлятор), я ответил так:
— В сельве вода зеленая, мох зеленый, орхидеи зеленые, попугаи зеленые. Деревья, все до единого, тоже зеленые. Я насмотрелся на зеленый цвет на всю оставшуюся жизнь, но…
— Двайт, да ты совершенно не изменился!
— …но только представь, сколько у зеленого оттенков! Вот бы классная получилась инсталляция!
В Нижней столовой было почти темно и очень шумно из-за бесконечных «Да это же ты!», произносимых на всех уровнях громкости, от шепота до визга. Каждый определенно радовался каждому: если однокашник выглядел шикарно, на него было приятно посмотреть; если он выглядел неважно, смотреть было куда приятнее. Одной рукой я стискивал запястье Бриджид, другой тряс ладони школьных приятелей. Краем глаза я не столько увидел, сколько дорисовал неподражаемый мультяшный полумесяц, и мне вдруг стало невыразимо спокойно — так, наверное, бывает, когда понимаешь: все кончено, поздняк метаться. Конечно, это улыбалась Наташа ван дер Вейден — кто еще мог стоять вроде и рядом, но поодаль? Я бросился к ней, и мы крепко обнялись.
— Вот все-таки решила прийти, — объяснила Наташа. — Давай колись! Я сгораю от любопытства. Алиса мне сказала, что все получилось, как она планировала. Привет, Бриджид.
Наташа и Бриджид опасливо пожали друг другу руки.
— Что вы как неродные! Обнимитесь!
Они с готовностью повиновались; правда, я совсем не имел в виду, чтобы Наташа чмокнула Бриджид в губы и принялась с энтузиазмом шептать ей что-то на ухо.
— Наташа, спасибо за участие в заговоре. — Надо же было ее как-то отвлечь.
Она оторвалась от Бриджид и сообщила:
— Мне всегда очень нравилась Алиса.
— Мне тоже. Правда, сейчас уже не так. То есть да, но по-другому. Очень.
— Как думаешь, Бриджид, стоит попытаться его понять?
— Не стоит, — отвечала Бриджид. — На расшифровку одной фразы уйдет неделя, не меньше.
Накрыли на стол. Я уселся там, где разглядел свое имя, и стал смотреть на Наташу, сидевшую в противоположном конце комнаты. Улыбка через весь зал, объятия, поцелуйство с Бриджид, и вот теперь взгляды через стол развеяли нимб, оторвали крылышки — и я с тоской наблюдал, как Наташа вприпрыжку убегает из моих фантазий и занимает свое настоящее место — место живого человека в единственном известном нам мире. Пустота под ложечкой тихонько ныла.
Нам подали говяжьи отбивные под соусом из их же собственной застывшей, разогретой и успевшей снова застыть крови. Я разрезал свою отбивную на аккуратные квадратики, и в мыслях не имея их есть, затем хлебнул холодного молока и налил себе виски, предусмотрительно кем-то принесенного.
Вскоре за столом начали скандировать: «Даешь речь! Даешь речь!»
Я присоединился к общему хору, однако через несколько секунд мой сокомнатник Форд, он же однокашник Форд, он же старый добрый Форд — так вот, Форд ткнул меня в плечо и сказал:
— Эй, старина! — Я слышал только «Даешь речь!» — Уилмердинг! Старина! Двайт!
— Что? — очнулся я.
— «Даешь речь» относится к тебе. Речи ждут от тебя. Давай, люди уже выпить хотят, а просто так не станут.
Я поднялся, как будто всю жизнь только и делал, что толкал речи (на самом деле мне их толкать пока не приходилось), и три раза звякнул столовым ножом о высокий бокал, который предварительно опустошил. Пожалуй, я переборщил с виски. Бриджид сунула мне в ладонь блокнот.
— Хм… — Я прочистил горло и несколько повысил голос. — Хм-хм!
В столовой стало значительно тише. Народ практически замер, в глазах у многих читалось почти заинтересованное ожидание; при мысли, что каждому моему слову, чтобы достучаться до сознания целого выпуска, придется умножиться в среднем на восемьдесят пять, сердце мое забилось чаще. И это ведь еще не все пришли. Около сорока человек просто не явились, а три человека не смогли прийти по причине суицида, рака и падения с мотоцикла на скользкой дороге в Восточном Орегоне с летальным исходом — именно в такой хронологической последовательности.
— Краткость, — начал я. — Вот что написано у меня в плане речи. В конце концов, краткость — это соль жизни. По-моему, раз десять лет промелькнули как одно мгновение, будет только логично, если моя речь окажется краткой и я не задержу вас дольше, чем планировал.
Сзади я услышал женский шепот:
— Смотри, у него ноги совсем безволосые. И руки тоже. Он же был самым волосатым…
— Гм-гм! Когда я пришел в эту школу, я был обычным третьеклассником, не более волосатым, чем все остальные третьеклассники, а точнее, совсем не волосатым. Однако время шло, я рос — и становился все волосатее и волосатее. Все верно. Все так и было. И вот к моменту развала Советского Союза — само по себе это было событие со знаком плюс, и я ему очень радовался, — так вот к этому моменту я сделался невероятно волосатым, и судьбе было угодно оставить меня в таком состоянии почти на десять долгих лет.
— Он что, под кайфом? — проворчал кто-то.
— Я это к чему говорю, Вик? — Я посмотрел на Виктора Мерфи, ворчуна. — К тому, что мы вольны сами распоряжаться своими мозгами и решать, под кайфом им быть или не под кайфом. Видишь ли, Вик, если индивидуум, отличающийся, подобно мне, необычайной волосатостью, способен натереться с ног до головы соком дерева бобохуариза, которое растет в сельве Эквадора, и стать гладким, как младенец; если, к примеру, звезда спорта вроде Макмикина, которого я имею удовольствие видеть среди нас…
— Похлопаем!
— Макмикин!
— …если Шон Макмикин, говорю я, способен стать гребцом олимпийского уровня и увеличить свое сердце на пятьдесят процентов по сравнению с обычным человеком; если некоторые из вас на выпускном вечере имели, по правде говоря, весьма непрезентабельный вид, а теперь выглядят как картинки…
На этих словах послышались сдавленные смешки.
— …я имею в виду, если мы все можем измениться — и меняемся, причем кардинально, внешне, — то насколько же проще измениться внутренне. — Последовали два-три жидких хлопка. Вообще-то я рассчитывал на большее. — Много лет я и не пытался изменить свое мировоззрение; оно само все время менялось. Однако эти изменения, дорогие мои однокашники, были обречены на провал. Потому что моя умственная неразборчивость оказалась разновидностью невинности.
— Че-гооооо?
— Уилмер-динг! Уилмер-динг! — скандировали Форд и компания, отбивая такт вилками и ножами.
— Да, я же решил быть кратким. Сама жизнь коротка. А юность еще короче. Правда, не для всех. Множество людей, особенно в странах третьего мира, умирают совсем молодыми. Как бы то ни было, наша с вами юность затянулась, что весьма прискорбно, особенно в наше время, когда на Земле одновременно живет больше людей, чем жило во все предыдущие времена, вместе взятые, а каждый наш поступок приобретает особое, новое значение. Вдобавок в этой самой связи каждый индивидуум приобретает определенную степень неуместности — из-за количества людей, о котором я уже говорил. Так вот для нас, живущих в наше время, юность растянулась до размеров, не имеющих аналогов в истории человечества. В завершение своей речи я хочу выразить благодарность нашей с вами однокласснице Элейн Уэддлтон, которой сейчас с нами нет, потому что она является председателем профсоюза в округе Колумбия и в настоящий момент ведет борьбу с нам подобными и особенно с нашими вечно живыми родителями.
— Власть народу!
— На фига?
— Есть у кого-нибудь сырое яйцо?
— Помидор подойдет?
— Уилмердинг — новый мессия!
— Спасибо, — кричал я, пока лез на стол. Оказавшись на нем, я продолжал: — Что я хочу сказать? Что юность, быстротечная юность, бесконечная юность, дается нам для того, чтобы мы взвесили в своем вечно меняющемся сознании все возможности. Ибо пришло время сделать выбор. И многие из вас его уже сделали. Надеюсь, не ошиблись. Затрудняюсь сказать, что вы выбрали. Некоторые, возможно, демонстрируют сомнительную пригодность к менеджменту, характерную для правящего класса Америки. Для меня это — все равно что плохая работа и никакой любви. Я тут заглянул в блокнот, и в нем написано «работа и любовь». И то, и другое я нашел в женщине, которая пришла сегодня вместе со мной, в Бриджид Лерман. Она одновременно является наследницей бельгийской корпорации по производству лекарств и моей невестой. — Я взглянул на прелестную Бриджид. Она смеялась и мотала головой. — Хотя она, похоже, готова отказаться и от первого статуса, и от второго. В любом случае я — ее жених. Я так решил. А еще я — работник в саду глобальной справедливости. И все это произошло примерно в одно время с моим избавлением от волос. На теле. Потому что с них я начал. Они прошли через мою речь, как сквозная метафора. Если вы заметили. В завершение я хочу как агент по делам выпуска попросить вас кое о чем. Под занавес…
— Какой идиот его выдвинул?
— А именно: я хочу попросить вас всех подумать о том, какие изменения, аналогичные потере волос и имеющие такое же значение в психологическом аспекте — конечно, в том случае, если вы действительно считали себя чересчур волосатыми, — какие, говорю я, изменения заставили бы лично вас почувствовать удовлетворение от лично ваших решений? Мне кажется, что у каждого из собравшихся в этом зале в силу жестоких социально-экономических условий имеется целый длинный список решений, ожидающих принятия, а это тяжело в моральном смысле. Поэтому без дополнительного шума…
— Много шума из ничего!
— Давай, Двайт! Продолжай в том же духе! — орал верный Форд.
— …без дополнительного шума позвольте мне сделать запоздалый вывод: самая странная вещь в отношении свободы выбора заключается, по-моему, в следующем: никто не знает, что с ней делать, до тех пор, пока не предоставит ее другим. Что сыграло серьезную роль в ужасающем замешательстве, образчиком которого я — заметьте, совершенно бескорыстно, — и был до недавнего времени. До тех пор, пока в моей жизни не появились бобохуариза, любовь и демократический социализм.
— Что-что?
— Как приверженец этой идеологии я хочу сказать следующее: только в случае, если окружающие обладают той же свободой, что и мы, причем мы свою свободу не ценим, разбазариваем ее направо и налево — так вот, только в этом случае мы сможем в конце концов понять, что нам делать со своей свободой. Поэтому давайте останемся верны детям, принадлежащим к привилегированному классу, которыми мы когда-то были, — останемся верны тем, что заслужим себе доброе имя и сотрем классовые границы!
— Уилмердинг рехнулся!
— Да нет, просто перебрал…
— Он — новый мессия! — Интересно, кто это уже во второй раз называет меня мессией?
— Он ничуть не изменился.
— Он изменился полностью.
— Да заткните уже ему рот!
Я стал слезать со стола; несколько человек на всякий случай хлопали. Остальные разделились: половина скандировала: «Двайт Белл Уилмер-динг! Двайт Белл Уилмер-динг!», другая половина старалась перекричать первую более привычным «Сэ-Шэ-Ааааа! Сэ-Шэ-Ааааа! Сэ-Шэ-Ааааа!».
Прежде чем сесть, я в последний раз возвысил голос и обратился к аудитории:
— Я хочу закончить простым заявлением, с которым вы не сможете не согласиться, не важно, являетесь ли вы ура-патриотами, бурно реагирующими на каждое обещание демократического социализма, или нет. Так вот спасибо всем, кто пришел на этот вечер встречи! Вы все прекрасны! Пожалуй, только внешне — зато уж тут не к чему придраться!
Народ стал радостно чокаться; правда, не весь — небольшая прослойка бормотала явно что-то нелицеприятное и явно в мой адрес.
— Спасибо, Двайт!
— И тебе спасибо. — Я обращался к Мартину Громану — это он сказал «Спасибо, Двайт!». Мартин был телесценаристом в Лос-Анджелесе. — И тебе спасибо, и тебе, и тебе! — вертелся я в разные стороны. — Спасибо за внимание! Спасибо, что пришли! Спасибо, что десять лет назад выбрали агентом именно меня! Это был ваш вклад в демократию. Спокойной ночи! — Я поклонился. Примерно две пятых хлопали. Над ухом просвистел помидор.
Второй помидор достиг цели в виде моего подбородка как раз в тот момент, когда я хлопнулся Бриджид на колени. И в тот же момент я совершенно отчетливо понял — так же отчетливо, как ощущал сквозь платье Бриджид ее же бедра, — я понял, что должен написать вот эту книгу. Я чувствовал, что давно это решил — на подсознательном уровне, — и теперь решение обрело форму. Мне захотелось написать мемуары, от которых будет больше пользы, чем от моей попытки убедить восприимчивых и незрелых молодых людей бороться за лучшие экономические условия и более справедливое распределение свобод, каковые факторы я по причине недостатка в материалах и с целью избежать недопониманий объединил термином демократический социализм. Еще мне хотелось расширить горизонты читателя относительно иностранцев и побудить его побывать в Латинской Америке. Поздно ночью у меня появилась надежда, что все вышеперечисленное удастся.
Таким образом, перед вами книга, которую я писал в течение нескольких недель, преимущественно по ночам, торопясь, вот за этим столом, вот в этой холодной меблированной съемной квартире у подножия горы в городе Кочабамба, что в Боливии. В этой самой Кочабамбе, где я несколько месяцев назад начал работать экономическим обозревателем, проживает четыреста тысяч человек. Я стараюсь закончить книгу к утру — как раз наступает летнее солнцестояние, которое в Северном полушарии является зимним солнцестоянием, — а потом, когда закончу, просто не представляю, что стану с собой делать.
В комнате совершенно темно, только настольная лампа горит, и совершенно тихо, так, что я слышу собственное дыхание — на дворе глухая ночь. Приблизительно через полчаса начнется рассвет, и все собаки Кочабамбы при появлении солнечных лучей залают так, будто видят их впервые в жизни. Пока же солнце не взошло, я чувствую себя одиноким и всеми покинутым, хотя на самом деле я не только не покинут, но и очень счастлив — правда, счастье мое странное, болезненное: меня гложет тоска по Бриджид.
Бридж сейчас в Буэнос-Айресе, работает во французской газете внештатным корреспондентом. Экономический кризис в разгаре, и она просто не может сидеть сложа руки.
Пока я утешаю себя мыслью, что по крайней мере у меня в голове сохранилась картина светлого эквадорского будущего, которую мы рисовали вместе с Бриджид; тогда, проникшись историей разграбления эквадорских природных ресурсов, мы в едином порыве начали исправлять этот мир. Картина, однако, пока до такой степени не совпадает с реальностью, что я не представляю, с какого конца взяться за дело. В этой связи, а еще руководствуясь стремлением оставить свой след на Земле, и желательно в Южной Америке, я принял предложение Бриджид — и при ее поддержке уломал директора и единственного работника Боливийского блока протеста, расположенного в Кочабамбе, взять меня в помощники на место Бриджид.
Эли — директор Боливийского блока протеста. Он тоже гринго, но в меньшей степени — поскольку он не американец, а канадец. У него, помимо диалекта, имеются две собаки, ребенок и жена — все четверо симпатичные и сообразительные, — а также огромная ответственность. Чуть ниже я расскажу, в чем заключается наша работа. Эли отлично знает испанский, не то что я — хотя и я продвинулся, — а также язык кечуа. Я как его правая рука прибираю в офисе, приношу из соседней забегаловки ленч и кофе — и все с неподдельным энтузиазмом. Правда, основной моей обязанностью является составление пресс-релизов об ухудшающейся ситуации в стране — а она ухудшается и на сегодняшний день (декабрь 2002-го) ухудшилась уже, кажется, до предела. К счастью, мне разрешено писать на английском языке, хотя Эли упорно называет мой язык идиосинкразическим английским.
Новости одна другой хуже. В соседней провинции Чапаре боливийцы уже восемь тысяч лет выращивают коку. В местном масштабе они жуют сушеные листья коки — в основном это делают рабочие на оловянных приисках, потому что кока подавляет жажду и аппетит, а также, предположительно, еще и мысли о нищете и скорой смерти — последняя практически неминуемо наступает если не от увечий, полученных под землей, то от силикоза легких (профессиональное заболевание) самое позднее к двадцати девяти годам. Мне как раз исполнилось двадцать девять, и я с полным правом утверждаю, что при мысли о своем возрасте мне становится жутковато. Как бы то ни было, американское правительство против выращивания коки, а боливийское правительство на эту тему замерло в глубоком реверансе. В процесс вовлечены Специальные Экспедиционные Силы — члены этой организации устраивают вылазки по сжиганию посевов коки на фермах.
Фермеры протестуют. Многие из них вполне законопослушно выращивают разрешенные культуры, например, ананасы, пассивны и прочее. Однако инфраструктура до такой степени субэквадорская, что campesinos не могут попасть со своим товаром на рынок до тех пор, пока фрукты не испортятся. Вот они и предпочитают выращивать коку: кока не гниет, не подвержена заболеваниям, непривлекательна для вредителей и, таким образом, приносит боливианосов достаточно, чтобы прокормить семью. (Впрочем, здесь не место — а с другой стороны, где тогда место? — для обсуждения сочетания нестабильных цен на товары и сельскохозяйственного протекционизма развитых стран, каковое сочетание характеризует настоящее положение вещей.) Недавно фермеры свалили все свои сгнившие фрукты по обочинам дорог в знак протеста против закрытия одного из последних легальных рынков коки в частности и государственной политики в целом — политики, согласно которой можно выращивать то, за что не платят, и нельзя выращивать то, за что платят; политики, узаконенной продажной местной властью. Специальные Экспедиционные Силы периодически избивают и даже убивают фермеров. У большинства пострадавших уже в больницах диагностируется хроническое недоедание. Главный вопрос сейчас — продолжит ли правительство закрывать рынки коки, провоцируя тем самым резню, или придумает еще что-нибудь для блага человека.
Моя задача — освещать эти и другие события. Между тем я льщу себя надеждой, что публикация моих мемуаров создаст куда более громкий резонанс, чем все наши пресс-релизы, вместе взятые. Однако я отнюдь не желаю, чтобы читатель впал в уныние; более того, в настоящее время я сам изо всех сил стараюсь в него не впасть. Я выработал собственную политику и даже почти в нее поверил, а именно: для счастья достаточно быть живым и чутким к чужим страданиям, а если чувства, обострившиеся в ходе постоянного использования, вдруг отказывают — обломавшись об особо тяжелые случаи, — ничего, они еще годятся для того, чтобы наслаждаться фруктами, орехами, напитками (как спиртными, так и безалкогольными), словом печатным, ласками возлюбленной, музыкой (в том числе печальной)… В общем, вы понимаете, что я имею в виду, и каждый читатель легко продолжит мой или составит собственный список. Знаю, я перечислил только основные аспекты счастья; но, может быть, в наш век повального одиночества банальности являются разновидностью чувства локтя?
Только не думайте, что я не хочу развиваться в интеллектуальном плане, чтобы стать более мощным рупором справедливости. Еще как хочу! Но что, по-вашему, (предпосылает демократия, как не полную интеллектуальную компетентность, даже лицам с путаницей в незрелых умах? Движение, игнорирующее невежд и воротящее нос от болванов, никогда не окрепнет до такой степени, чтобы стать партией. Демократия самим своим названием убеждает потенциальных неофитов в собственной всеядности. Поэтому: да здравствует демократический социализм! (Демократия и социализм — взаимоподдерживающие силы.) Я так думаю; думая так, я принимаю в наследство от минувших веков все накопленные ими проблемы. Мне их не решить (именно этим я в последнее время и занимаюсь); однако только теперь, когда мои проблемы уже не только мои, ложная интуиция услужливо подсовывает ощущение, будто я один такой страдалец.
Не то чтобы меня не терзали сомнения. Например, я сомневаюсь, что от нашей с Эли деятельности есть хоть какой-то прок. Более того: если бы нас вовсе не было на свете, проводили бы Вашингтон и Ла-Пас свою настоящую политику? Не могу сказать, что собственное существование меня не обескураживает. В частности, меня очень интересует вопрос, вернее, ответ на вопрос, заданный душам, о которых писал Платон, — ответ, стало быть, на вопрос, чего бы той или иной душе хотелось больше всего — хоть одна душа, интересует меня, ответила бы: «Хочу возродиться в волосатом теле Двайта Б. Уилмердинга» (без бобохуаризы волосы снова пошли в рост), при условии, что он повторит свой земной путь, будет жить как я живу, работать как я работаю, писать по ночам в пыльной Кочабамбе, где секунду назад послышался первый крик петуха?
Я теперь сплю в основном по утрам. Проснувшись, потягиваюсь и зеваю, пью café con leche[62] и даже периодически чувствую себя так хорошо, будто никогда не заболею и тем более не умру. Если ночью выйти на балкон и посмотреть на звезды — что я часто проделываю, — чувство, как правило, меняется на прямо противоположное. Потому что звезды висят совсем под другим углом, нежели в Северном полушарии.
Конечно, я скучаю по Бриджид. Я бы с удовольствием несколько запятнал ее чистую душу о свою, далеко не такую чистую… Еще мне нравится думать о наших с ней будущих детях. Но отношения между исходными данными и результатом представляются мне совершенно непредсказуемыми, если схема подразумевает детей и родителей (эти слова, совершенно без вариаций, я недавно слышал от мамы и папы; разумеется, они говорили не хором, а по отдельности). Вдобавок Бриджид колеблется, хочет узнать меня получше и т. п. Поэтому я отсылаю ей по электронной почте отрывки из своего дневника:
28 ноября 2002
Лают собаки. Они меня достали. Что поделать — третий мир. А собаки лают. Но я уже привык.
(час ночи) Чертовы собаки.
1 декабря 2002
Первый в моей жизни жаркий декабрь. Сегодня мне снилось, будто я прилюдно снял штаны. И мне почему-то не было стыдно. Остальные последовали моему примеру.
Штудирую труды Кондратьева об экспансии капитализма. Идет туго.
Перед Кондратьевым читал о приращении капитала.
3 декабря 2002
Жизнь коротка. Призывы к терпению бесконечны. И что с этим делать?
4 декабря 2002
Количество пострадавших неизвестно. В воздухе пахнет смертью.
Поступки у меня правильные, мотивы — нет. Хотя… Что я знаю о мотивах?
Целый вечер читал. Одиноко. В кишечнике газы. Возможно, несовместимые с семейной жизнью.
5 декабря 2002
Сегодня начал писать мемуары. До чего же быстро я пишу! Прямо как говорю.
15 декабря 2002
Думаю о Бриджид. Мысли порнографические. Они же утопические. Наша совместная жизнь должна быть неспешной, даже если мир будет продолжать в том же духе, в смысле ускоряться. Цивилизация наступает как лавина. Мы обречены.
Бриджид нравится получать эти записки. «Я подсела на твой дневник», — написала она позавчера из Буэнос-Айреса. Однако ее ответ на мое предложение не изменился. Она, как и на вечере встречи, отрицательно качает головой.
После того, как были произнесены все «За нас!» и «Счастливо!», записаны все электронные адреса, сделаны все комплименты и высказаны все пожелания на будущее; после того, как от меня шарахнулись, меня обняли или просто проигнорировали расползающиеся по мотелям, отелям и палаткам однокашники, — после всего этого самые стойкие во главе со мной вздумали дернуть на плотину на Долгом пруду. Мы разделись догола и попрыгали в воду. Затем по кругу пошел косяк с марихуаной. Длинноволосый Эрт Фистер Рамзай Фондарас наяривал на своей акустической гитаре мелодии из репертуара неумирающих «Grateful Deads», а я, одной рукой обнимая Наташу за мокрые плечи, а другой — за талию — Бриджид, принялся горланить: «Порой мне в душу льется свет… тум-тум-тум… Порой от бед я глух и слеп…»
— Что вы с Бриджид намерены делать дальше? — спросила Наташа, выждав, пока я спою все, что помню наизусть.
— Нам и так хорошо жить, — передернула плечами Бриджид.
— А на что живут простые среднестатистические социалисты? — встрял Форд.
— Хорошо не в этом смысле, — отвечал я, — а совершенно в другом. В этическом. — Хотя Форд задал правильный вопрос — я сам себе его задавал вот уже несколько дней.
— В обоих смыслах, — произнесла Бриджид. — И в этическом, и в другом. — Она взглянула на меня и рассмеялась. — Правда, Двайт?
Она поднялась с собственного платья и, обнаженная, мраморно светящаяся под луной, пошла в сторону плотины — неспешно, не рисуясь и не стесняясь. Так, наверное, шла бы ожившая статуя, привыкая к теплой земле вместо каменного подножия. Я тоже встал, перешагнул собственные брюки и пошел за Бриджид. Издали я наблюдал, как она балансирует на краю плотины, и прыгает, и медленно уходит в воду, и исчезает из виду — только светлые пузырьки ее дыхания всплывают на поверхность и тут же, словно опомнившись, лопаются, рассыпая мокрые искры. Вот вынырнула ее голова, гладкая, как у тюленя, и рука — последняя меня поманила. И я прыгнул к ней, и нырнул, и усиленно заработал конечностями — вода была холодная.
Когда я вынырнул, оказалось, что Бриджид уже доплыла до противоположного берега. Я погреб за ней в стиле баттерфляй, но скоро решил, что приближаюсь слишком быстро, и, чтобы растянуть приближение, перешел на стиль «по-собачьи».
Бриджид ждала на камышистом берегу. Она сидела, вытянув ноги, и, когда я подгреб, шлепнула пяткой по воде, обдав меня мокрой россыпью.
— Je t’aime, Двайт. Vraiment — с’est vrai. C’est absurde mais…[63]
Я выбрался на берег, стал на одно колено и сказал:
— Тогда выходи за меня замуж. Я хочу на тебе жениться. Серьезно. Тут в городе и кольца можно купить.
В ее усмешке светился восторг.
— Послушай, — продолжал я. — Если ты не знаешь, чего пожелать, ты это никогда не получишь.
— Железная логика. Мне нравится.
— Ну так последуй логике. Решайся.
— Нет — мне всегда нравится твоя логика, потому что мне своей не хватает. Двайт, нам нужно решить, что делать с самими собой.
— Давай станем профессиональными революционерами.
— Именно из-за профессиональных революционеров провалился Третий Интернационал.
— Верно, — кивнул я. — Будем учиться на чужих ошибках.
— Нет, мы должны наделать своих.
— Тем более выходи за меня замуж!
Бриджид посмотрела на меня печально и нежно, скептически и нетерпеливо — именно противоречивость я в ней и любил — и произнесла:
— Да, я бы хотела стать твоей женой. Только не сейчас. Может, вообще не надо? На самом деле я не знаю…
Официальное заявление
Фразы «человек, изучивший все философские теории, с полным правом может считать себя новичком» и «осознать себя как экзистенцию», приписанные в настоящем произведении философу Отто Ниттелю, на самом деле принадлежат Мартину Хайдеггеру. Что касается вымышленной группы «Медсестра и солдат», автор выражает благодарность Эрике Флетчер и Робу Тэтчеру за то, что они любезно разрешили ему использовать название их реально существующей группы.
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству ACT. Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
Примечания
1
«п + 1» — еженедельный онлайн-журнал, основанный в 2004 году Бенджамином Кункелем, Китом Гессеном, Марком Грифом и Марко Ротом. В бумажном виде выходит два раза в год. В журнале освещаются вопросы литературы, политики, социологии, печатаются рассказы и эссе. — Здесь и далее примеч. пер.
(обратно)2
Лакросс — игра в мяч индейского происхождения. Играют на травяном поле две команды по 10 игроков в каждой. Цель — забить мяч в ворота противника с помощью клюшки. Игра популярна у женщин.
(обратно)3
«Grateful Deads» («Благодарные покойники») — рок-группа, популярная в эпоху хиппи.
(обратно)4
Метадон — мощный анальгетик, применяется также для лечения наркотической зависимости. Был изобретен в Германии в 1937 году, в США появился в 1947 году.
(обратно)5
Песто — итальянский соус, обычно зеленого цвета, на основе базилика, сыра и оливкового масла.
(обратно)6
«Pavement» — так называемая инди- и нойз-рок группа (1989–1999). В основе композиции лежит нирвановский грандж, однако сколько-нибудь заметные мелодические решения отсутствуют. Группа так и не смогла избавиться от определения «альтернативный рок».
(обратно)7
Йом Кипур — еврейский праздник, отмечается 21 сентября. День прощения раскаявшихся и исправления поступков, последняя возможность апеллировать к улучшению вынесенного небесным судом решения. Празднику предшествует строгий пост.
(обратно)8
Ид — согласно теории 3. Фрейда, первоначальная основная часть структуры личности (наряду с Эго и Суперэго). Содержание Ид целиком бессознательно и включает в себя основные родовые инстинкты и воспоминания, которые оказались вытесненными из сознания. Ид — источник энергии, включающий либидо (энергию созидания) и мортидо (энергию разрушающую), направленный на удовлетворение инстинктов и получение удовольствия.
(обратно)9
Досаи — индийское блюдо, блинчики из рисовой муки.
(обратно)10
Кэт Стивенс (Cat Stevens, настоящее имя — Стивен Деметрий Георгиу) — английский музыкант, автор песен, просветитель, гуманист. Родился 21 июля 1948 года в семье грека и шведки. Музыкой занимался с детства. В 1978 г., после того, как едва не утонул, принял ислам и взял себе новое имя — Юсуф Ислам, под которым живет по сей день. В 2004 г. был принят за террориста и снят с самолета рейсом Лондон — Вашингтон, после чего официально отказался приезжать в США. Упомянутая песня является переложением библейского псалма, написанным Элеонорой Фарджеон. Кэт Стивенс исполнял ее под галльскую музыку.
(обратно)11
Курт Кобейн (Kurt Cobain) — лидер группы «Нирвана».
(обратно)12
Бат мицвах — у иудеев обряд для девочек, которым исполнилось 12 лет, означающий, что с этого момента девочка сама — а не ее отец — несет ответственность за свои поступки. Аналогичный обряд для мальчиков (бар мицвах) проводится по достижении ими 13 лет. Мицвах, однако, вовсе не означает, что подросток может сам распоряжаться своей жизнью, не слушаться родителей, вступать в брак и т. п.
(обратно)13
Амок представляет собой куриную грудку, маринованную в кокосовом молоке, сорго, соке лайма и пряностях, а затем томленую до мягкости.
(обратно)14
Элдрик «Тигр» Вудс (род. в 1975) — чемпион по игре в гольф, афроамериканец, миллионер.
(обратно)15
«Бэрронз» («Barron’s») — еженедельный финансовый журнал.
(обратно)16
Жизнь длинна, искусство недолговечно (лат.). Папа переиначивает крылатое выражение.
(обратно)17
Куайн Биллиард Ван Орман (Quine Williard Van Orman; 1908–2000) — американский философ, писатель, лингвист, полиглот. Основные темы его работ: заведомая невозможность сделать точный перевод, непостижимость референции и принцип онтологической относительности. Двайт ссылается на известное рассуждение Куайна о вариантах перевода возгласа «Gavagai!». Папа, по своему обыкновению, цитирует.
(обратно)18
присущая настоящей немке (нем.).
(обратно)19
Колумбия нам не указ! (исп.)
(обратно)20
красавчик (исп.).
(обратно)21
Рад познакомиться (исп.).
(обратно)22
Здесь: Ни пяди! (исп.)
(обратно)23
В сердце?.. В сознании? (фр.)
(обратно)24
Настольная игра, в которой, по аналогии с «Крестиками-ноликами», нужно выстроить свои кружочки подряд по вертикали, горизонтали или диагонали.
(обратно)25
Я есть (исп.).
(обратно)26
Меня ограбили (исп.).
(обратно)27
Меня зовут (исп.).
(обратно)28
счастливец (исп.).
(обратно)29
Геликония — тропическое растение семейства банановых, с крупными темными листьями, цветки всех оттенков красного, небольшие, удлиненные, расположены на стебле рядами.
(обратно)30
«На Золотом озере» («On Golden Pond») — мелодрама об обретении утраченной теплоты в отношениях отца и взрослой дочери. Снят в 1981 г. В главных ролях Генри и Джейн Фонда.
(обратно)31
Имеется в виду фильм «Человек, который видел завтрашний день» («The Man who Saw Tomorrow»).
(обратно)32
Шоу Косби (по фамилии создателя Билла Косби) — очень популярный сериал жанра «комедия положений», который демонстрировался по телевидению США с 1984-го по 1992 год. Сериал рассказывал о жизни семьи афроамериканцев по фамилии Хакстабл, относящейся к среднему классу. В нем часто затрагивались проблемы воспитания, причем глава семьи, врач-гинеколог Клифф Хакстабл, любил повторять сыну: «Я тебя породил, я тебя и убью».
(обратно)33
Ачиоте — растение семейства магнолиевых с крупными розовыми цветами. Из косточек получают пищевой краситель, а также используют их для изготовления лекарств от тонзиллита, грибка, ожогов, диабета II типа и других заболеваний.
(обратно)34
спрашивает почему (исп.).
(обратно)35
Я покажу (исп.).
(обратно)36
когда (исп.).
(обратно)37
Смотри (исп.).
(обратно)38
нужно (исп.).
(обратно)39
Побольше (исп.).
(обратно)40
Я хочу парня! (исп.)
(обратно)41
очень (исп.).
(обратно)42
псих (исп.).
(обратно)43
смотри (исп.).
(обратно)44
Спокойной ночи. Сладких снов (фр.).
(обратно)45
Сейба — тропическое дерево, родственное баобабу. Достигает в высоту 60 м, в диаметре — 4 м. Культивируется ради волокна «капок», содержащегося в зрелых плодах, которое используется для набивки матрасов, подушек и особенно спасательных жилетов, так как почти не промокает. За это сейбу часто называют шерстяным, шелковым или хлопковым деревом. Из семян получают пригодное в пищу масло. Из стволов индейцы делают лодки. Так как сейба возвышается над всеми остальными растениями тропического леса, индейцы считают, что она связывает мир людей с миром духов.
(обратно)46
закат солнца (фр.).
(обратно)47
Если хочешь, давай говорить по-французски. Я более-менее понимаю (фр.).
(обратно)48
Скорее менее, чем более (фр).
(обратно)49
Ты ничтожество! (фр.)
(обратно)50
Боже. Кошмар. Какой черт нас дернул купить эту дрянь… (фр.)
(обратно)51
Да, да. Прощаю (фр.).
(обратно)52
«Air Supply» — поп-дуэт, состоящий из Грэма Рассела (Graham Russel) и Рассела Хитчкока (Russel Hitchcock). Был популярен в 1970-х — начале 1980-х гг.
(обратно)53
Да, ты прав, но… (фр.).
(обратно)54
Я боюсь! (фр.)
(обратно)55
Что? Ну что? Говори уже наконец. Впрочем, какая разница, что ты скажешь! Главное, что ты со мной (фр.).
(обратно)56
Но — открой глаза (фр.).
(обратно)57
После соития всякая тварь тоскует (лат.).
(обратно)58
Мой дом — твой дом (исп.).
(обратно)59
Все равно (фр.).
(обратно)60
Пойдем? (фр.)
(обратно)61
Сколько? (исп.)
(обратно)62
кофе с молоком (фр.).
(обратно)63
Я люблю тебя, Двайт. Правда люблю. Это абсурдно, но… (фр.)
(обратно)

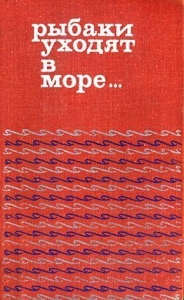


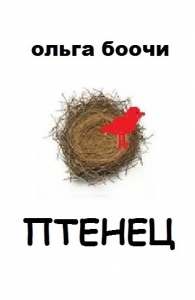
![#моя [не]идеальная жизнь](https://www.4italka.su/images/articles/554081/primary-medium.jpg)
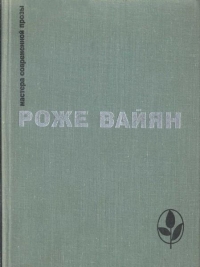
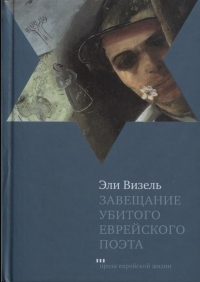
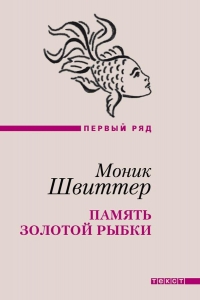
Комментарии к книге «Лекарство от нерешительности», Бенджамин Кункель
Всего 0 комментариев