Борис Екимов Наш старый дом
Повесть
Теплый июньский полудень. Как чиста нынче высокая небесная синь, освеженная прохладным северным ветром… Белейшие облака плывут и плывут, медленно, неторопливо, как и положено кораблям воздушным. Солнечный жар мягок. Зелень листвы сочна. Плещет листва под ветром, играет, слепя солнечными бликами. Шелест ветра, стрекотанье кузнечиков, редкий посвист птицы.
В легком полотняном кресле, в глубине двора, сижу и сижу, ни уйти, ни подняться не в силах. Да и зачем… Ветер, синева, зелень, солнечный щедрый жар… Лето голубое, зеленое, золотое — лето жизни моей — в старом доме, в невеликом селенье на донском берегу.
Конечно, городское наше жилье не в пример удобнее: вода, тепло, плита электрическая и место приглядное, жаловаться грех — берег Волги. Утром проснешься — видишь, как солнце встает. Выйдешь прогуляться — ни машин, ни уличного шума, а сквер прибрежный, перед глазами — речной простор, далекий заволжский берег. Но зимою нет-нет и вспомнится наш старый дом, а весною и вовсе тянет туда.
Год нынешний весна была поздняя. Лишь в апреле потеплело. На утренних прогулках, всякий день по весне, прежде всего не на Волгу гляжу я, а спешу к абрикосовым деревьям, что растут под стеной соседнего дома, на сугреве и в затишке от ветра. Слежу, как с каждым днем набухают багрово-фиолетовые цветочные почки.
И вот как-то пришел, вижу — белые цветки. Одна всего лишь веточка, возле теплой стены, три цветка на ней. Но раскрылись. И сразу расхотелось мне за газетой идти и гулять. «Поеду, — с ходу решил я. — Надо разведать».
Сел в машину и поехал. Благо, что дорога близкая, всего семьдесят километров. Солнечно и тепло было в городе, в дороге и в поселке — тоже. А в нашем старом доме за зиму нахолодало. Открыл я настежь двери и форточки, чтобы к вечеру дом согрелся. Печку топить не хотелось. С нею — возня, грязь и дым.
Во дворе, в огороде — скучно, черно, повсюду — хлам и дрям, как всегда это бывает по весне, когда сходит снег. Поехал в степь, в Березовый лог. Там — в разгаре весна. Черная ольха отпылила, уронила на землю сережки. Талы отцвели. Остро пахнет горькой ивовой корой, тополевыми почками, прелым листом, молодой полынью. Как хороши пронизанные светом сквозящие тополевники, заросли ольхи… Там — пенье птиц. Выше их — сизый и белый дым летящих по ветру облаков.
Вечером солнце село в тучу. Поднимался ветер. Остался я ночевать в нетопленом доме. Заснул, но скоро проснулся. Ветер ломит. Деревья шумят.
В городе мне обычно мешают стуки в соседних квартирах. Наладится колотить какой-нибудь «мастер» — долбит и долбит. И по ночам — собачий лай за окном, где допоздна выгуливают овчарок, бульдогов да прочих сторожей квартирных.
В городе я обычно мечтал, как буду спать в старом доме, где — покой, тишина и никто не скачет над головой, «застольную» не ревет среди ночи.
А теперь вот проснулся. Ветер, деревья шумят. И кто-то воет и стонет на чердаке ли, на крыше. Стучат ветхие ставни. Какие-то еще непонятные стуки и скрипы. Деревья шумят и шумят. Разом выдуло дневное непрочное тепло. Зябко, сыро. Мыши скребут где-то рядом. За зиму развелись.
На воле — ветер. Старый дом мой — словно старый человек в непогоду, ему неможется: он охает, стонет, тяжко вздыхает, жалуясь, и порой потихоньку плачет.
Долго лежал я во тьме, слушая вой ветра, ночные шорохи, стуки, мышиную возню. Задремывал, засыпал и просыпался. Утром проснулся под шум дождя. Поднялся, вышел на крыльцо: пасмурно. В доме неуют: ни горячей воды, ни электроплиты, на которой все скоро — чай и прочее. А здесь умыться, побриться — уже проблема.
Но перемогся, приладился, печь затопил. И понемногу потекло новое житье ото дня ко дню, от весны к лету.
Начало
Вечереет. Нынче — время тревожное. Неделю назад снова вдвое дороже стал хлеб. Газет лучше в руки не брать: воюют, убивают, грозят… Возле Чечни опять взяли в заложники целый автобус людей. Там — женщины, дети. Подавай выкуп, миллионы долларов. Вроде сговорились, а потом — взрыв. Погибли четверо или пятеро. Кровь и слезы… Слава богу, телевизор не включаю. Там одна и та же горькая песнь. Летом нам телевизор не нужен. Чего ради сидеть и глазеть в душной комнате. На воле лучше.
Вечереет… Нет в мире ничего, кроме летнего покоя. Теплынь… Рядом — сад и огород. Зеленые кусты помидорные, на них — тяжелые гроздья плодов; острые луковые перья; шершавые, даже на взгляд, листья огурцов, в их сени пупырчатые крепыши; высокие зонты укропа, желтоватые, спеющие. Чуть далее отягченная краснобокими плодами яблоня «яндыковка». Время от времени — глухой стук упавшего яблока. Тишина. Выше яблони — просторное вечернее небо с розовеющими облаками. Они остывают ли, разгораются. Садится солнце или уже закатилось?.. Его заслоняет густая вишня, не в красных, а в черных ягодах от переспелости и ввечеру.
Вечерний покой. Пестрая бабочка пролетела, не тронув тишины. И странно было бы сейчас думать о ценах и деньгах и прочем. Об одной лишь жизни думается, о прекрасной жизни, что неслышно течет теперь летним покойным вечером, уходя к ночи.
К покою, к ночи готовится старая мать моя. Вот она, согбенная, малая, словно дитя, иссохшая от лет и годов, пробирается из огорода тропкою к дому. Походка ее неверна. Идет, оступается на нетвердых ногах. Вот встала и замерла, будто кто-то окликнул, позвал ее из вечернего сумрака, что густеет под яблоней, в зарослях смородины. Почудилось… Дальше пошла… оступаясь. Седые редкие волосы, узкие худые плечи под выгоревшим ситцевым платьем. Старый одуванчик. Снова встала — видно, снова почудилось. Чьи-то шаги, голос, взмах руки, чье-то лицо пригрезилось в сумерках. Их тут много, во дворе и в доме, старых видений — родных людей, которые долгий век жили рядом, теперь — ушли.
Мать уходит к ночному покою. В доме она будет долго молиться, поминая живых и мертвых. Вторые ближе ей: раба божия Анна, и раб божий Петр, и еще один Петр, тоже покойный, и еще один, но этот, слава богу, живой; покойные Коля, Слава и Ниночка, Михаил Николаевич — этого всегда с отчеством, как было в жизни. Молитва долга: для ушедших просит покоя, для живых — судьбы.
Потом она долго будет укладываться, заснет; и во сне к ней придут те, о ком она горячо просила в своей молитве: Нюра, Петя и другой Петя, Слава, Николай, Ниночка…
— Опять Нюру видела, — скажет она утром, — и мамочку с Ниной, они меня звали куда-то. Опять Славочку, Колю…
Но теперь — вечер. Старая мать моя молится в нашем старом доме. Я — на воле.
Низко и медленно летит на ночлег с полей черное воронье. Тянутся долго, кричат. Снова — покой. Высоко в небе — щебет ласточек. Там же, но выше, в самой глуби, — нежный переклик щуров. Щур золотистый… Это — в небе.
На земле же, рядом со мной, — старая летняя кухонька. Стены ее облупились, потрескались, шиферная крыша замшела. Сарай и вовсе убог. Зимний буран содрал его ненадежную кровлю. Весною приехали, на скорую руку набросали сверху старые жестяные листы, кирпичами их придавили. Стоит наш сарайчик. Рядом же — погреб; верх просел, а внутри выпирает пузом кирпичная стена. Скоро рухнет. Время, время… Когда его копали, этот погреб?.. Теперь и не вспомнить.
Старая кухня, старый сарай, старый погреб… На старый наш двор пришла пора запустенья. Мелкая трава «гусынка», почуяв волю, полонит двор. Зарастают даже тропинки. Остались лишь простые цветы: петуньи, ноготки, бархотки, астры. Петуньи теперь цветут фиолетовым, белым. Вечером нежно пахнут. Позднее, ближе к осени, распустятся махровые астры.
Но трава, трава… Полонит двор, и нет с ней управы.
Все гуще, просторнее расползается виноград. Когда-то он затенял лишь веранду, а теперь его зелень закрывает полдома. Смородина, задичав, палисад полонила.
Нет, это не просто дворовая зелень: лебеда и «гусынка», виноград, вишеньё, смородина. Это трава забвенья полоняет наш старый дом.
Когда подходишь или подъезжаешь ко двору нашему с улицы, дома не видно, он потонул в зелени. Соседские — на виду. А наш год от года все горбится, усыхает, уходит в землю, словно старая мать моя — последняя хозяйка старого дома. Они умрут вместе — мама и старый дом. Она умрет, я уйду, а дом рухнет. Я знаю все его немощи: глухая стена год от году выпирает внутрь, особенно на венцах нижних; прогнил потолок, местами пальцем можно проткнуть. Полы уже много лет грызет древоточец. По ночам я слышу, как он скрипит, пробивая новые и новые ходы.
Старый дом наш, старый двор — это старая жизнь, с которой настала пора прощаться, потому что нет в мире вечного.
А в пору прежнюю, давнюю, дом наш в уличном порядке стоял горделиво: деревянный, из пластин рубленный флигель в два окна. И разве можно было его равнять с землянками да мазанками наших соседей: Коротковых, Иваньковых, Сурковых, других Коротковых, Мирошкиных. Тогда, сразу после войны, ладили не строенья, а лепленья да норы: земляные да глиняные стены; крыша — она же и потолок — вербовый плетень, промазанный глиной с навозом; земляной, тоже глиной промазанный, пол; жалкие оконца — куски стекол, вмазанные без рам и переплетов. Летом наши мазанки да землянки бугрились, словно грибы «подпесочники», которые лишь поднимают землю, наружу не выбираясь; зимой снега и метели напрочь хоронили это бедное жилье. Из школы вечерней порой возвращаешься, после второй смены, — не поселок — снежная пустыня. Лишь кое-где из сугробов помаргивают мерклые огоньки керосиновых ламп.
Война постаралась. Сталинградская битва. Поселок наш — у самого Дона, на переправе. Досталось ему от чужих и своих. Говорят, пуля — дура. Но ведь снаряды — не умней. Поработали, постарались. Сейчас сижу, вспоминаю, кто из моих товарищей, из соседей как жил. Сплошные землянки да мазанки. Горкушенковы, Ниумирухины, Чапурины, Варениковы… Все подряд. Лишь кое-кто начинал привозить с окрестных хуторов дома. На месте разберут, быками везут в поселок, здесь собирают, ставят. Так приехал и наш дом с хутора Рюмино-Красноярский. Хозяева привезли его, поставили, но жить почему-то не стали.
Мы же первые три года после приезда в поселок мыкались по чужим углам, снимая квартиры. Последний наш домок и сейчас живой. Он нам нравился: домик невеликий, но деревянный, с крохотной верандой. И соседи хорошие. Хозяева продавали этот домик, но цена оказалась для нашей семьи непомерной — семь тысяч рублей. У нас работали все взрослые: дядя Петя, опытный инженер с высшим образованием, получал семьдесят рублей; мать моя заведовала детским садом с окладом пятьдесят ли, шестьдесят рублей; тетя Нюра сторожила контору за тридцать рублей в месяц. Денег хватало лишь на житье. И в то же время углы снимать вшестером — уже Николай родился — было несладко.
Тогда и купили мы нынешний свой дом за четыре с немногим тысячи и к тому же с долгой рассрочкой. Это был черный прокопченный сруб в одну комнату, даже без сеней. Для меня это память лишь зрительная. А для старших поначалу сердечная боль. Мать моя и сейчас вспоминает, и тетя Нюра до смерти говорила, как тягостно было входить в новое жилье.
Но семья наша к тому времени уже столь натерпелась в жизни… Смерть моего отца, дяди Петины тюрьмы и ссылки, общие мытарства за кусок хлеба, за угол. Для того моя мать с тетей Нюрой и съехались, сбились под одну крышу, чтобы вместе пережить трудные времена, которые как начались в тридцать восьмом году, так и не кончались. Из далекого Забайкалья, с Приморья, из Игарки, через казахстанские ссылки в пустыне — и наконец в Россию, в малый поселок на берегу Дона. И здесь — по чужим углам. И вот этот сруб посреди голого двора. Даже забора не было. Окошки — маленькие, внутри — темно и черно. Квартировал там бобыль-инвалид с деревяшкой вместо ноги.
Но все же — свой угол после стольких лет и годов мытарств. Взрослым уже под сорок, а все — чужие углы. Мне — шесть лет. Я — самый счастливый. Старшим — долгие труды и труды: отскоблить дом, переложить печь, коридор пристроить, поставить летнюю кухню, сараи, катух для коровы, курятник, закут свинье, выкопать погреб, колодец, заборишком хотя бы ледащим, но обнести двор и огород.
Для старших — долгие труды, которые не были для них внове. От первого дома, родительского, в Самаринском Затоне, на реке Шилке, тетя Нюра и мать моя сменили столько углов, им счета нет. Порой начиная с голой земли, как в Майеркане, среди казахской степи, в Или, где вовсе пустыня. Игарка, Дудинка, Бурлю-Тюбе, Балхаш, Хабаровск, Благовещенск. Из края в край гонял НКВД семью врага народа, японского шпиона. Сам «шпион» и вовсе на тюремных да лагерных нарах Хабаровска, Алма-Аты, Архангельска.
Теперь — снисхождение. Пусть «без права жительства в областных центрах», пусть занесенный донскими песками поселок, надзор НКВД. Но все вместе и вроде никуда не гонят. Работать разрешили. И наконец — свой домишко. Может, даст бог покоя…
Спасибо. Дал. На этом дворе, на своем, дядя Петя прожил двадцать лет и умер, упав возле яблони. Я перенес его на веранду, бросился за врачом — добро, что больница недалеко. Но он умер. Вначале лицо стало черным, потом посветлело. А на том же самом месте, во дворе, под яблоней «яндыковкой», на двадцать пять лет мужа пережив, упала и тетя Нюра. Но умерла не сразу, а еще больше недели, целых девять дней, отходила. И умерла.
Воскресные пирожки
Домашний дух для меня — это воскресные пирожки, их сладкое благоухание. В детстве каждое воскресенье просыпаюсь и сразу чую: тетя Нюра пирожков напекла. Позднее, приедешь из города в день воскресный — дом родной встречает духом печеного. Калитку отворяешь — и радуешься: тетя Нюра пирожков напекла.
Вот они — золотистые, в поджаристой корочке, подъемистые, пышные. Разломишь ли, откусишь — и открывается ноздреватая плоть печеного и сочная, дразнящая нюх начинка. Когда стали получше жить, нечасто, но появлялись пирожки с мясом да ливером. А прежде — с картошкой да капустой, летом — с яблоками свежими, зимою — с сушеными. Но разве дело в начинке…
Позднее поездил я по России, по Советскому Союзу, по всему белому свету. Недурно приходилось едать в иных краях. Жаловаться грех. Но тети Нюрины пирожки — единственные, таких нет и не будет.
Вспоминать тетю Нюру для меня легко, хотя, конечно, печально. Пять лет, как умерла она, раз за разом отмечаем горькие годовщины. Но порою мне кажется, что тетя Нюра где-то рядом. Не могу отвыкнуть. И это понятно. Долгих пятьдесят лет — и пять всего лишь. Это — разница. Полвека прожила она в нашем старом доме. Не просто часть его — а душа.
На старых, довоенных фотографиях тетя Нюра красива на редкость: прямой нос, темные глаза, брови — дугой, густые длинные волосы, в косе да в короне. А в памяти моей — пожилая полная женщина, ростом — невеликая, голова — в седине, лицо — в морщинах. Алексеевна ли, Лексевна, Нюра, тетя Нюра да бабушка Нюра для кого как.
Лицом и телом — полная. «Хлебушка много ем, — говорила она. — И кашу — с хлебушком, и чай — с хлебушком, а без хлебушка не могу…»
Можешь, тетя Нюра, можешь. В казахстанской ссылке, в жаре, в пекле пустыни, шла на весь день арыки копать, пустых щей из лебеды похлебав, а пайку хлеба свою оставляла сыну, ему — расти. И целый день лишь воду пила. Работа тяжелая, земляная. Сорок градусов в тени, на солнце — под шестьдесят. Долог день летний! А поздно вечером — снова щи из лебеды.
Помню себя совсем малого, но уже «мудрого», от голодухи конечно. Завтрак. Морковный чай. Хлеб. Каждому — пайка. Сто граммов ли, сто пятьдесят. Забыл уже. Дядя Петя и мать на работе. Слава — в школе. Я — за столом.
— Чай остался, — показываю тете Нюре стакан. — А хлеб уже кончился, жалуюсь.
Тяжкий вздох — и появляется хлеба кусочек. От себя, от своей пайки.
А потом, уже здесь, в нашем доме, разве не то же было: карточки, буханка в день на шестерых.
Это уж позднее, при вольном хлебе, стала говорить: «Не могу без него, без хлебушка. И борщ, и кашу с хлебушком. А могу и так: с сольцой да водичкой. Хлебушка ломоть — и сыта».
Слава богу, хоть хлеба наелась на краю жизни.
В голодные годы она умудрялась печь из отрубей, из картофельной кожуры, собранной на госпитальной помойке, из жмыха, из муки желудевой, из травы. Так что потом, когда настоящая мука появилась, стало ей много легче нас накормить. Напечет пирожков с картошкой да капустой, блинов. Едят и похваливают. Все сыты. У хозяйки душа не болит. Мясо нашей семье, как и всем другим, было не по карману. Каши приедались. А тети Нюрины пирожки — никогда. И потому первое, что покупалось, — мука. Есть мука — значит, все сыты.
Любила она, когда хвалят ее изделье. Напечет, спросит: «Ну, как?..» «Хорошие…» Соседей всегда угощали. Это принято было.
Тетка Паня шумит:
— Твои пирожки — золотые! Либо ты колдуешь?! Их жалко есть. Глядел бы на них да нюхал. Какое тесто! Подъемистое! А я заведу… Яиц — не жалею, масла целую пачку вбухаю. А получается — баламука. Джуреков напеку — лишь кобелю грызть. А у тебя — золотые! Ешь — не уешься…
Тетя Нюра довольна и сразу вспомнит:
— Это мамочка меня научила. Мамочка наша была мастерица. На людей пекла, всем угождала. А я ей помогала, с четырех лет — возле плиты, на подставке. Мамочка меня хвалила: «Помощница, — говорит, — моя…» Она много работала, наша мамочка. Семья — большая, детей — пятеро. А еще — по людям стирала, по ночам хлеб людям пекла.
Тети Нюрина жизнь… Словно вижу ее, весь долгий путь: далекое Забайкалье, Самаринский Затон на быстрой Шилке-реке. «Наша мамочка…» Всегда не мамой звала покойницу Евдокию Сидоровну, а лишь мамочкой. Раннее сиротство. В двенадцать лет — уже хозяйка в доме, старшая в семье, а значит, и главная работница. Обеды варить, стирать, штопать, полы мыть, хлеб печь. «И на людей работала. Стирала, полы мыла. Хлеб жала, снопы вязала со взрослыми женщинами наравне. Сама хозяйка, Кочмариха, меня хвалила: молодец, говорит, вся — в мать».
В нашем доме, когда я рос, взрослых было трое: дядя Петя, тетя Нюра да мать моя.
Вот обычное утро: позавтракали — и спешат, всем некогда. Скорей! скорей! В детский сад, в школу, на работу. Скорей, скорей… Тетя Нюра остается. Она домохозяйка. Некуда спешить. Лишь дом и двор: корова, поросенок, куры, огород, картофельник да бахча, обеды, завтраки, ужины, грязное белье, стирка, починка, шитье на машинке «Зингер».
Тетя Нюра поднимается утром первой: корову доить, в стадо ее проводить, накормить. Завтрак приготовила, будит: «Пора, вставайте…»
Завтрак. Короткая утренняя суматоха: скорей! скорей! Разлетелись. Немытая посуда на столе; порой — неубранные постели. Тете Нюре некуда спешить, она все приберет.
— Мою работу никто не видит, — иной раз вздохнет она.
Прибралась, и пошло-поехало: домашние заботы цепляют одна другую. Если нет стирки, найдется малая постирушка: рубашки, платки, носки. Домашняя животина своего просит. В магазин надо за хлебом сходить и заниматься обедом. Да еще выбрать время, пошить на старенькой швейной машинке «Зингер». Вся наша одежда той поры: рубашки, трусы, курточки, платья, ночные сорочки, наволочки, — все она шила. И теплые ватные одеяла тетя Нюра «стежила», набивала подушки, собирая по перышку.
Конечно, ложилась она позднее всех. Последние заботы — о детях: поглажены ли рубашки, алый пионерский галстук, носовые платки, брюки.
— Они сами должны все делать… — сердится дядя Петя. — Полночи будешь топать.
Конечно, должны. Но забывают. А тетя Нюра помнит. «В школе поглядят, скажут: такие родители». На нас не скажут. Мы — это Слава, я да Николай. Каждый — в свой черед. Наглаженные рубашки, брюки «со стрелкой», все пуговицы — на месте, носки заштопаны, башмаки начищены, носовые платки — в карманах. Мальчишки — народ забывчивый, тетя Нюра все помнит.
Только теперь, в пору взрослую, понимаю я долгий день ее, во трудах.
— Наша мамочка весь день работала, — вспоминала она, — а ночью надо хлеб печь для себя и для людей. Ночью печка свободная. Мы же в бараке жили. Кухня общая, печь — одна на всех. А днем мамочка у людей стирает. Устанет, сядет на пол, голову наклонит и сразу заснет. Минут на десять, не больше. Очнется и говорит: «Теперь ночь моя».
В середине дня тетя Нюра всегда спала, тоже недолго, порою сидя, но обморочно-глубоко, даже с храпом. Захрапит и сразу вскинется, скажет: «Вот и хорошо. Теперь ночь моя».
И может допоздна шить, штопать чулки да носки, латать локти рубашек и курток, обшлага — работа тихая. А я рядом пристроюсь, возле света, — книжку читаю, но чаще слушаю неторопливые рассказы о жизни прежней: детство, Самаринский Затон, люди его — вразнобой, что на память к случаю придет. Сегодня — о том, как ездили в гости в Россию, на родину, в Вятскую губернию. Это было во время Первой мировой войны. «Они в деревне бедно жили. Бабушка мне потаясь печеное яичко давала». Один вечер — начало века, другой — к нынешнему дню поближе. О том, как с ледяных гор катались на бычьей шкуре. Про богача Штейна, главной радостью которого была пожарная команда Сретенска, он содержал ее на свои деньги. Могучие «пожарные» лошади, блестящие медные каски; и сам Штейн — в каске, впереди. Потом его расстреляли. Про ссыльных поляков, которых еще при царе в Забайкалье сослали: столетний Неделяк, лысый Липакевич. И про других поляков, тоже ссыльных, но уже в наше время, — их привезли в Казахстан. Про огородников-китайцев. Они свои лавочки держали. Долгая у тети Нюры жизнь, долгие и рассказы. Она что-то шьет ли, чинит, вяжет; я — слушаю.
Из этих рассказов и сложилась для меня жизнь тети Нюры — от малых лет до времен нынешних. А в годы последние она как-то разом одряхлела, много плакала, жаловалась всем: «Не могу работать… Хочу, а не могу. Лопату не держат руки большая, тяжелая. Иголку тоже не держат — маленькая. Столько вокруг работы, а я ничего не могу…» Жалуется и плачет.
Но это — уже много позднее. А в детстве — долгие вечера с рассказами о жизни всякой, какая была. Я слушать любил. Допоздна сидел, пока спать не прогонят. А тетя Нюра потом еще ставит тесто и не раз за ночь к нему поднимется, подобьет, укутает.
— Чего ты все сигаешь, — сердится дядя Петя. — Спать не даешь.
Утром она первой поднялась, стараясь не греметь, почистила печку и затопила ее, готовит завтрак, потом нас будит:
— Вставайте, пора.
День начинается. Надо спешить. Одним — в детский сад, в школу, другим — на работу. Лишь тете Нюре торопиться некуда. Она — домохозяйка.
В воскресенье мы спим дольше обычного, а тетя Нюра пирожки печет.
Праздники — для тети Нюры лишние хлопоты. Ко дням рожденья шьется какая-нибудь нехитрая обновка и печется знаменитый слоеный торт «наполеон», рецепт изготовления которого записали все соседки, но удается он лишь тете Нюре.
А уж Первомай, Октябрьские, Пасха, а особенно Новый год… Здесь и ночь не ночь.
Вечерами делали елочные игрушки: рисовали смешные рожицы на пустой, но целенькой яичной скорлупе; клеили цветные гирлянды, вырезали серебряные звезды, белые снежинки. Тетя Нюра весь год собирала листки цветной бумаги, фольгу от чая, складывая все в особую «новогоднюю» коробку.
Новогодние карнавальные костюмы для нас, ребятишек, — тоже ее забота. Немногие родители в нашем поселке о таких вроде бы пустяках заботились. Тем более время нелегкое: накормить бы детей — и слава богу. Да и не умели.
У тети Нюры — особый «карнавальный» коробок, где хранятся вырезки из журналов, рисунки, выкройки. Из маскарадных костюмов старшего брата помню «Обезьяну». Настоящая шкура на пуговицах, с длинным хвостом. Вроде сейчас — из Африки. Вся школа сбежалась ее глядеть.
Остались фотографии, детсадовские, школьные, где я — «Русский богатырь» с мечом и щитом, в кольчуге, в остроконечном шлеме, а еще — сказочный принц в короне, звездочет-волшебник, клоун в колпаке с бубенцами.
Какая радость, когда оденут тебя принцем, богатырем. Все глядят на тебя, завидуют. А потом ты получаешь «приз» — книгу с надписью: «За лучший карнавальный костюм».
Позднее другие матери, глядя на нас, стали перед Новым годом приходить к тете Нюре, советоваться. Она всем помогала. Порой и не просили ее. Помню, пришел соседский мальчишка, он сиротою возле деда с бабкою рос. Стоит у порога, глядит, как меня наряжают в «Богатыря». Конечно, завидно.
Тетя Нюра все поняла, говорит:
— Давай и тебя обрядим.
Буквально в минуту сыскала она старый полосатый халат, казахстанский, подвернула, подстрочила полы и рукава, кушаком мальчишку подпоясала, обмотала голову пестрой тряпкой, подрисовала усы, мочальную бороденку подвесила. И уже не соседский пацан стоял, а какой-то восточный хан с серебряной саблей на боку. Это было — чудо.
С девочками было еще проще: марля, вата, серебряная фольга, «золотая» корона — вот и «Снежинка», «Снежная королева», «Ночь», «Осень». Все было в тети Нюрином картонном коробке: багряные кленовые и желтые тополевые листья, сухие цветы — золотистые шарики иммортелей, бессмертники. Волшебный коробок, памятный.
Тетя Нюра на всех детсадовских и школьных елках была Дедом Морозом. В высокой красной шапке, в шубе, с бородой и усами.
— Здравствуйте, детки! — басит Дед Мороз.
А я вижу глаза. Не Деда Мороза, тети Нюры. Их не скроет ни шапка, ни мохнатые ватные брови.
— Здравствуйте… Я пришел к вам издалека…
Она рассказывала, как в молодости отличалась на карнавалах у себя на родине, в Сретенске да Самарзатоне.
— У богатых — бархат да шелк, — вспоминала она. — А я из простого… «Смычка города с деревней» — один костюм назывался. Тогда это было в моде: смычка рабочих и крестьян. Взяла обычное платье. Половину, сверху донизу, железной стружкой украсила. В мастерские пошла и набрала у токаря красивую стружку. Другую половину — хлебными колосьями. На одной ноге — лапоть, на другой — сапог. На голове — венок из колосьев со стружкой и серп и молот из картона. Мне дали первый приз — отрез на платье. А когда жили во Владивостоке…
Они и теперь где-то пылятся, на чердаке, в сарае, тети Нюрины заветные коробки с надписями, чтобы не спутать: «Костюмы», «Игрушки». Сколько радости было, когда открывали их… А вечерами мастерили черепашек из картона и ореховой скорлупы, пушистых цыплят из ваты, хлопушки. И у кого больше радости — у нас, у тети Нюры?
Белый снег пушистый В воздухе кружится И на землю тихо Падает, ложится. …………… Стали дни коротки, Солнце светит мало, Вот пришли морозы, И зима настала.Наша тетя Нюра была, в общем понимании, человеком малограмотным. Наверное, в «личном деле» ее, в графе «образование», стояла запись «н/н», то есть незаконченное низшее. Она успела проходить в школу, кажется, одну лишь зиму, а на другую, в январе, умерла ее мать, моя бабушка, Евдокия Сидоровна, не дожив до тридцати лет. Тетя Нюра осталась в семье старшей, младше ее — трое. У отца рука не сгибается, считай, калека. Значит, тетя Нюра — хозяйка. Все на ее плечах: стирка, уборка, еда. Один лишь хлеб столько сил отнимал: заведи, поставь, промеси, испеки.
— Мамина квашонка большая. Тяжело. Никак не могу тесто промесить. Попросила соседа Вавилова, он мне сделал поменьше квашонку. С ней управлялась. А в школу — некогда. Пробовала ходить, тогда по дому не успеваю, — вспоминала она. — Папа молчит, а я вижу… Не стала в школу ходить. А учительница меня любила. Она папе говорила: ей надо учиться обязательно, у нее способности.
Тетя Нюра рассказывает, вздыхает. Она и на склоне лет помнила много стихов. И все — хорошие. Посмотрит, бывало, зимой в окно и начнет:
Зима!.. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь…Особенно ей по душе были последние строки:
Шалун уж заморозил пальчик: Ему и больно и смешно, А мать грозит ему в окно…Она лукаво улыбается и пальцем грозит.
То ли память у тети Нюры была лишь на хорошее, а может, тогдашние буквари были поумней, но декламировала она Пушкина, Тютчева, Некрасова, Никитина — только светлую классику.
Вот моя деревня; Вот мой дом родной… ……………….. И друзья-мальчишки, Стоя надо мной, Весело хохочут Над моей бедой.Лицо ее просто сияет, лучится добрыми морщинами. В строках этих для нее и радость, и грусть, потому что детство вспомнилось.
— У нас в Затоне каждую зиму снежные горы устраивали, высокие… С них все катались: и стар, и млад…
Обычно стихи ей приходили на память по временам года.
В марте:
Зима недаром злится, Прошла ее пора…И не запнется, ни единой строчки не пропустит, даже в старости, уже в восемьдесят лет.
Взбесилась ведьма злая И, снегу захватя, Пустила, убегая, В прекрасное дитя… Весне и горя мало…В апреле:
Травка зеленеет, Солнышко блестит…Особенно памятны мне — тоже апрельские — строки. Я эти стихи сразу запомнил, на всю жизнь. В детстве мы их вдвоем с тетей Нюрой декламировали:
Полюбуйся, весна наступает, Журавли караваном летят…Обычно в эту пору мы на огороде, в земле копаемся: грядки, борозды, рассада. Или в логах, за поселком, картошку сажаем. Солнышко, тепло, одуванчиков желтый цвет. И такая радость от стихов, потому что все в них правда. Тетя Нюра негромко читает, а я во все горло ору:
В ясном золоте дни утопают! И ручьи по оврагам шумят!Весна… лето пришло… Как не радоваться.
С легкой руки тети Нюры я стал знаменитым чтецом-декламатором в детском саду и в школе, потом и актером в пьесах Розова, Корнейчука и Островского. Островского тетя Нюра любила. В молодости в своем клубе она была завзятой артисткой.
— «Царь Иоанн Грозный», — вспоминала она. — Богатая была постановка. «Без вины виноватые», «Бесприданница». После работы все в клуб бежим. Старый Липакевич — в массовке, а все равно сидит. В полку выступали, в Матакане. Нас любили.
Самаринский Затон на быстрой реке Шилке… Недолгое тети Нюрино детство, молодость, комсомольская ячейка, ликвидация неграмотности… «Я в люльке качаю ее ребенка и учу ее…» Первое радио в клубе. «В Москве будут говорить, а мы услышим…» Свекровь Мария Павловна… «Какой человек хороший, ее все любили…»
Пароходы на Амуре, на которых работала. Повара-китайцы Иван да Миша. «Такие работящие. Они меня любили. Я им колпаки постираю, накрахмалю…»
Москва… Общежитие института, где учился муж Петя. «Жили за ситцевой занавеской… Дружно… Все вместе…» После института — Хабаровск, новая жизнь. Квартира в бараке. «Такие хорошие люди… Старый механик Бушнев с женой…»
Потом начались годы страшные. Арест мужа. Высылка. Она за ним могла не ехать. НКВД объяснил, что может остаться в квартире, тем более сын Слава маленький и сама на седьмом месяце беременности. Но такой и мысли не было: оставить мужа. Только с ним. Поехали в одном эшелоне: «враги» в первых вагонах, под надзором охраны, семьи «врагов» — за ними, без охраны.
Начинались тяжкие годы: Майеркан, Бурлю-Тюбе, Балхаш, Или… Новый арест мужа. Приговор: высшая мера. «И вам недолго ходить, — сказали ей. Приготовьтесь».
За себя она не боялась. Жалела сына. Тогда они и съехались, стали жить вместе с родной сестрой Тосей — вдувой моей матерью, тоже с сыном, со мной на руках. Одну арестуют, другая останется при детях. На крайний случай — младшая сестра Нина, у нее муж в НКВД.
Семья врага народа. Нет ей житья. Из санитарок, из больницы, уволили. «Может отравить…» В сберкассе поработала лишь неделю уборщицей. Тоже нельзя. Там — «материальные ценности». Уволили. Больше не принимали никуда. Нанималась за людей на трудработы: арыки в степи копать, у людей же стирала, полы мыла у начальства, немного шила, вязала из шерсти варежки. Слепили мазанку на краю поселка, сажали огород, ловили рыбу, даже завели козу.
А после войны наконец этот поселок в России, на Дону. Дядя Петя вернулся из лагеря. Стали жить и даже свой домик купили. Вот этот — наш старый дом. Тетя Нюра была душой его — хозяйкой и главной работницей.
Обмазывать дом глиной и белить его, изнутри и снаружи, всякий год по весне. А если сильные дожди, то подмазывать да подбеливать. Мыть, красить, чистить дымоходы; за печкой следить, подбеливать, чтобы гляделась она всем на завид: белая, словно курочка. Летняя кухня во дворе. Та же песня: глиной мажь и бели. При ней кухня стояла нарядной игрушечкой. Это теперь облезла и покосилась. Пока не запретили корову держать, о ней забота. Свинья, куры — у всех свои хатки. И требуют рук и рук.
А огород, бахчи, картофельные деляны. Везде — лопата, мотыга; летняя жара, комар с мошкой. Конечно, и мы работали, помогая. Но было у тети Нюры присловье:
— Чем вас просить, я лучше сама сделаю.
Когда осенью резали свинью, не пропадало ничего. Тетя Нюра все кишочки промоет, наделает колбас: кровяную, ливерную. «Мамочка меня всему научила…» Добела промоет и проскребет требуху, свернет ее в трубочки, перевяжет шпагатом, сварит и вынесет на мороз. К обеду порежет колечками, заправит томатной подливой… Вспомню, слюнки текут.
Обеды, ужины, завтраки, дела домашние, огородные, о скотине да птице забота. А еще — все лето готовить к зиме припасы. Варенья варить, компоты. Ни одна ягодка, ни одно яблочко не пропадет. Клубника, вишня, смородина, алыча, абрикосы, сливы, груши… Банка за банкой. На жарком солнцепеке — просторные противни. Сушатся нарезанные фрукты для зимних компотов-взваров. На солнце же сохнет пастила: сливовая, яблочная. Маринуются помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Готовятся и тоже закрываются в банки салаты с репчатым луком, алым болгарским перцем. Густые томатные да перцовые заправки, без которых борща не получится, а лишь бледные «больничные» щи. Наш борщ пламенеет в тарелке. От запаха — голова кругом: укроп и чеснок, петрушка, белые корешки ее и ажурные листики.
За банкою банка уходят в прохладную тьму погреба и подполья.
А осенью квасятся и солятся в высоких бочках капуста, помидоры, огурцы, мочатся крупный «калеградский» терн и «яндыковские» яблоки в ржаном сусле, в соломе.
Все это — тетя Нюра, ее руки. И все съедалось. Картошки сварит, достанет пахучих огурчиков в укропе да миску щекастых алых помидорчиков в смородиновом да вишневом листе, с хренком для запаха. Сели к столу. Хрумтят да почмокивают. Наелись.
За зиму все уходило. Пустели погреб, подполье. Летом все начиналось сызнова. Едоков хватало. Гости приезжали: тетя Нина, дядя Миша, Анатолий, Жанна, Харитоненки с Украины, Славин друг Сема, детдомовский сирота, подолгу живал. На лето тетя Нюра сшила ему белые брюки, рубашки. «С первой получки, — обещал Сема, — куплю вам отрез на платье». Сколько их было, этих обещаний! Конопатый Генка соседский — тоже сирота. Рубашку ему сошьет. «Вырасту, с первой получки…» Она всех жалела, особенно сирот. А для меня — так вовсе защита.
У дяди Пети, человека много перенесшего и больного, характер был очень нелегкий: часто ворчлив, придирчив по мелочам и вспыльчив до бешенства. А я с малых лет не больно уступчив. Вот и доставалось порой. Защита моя — тетя Нюра. Помню, в детский сад я еще ходил. С утра заупрямился: старшие добивались, чтобы я сам чулки пристегнул к резинкам. Нехитрое приспособление — петля да шпенек. А я говорю: «Не могу… Не умею…» Слово за слово… Дядя Петя хватает кусок провода и начинает стегать меня, все более ожесточаясь. Мать кудахчет: «Правильно… Надо учить, надо учить… Чтоб не упрямился». Хорошенькая учеба… Спасибо тете Нюре. Она была в огороде, услышала крик, прибежала и отняла меня.
Было, всякое было. Но когда на меня поднималась нелегкая дядина рука, защитой была тетя Нюра. Порой ей за это доставалось, и довольно крепко. Она плакала, но стояла на своем: «Ругать — ругай… Но бить — не смей».
Спасибо, тетя Нюра. За все…
Она умерла пять лет назад. Схоронили и помянули как положено: на девятый день, на сороковой. Потом пошли годовщины.
Умерла. Но долго казалось мне, что тетя Нюра где-то здесь: в огороде, в летней кухне, в сараях — словом, в привычных заботах. И вот сейчас она выйдет, покажется… Вот-вот…
Она не вышла, она умерла. И старый дом наш стал быстро дряхлеть. Стены его остались теми же, но словно вынули из нашего дома душу. А без нее всякой жизни недолгий срок. У людей, у вещей и у нашего дома.






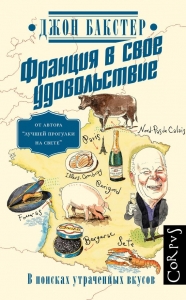

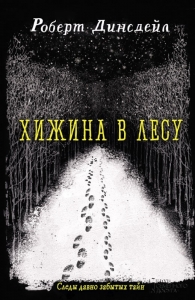
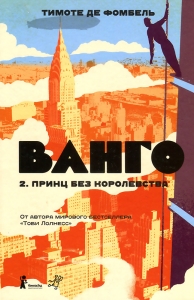
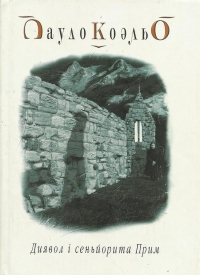
Комментарии к книге «Наш старый дом», Борис Петрович Екимов
Всего 0 комментариев