Оставшиеся шаги Рассказы Алексей Альбертович Кобленц
Обезволил… Кто крайний за волей?..
Эй! Залей под завязку бачок!
Жизнь — бескрайнее минное поле…
Не виляя шагай, дурачок!..
Аккуратней греми сапогами,
Смерти врежь посильней по губе
И оставшимися шагами
Перемеряй дорогу к себе
=А=
© Алексей Альбертович Кобленц, 2018
ISBN 978-5-4490-4564-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Встреча
— А ты вообще-то хоть знаешь — сколько тебе осталось?…
Вопрос довольно обыденный в зоне жизненной философии, но вовсе не житейский… Я растерялся… Сначала. Потом сдуру взял и вспылил:
— А кто это знает?! Тут ты хоть будь дурак, хоть будь умник — все равно хрен догадаешься! Ну, если там, к примеру, заболел и сам не видишь, не чувствуешь как бы своих перспектив — тогда да, догадываешься — осталось недолго. А так?.. Что за ерунда?!
Мы шли рука об руку по какой-то хлипенькой сыромяти… Он босой… Я — не помню… Коротко хохотнув, Он остановился, щелкнул меня по носу и с игривой гримаской на уставшем лике, произнес:
— И Я тебе ничего не скажу! И обещать ничего не стану! Живи. Расти. Думай. Делай.
И вот тут меня понесло! И вот тут у меня внутри засвербило до одури, и, выпростав руку из Его горячей длани, я взмахнул ей как-то не по правилам, как-то кривобоко, что ли…
— Господи!!!…
И все. Он исчез. Растворился.
Я долго стоял в этой образовавшейся безжизненной тишине, окончательно успокоившийся и только что ощутивший ненасытный голод до Его животворящего присутствия…
Плохая привычка
Хавроша дергалась и кричала совсем уж и не долго, потому что его крепкая умелая рука вонзила тонкий и длинный «рабочий» нож прямо в самое ее сердце.
— Теперь опалить, отскоблить, освежевать, разделать… Хрюшку подружке, а нам чарка и шкварка, — промурчал он утробно, кивая на тушу приконченной им только что свиньи в уже бессознательных последних конвульсиях.
Студент наблюдал за мирно смывающим с ножа сгустки свиной крови Николаем. Ассистировал он на убое далеко не впервой, но, помогая подтаскивать баллон с пропаном и подсоединяя к нему горелку, дико себе недоумевал: как же это можно так спокойно и по-хозяйски забирать чью-то жизнь, не морщась от чужой боли? Студент ничего, конечно, против Николая не имел и даже где-то симпатизировал его рукастости, простоте и веселости, но в горькие для себя сеансы убоя люто недоумевал, думая сам про себя, что люто ненавидит этого хладнокровного мастака.
— Ну че тя опять сморжопило-то, Студентишка? — в который уж раз задирал он нескладеху-хлюпика. — Скотина, она уж самим Богом отдана в услужение человеку! Сам-то вона — котлетки, небось, уважаешь?..
Студент было чего-то хотел тявкнуть в ответ на котлетную истину, да призадумался, держа в руке горелку… Захотелось открыть на всю вентилек и выплеснуть Коле в харю заряд зажженного пропана…
— Так что вот так-то! Учись, Студент! Привыкай, милой…
Хлюпик уронил в кровляную травушку свою зловонную горелку, подпорхнул к необъятной туше своего подельника и ухватился за ворот замызганной его кацавейки:
— Да вот именно, что привыкаю!!! Привыкаю уже, Коля… Скоро, того гляди, научусь… — сбился он на здорово в последнее время душивший его лающий кашель, отчего отпустил монументального Николая и медленно подошел, все так же дохая, к симпоровизированному из березового чурбака столику, влил в себя залпом полстакашка вонючего самогону, закурив на закуску крепенькой не менее вонючей смятой и повысыпанной папироской. Кашель не проходил.
Прыжок
Мы оба до обидного точно знали, что впереди ничего нет, но слаженно двигались к так называемой «заветной цели». Видимо, поэтому мы, мало того — разговаривать, а даже искоркой сознания думать боялись о результате… Потому что результата не было, нет и не будет!
— Ты проследил, чтобы дети позавтракали перед школой?..
— Разумеется…
А дальше что?.. А почему ты не спрашиваешь: «А дальше что?» Ты боишься! Просто ты, как и я, боишься результата! Того самого! Которого нет!
— Мама ждет нас сегодня к семи. Пожалуйста, не опаздывай.
Мы так друг к другу привыкли, что для новых неожиданностей мы не находим никаких подозрений. Они называют это размеренностью. Они это называют покоем, а еще укладом семейной жизни. Но когда ты ждала меня из боя, затянувшегося на долгие годы, у тебя была заветная цель — дождаться. Но когда я, истекая кровью по койкам госпиталей, снова и снова терял сознание от подкатывающей на пушечном лафете смерти, у меня была заветная цель — вернуться к тебе целым, и живым, и по возможности здоровым. Мы достигли, оба достигли наших целей и выходит — нам больше нечего ждать? Выходит — нечего?…
— Знаешь, наверное, нам нужно куда-то съездить к морю… С детьми… Они обрадуются…
— Поедем. Конечно, поедем…
Зачем я выжил? Неужели только для того, чтобы сейчас вот все понимать и сожалеть?.. Я не согласен! Я так вылезал, так тянулся!… Не хочу, чтобы напрасно!
— К маме мы сегодня не сможем…
— Как?! Она ждет…
— А нас с тобой ждут совершенно другие дела! Сегодня ты у меня впервые в жизни прыгнешь с парашютом!
— Ты спятил?! С какой стати я сегодня должна прыгать с парашютом?.. Да и при чем здесь сегодня?… Вообще — с какой стати?!
Она испугалась? Да, очень… Но улыбается, одними глазами улыбается… Значит, все правильно!
— Я боюсь.
— Со мной?
— У меня дети.
— У меня тоже дети. И все от тебя.
— Я умру от страха!
— Размечталась!..
— Меня там не пустят…
— Со мной?
— Ты сумасшедший идиот! Я никуда и ни откуда не стану прыгать!
— Ты увидишь после нашего синхронного приземления что такое сумасшедший идиот и его счастливая любимая женщина… Его дорогая жена…
Двумя кулачками она пребольно ткнула меня в грудь:
— Мама, мама ждет нас!..
— Ну, с мамой мне проще всего договориться.
— Не договоришься! Я вчера наябедничала ей на тебя — ты плохо моешь посуду!
— А я научусь! Обязательно!
Кент
— Здравствуйте! Будьте добры, не могли бы вы…
Вежливый. Уже кое-что в наше время и в его юношеском возрасте.
— Что-что?..
— Не могли бы вы купить сигареты?
Пацанчик лет эдак шестнадцати… Ну, что? Долго и нудно рассказывать ему о вреде курения? Или просто отказаться и послать далеко? Или все же нужнее отругать не думая?..
— А оно тебе надо?..
— Надо! — уверенно, с подтверждающим кивком легкой головы.
Сам-то я с каких годков стал этим интересоваться?.. Кажется, где-то с десяти, по-моему?.. Да-с, самое оно лекцию пацану прочесть о вреде этого дела… Как это там у Чехова?.. «Сам-то я курю, но жена заставляет читать лекции о вреде табака…»
— Чего тебе брать-то?..
Сует вдвое сложенный стольник:
— «Кент» -восьмерку…
Беру. Прихватываю чек и сдачу и все передаю ему с рук на руки:
— Ты, все т-ки, Кент, подумай своей башкой-то…
— Чего?..
— Того! Сам понимаешь! И вот еще что подумай: чего я Богу сегодня скажу?
Смотрит на меня, словно я птеродактиль на унитазе:
— Кому?..
— Богу!
Гляжу, быстренько собирается сматываться — тема, видимо, неуютная для него, о Боге… Ухожу, рассеянно не обращая внимания на его «спасибодосвиданья»… А непременно надо бы уши надрать и объяснить, что за ЭТО «спасибо» говорить ни в коем случае нельзя, расшифровывая ему дословно вот это самое «спасибо»… Что там еще?.. Родителей вызвать?..
«Что я Богу-то сегодня скажу?»
Он меня обязательно накажет! Хотя и так наказывает. По нескольку раз в день! И Кента этого подослал мне в наказание: на тебе, гнида, за все хорошее! Слава Богу за все! Господи мой, Господи… И сказать Тебе нечего… Прости!
Барбаросс
— Хочешь барбариску?..
— А я с удовольствием! Значит так: одну не берут, две нельзя, а три — сам бог велел… Опа-а, а четвертая сама упала-а… Тогда я забираю все!
— Но…
— Но-но! А ты пойди себе еще пакетик купи. Жалко тебе, что ли?..
Букет
— Какая гадость, какая гадость, какая гадость…
— Да не слушай ты ее, чокнутую! Где гадость-то? Она хоть знает это?
— Гадость, гадость, гадость…
Да сумасшедшая девка! И так было ж понятно! Запал он на нее чего-то. То ли сам такой же, то ли с другими мама не велит… А эта — все одно с придурью.
— Дурак ты, Федя! За такой букет другая бы из кожи вон вылезла!
— Сам ты дурак! Да и мать тоже… Дернуло ее со своими «цветочками». Побежала — купила. Учти, — говорит, — это дорого! Зачем?
Ненормальную трясло словно в предсмертном ознобе… На лице ее отражались и боль, и мука, и безысходность какая-то, что ли…
— Людок, Людок… Ты успокойся, Людок… Я ведь не своими руками убивал эти цветы, поверь. Они попали ко мне уже мертвыми через третьи или четвертые руки… А мать купила и принесла мне… Для тебя… Она не знала…
Люда пристально посмотрела в глаза своему незадачливому кавалеру и уже на спокойных нотах, но не без плохо скрываемого недоверия проговорила четко, отрывисто и решительно:
— Феденька, учти: больше никогда!
Федька зашвырнул огромный разукрашенный букет из отборных белых роз в тут же случившуюся урну, отчего со дна ее поднялись и смелись напрочь ветром несколько малозначительных мусоринок… Ему очень хотелось, чтобы у них с Людой все наладилось.
Исповедь
— А на хрена, ба, мне оно надо? Чего я, такой уж кривой самый у тебя? Нормальный. И в церковь твою я не особый ходок.
— А ты вот взял, да сходил бы!
— Да зачем? Попов смешить? Пришел здоровый лоб на исповедь! Это ж… Рано мне еще исповедоваться, ба… Успею…
Дрон сейчас не ведал, как отвязаться от начинавшей надоедать ему бабки, хоть старуху свою любил до беспамятства и ценил тоже за долгую ее, добросовестную, в вечных заботушках прожитую жизнь.
— Глупой! — перечила ему въедливая до «небесной» темы старуха. —Помирать-то мне как? Как тебя такого тут одного оставишь? Иди-и!..
— Куда идти-то? Дос-с-с-тала…
— В церкву! Зайди, постой хоть немножечко да лоб перекрести… Погляди, как другие-то…
Нет, ну она кого хошь до обморока доведет! И чего, милая, пристала? Чего ей надо? «В церкву, в церкву…» Чего он, охламон великовозрастный, там не видал?… Сумасбродная моя старушка!..
Дрон бабусю любил… Есть за что. Дело-то, по большому счету, и не в том, что вырастила и целенаправленно, и не худо-бедно, как вон у других там сплошь и рядом, а нормально воспитала пацана, так рано оставшегося сиротой без залихватски и чуть ли не в одночасье спаливших никчемную жизнь родителей — дело прошлое. Суть-то вся в том, что бабулька каким-то случайным и непонятным образом обронившая собственную дочку, мертвой хваткой зацепила внука и волокла его на себе одной все трудные годы становления. Тяжко, конечно, но — ничего не попишешь — надо! Любил ее Дрон — старую, добрую, ворчливую и не злую…
Через пару-тройку дней возвращался автобусом с работы и — черт их знает! — ноги сами выволокли на асфальт за две остановки раньше, прямо напротив ближайшего к дому храма… Минут десять, наверное, все стоял эдак поодаль от него, в сторонке… Покуривал и посматривал на высокие купола и на верхушки крестов… Это типа антенн, наверное… Типа антенн, притягивающих с благосклонных небес силу божью… Наверное… Сам-то он по этой тематике мало чего знал и мало чего понимал. Но сейчас решил почему-то именно так — антенны!
Ну, и зашел… Ну зашел!
Священник нараспев читал молитвы и негромкий его голос чуть ли не осязаемо поднимался под купол древнего строения. Клирос пустовал, зато ярко и маняще и как-то удивительно в тему горели расставленные там и сям свечечки. Они горели и грели его изголодавшееся по чему-то абсолютно непонятному нутро. Запахом ладана навеяло детское ощущение тихого праздника. Он приходил сюда вместе с бабушкой тогда… Тогда — очень давно. И теперь, значит, он здесь не чужой.
«Лоб перекрести…» Ах, да. Нехорошо, правда… И он наложил на себя неторопливое, размашистое и правильное крестное знамение. Что же дальше?.. Домой?.. О, да тут очередь чего-то… Да и не так уж, чтобы сплошь из старушек… Вот есть и помоложе, и как он… А вот мальчишка возле священника нашептывает батюшке что-то на ухо. Шепчет как своему на ушко, молоденькому, не отрастившему даже еще как следует бороду, батюшке. А служитель-недобород внимательно слушает, кивает, поглаживая пацаненка по голове…
— Вы последний на исповедь?
Дрон вздрогнул от неожиданно прошелестевшего рядом полушепота, а, обернувшись на вопрос незнакомой загадочно-красивой девушки, испугался еще больше:
— Нет! Я?.. Нет. Вы… Вы, пожалуйста, вставайте… А я нет…
Он быстренько проскользнул к выходу, но сам себя обнаружил только на улице за воротами покинутого им храма.
Исповедь… Слово-то какое — исповедь, — думал он уже окончательно придя в себя, сидя на лавочке возле подъезда и высасывая третью кряду сигаретину, отчего в горле делалось нестерпимо горько и некомфортно, что в свою очередь заглушало что-то иное, еще больше мешавшее Дрону, чем глубокие и частые втягивания и задохивания вовнутрь едкого табачного дыма… Мешало… Что?.. Ну, во первых, мешал маячащий перед глазами образ той загадочной девушки, освещенный теплыми свечами… Она там тоже, понятно, своя, и поэтому, наверное, свечи так по-свойски освещали ее лик. Именно — не лицо, а лик, применительно к месту ее внезапного появления. Мешал ее образ! И очень жестоко! До боли! Такого еще никогда с ним не случалось…
— Ба, а как там вообще исповедуются-то?..
— Андрюшечка-а! Ххоссспади-и-и!.. — бабка вскинула вверх обе руки, словно решила сдаться внуку в плен. —Милой, милой, родной ты мой мальчишечка-а! Неужто?!..
— Че ты, старая?.. Чего — неужто-то?
— Дозрел, дозрел, говорю, неужто?… — с надеждой и со слезой радовалась старуха.
— А дозреешь с тобой! Все мозги ведь, старая, пробуровила!
— Дык ведь готовиться надо — молитовки повычитывать, попоститься денька три…
— Давай, давай, бабань, свои молитовки и чего и как там постятся… И вообще — давай расскажи как там и чего надо делать перед этим, перед исповедью… Что я, в самом деле — хуже ее, что ли?
— Кого ее? — улыбалась просветлевшая и даже помолодевшая старуха, подсовывая своему Дрончику новенький молитвослов.
— Неважно, бабушка. Сейчас неважно.
Он еще посидел, подумал, повертел в руках толстенькую книжечку с крестом на обложке, поглаживая и покачивая ее на ладонях, словно младенца…
— Чего я, в самом деле — лучше ее, что ли?…
Королева
— «Что будет?», «Что будет?» — Хорошо нам с тобой будет! Чего ж тебе еще-то надобно, твое величество королева?!..
Это он так говорил. А думал?.. А думал он приблизительно так: «Ну, чего ты все ломаешься? Сама, главное дело, на шею себя навроде косыночки навязала, а теперь отбиваешься?.. Надо (в твою королевскую рать!) доигрывать пьесу до конца! И ружье должно выстрелить!»
— А что? А что? — судорожно, но с достоинством приводила она в порядок немногочисленные предметы одежды, предполагавшиеся к немедленной разлуке с хозяйскими — скажем так — плечами. — Что ж получается — кроме вот этого (недвусмысленный жест) и вот этого (недвусмысленней некуда) других каких-то общих интересов у нас с тобой быть не может?.. Дай иголку с ниткой — пуговицы вон на блузке все пооторвал, папаша!… Глеб, ты же мне в отцы годишься, а все туда же! Не стыдно, уважаемый?..
Глеб швырнул в нее катушкой издали. После схватки приближаться ближе, чем на полметра он почему-то побаивался… Больно дерется! И, блин, царапается еще!.. Ну ее!…
— В отцы гожусь? Интересная мысль. Я тебя привык рассматривать в другом ракурсе…
— В ракурсе — раскарякурсе! Любовичек…
— Фу, как ты вульгарна! Совсем не идет к твоей неприступности. Тебе прохожие не намекают, случайно — «Девушка, с таким лицом мини не носят!»?..
Верка оторвалась от пуговичных пришивок и улыбнулась ему впервые за общую протяженность сегодняшнего рандеву… Стало теплее…
— Нормальное у меня лицо. Красивое. Вот и ямочка на подбородке. Смотри — такая же, как у тебя!
Что-то там торкнуло внутри от этого ее напоминания. Да, определенно, сходство есть. Ямочка на подбородке — довольно редкий и симпатичный казус. Глеб удивился мысли, заведшейся сейчас у него в мозгу… Ямочки-близнецы… Глупость какая глупая! Она как-то, помнится, подвела его к зеркалу: «Смотри, Глебушка, как мы с тобой похожи!» Ну, да… Похожи… Бывает… А, может быть, именно вот это вот сходство и свело их, подсунуло общение, встречи и заполуночные беседы о житье-бытье… Он много рассказывал о себе… Она как-то делилась сдержаннее, больше слушала… Верку почему-то интересовало буквально все, о чем бы он не говорил. Казалось, начни он докладывать об устройстве и принципах работы мартеновской печи, она и эту белиберду станет слушать, раскрыв, словно клювик, свой улыбчивый рот.
Нет, Глеб никогда не бабничал и не гонялся за всеми подряд юбками!.. Если выбирал, то, разумеется, по душе… По душе! А все остальное — потом! Одинокий… Одинокий собиратель родственных бабьих душ…
Серьезно?.. Серьезно случилось. Однажды. Нельзя сказать, что он, дескать, такой однолюб… Дескать, кроме Аленки, у него и быть никого не было… И что, мол, Аленку он свою ждет там и любит там ее всю свою жизнь… Нельзя! Как-то оно пришло, посветило ярко и трепетно, с надеждами, со счастьем великим осознания настоящей любви, настоящего такого и правильного чувства… Пришло — посветило — ушло. Чего только в жизни не бывает, чего не случается! Ну, ушло… А жаль. Где она?.. Что она?.. Интересно было бы узнать… Или уж не очень интересно — думать, ворошить, вспоминать… А то ведь зацепится подробность за подробность, и пошла-а — бессонная ночь… Верка напоминала Аленку двумя бессонными ночами с несостоявшимися подробностями. Затуманенными, легко ощутимыми, не перевариваемыми… Плевался все потом ходил — и чего оно вдруг?… Тьфу ты — глупости какие глупые! Тьфу…
— …..потому что мне очень-очень надо знать о тебе все!
Это пока он шмурыгал корявым веслом по бурным волнам своей памяти, Верка все что-то говорила, стоя у окна и наблюдая какую-то там уличную жизнь…
— Зачем? — как-то очень кстати и вовремя он подсоединил свою вилку к сети разговора… Ничего не пропустил, интересно?..
— Затем, что мне нужно знать твое отношение к жизни, иначе — все ли твои ошибки случайны…
Стоя у окна, она все куда-то всматривалась, всматривалась… Будто что-то выискивала на шумной и хлопотливой улице… Будто бы кого-то искала на ней…
— А теперь мне пора… Домой, — спохватилась она, улыбаясь чему-то там своему, найденному что ли только что из открытого окна его одинокой квартиры…
— Я провожу… Почему ты никогда не разрешаешь провожать тебя?.. И я ведь до сих пор, за полгода наших совместных бдений так и не узнал где ты и что ты…
— Узнаешь еще, в чем проблема…
— А когда?…
— Видимо, очень скоро…
— Что у тебя завтра?..
— А я не знаю… Завтра суббота, я выходная и не знаю куда себя деть…
— А я к матери на дачу. Жарища… Помочь ей там чего…
— Я с тобой!
— Ты сбрендила, дурындушка?… И как я ей тебя представлю?
— Да, да, да… Правильно… Знаешь, ты не обращай на меня внимание. На меня порой глупость всякая находит. Я ведь королева — сам сказал. Значит, мне можно.
— Ну да, ну да, ваше велико…
Она осторожненько приподнялась на цыпочках, чтобы достать улыбчивыми губами до трехдневной небритости неухоженной щеки…
Привычный маршрут — три троллейбусных остановки лучше всего преодолевать пешком… Больше времени на размыслюшки…
Ну, а чего плохого-то? Ничего! Она вполне самостоятельная, значит — ничего ей от него не нужно такого… А он очень одинокий — это сразу видно… Может потом, конечно, спросит — а чего, мол, раньше?… А! Она выкрутится, соврет чего-нибудь… Он хороший… Хороший! Просто не знал ничего. Не знал ведь! И не виноват ни в чем… Нет, не виноват!
Так она и просидела всю ночь под маминой любимой настольной лампой… Мама смотрела на нее с большой настенной фотографии тепло и вовсе не осуждающе. Ведь тогда, совсем недавно, когда она стала приводить сюда того, причинившего ей настоящую боль, мама смотрела не так. Строго и требовательно… Страшно… Но Вере это показалось каким-то наваждением… Ведь она полюбила тогда… Просто мама немножко ревнует, — сказала она самой себе, — и все уладиться… А мама, как и при жизни, оказалась права! Теперь мама смотрела хорошо. Значит, Верка все делает правильно!
Так она и просидела всю ночь под своими воспоминаниями… Все думала, думала… Летняя ночь ласкала легкие шторы и не растворяла всего накопившегося ни на чуть-чуть…
Завтра надо будет…
Но половина четвертого утра развеяла всю эту муть требовательным и громким стуком во входную дверь!
— Ну заходи, заходи… Чего мнешься?… Проходи уже давай, я пойду чайник на огонь поставлю.
Глеб стоял перед ней соляным столбом и бледность его лица здорово походила на автопортрет покойника…
— Давай, давай… — она улыбнулась, шмыгнула носом и выскользнула на кухню.
— Пахнет, — сказал он ей, вернувшейся тут же из кухни к нему. Он стоял перед настенной фотографией мамы, — от тебя пахнет Аленкой… Я вот только сейчас это понял…
— Давно догадался?..
— Я вот сейчас… Только что! Я бежал… Бежал к тебе… Бегом… Быстро… Потом сидел на нашей лавочке там, внизу… Сидел, никак все отдышаться не получалось… Сердце… Чуть не обронил… Я… Верочка… Я не знал… Не знал я! А Аленка где?… Где?…
— Мама умерла. Пять лет уж как умерла… Ты не психуй так, успокойся. Я ведь в курсе. Мама мне прямо все-все по полочкам разложила. Просто я долго собиралась. А тут нехороший один случай подвернулся, и я поняла, как-то вдруг вмиг повзрослела и как-то вдруг поняла — что такое одиночество. Вы не виноваты — ни ты, ни, тем более, она. Просто все так вышло. Плохо или хорошо, а вышло — и все!
Глебу сейчас захотелось не то, чтобы обнять ее, такую светлую, такую родную, а захотелось как-то даже укрыть всем собой, чтобы ни одна пылинка не упала на ее волосы, чтобы ни одна дождинка не коснулась ее плеча, чтобы…
А она, задорно взлохмачивая копну своих густых пахучих волос, засмеялась звонко и спросила:
— Ну как?.. Гожусь я тебе в дочки?.. А ты? Как думаешь, в отцы мне, все же, годишься?…
— Гожусь! Гожусь… Милая моя королева, родное мое величество!
— Ладно, посиди тут… Я все-таки чай организую, кофе у меня еще растворимый… Утро уже. Сейчас усядемся и я тебе все-все буду рассказывать…
Он сидел. Он сидел, рассматривая до подробностей детали так давно знакомой ему комнаты… И он вспоминал… С неописуемой болью и с неописуемым счастьем вспоминал… Все!
— Папка! Тебе чаю заварить зеленого или черного?! — врезалось сладкой миной в его голову…
Папка…
Он резко, глубоко и озвучено вздохнул, словно не просто услышал, а проглотил, пропустил это слово, ему подаренное и торчащее теперь в самой его сердцевине… Торчащее, и целиком не помещающееся внутри… И в доказательство неумещающейся его радости, словно из двух игрушечных водных пистолетиков выбрызнулись пара пучочков слез, а следом он как бы со стороны услышал собственный вой через судорожно сжатые челюсти. Душа его, освобождаясь от привычной неустроенности, заполнялась чем-то новым, необходимым, пока непонятным, но очень-очень дорогим!
Вера поставила перед ним на стол пару чашек и чайник, присела рядышком и, подперев подбородок кулачком, разглядывала его — хлюпающего, нового, родного.
Начинался день.
Мишутка
— Ты что, дурак? Столько лет прошло, а ты денег не берешь!
— А ты что — шибко умная стала на своем бабле сидючи?.. Сказано тебе — заказ оплачен, работа выполнена. Забирай его, своего любимчика, и весь разговор! Мать-то тогда последними своими грошиками расплачивалась, а это уже не то, что твои эти вот, — старик кивнул на несколько купюр в ее наманикюренных и лоснящихся пальчиках, — материны-то подороже твоих были… Их-то я тогда, провожая до дому, обратно в карман ей засунул, а вот твои не возьму! И не проси!
— Вот видишь, у нее не взял же тогда, так сейчас бери!
— А она мне не чужая была! Любил я ее шибко при живом-то муже! Грех! Она мне не чужая была, а ты вот — чужая! Забирай его и уходи с богом!
Господи, вот чудила-то грешный! — костерила она старика, наблюдая ливневые потеки за лобовым стеклом своего надежного «Ниссана», а сама прижимала к щеке плюшевого, любимого по далекому детству, мохнатого Мишутку… Она заглянула в его пуговичные, потрескавшиеся от времени глазенки, и тут так все сразу подкатило и к сердцу и к горлу, что нестерпимо понадобилось разреветься, но вместо этого она вырубила зажигание, чтобы лучше услышать то, что творилось в ее душе. Выходило, что глаза ее застила боль того чудилы грешного, восстановившего так давно разодранного чуть ли не в клочья Мишутку. Мишутка ты, Мишутка… Ну, здравствуй, мой маленький дружок!
А это?.. Нет, это вовсе не слезы. Это просочившиеся через надежное лобовое стекло нескончаемые ливневые потеки…
Рассказать маме?.. Неужто сама не знает?.. Конечно, знает! Зачем же соваться в чьи-то корючки давно забытых дней?.. А мама старенькая… А такое вот — настоящее — не забывается никогда, поэтому никогда и ничего не нужно да и нельзя рассказывать маме…
Она приводила в порядок свои думки, а заодно и лицо от «просочившегося дождя» как раз в тот момент, когда последние уже капли добросовестно отбарабанили свое соло на асфальте, а старик стучал ей в стекло и с ребячьим озорством манил ее пальцем.
— На, отвези мамке, она любит…
— Что это? — спросила она сторонне, неотрывно любуясь его припрятанной в усах улыбкой, ощущая ладошкой шуршание нетяжелого пакета…
— Сушки с маком. Она любит. Отвези, пожалуйста…
…и как была, как была — с Мишуткой в одной руке и с баранками в другой, она обняла его за шею и прижалась щекой к его небритым колючкам:
— Я тебе не чужая! Слышишь, старик? Не чужая! Я же помню как ты ездил со мной на Красную Площадь на праздники, на салют… Помнишь?.. Я сидела вот здесь, вот прямо здесь, на твоей шее, и каталась на тебе по разукрашенной разноцветными лампочками Москве!.. Как хорошо мне с тобой гулялось, смеялось и пелось!.. Помнишь?.. Я никогда этого не позабуду, старик! Ты мне не чужой! И никакой ты не старик. Ты — ангел! Ты мой ангел!
По его оттаявшим глазам она поняла, что старик услышал ее и для жизни этого вполне достаточно. Для жизни! Как-то так оно у нее выходило, что все, вроде бы, в порядке и все на местах, а вот сама жизнь вовсе не складывалась… И дело вовсе не в мужчине, не в семье и не в друзьях, а, вот именно — главного чего-то не было! Нужно знать его, свое главное, найти его, определить, отыскать, отрыть из кучи перепутанных проводов повседневности… В поисках своего главного она и возвратилась в прошлое, в свое детство и к своему Мишутке… И к нему… К нему, так много значившему в жизни мамы… И до сих пор… И вот сейчас…
— Все, садись, поехали… Чур сегодня катаю я. Пожалуйста, разреши мне покатать тебя! Как ты меня тогда — помнишь?..
Он кивнул и, обойдя машину спереди, плюхнулся на удобное сиденье, залихватски хлопнув дверцей:
— Погнали, девочка! Мы вместе!
Похороны
Хоронили хорошего человека, отца троих детей, деда восьмерых внуков, работягу и семьянина. Вдова его сидела у гроба на непрочном табурете, сложив на коленях руки и уставившись в одну точку. Глаза ее, казалось, чего-то ждали. Казалось, что ждали они появления из этой точки его, живого и здорового, тем более, что при жизни он вовсе не умел хворать, а коли становилось ему плохо, все он порывался выйти на улицу, дабы не обременять близких. Она тогда всплескивала руками, удерживала его, беспокоилась и тайком плакала. «Ну, чего ты, Маруся, — бывало, погладит он ее по седой голове, — я только пройдусь немножечко и пройдет. Пройдет, Маруся, не боись».
Прошло.
Она сейчас больно осознавала, что все теперь у нее в прошлом. Жизнь закончилась.
Прошло. Дети выросли, давно выросли и заимели своих детей и все у них, слава Богу, ладно и хорошо. Зачем она им? Так, лишняя обуза. Станут теперь ездить, беспокоиться, как говорится, окружать вниманием. А не надо, не надо ей никакого внимания, будет одна, одной-то теперь лучше. И плакать сейчас ей незачем, чего детей-то расстраивать лишний раз? Хотелось быть одной, чтобы уж тогда и выплакать, упиться своим горем сполна. Горе! Горе, горше не бывает. Эх, Михалыч-Михалыч, дорогой мой человек!
В автобусе она попросила, чтобы везли его с открытой крышкой гроба, последний раз, мол, хоть посмотреть на него подольше, и всю дорогу до кладбища от безбожной тряски то и дело поправляла ему голову и складывала на груди расползающиеся руки, кормившие и ласкавшие ее пятьдесят с лишком лет.
На кладбище ритуал был проделан педантично, дежурно учтиво и быстро, даже показалось, что чересчур уж быстро забросали землей дорогое ей тело. Ну что ж, поклонилась в пояс могиле и обратно домой, на поминки.
Домой… Ничего теперь для нее не осталось в ее доме.
Часа через три скорбного застолья случилось ее дочери пихнуть локтем одну сильно подвыпившую родственницу, пытавшуюся затянуть какую-то песню, забывшую, видимо, под воздействием винных испарений по какому поводу все сегодня здесь собрались.
Но она не обратила на это никакого внимания. Ей до того стало все равно, до того… На самом деле, и правда: все остальное уже не важно.
Разбрелись гости. И вот уже все убрано, перемыта вся посуда. Она сидит на кухне. Одна. Закурившая сигарету младшая дочь говорит ей что-то, успокаивает, но ей и смешно и тоскливо от всего и от всех. И лишь затем, чтобы дочь от нее отстала и оставила, наконец, в покое она произносит слова — выдох ее намаявшегося горем сердца:
«Все нормально, дочка, спасибо. Все как у людей».
Ночнушка
Среди ночи, вразрез сладкой полудреме, мягенько постучалось воспоминание:
— Можно?..
— Кой черт тебя несет-то, когда спать? Дня тебе мало?
— Да днем же — сам знаешь — то да сё. Ты занят собой, а я затерто тобой. Только ночью мы оба посвободнее. Можно?
Вот чего оно навязывается? Я его просил? Я его звал? Приперлось! Прискакало! «Можно?..» Не можно! В сто рублев морожно!..
— Ну, давай, чего там у тебя, о чем?
— Да, сам видишь, мин херц, конкретики сегодня никакой. День какой-то взбалмошный, никак нельзя сосредоточиться, поэтому такой вот тут дивертисментик, такой вот сюр-сборничек того-другого-третьего сквозь все почти что твои времена. Возьмешь?
— Ну, как те сказать?.. Больно уж измочалено все. Замызгано уж больно. Старо.
Воспоминание все же, не смотря на мое слабое сопротивление, уютно расположилось и даже вытянуло свои корявые ноги в проходе, показывая тем самым, что сию секунду покидать меня вовсе не собирается.
— Ладно, зафикстулил! Я ненадолго, честно. Полчасика плюс-минус километр.
Победа! И я, сдаваясь этому заиндевелому фантому, зашелестел желтыми страницами навязанного мне только что моего же собственного сюр-сборничка…
Но полчаса — это ведь не вечность! Ибо «Все пройдет… И это проходит…» Нет уж, пускай не проходит! Я вспоминаю, я шевелю извилинами, а значит — я живу!
Утреннее пробуждение всегда не перевариваемо и неприятно уничтожающей конкретикой. Утро обычно далеко отстоит от мечтаний и воспоминаний… Любых. В том числе и того, с которым нынешней ночью мы так закадычно терлись. Тогда так ли уж реально сегодняшнее утро? Так ли уж оно съедобно, если несет в себе столько плесневелого дневного хлама?.. Не знаю…
Вхожу в день и хлопаю за собой дверью. А ведь так же точно хлопало мое воспоминание, покидая меня в самую предрассветную секунду… Только я не услышать… Я спал.
Первый снег
— Знаешь, Вова, а первый снег — это к весне, — говаривал старый зек дядя Коля, растирая какой-то ядовитой мазью больное ревматическое колено. — Оно ведь как у времени? Первый снег, так? Значит, месяца через полтора-два новый год, так? А после нового года чего там, ерунда остается, тьфу и растереть.
— Вот и растирал бы ты молча, — ворчал со своих нар какой-то отдыхающий после работы сокамерник.
— Закройся там, шмордепень! — «утирал» того дядя Коля и невозмутимо продолжал о прелестях первого снега. У него вообще была такая практическая и полезная жизненная установка — что бог не делает, все к лучшему.
В тюрьму Владимир попал по случайности. Обстоятельства сложились как-то так, что нужно было кому-нибудь сесть. Он взял на себя и сел, совершенно не надеясь на дальнейшую возможную ему за это благодарность от тех, кто действительно должен был здесь жрать вместо него баланду. Дали пятерку, потом амнистия. Ну, в общем, три вышло до гудка.
Жена ничего: ни свиданий, ни писем почти не писала. Он все прекрасно понимал, но в надежде на новую жизнь, мечтал, что по возвращении родит она ему сына, ведь столько снов про это он на нарах пересмотрел!
Ерунда, — думал он, — вот вернусь и все наладится, а иначе для чего ж тогда живем?
— Как жить-то дальше думаешь? — провожал его дядя Коля.
— Как и раньше, честно, — пообещал Владимир, — а как еще можно жить?
— Смотри, кореш дорогой, как бы твоя честная жизнь не довела тебя снова до цугундера. Главное, насчет жены не тушуйся, ну ее. Лучше брось и не горячись. Мужик ты не слабый, везде жить можешь. Держись. Счастливо тебе, сынок!
И покатился поезд.
— Ну, привет, — встретила его на пороге Сима дежурным поцелуем в ще-ку, — ты молодец, что позвонил, только, извини, я ничего не успела. Много работы. Там все найдешь в холодильнике. Пока, до вечера.
Он открыл холодильник и его своротило от обилия водок, марочных вин и сервелатов. Со злобой грохнул дверцей и с холодильника упала и разбилась ваза красного стекла. Он пнул по осколкам ногой и выскочил на улицу. В магазине приобрел бутылку портвейна «три семерки», шмат колбасы и буханку ржаного хлебца. Не стал на улице, все же, только что «оттуда», значит, пришлось возвращаться праздновать домой.
Вечером вернулась Сима. Он привлек ее к себе, но она выскользнула, мол, от тебя разит дешевой бормотухой, и, знаешь, я немножечко отвыкла, понимаешь…
Он не понимал, он силился понять, исподтишка, по-волчьи рассматривая ее, вышедшую из ванной, в прозрачном, подчеркивающем контуры ее тела одеянье, на въедающиеся в ее плотную задницу черные кружева трусиков, на подрагивающие соски ее огромных грудей, на вкусно пахнущие влажные длинные волосы:
Ко дню ее рождения он преподнес ей букет из необычно синих роз, помогал готовить, накрывать на стол, приветливо встречал гостей — троих лоснящихся мужиков («Познакомься, это мои сотрудники!») и тещу, Розу Моисеевну.
В разгар праздника они вышли с Розой Моисеевной покурить на кухню:
— Володя, я знаю, вы порядочный человек…
— Мало вы меня знаете…
— Володя, конечно ужасно, что Сима обсуждает это со мной, она обманывает вас, Володя…
— В каком смысле? — попробовал не понять ее Владимир.
— Все. Домой! — теща бросила недокуренную сигарету в раковину.
В три часа ночи Владимир перемыл и убрал посуду и расставил мебель по местам. Потом присоединился на кухне к Симе, выпивающей коньяк и посасывающей кислый лимон.
— Разреши? — он наплескал себе полфужера.
— Тебя долго не было, я полюбила… — нехотя призналась она.
— Сразу всех троих или, все же, как-то по очереди? — лениво поинтересовался он.
— Ничего ты не понимаешь, уголовник. — У нее довольно здорово заплетался язык. — Все. Спать.
— Спокойной ночи.
Через тридцать шесть минут он подошел к ее постели с длинным кухонным ножом в правой руке, левой рукой откинул одеяло, немного полюбовался крупным соском ее груди, подрагивающим от ударов ее сердца, потом быстро ввел острие ножа в место под левой грудью.
— Ахх-хрр! -сказала она.
— Сука, — объяснил он ее выкатившимся от ужаса глазам.
Соскальзывающая с ее ночного одеяния кровь растекалась на простыне черным некрасивым пятном.
Он вошел в кухню, тщательно отмыл холодной водой нож, допил свой коньяк и, в чем был, вышел на прохладный, залитый лунным светом двор. Докурив «Беломорину», он медленно, не морщась от боли, а даже с каким-то интересом стал вводить в себя нож, стараясь попасть им в самое сердце. Закружилась голова и он взял в руку горстку мокрого первого снега, чтобы приложить его ко лбу, но чуть оторвавшаяся от лавочки рука замерла на секунду в воздухе, а потом зависла в небытие.
Совершеннолетие
Кирюха высыпал из картонной коробки грязные и мокрые листья в большой мусорный контейнер, когда из четвертого подъезда в беретике с приколотым маленьким пуделем вышла «его разлюбезная» Лизка Фомина. Он установил коробку на самопальную тележку из старой детской коляски, поднял с земли и прислонил к дереву метлу на длинной ручке, махнул рукой своему младшему — Андрюхе, мол, «я щас» и не спеша приблизился к курносой своей «зазнобе».
— Доброе утро, Лиза.
Заметившая его девочка отстегнула с поводка Джерика, маленького японского хина, потом оценивающе мазнула по нему глазками сверху вниз:
— Привет, Морозов. Вкалываешь? Джерик, гулять! Пока, труженик.
— Пока, — грустно отвечал Кирюха, возвращаясь к своей метле и в который раз негодуя на себя по поводу — зачем он влюбился в эту курносую Лизку.
А влюбиться пятнадцатилетнему человеку — раз плюнуть! Вот Кирюха и плюнул, да не туда попал. Кирюхин отец три года назад сгорел на работе по пьянке, а Лизкин ездит на «Опеле», иногда даже в школу ее подбрасывает, хотя до школы-то пять минут ходьбы прогулочным шагом. Кирюхина мать — дворничиха, встает в пять утра, вкалывает за гроши, с товарками своими грызется за участки, чтобы побольше их, грошей этих выходило, и сколько она за месяц зарабатывает, Лизка, наверное, за один раз в «Макдоналдсе» прожирает. А Лизкина мать и вовсе нигде не работает. Кирюха видел — выйдет во двор с собачкой погулять, сядет на лавочку и неотрывно в зеркальце себя разглядывает. Тьфу!
Кирюхина мамка чего-то хворает. Несмотря на ее упорное сопротивление, он сам вызвал ей врача, сам сходил в аптеку и все необходимое там купил, сам лечил ее, ставил горчичники, вовремя напоминал о приеме лекарства, ну и все такое. А поскольку основным тезисом материнского протеста против вызова врача была, конечно же, работа, Кирюха и сгоношил младшего братишку, десятилетнего Андрюху на труд и на подвиг ради заболевшей матери. Вот они и вкалывали вдвоем до школьных уроков, благо учатся во вторую, а иногда, если чего не успевали с утра, то и после занятий.
Когда братья Морозовы возвратились из школы, на двор опустились тяжелые осенние сумерки, а потом врезал проливной дождь. Стараясь попусту не шуметь, снимая ботинки в прихожей, Кирюха отправил брата в ванную мыть руки, а сам прошел в комнату к матери.
Мамка лежала на кровати навзничь и Кирюхе показалось, что она не дышит.
— Ма! — кинулся он ей на грудь. — Мамочка!
— Господи боже ты мой! — подскочила мать. — Чего стряслось-то, оглашенный?!
Из Кирюхиных глаз в три ручья брызнули слезы, он уткнулся матери в грудь и стал беспрерывно и натужено всхлипывать.
— Да ты чего? Случилось что ли чего? А где Андрей, что с Андреем?
— Да ничего, руки он моет, все нормально, — не поднимая головы хлюпал в одеяло Кирюха. — Все нормально, мамка, ты только не умирай. Пошли бы они все к черту! И Лизка со своей благополучной семьей, и этот ее Джерик, и все. И все игровые приставки, компьютеры, «Макдоналдсы»… Главное, ты не умирай!
— Перетрудился ты у меня, сынок, — разглаживала Кирюхины волосы мать, — а умирать мне ни к чему, завтра у вас выходной. Я выздоровела, Кирка, сегодня у врача была, говорит, практически здорова.
— Правда? — заулыбался мокрющими от слез глазами Кирилл. И тут же посерьезнел: — Нет, ты еще пару дней дома посиди, не случилось бы осложнений после болезни. А мы еще дня два-три с Андрюхой повкалываем. Правда, Андрюха? — обратился он к появившемуся из ванной младшему брату.
— Законно, — серьезно ответствовал Андрей. — Мам, поесть бы чего.
— Сейчас, мои хорошие, бегу.
Она вытерла ладошкой все еще мокрое от слез лицо Кирюхи и крепко его поцеловала:
— Вырос ты у меня, сынок, совсем вырос.
Тягомотина
Он так часто рисовал на бумаге висельников, выстреливающие пистолеты и шрамы на запястье, что впоследствии стал побаиваться самого себя.
«Скажите, как пройти к метро?»
Девушка, милая девушка с длинной косой… Господи, он и ее испугался!
Только немножечко приняв вовнутрь алкоголя, он еще как-то распрямлялся, начинал говорить, рассуждать, даже строил какие-то планы на завтра или на понедельник, ибо был уверен, что новую жизнь целесообразнее всего начинать именно с понедельника. В понедельник он покажет девушке дорогу к метро, в понедельник он позвонит, в понедельник он стукнет кулаком…
А понедельники шуршали, как осенние листья под ногами, понедельники навязывали ему свои правила, тем самым пугая и возвращая его снова к висельникам, шрамам и несуществующим пистолетам.
Мир несовершенен, — философствовал он, — поэтому жизнь несовместима с рассудком.
Но не застрелиться, не повеситься, даже спиться он был не в состоянии, и продолжал, продолжал и продолжал… Тягомотина длинною в жизнь.
Мир, что ж ты так несовершенен-то, а?
Котенок
Две девчушки, тискающие черного с ладонь величиной котенка, уверенно шли на нее, за пять шагов до сближения заглядывая ей в глаза. Мол, какая это тетя, ничего, мол?
— Извините пожалуйста, а вам котеночек случайно не нужен?
— Не дай бог! — загородилась она от девчушек ладонями. — Не дай бог!
«Паршивая тетка!» — опустили глаза девчушки и побежали дальше пытаться устроить судьбу два дня назад подобранного ими на улице котенка.
«Паршивая тетка» попав ключом в замочную скважину своей двери, слегка толкнув ее крутым бедром, влезла в свою малюсенькую куцую однокомнатную квартиру.
И вовсе не такая она еще тетка, и совсем даже и не паршивая, — думала она, осматривая себя после душа в большое, неизвестно как втиснувшееся сюда зеркало, прилаженное к единственной свободной стене крошечного совковского совмещенного санузла.
Вот еще, вздумала любоваться, — по-старушечьи ругнулась она на себя, — вертушка!
А котеночек, и правда, очень хороший. Она вспомнила, как двадцать пять лет назад на даче, ребята, ее дачные знакомые, поймали и смеха ради убили такого же маленького симпатичного котенка, и как она после этого три дня и три ночи по нему плакала. Сердце ее сжалось в комочек и стало сейчас, ей показалось, величиной как у того самого, убитого маленькими ублюдками котенка. Не дай бог. Не дай Бог!
Полет
Зарядили дожди и заныли зубы. Это октябрь. В ненастье-то и так настроение — плюнешь да не подберешь, так что уж говорить о мокрой осени:
А сегодня, сегодня денек-то какой — одно сплошное загляденье, поцелуй Фортуны.
Сегодня, только сегодня, сейчас, завтра будет поздно. Эксперимент под названием «вне завтра». Первый — пошел!
Ну, чего ж еще пожелать? Погода замечательная, пятнадцать этажей и все мои, никому не отдам. Лифт — банально и просто. Лестница. Дыхалка, конечно, уже не та, но не могу же я отказать себе в последнем удовольствии.
«Ах, дорогой мой, тебе надо поберечься после инсульта!»
Не надо мне беречься! Надо успеть переворошить душою всю жизнь, перебрать ее, как сейчас ноги мои перебирают ступеньки лестницы на крышу моего пятнадцатиэтажного дома. Моего дома!
Первый этаж — это смутно, это детство и поэтому не стоит долго на нем задерживаться.
Дальше тоже мало интересного. Или, впрочем, может быть, именно интересен процесс моего формирования. Вспомнить и сопоставить. Да зачем? К черту всю философию, да все, все к черту!!!
…… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Боже мой!
Ветер!!! Дождь!!! Сейчас бы и молнию!!!
Господи! Прости ты мою душу грешную!
Страшно! Страшно-то как, Господи! Я возвращаюсь, К черту инсульты и инфаркты к черту. Я возвращаюсь. Все еще, может быть, может быть!
Нельзятакнельзянесчитаетсяяоступилсяяподскользнулся!!!!!!!!!!!!!!!
Зря!
Cумасшедшая муха
— Скучно мне, скучно, сестрички, — сказала как-то раз сумасшедшая муха, — летаем, едим, и ничего-то особенного в жизни не происходит.
— Брось, чего тебе не хватает, — пристыдила ее не старая еще муха, — жратвы навалом, крылья целы, живи себе, летай да радуйся. Кстати сказать, обрати внимание — не все в этом мире могут как мы летать.
— Ха, летать! Не велика премудрость, не говоря о самолетах, вертолетах и космических ракетах.
Все дело в том, что сумасшедшей мухе до чертей обрыдла вся эта мушиная философия о пользе в умении летать. Тьфу, мушиная философия о полетах, мышиная возня пролетающих дней… Ее внутренний бунт объяснялся тем… Тем… Да ничем не обуславливался, поэтому она и была не простой, а сумасшедшей мухой.
— Мухам не ведомы науки, — втолковывала ей не старая еще муха, — и вовсе не нашего ума дело, чем ты засоряешь свою маленькую черную головку. Вот и живи, вот и летай, вот и попробуй как-нибудь себя развлечь, вместо глупого своего самоедства.
— Ладно, — согласилась сумасшедшая муха и стала раскачиваться на ниточке паутины, как на качелях.
Но развлечение ее длилось недолго. Не старая еще муха не успела объяснить, что и в развлечениях следовало быть поразборчивее. Да где уж, теперь не вернешь.
Варежка
— Немедленно прекрати морочить мне голову, недоделанный ублюдок! Понял?!.. И больше не звони, осточертел! Все!!! Вообще забудь о моем существовании, потому что ты мне противен! Прощай, идиот несчастный!!!
Все. Я бросила трубку. Очень надеюсь, что он наконец-то все понял. На самом деле, сколько можно тонуть и вязнуть в приторном, безвкусном киселе наших отношений?.. Отношений? — Что это я?! Нет и не было никаких отношений! Это самый настоящий бред. Бред? — Да! Я, вот именно, брежу. Даже легче стало. А отчего мне, собственно, тяжело-то, позвольте?.. Не было, ну не было ничего! Ну, таскался он ко мне целый год… Подожди-ка… Познакомились мы в мае, двенадцатого мая. Мы с отцом гуляли в Сокольниках. Он подсел, попросил у папы зажигалку, и как-то очень вкусно стал затягиваться своей сигареткой и как-то просто и незатейливо заговорил. Мы познакомились.
Да, двенадцатого мая. Сегодня четвертое июня. Стало быть, больше года я знаю его. А он меня. Ну и что?.. Как познакомились, так и раззнакомились. Хватит. «Варечка, Варечка…» Я уж двадцать семь лет Варечка. Не хочу я, ну не хочу этой ерунды, не понимаю! Потому что не по правде все, нечестно. Значит, и не надо! НЕ НАДО!
Я верю ему очень верю. Больше даже, чем себе. Именно поэтому и не надо. А мама плачет. Мама обо всем знает. Маме тяжело. Она и ругает меня и жалеет. Папе попроще, потому что он по секрету частенько встречается с Вячиком, и они там вдвоем все время чего-то придумывают против меня… Нет, не против, а за меня и вместо меня. Смешно, что они как бы все это скрывают, закулисные свои переговоры, но буквально немедленно, с интервалом в несколько часов сами же мне все поочередно и рассказывают.
«Дура ты с половиной!» — говорит папа, гладя меня по головке. Ну, и пускай. Хорошо. Семьдесят два раза дура — я и сама знаю. Я себе не верю. Я не выдержу и сломаюсь, хуже даже еще, чем сломана теперь. А куда ж хуже??? А вот и хуже. Хуже будет! Разве я не понимаю? А Вячик? Вячик-Мячик… А что Вячик? Вячику двадцать пять, и он уже где-то Вячеслав Палыч, и он умница, и все у него сложится прекрасно и без меня. Лучше без меня. Ей-богу, лучше! А отсекать надо сразу, не думая, не жалея… Ни его, ни себя! Меня и так всю жизнь жалеют, а он-то тут при чем?..
— Мать, ты дуреху-то свою собираешься кормить?
Папа явно не в духе, потому что он наверняка услышал как я разговаривала с Вячиком. Ну, и пусть. Подумаешь… А чего они все?.. И почему я должна поступать так, как всем кажется правильным?
— Не надо кормить. Мне не хочется. Тем более, что дуреха.
— Варюша, ну как тебе не стыдно? Мы ведь очень любим тебя и, знаешь ли…
— А вот и не любите! Было бы за что!
Мама вечно со своими успокаивалками. Нечего меня успокаивать, я уже для себя все решила раз и навсегда.
— Что значит — за что?! Тебя, радость нашу, красотку такую и не любить? Ради любви этой и живем, Варечка.
Сегодня как раз вот не надо было этого говорить! А так — правда, сколько я себя помню, они мне внушали (я и сама когда-то и вправду верила!), что именно я — самая красивая девочка на земле. Верила! Смотрелась в зеркало и приговаривала (науськали же!): «Варечка — красотка!» Вот где дебилизмус элементарис!
— Мам, ну почему бы вам не попробовать разочек пожить не ради меня? Ну, хоть немножечко, а? Реки от этого, может, вспять не потекут, но вы хоть вздохнете полегче. Да и мне наверняка попроще будет. А то придумали себе красотку и нянчитесь вон до сих пор! Ну, не уродство ли?.. И вообще, поздно уже. Спать надо. Устроили тут…
Да уж, вечер удался. Теперь просто надо научить себя жить без Вячика. Вячик-Мячик… Обязательно надо. А я его люблю… Чего врать?! Люблю до мурашек, до боли, до смерти, до… Понимаешь, Варвара, ты сама только что вот этими самыми мозолистыми от коляски руками задушила собственную любовь! Вот она штука какая! Ладно, запрусь и стану реветь, а больше и делать нечего. А как жить? Наверное, потихоньку. А потом? Потом суп с котом! А я права, я во всем права, надо стать сильной! Надо бы… А ты попробуй. Все.
— Варюша, тебе ничего не нужно?
— Нет, мам. Все нормально, спокойной ночи.
— Ну, спи, красотка. Бай.
Ах, да. Бай. Бай по-нашему — спокойной ночи. Детские игрушки. Бай. И зачем я выросла? Маленькой было и понятнее и веселее и лучше! И где-то там вдали краснел горизонт, и я шла к солнцу, разводя детскими ручонками высоченную и почему-то совсем не кусачую крапиву, потому что мне почему-то очень-очень надо было туда, и я шла… Я шла… Я шла как самая настоящая дура, дуреха с половиной, потому что вдали краснел горизонт, потому что из-за его черты вот-вот появится первый всполох огромного красного солнца… Господи, а это ведь кошмар, преследующий меня с самого раннего детства, сколько себя помню, то есть, мучающий меня всегда! Всегда! И даже сейчас я только что «увидела» тоже краешек своего «обычного» кошмара — я иду! Так и есть.
Да. Половина второго ночи. Стучат. Чего случилось-то? Сплю я. Опять…
— Мам, сплю я. Чего тебе?
— Варежка, это не «мам», это я…
Как сумасшедшая я рванулась к двери, как сумасшедшая я распахнула ее и мертвой хваткой, самыми сильными на земле руками обхватила его за шею:
— Вячик!!! Вячик ты мой Мячик!..
— А не надо ничего говорить, Варежка, не надо. Потому что я пришел.
— Дурак ты с половиной, я ведь тебя послала…
— А я как раз там побывал и только что вернулся, потому что я очень тебя люблю.
— Я тоже, но ты дурак…
— Не-а… Завтра мы все вместе рванем в Сокольники, на ту самую лавочку, на нашу… Помнишь?..
— Вячик, а ты помнишь, что я никогда не смогу…
— Зато я смогу. Я люблю тебя, красотка моя Варежка, а все остальное после, все остальное потом. Ты понимаешь, Варька, все по-правде, все по-настоящему, как надо.
Он поднял меня на руки, отодвинув ногой ненужную сейчас коляску, потому что я люблю рассвет, потому что я люблю жизнь, потому что я самая-самая счастливая на земле красотка-Варежка!
Такие легкие бабочки…
Сколько она весит — бабочка?..
В Википедии (где же еще?..) вполне себе со знанием дела заявлено, что, дескать, к примеру, дневной павлиний глаз, — ну, это наша обычная шоколадница, — зимует в подвалах и на чердаках, но во время оттепели может просыпаться и вылетать на свет божий… Самка откладывает какую-то чертову уйму яиц, обычно группами и на нижнюю сторону листа крапивы. Кушать любит саму крапиву, хмель, иву, малину… Коноплю… Коноплю — что, кстати, не делает ее менее прекрасной…
А вот сколько же она весит?.. Никак. Ничего.
Машка очень любила заниматься с отцом любой ерундой. Они вместе шили ее куклам платья, вместе их купали, вместе гуляли по городу и рассказывали друг другу всякие истории… Она — про школьных подружек и учителей, а он — про свою незатейливую работу… И про бабочек. Как-то они любят этих легких и милых летунков… В зоопарке, вот в этом вот месте — ну, как его? — где собраны чуть ли не все бабочки мира, — оба замирают, раскрыв рты… и стоят… И смотрят на это чудо, словно завороженные. Будто бы стараясь насладиться, втянуть в себя эту трепетную красоту как в преддверии какой-нибудь муки мученической…
И еще одну вещь понимает Мария, несмотря на свой одиннадцатилетний отрезок — отца никто, кроме нее, в доме не любит… Ни мама, ни бабушка… И она считает такую их нелюбовь неправильной и несправедливой. Он большой, добрый и интересный. Главное — добрый. Одинаково добрый ко всем, включая и маму, и бабушку, которые вовсе даже и не разговаривают с ним, а чаще фыркают, словно напуганные кошки, при одном его появлении.
— Папка, ты бы бросил их и ушел!
— А как же ты? Машенька, Машка… Я ведь без тебя совсем пропаду… Пропаду, понимаешь?… У меня кроме тебя ведь и нету никого…
— Да куда я денусь? Я буду к тебе приходить, приезжать и прибегать…
Он смотрит на свою возлюбленную дочу и, часто моргая огромными глазищами, стыдливо утирает выступающие слезы…
— Тогда они тебя ко мне не отпустят. Я, Маш, умру без тебя. Точно. Просто умру.
Он и правда — умирал. Когда пил. И Дежурное «шоб ты сдох» все время витало над ним пожалуй, что самым теплым посланием, швыряемым ему в лицо и мамой, и бабушкой.
Машке не нужны никакие там подробности их отношений, когда она и без того знает и видит — что-то не так! Все не так — понимает она, подсматривая за бытьем и отношениями между домочадцами своих подружек. Все не так! Но сказать отцу «не пей!» — как-то у нее никогда не хватало духа… Видимо потому, что не разбираясь в нюансах и деталях, она четко и ясно, пускай боковым зрением, зато четко и ясно распознавала удушающую атмосферу их общей нелепой жизни.
Сколько же она весит — бабочка?..
Сегодня отец, снова жутко пьяный, стоит, пошатываясь, на балконе и беспрестанно курит свои дешевые и вонючие папироски…
— Давай-ка быстренько сгоняй в магазин, — говорит Машке мать, — кефиру купи, хлеба… Еще чего там погляди по хозяйству…
Машка всегда неохотно оставляет отца, в особенности в таком беспомощном виде, как сейчас. И если уж ей выходит все же разрывать связующую с ним тонюсенькую ниточку, то его «Я без тебя умру» так и торкает ее в самое солнечное сплетение.
Стоя в очереди к магазинной кассе, она ощущает основательный толчок в грудь, а по краям поля зрения почему-то потерявшие ненадолго фокусировку глаза передают некое радужное дрожание, отдаленно, кстати, напоминающее беспорядочно летающих разноцветных бабочек… Она не понимает что с ней, но недомогание моментально уходит, меняясь местами с чуть радостным облегчением. Подходя к дому, возле своего подъезда она видит крикливо-желтую машину реанимации и столпившихся возле нее соседей вперемешку с незнакомыми неинтересными лицами. Дорогу ей перерезает милицейская машина. «Полицейская» — со смешинкой поправляет себя она.
Но то, что она в дальнейшем видит и осознает напрочь лишает ее не только неуместной веселости, но и чувств… Очнувшись через непонятно какое время на своей кровати, она уже знает, что отца ее больше нет, что он выпал с балкона седьмого этажа и насмерть разбился. Она видит бабушку и мать, склоняющихся над ней опасливо и упреждающе бережно:
— Очнулась, Машенька…
— Как это случилось? — первое, что говорит девочка, в который раз ощущая свое раннее взросление и несоответствие с легкостью всех бабочек в мире.
— Он же пьяный был… — только и успевает сказать мать, но Маша неотрывно понимающим взором заставляет ее замолчать, отвернуться, быстро уйти на кухню, чтобы там врубить на всю громкость маленький телевизор.
Маша остается одна со смешанным чувством выматывающей боли и непонятной, непринимаемой ей легкости… Кажется, что из комнаты только что вылетели все бабочки мира… И больше никогда не вернутся.
Белый танец
Это был вальс, да и только! Крупные белые снежинки, кружащиеся в вальсе надежды, оттанцевав все свои па, ложились на белое, создавая это самое белое собою.
Это был белый вальс!
Я вышел на улицу, смахнул с лавочки уставших балерин, сел, закурил, очарованный танцевальной мозаикой…
— Все кружитесь?
— Умираем.
— Неправда, сейчас в вас столько жизни!..
— Просто мы умеем умирать. Тебе вряд ли удастся это осознать, людям не свойственно умирать красиво, вы не умеете…
— Пожалуйста, продолжай, это очень интересно. Так, что же, по-твоему, жизнь?
— Жизнь — всего лишь полет.
— А смерть?
— Простое падение. На протяжении ваших долгих лет вы падаете довольно часто, и падение воспринимаете как ушиб, в худшем случае как перелом. У нас же все гораздо красивее и проще. Летишь — живешь, упал — старость, затем — смерть.
— Значит, у вас есть еще и промежуточное состояние между вашей жизнью и вашей смертью — старость. Что она?
— Мы об этом не думаем. Видимо, так кому-то надо.
— А, вот, скажем, рождение?
— Сознательна только жизнь настоящая. Рождение и смерть сознательны лишь для прошлого и будущего. У вас разве не так?
— Почти, за исключением видения в смерти будущего, потому что это уже бред какой-то, где оно, твое будущее в смерти?
— Моего, конечно, нет, но собственной смертью я создаю будущее другому, а это важнее личных привилегий.
— Мне пора.
— Постой. Сейчас я попробую тебе объяснить, и ты все поймешь. Пожалуйста, возьми меня в руку и подержи недолго.
— Но…
— Я знаю. Я сознательно отдаю свою жизнь тебе, потому что, делая вывод из нашего разговора, тебе часто бывает тяжело, и я просто хочу, чтобы тебе стало чуточку легче. Бери же, и прощай!
Рука приняла эту маленькую и холодную жизнь. Сердце защемило на мгновение превращения снежинки в каплю. Я поднес эту каплю к губам, и стало тепло…
Дома меня обругали за то, что я, не закрыв форточку, устроил сквозняк…
Березовка
В Березовку Лопухова тянуло постоянно и патологически.
Березовка. Часть его детства, кусочек его самого.
До Березовки тьфу-езды — сорок минут на электричке. А вышел — и вот она, с понятными только одному Лопухову запахами воздухом и выросшими с тех времен залитыми солнцем березовскими березами. Особый этот воздух. Пахнет не столько березами, сколько самой Березовкой. Воздух — мед со скошенным сенцом — проникал в Лопухова, совершенно растворяя его здешнее сегодняшнее «я» в теплом ветерке далекого детства.
Такое ощущают только романтики, а Лопухов таки и был самым что ни на есть настоящим романтиком, читай «порядочным лопухом». Что в семье, что на работе — не рыба, не мясо. Измотанная его приключениями жена сколько уж раз собиралась бросать его, да жалко, куда он без нее. Одним словом — Вася Лопухов.
Порою, бывало, он сам от себя порядочно уставал и серьезно мучился этим, находя все же где-то или в чем-то от самого же себя спасение. Ну, к примеру, вот, Березовка спасала. Попивал водчонку, иногда даже так не по-детски. Так-то горе, а выпьет — горя с два: то деньги потеряет, то паспорта уж по нескольку раз восстанавливал, так, что участковый при виде его шарахнется. Мужик-то, вроде, неплохой, да и слишком уже взрослый для воспитания-то, — сыну двенадцать лет. Да и ну его, Лопухова этого, пусть там сам как-нибудь себе… Пусть жена, что ли…. Вот горе-то! Жена же как рыба об лед. Тот придурок попадет в вытрезвитель — все, мочи нет на идиота, — а придет, скорчит рожу: «Прости», так неизвестно откуда комок к горлу подкатит, и простит его, и дальше. Женщина, в общем, молодая и красивая, пару раз она пробовала изменить Лопухову (изменить — Лопухову!), в отместку за его бестолковые загулы, да, видишь — все одно не помогало, жалела, и через жалость свою любила. Любила, куда денешься.
Выпивать же Лопухов старался один. Кто его знает, может, и вправду, нездоровое пристрастие, а может из-за боязни проблем после выпивки с незнакомыми собутыльниками. Да, и со знакомыми выпивать показывалось ему скучным, потому что выпьет человек и понесет его на какую-нибудь стезю, непонятную или неприятную самому Лопухову. Кого тянет на баб, кого — подраться, а кого — поговорить на неинтересную для Лопухова тему. Скучно.
Дурной романтизм подвыпившего Лопухова все равно вкапывал его в какую-нибудь неприятную историю, да так, что и вспоминать об этом наутро становилось стыдно, и он старался уже об этом не думать, да не выходило. Реже, конечно, бывало и все нормально, но реже, гораздо реже.
То потянет его пьяненького в район, где он родился и прожил первые шесть лет несознательно-сознательной жизни, отыщет там дом, где проживал с родителями в коммуналке, сядет возле него во дворе, в котором бегал и играл пацаном, на лавочке, тяпнет свою граммульку, и хорошо ему, Лопухову, хорошо, лучше не бывает. Потом, случалось, и не помнил, как до дому добирался на «автопилоте». Да и опять хорошо, если дома окажешься, а не на казенной холодной клеенке или еще что.
Или уж в другой район «дунет» захмелевшая его голова, где прожил несколько и сознательнее больше, где в школе учился, где родители поумирали один за другим с разницей в шесть лет. А там уже, где у соседей бывших посидит, попьет, а где и одноклассника-другого-третьего встретит. Наворошится в прошлом, как пацаненок в желтых кленовых листьях по осени, и опять хорошо.
Ну, а Березовка — тут уж разговор особый.
В Березовке родственники, стало быть, на березовской даче тогда жили двумя семьями, раньше-то, еще при родителях, когда бегал он здесь по зеленой траве с клубникой и малиной на и без того розовых губах. А, опять же, выпьет малость, и сюда, побродить по местам. Но к родне не заходил тогда — стеснялся. Выпивши, все же, неудобно. Ходит Лопухов, понимает разницу времен. Ведь раньше-то вся улица широкая, бывало, живет: где взрослые меж собой разговаривают, где детишки в салочки какие-нибудь или еще что, где старушечки на лавках вечерами ветками от комаров отмахиваются… Жизнь. Теперь же — тихо, если и встретишь кого, все одно — незнакомые. Изредка, конечно, и знакомые попадаются, да не те, с кем был близок в детстве, а так.
Вот обмелевший и заросший водорослями и тиной пруд. Раньше он четче отражал небо и деревья, теперь же стал меньше и непригляднее. Не пруд, а самое настоящее болото с горластыми лягушками. Эк их развелось! И с удочкой-то тут вряд ли кого застанешь, — кому интересно лягушек ловить. Нет, все не то, не то все и не так, как оно звучало в детстве, когда под лягушек этих хорошо было просиживать вместе со взрослыми рыбаками вечернюю зорьку, присматриваясь к поплавкам, любуясь отражением неба и высоких деревьев, отличая по звукам от железной дороги электричку от товарняка или от поезда дальнего следования.
Главное-то вот что. Главное-то, что в пруду, помимо всеядного ротана или проще — бычка, водился самый что ни на есть настоящий карась, причем даже крупный иногда попадался, вот такой вот граммов на ….. Ну, в общем, большой. А сам Васька однажды такого ротана словил, такого огромного, что все аж обалдели. Вот было дело.
А пойдешь если вдоль по улице, ну, как к станции идти, к «Березовской», то там еще один пруд, где меньше рыбачили, а больше купались, и березовцы называли его озером, потому что вода его проточная, поступала где ручейком, а где и малой речушкой-переплюйкой с парой мостков деревянных, чтоб удобнее белье прополоскать или воды набрать для огорода вечером. И уходила вода через озеро куда-то вдаль, на совхозные поля загороженные, так что дальше — неизвестно.
Сядет возле ручейка Вася, где водичка повеселее да позвонче журчит, тяпнет очередную свою граммульку, да водичкой из колодца запьет. Водичка-то особая, березовская, нигде на земле слаще и холодней водички нету. Он наберет и с собой прихватит, и носит, пока не закончится, как святую воду. Да, в принципе, она, действительно, для него святая, эта березовская вода. Это уж точно как раньше: вода — Березовская; хлеб — черная буханка кирпичиком, то уже не «Орловский», там, «Бородинский», а «Березовский». В общем, что говорить, — корни.
А с Сашкой Черновым — закадычные друзья. Велосипеды — вместе, рыбалка — вместе. Натаскавши у отцов из пиджаков сигарет, по чуть-чуть, чтобы незаметно было, — не то, что курили, так, дым выпускали, — так тоже вместе в ближайших кустах. И как-то он, Сашка, резко пропал, уехал с родителями с дачи, и все. Лопухов все это сидит и вспоминает, изрядно прикладываясь к своим граммулькам, и где поплачет, где похохочет, — сидит себе, никому не мешая, дышит и радуется. Жалко, сына с собой не взял. Сын тоже любит побродить здесь с отцом, слушая его рассказы о детстве, как бы заново переживая вместе с отцом те события, как бы знакомясь со всеми людьми того времени, как бы заучивая клички каждой здешней знакомой отцу тогдашней собаки. Сын-то очень уж вышел не по годам философ, но разделял, все же, отцовы сантименты, по-сыновьи мягко пожуривая отца за выпивку. Папка все равно хороший, любит сын отца, чего там. А Лопухову стыдно выпивать при сыне-то, вот один тут чаще всего и бродил.
Тут вышла штука. Штука, прямо, нехорошая. Попросили Лопухова написать заявление «по собственному» на работе. Он то ли выпил, что ли, а то ли еще, там, что — никто не разбирался. Ну и уволился, а тут давай, надо еще что-то искать — семья. Пришел в одно место в отдел кадров, стал разговаривать, что да как. Говорят, к начальнику надо, к Александру Витальевичу, с заявлением на подпись. Что ж, надо, значит, пойдем. Зашел в кабинет, и что-то внутри шевельнулось, потому что…
— Так, Лопухов Василий Андреевич? Занятно. Скажите, а Андрей Венедиктович Лопухов вам случайно не родственник будет?
— Да, куда уж как не родственник, только он давно уже на кладбище червяков собою кормит. А почему вы?.. Откуда вы?.. Бог ты мой, Сашка! Сашка, дорогой ты мой человек!
— Вот это да! Василек, ты смотри, бродяга!
Множество раз Лопухов представлял себе подобную нечаянную встречу со своим березовским другом — Сашкой Черновым, но виделось все ему как-то иначе, хотя бы тем, что встречу-то он себе представлял, но никак не мог поверить, что возможность подобной встречи имеет хоть какую-нибудь реальную подоплеку. Тем не менее, обрадовался он несказанно. Сашка тоже, видно, не без эмоций, но как-то, показалось Василию, суховато, вовсе не так, как он сам.
Много говорили — есть что вспомнить, есть кого вспомнить, все ж березовское, наше. Сашку закрутило — сначала институт, потом командировки, да, много всего. Потом вот стал возглавлять. Лопухову таким особенным нечем было хвастаться. Так, мол, живу-копчу, жена и сын. Вот, с работой теперь нехорошо.
— Да, нормально все, старик, зарплату тебе приличную тут же, только работай.
— Давай вместе в Березовку съездим, давай?
— Ну, что я там забыл? Да и не могу, дела, понимаешь, тоже семья.
Пришел домой рассказать своим, поделиться такой вот неожиданной радостью. Во-первых, друг больно дорогой, во-вторых, зарплата — жить можно.
— Все бы хорошо, Вася, вот ты бы не пил бы еще, а то и работу и друга — все можно потерять.
— Да-ну, глупости. Я и не собираюсь пить-то, не собираюсь.
И, правда ведь, так ни разу и не выпил…
Два первых дня летал на работу, как на крыльях, а на третий загрустил. С Сашкой встречался меньше, чем хотелось. А так хотелось, так хотелось! Пригласил его в гости, тот обещал придти, но Лопухов почему-то понял: нет, не придет.
Сашка. Сашка, до мозга костей родной Лопухову человек, но совершенно уже не тот, совершенно иной Сашка. Лопухов очень хорошо понимал всю эту карусель — прошло много лет, и прочее, — понимал, но не смог с этим примириться.
На четвертый день он встал, побрился, и вместо работы сел с вокзала в пригородную электричку и в Березовку. Трезвый, совершенно трезвый. На пятый же день, несказанно мучаясь угрызениями совести и с тайком от домашних заготовленной бумагой явился «пред светлы очи» Александра Витальевича.
— Ты что, Лопухов? Что случилось, почему вчера на работу не вышел?!
— Я ездил в Березовку…
— Ты что, Лопухов, охренел?!! Это же работа! Сколько тебе лет?..
— Тридцать три.… Но я иногда думаю, что я еще и не рождался.
— Вот именно. Ты что думаешь, Лопухов, я по старой дружбе…
— Нет, — с несвойственной для него грубой и решительной нотой в голосе ответил Лопухов, — я так не думаю. И вот, — он развернул и выложил на зеленый директорский стол сложенный вчетверо листочек в клеточку.
Директору
Чернову Александру Витальевичу
От Лопухова В.
Заявление
Прошу уволить по собственному желанию.
С уважением В. Лопухов
А на самой последней строчке листа, специально, чтобы впоследствии можно было обрезать ножницами, несколько неказистых слов мелкими буквами:
«Извини меня, Саша, и спасибо».
Хлопнула входная дверь, Чернов поднял голову от заявления. Лопухов ушел.
До отправления электрички оставалось минут пятнадцать, не больше, когда Лопухов вошел и уселся на жесткое сиденье у окошка. А еще через пять минут он быстро и безболезненно умер. Умер прямо здесь, по дороге в свою Березовку. Пару минут, конечно, он похрипел, и неподготовленные к такому делу пассажиры вокруг него всполошились, и кто-то даже попытался сделать ему искусственное дыхание.… Но тщетно. Минут уже семь, как Провидение вычеркнуло Лопухова из списков живых. Отправление электрички задержали, пришли какие-то двое с носилками и один, в три раза здоровее тех двоих, — с фотоаппаратом.
— Чего это он умер, такой молодой?
— Наверное, от жизни. Жизнь — болезнь неизлечимая, передающаяся половым путем.
Все, что осталось от Лопухова, положили на носилки и вынесли вон из электрички, побыстрее, чтобы не задерживать других пассажиров, едущих куда-то к себе, а в том числе, наверное, и в Березовку. Тело Лопухова унесли неведомо куда, а вот душа, душа его, скорее всего, осталась здесь, в салоне зеленой электрички, и, бестелесная, замирала, как когда-то замирал он сам, от объявлений по репродуктору: «Станция «Монтажник». Следующая — «Папанинская». Станция «Папанинская». Следующая — «Березовская». А уж в Березовке, наверное, душа Лопухова вылетела, как птица на волю, чтобы вволю налетаться по всем-всем своим местечкам и закоулочкам, и чтобы залететь ко всем птицам в гнезда на белых-белых и пахучих березовских березах, попрощаться.
Попрощаться…
На девятый день к свежему могильному холму подошли трое: Лопуховы — вдова с сыном, и Сашка — Александр Витальевич Чернов. Обложили могилу нарезанным с березовской поляны дерном. Поодаль, в ногах, посадили выкопанную там же, в Березовке, молоденькую березку, авось и приживется, а на холм бросили пару-тройку срезанных березовых веток.
Мальчик, часто моргая, смотрел на могильный холм, а из глаз его вытекали какие-то уже не детские слезы. Ему казалось, что плачет он по безвременно ушедшему доброму своему папе.… Ан, нет. Плакал он по себе, потому что больше уж он его не увидит, и не поговорит с ним, и больше отец не погладит его по голове своею теплой, родной ладошкой.
Сейчас мальчик ненавидел Березовку и все, связанное с ней. Глупый, он еще не знает, он ничегошеньки еще не знает! У каждого из нас должно быть какое-то свое место, чтобы поплакать. Не в голос и не навзрыд, а так, в душе. У каждого из нас должна быть возможность поплакать.… Или нет, не так. Все когда-нибудь умирают, давая возможность всем, абсолютно всем остающимся, как следует оплакать себя на чужих похоронах.
Мальчик, конечно, вырастет. Вырастет и станет хорошим, добрым и достойным человеком.
А в чем оно, достоинство?
«А в чем оно, достоинство? — думал Чернов. — Нет, чего-то я, все же, решительно не понимаю. И, наверное, так и не пойму, слишком уж я для этого нормален…»
Собачья радость
За окном стояла очень холодная ночь, но можно было разглядеть очертания голых деревьев и подремывавших, моргающих красными глазками сигнализаций, машин. Еще можно было увидеть ветер, пронизывающий каждую минуту, каждый миг этой ночи, не оставляющий надежд не только на тепло, но и на утро.
«Собачья погода», — тяжело вздохнув, наверное, подумала Собака. Она поднялась, несколько раз покрутилась на одном месте, и улеглась снова. Что-то ее разбудило в эту холодную ночь. Лохматое существо с выразительной мордой, она всегда спала неспокойно, подергивая лапами и повизгивая во сне. Теперь же она тихо лежала с открытыми глазами и изредка позевывала, широко открывая пасть.
«Что это она не спит? Не заболела ли?» — насторожился Хозяин, вслушиваясь в завывания зимнего ветра за окном. Он посмотрел на лежащую около его кровати Собаку, положил руку ей на голову и чуть провел ладонью по гладкой шерсти.
Собака тут же вскочила, застучав по полу когтями, бешено завиляла хвостом, извиваясь всем своим, довольно массивным телом, затыкалась мокрым и холодным носом Хозяину в ладонь, в шею, в щеку…
«Здорова, — подумал облегченно Хозяин. — Опять, наверное, ей что-нибудь приснилось. Все нормально».
— Ну, все-все, хорошая моя, — зашептал Хозяин Собаке, — ложись, ложись скорее спать. Надо, надо спать, еще ночь.
Но Собака никак не унималась, продолжая вилять сумасшедшим своим хвостом, и разгоняя воздух по комнате, отчего становилось еще холоднее. Ей не нужно было ничего особенного, просто она обрадовалась тому, что Хозяин обратил на нее внимание, сказал обычные, но необходимые ей слова и просто прикоснулся к ней. Так чем же еще, кроме хвостового сквозняка могла она выразить свою собачью признательность за эту минимальную, но дорогую ей хозяйскую ласку?
Она до того уже разошлась, что никакие слова не приструнили бы ее и не уложили бы спать, и Хозяину более ничего не оставалось, как, отвернувшись от нее к стене, самому притвориться спящим. Вскоре затихла и Собака, предварительно пару раз вздохнув, с голосом на выдохе, но уже, как показалось Хозяину, удовлетворенно и на эту минуту счастливо. А еще через какое-то время послышались тихие повизгивания.
«Спит, — понял Хозяин. — ну и слава богу!»
Самому же ему не спалось…
Маленькие беды его кружились над ним, как назойливые комары. Причем, нарочно он на них не сосредотачивался, а жили они совершенно самостоятельно, действительно уже как самые настоящие комары — один-два укусят и отстанут, а остальные кружатся, кружатся, кружатся… Бывало, под это монотонное круженье, как под убаюкивающий зуммер, он и засыпал.
А сейчас вот не спалось, и, как и в большинстве случаев, бессонница показывалась беспричинной, а от этого становилась еще мучительней. Хорошо еще, что Собака хоть на время увела его от самого себя. Теперь же он снова остался один, вступая в надоевшую борьбу со своими комарами.
Он лежал в своей постели с закрытыми глазами и думал о том, что его Собака — замечательный макет Счастья, собачий его образ. Только сейчас он отчетливо осознал как далеко человечество от маленьких проявлений радости и ощущений Счастья буквально из-за ничего. От восприятия этого ему сделалось покойнее, даже будто бы послышались легкие шажки подступающего сна. Утром его ожидала какая-то повседневная ерунда, и ночной сон являл собой функцию накопления сил для этой ерунды.
Перед тем, как уснуть, он не преминул возблагодарить Собачью Душу за ее безмолвное откровение, за то, что существует она рядом с ним лекарем души, за ее Собачью Радость.
«Утром накормить конфетами, — приказал он себе. — Да, что я… Конфеты же ей нельзя… От конфет глаза у нее будут…»
Додумать он не успел, потому что сон, настоящий сон довольно основательно навалился на его воспаленные от бессонниц веки…
И стало тепло, хотя за окном стояла очень холодная ночь, и можно было увидеть ветер, безжалостно пронизывающий эту ночь насквозь.
День рождения
Весна — дело ежегодное, и если вдуматься — ничего особенного. Единственное что — уж очень много в ней жизни. До того много, что кажется, — или так оно и есть на самом деле, как знать, — все неживое вдруг само по себе оживает, обретая душу, дополнительное движение, речь, зрение, слух… В общем, чертовщина!
Вода…
Зимою вода — мертвее не бывает, потому что если даже движется, то все равно спит. А спящие и мертвецы — это почти что близнецы. Летняя вода — уже возраст, со всеми вытекающими и втекающими, ниспадающими и впадающими.
Весною…
Капелька родилась в полдень, в то самое время, когда весеннее солнышко поднялось так высоко, чтобы как следует пригреть собою крышу обыкновенного желтого пятиэтажного дома. И откуда она взялась-то неизвестно. Не боящиеся высоты труженики славно поработали и давно уже отчитались по последнему снегопаду перед техником-смотрителем, мол, полный порядок, крыши, мол, чистые. А тут, видно, где-то и спрятался снежок, под ложбиночкой, в какой-нибудь жестяной бороздке, — кто ж на мелочи обращает внимания.
Вот и зря! Нельзя не замечать мелочей. Ну, а если б заметили? Если бы заметили, не родилась бы наша героиня. А она тут как тут, вот она, подкатилась к самому краю крыши, повисла, отразив в себе солнышко, греется и любуется обретенным миром. Что там внизу делается?
А внизу что, грязь и слякоть, еще не растаявший серый снег, пробки от пива, пустые пачки из-под сигарет, — мусор. Капелюшка рада всему, улыбается и знай себе на солнце сверкает.
Хорошо, что она высоко и ей видно все, а ее никому не видно, потому что, не дай Бог, заметили бы, и давай сообщать ей про «все плохо, а ты, дура, чему-то лыбишься тут висишь!» Да ничего она не знает и не хочет знать, абстрагированная идиотка, а вот так вот, родилась только что и весь сказ до копейки!
Он долго не решался выйти из дома. Как-то оно складывалось, что вместе с потерянными днями подрастерялись маленькие радости, незатейливые удовольствия и тепло. А солнышко, задорно заглядывая в окно, показывало ему мультяшки из поднимающихся и подскакивающих в мазурке пылинок, дребезжало в горле каким-то знакомым зудом, звало, звало на подтаявшие улицы! Но он не решался, он даже и не вычислял, нужно ли ему выходить из дома или нет, потому как, что ж тут, ну солнце, ну никакого ж удовольствия, а сплошные, видишь, обиды и разочарования. По-правде говоря, когда вот эдак припрет, то прямо и не знаешь, правило это или исключение из правил. А пожелать себе хорошего?.. Чтобы в который раз убедиться — одного желания мало?.. Да и какие могли быть у него желания, если не было возможностей для относительно нормальной жизни. Хотя, если принимать во внимание теорию относительности, не Эйнштейна, а его, только что им выдуманную, домашнюю теорию относительности, то все у него как бы относительно нормально: руки-ноги-голова, ать-два, ать-два!
Праздника хотелось, хотелось праздника! Душой потрясти, развести ее на песню и не на одну. Хотелось жить с ясным пониманием и приятием бренности всего на свете. Но ведь хотелось жить! Жить и понимать, что все еще до того впереди, до того…
Но пусто. Пусто, даже применительно к относительной нормальности его домашней теории. Пустовато, и ночами вытягивала душу какая-нибудь обида, и еще одна на очереди… И без сновидений… И как хотелось покоя, который уже и не снился.
Он страдал. Страдал и не знал что для него приготовлено.
Что вы? Что вы говорите? — две тысячи долларов под подушкой? Да, куда вас, кто ж ему такое?.. Потом, знаете ли, троекратное «Отче наш» перед сном просто этого не умеет и никогда не будет этим заниматься.
Те, кто умный, — дальше не читай, отходи в сторону, и скорее занимай очередь за двумя тысячами долларов.
А мы потрёхаем дальше.
Он с размаху плюхнулся на старый полуразвалившийся диван. Высунувшийся из недр дивана обломок металлической пружины проколол в его брюках дырку, как гаишник в предупредительном талоне превысившего скорость водителя, при этом еще достаточно больно поранив ногу.
«Ах, так? — спросил он у дивана. — Ну ладно, хорошо же, старая сволочь», — обругал он, в сущности, ни в чем не повинную развалюху, достал сигарету, закурил, молниеносно оделся, посмотрел в окно, поймал прямым зрением солнечный блик, на мгновенье приослеп, чихнул, и немедленно выбежал за дверь, несясь как угорелый по лестнице, дымя как паровоз сигаретой: «Ах, так? — Посмотрим, поглядим!»
Он пихнул ногой битую перебитую дверь подъезда, и чтобы вдохнуть полной грудью побольше весеннего, по особому пахучего прохладного воздуха, он поднял вверх голову и… забыл вдохнуть. С жестяной кромки крыши, прямо над прихваченной ржой пожарной лестницей ему подмигнула только что родившаяся безымянная звезда — капелька на легком ветру. «Кхе», — сказал он, подпрыгнул, ухватился за ржавую перекладину пожарной лесенки, легко подтянулся и полез вверх, на первое свидание.
— Дяденька, дяденька, — запрыгали внизу по кучке мусора двое малышей, — вы куда? А возьмите нас тоже!
— Брысь вы, — не зло огрызнулся он, — свалитесь еще, потом отвечай за вас.
Не спеша, он долез до самого верха, провел пальцем по жестянке ската крыши, не тронув при этом маленького водяного скопления: «Ну, здравствуй, весенняя звездочка! С днем рождения! Будь здорова!» — и, неудачно поскользнувшись, но, удержавшись руками за рыжие перекладины, спустился на грешную землю.
— Чего вы там делали? Чего вы там делали? — загалдела дотошная малышня.
— Облака разгонял, чего ж еще.
— Зачем?
— Чтобы отныне всегда светило солнышко и всем было тепло.
— И чего, будет?
— А вот посмотрите.
— Спасибо, дяденька!
«Да пожалуйста, пожалуйста, — думал он, оттирая кое-как руки от ржавчины остатками относительно чистого снега, — нужно вам, чтобы светило солнышко и пели птички. Вам нужно, вы растете. И мне нужно, мне просто необходимо. А с другой стороны, — издевался он над собою идиотскими думками, — разве ж можно, как я теперь, ходить и радоваться, типа: «Ах, солнышко! Ах, птичка!» Следовательно, надеть розовейшие очки, дабы не обращать внимания на слова, взгляды и поступки оппонентов. Да, именно оппонентов, чтобы не сказать какого-нибудь другого нехорошего слова. С третьей стороны — преступно плевать на солнышко и на птичек, и не снежок, и на играющих в снегу собачек, и прочее. Преступно или идиотично? Потому что именно заколачивание деньги — вот основная мораль нашего времени, а вовсе не «…хлеб наш насущный даждь нам днесь…», именно преуспевающий бизнесмен, а вовсе не «…нельзя молиться за царя-ирода. Богородица не велит!..»
Эх вы, мысли окаянные, ох вы, думы потаенные!..
Любовь…
Зачем он вышел из дома? Затем, чтобы все вот так вот навалилось враз?
А мысли, мысли его шли по тротуарам рядом с ним, не отставая и не уставая копошиться в голове и в душе его грешной.
Мертва истина. Талифа, куми! — а она не встает. В поисках истины перелопачена не одна тонна дерьма, а ее все нет. Просто нет. Нет единой истины, у каждого правда и истина своя.
Свой же, индивидуальный Господь или свой же, индивидуальный Сатана — кто на что учился. Единства нет ни в чем, ни в боге, ни в черте.
Жив ли Господь? Жив ли человек с богом личного пользования подмышкой? («Смотри, какой мобильный!») Мертвые, мертвые души! Мертвые еще не родившиеся. Вот и надо спасти хотя бы тех пацанов, прыгавших на кучке весенней слякоти. У него сейчас выходила вот эта вот самая мировая скорбь о правде, истине, боге, тоже ведь совсем не мировой, а личного характера, для личного употребления.
На маленьком малолюдном сквере возле станции метро свежий всполох ветра подарил ему аромат упоительно-нежных духов. Второй легкий порыв ветра приласкал спину его же именем. Она окликала его по имени. Она? Да не может этого быть! Он втянул голову в плечи и резко обернулся. Вот тебе и Господь для личного пользования! — Это и правда она!
Это была она, длинноволосая, вкусно пахнущая греза, длинноногая в расстегнутой дубленке она, о которой он никогда не забывал, которую считал своею единственной любовью. Это была она!!!
Она быстро подошла и пребольно ударила его по лицу душистой ладонью.
— Здравствуй, — ответил он ей, — ты здесь откуда?
— Бессовестный, — заплакала, запричитала она, — какое ты имел право отпускать меня, почему ты бросил меня, негодяй?!
— Но ты же сама…
— Замолчи! Я измучилась, я каждый день там плакала. Каждый день вспоминала тебя, скучала, писала тебе письма. Ты перебрался на другую квартиру, и письма не доходили. Я жить без тебя не могу, — она ткнулась ладошками ему в грудь, — я умираю без тебя, а ты… А ты меня, наверное, уже разлюбил, — она улыбнулась.
— Да я тут…
— Немедленно, сейчас же поцелуй меня!
Он вдохнул в себя ее аромат и сладостные мурашки забегали и запрыгали на его спине, как… как…
Проходящий возле них тучный такой дядечка в распахнутой на необъятном животе замусоленной куртке дружески прихлопнул его по низу спины:
— Молодец! Дожимай-дожимай! Эк вас по весне-то разбирает, сперматозоиды ушастые.
Оторвавшись друг от друга они рассмеялись.
— Ты куда сейчас, по делам?
— Да, — ответил он, совершенно не подозревая, куда это он и по каким это, собственно, он делам.
— Вернешься, немедленно звони мне. Я приду, слышишь? Приду!
— Я же тебе говорил, у меня ведь ничего нет и…
— Глупый ты мой, да ничего и не надо, кроме каких-нибудь там мелочей.
— Каких мелочей?
— Потом, потом. Позвонишь?
— Конечно.
Она обняла его, прислонила голову к его груди, и он ощутил знакомый до боли в горле запах ее волос:
— Не пущу. Все, я жду, пока.
— Пока, — он выпустил ее из рук, как пойманную на лужайке стрекозу.
Вот тут-то уже полностью атрофировались всевозможные мозги, набекренилась легкая такая кома.
Побирающейся возле станционной колонны метрополитена бабульке с картонкой «Помогите, мне трудно жить!» он отдал последние, кажется, пятьдесят рублей. Бабка оторопела, видимо понимая, что у парня явно шиза крезанулась, и было уже хватилась бежать с его полтинником, но вовремя одумалась, все же сообразив, что парнишка-то как-никак лучше ее бегает. А пока она так мучилась расчетами стартовой трассы, парнишки-то и след простыл. «Господи! Слава тебе, Господи! — набожно перекрестилась старуха, — пронесло».
Сам он обнаружил себя выходящим из вагона поезда метро на какой-то станции.
— Вот тебе на! На ловца и зверь бежит!
Он очнулся и узнал. Это был Старший. Да, именно так все его и звали, за глаза звали — Старший. Еще был Главный, а этот, этот Старший.
— Ты почему до сих пор расчетные деньги не забрал? — поздоровался Старший. — Держи, таскаюсь с ними тут полтора месяца. Погоди, пойдем сядем, распишешься мне в бумажке.
Они уселись на желтой скамье станции. Старший говорил то громко, то нормально, в зависимости от прибытия, отхода поездов:
— А вообще, Главный дал мне задание разыскать тебя. Глупость, несусветная твоя глупость всем обошлась тогда боком. Ну, зачем, скажи, ты тогда так разгорячился, наслушавшись того гнидора? Главный, кстати, вышвырнул его за шкирку, как блудливого кота. Ты-то чем сейчас занимаешься?
— Да я…
— Сам вижу, что ничем. «Да я»! Фонарик от буя. Заводная ручка от трактора! Так. Ты сейчас куда? Ладно, сам вижу, что никуда. Значит, со мной сейчас поедешь.
— Куда?
— На верблюда! Закудакал. На работу! Пойми же ты, чудак-человек, как там без тебя! Ты ведь все это начинал, значит, быть тебе там, и все дела. Что это от тебя так духами?..
— Да это я там прислонился…
— Ага, прислонился… А по губной помаде у тебя на роже можно предположить, что сегодняшний день у тебя задался. Все, поехали, обещаю приятное продолжение.
Главный при его появлении так удивился, что не смог подняться с кресла:
— Так.
— Здравствуйте.
— Наконец-то. И где ты нашел этот гриб? — спросил он у Старшего.
— Да нет, он сам. Так сказать, возвращение блудного сына.
— Что ж, хорошо. Я бы даже сказал, здорово. Ну что, дорогой ты мой, стало быть, снова вместе?
— Вместе.
— Какой-то ты сегодня неразговорчивый. Когда сможешь выйти?
— Завтра, — подзапнувшись на последнем слоге он посмотрел на Старшего, — если можно, послезавтра.
— Так, — подвел итог Главный, — понятно. Переоформить трудовую на ошибочную запись, в бухгалтерии получить зарплату, а на работу, пожалуй, с понедельника и давай уже, пожалуйста, без всех этих штук. Коллектив тот же, за приятным для тебя, да и для всех нас, исключением. Ребята обрадуются. Все. Бывай и до понедельника.
На улице бушевало солнце. Два часа пробродил он по городу, совершенно раздавленный внезапно свалившимися на него удачами. Когда же солнце стало клониться к закату, он зашел в цветочный магазин, где ему подобрали роскошный букет из трех белых роз с веточкой декоративной елочки — прошедшие три с половиной месяца зимы.
Второй раз за сегодняшний день он поднял голову над пожарной лестницей своего желтого пятиэтажного дома. На левую щеку его, как раз на место слезы, упала холодная весенняя безымянная звезда. И он осторожно понес ее к себе в гости, прямо так и понес, на щеке.
Он толкнул незапертую на замок дверь. Он так тогда торопился навстречу жизни, что не позаботился о сохранности своего жилища, о чем, собственно, он никогда и не заботился. Жуликам в его доме пришлось бы скучать.
Он прикрыл за собою дверь, аккуратно стер ладонью капельку со щеки, поднес ее к губам, попробовал ощутить ее запах. Пахло весной и радостью!
«Какая жизнь! Какая жизнь! Какая жизнь!» — надрывно прокричал он пустоте. Кто его знает, какую жизнь он сейчас имел в виду.
Он умылся, поставил букет в трехлитровую банку с водой, сел, закурил, потом придвинул к себе раздолбанный телефонный аппарат и стал накручивать на диске номер, знакомый до мозоли на указательном пальце правой руки.
Все только начиналось.
Ссылка в пустыню
Редко кто попадает в пустыню по собственной воле. Иисуса в пустыне искушал Дьявол, Он выстоял, значит, Его ссылка в пустыню оправдана.
Одинокий путник, преодолевающий бархан за барханом, обходящий зыбучие пески. Его продвижение тоже оправдано, потому что впереди у него пункт «Б», где его с нетерпением ждут.
Сам же, просто так, не из-за чего через пустыню не потащишься, если только тебя туда не сослали.
Ссылка в пустыню.
Песок. Я поворачиваюсь на одном месте, просматривая из-за барханов неровный круг горизонта. Сейчас кажется, что я — центр этого круга, и горизонт — его предел.
Я иду, изрядно измученный миражами, которые доканывают меня манящей нежитью через каждые пятьдесят шесть шагов пути.
Когда во фляге еще плескалась влага, я отдыхал гораздо реже, нежели теперь. Я называл ее «водой» только когда она тяжело, но с каждым разом легче и легче стучала мне по бедру, прикрепленная к ремню кусочком кожи.
После очередного сеанса небытия каждый раз с ужасом я думаю о том, что слово «вода» навсегда потеряно для меня, потому что теперь я не только губами, а даже мысленно не могу его воспроизвести, представить его написание на бумаге, потому что двести тридцать шагов тому назад солнце начисто выпекло у меня образную память, и я уже не помню, как читаются и пишутся буквы…
С каждым шагом за ненадобностью я забываю свое имя. Названия предметов одежды, что на мне, путаются у меня в голове, и я уже сомневаюсь, что надетое на мне внизу, то, что волочится по желтому… небу… подо мной… надо мной… ботинок… или… звезда…
Летит…
Летит… Что летит или кто летит?..
Озеро… Опять это чертово ненастоящее озеро… Пожалуйста, сколько угодно, мне плевать, было бы только чем плюнуть…
На сей раз быстрее на двена… триста… два…
* * *
«Голову, голову приподними! Теперь лей на лоб, на лицо. Порядок, возвращается! Много пить не давай, нельзя!»
Боже, что это так больно обжигает виски, чиркает по шее?.. Что это, попадая на кожу, тут же пропитывается куда-то в центр меня?..
Кто сказал л-е-й?.. Что значит «лей»?.. Я пока точно не знаю, что это, но, пожалуйста, лей еще!..
Что это — п-и-т-ь?.. Что-то очень близкое, очень необходимое. Пить…
— Пить… Пить… Пить…
* * *
— Как вы сюда забрались? Мы просто чудом увидели вас с вертолета. Летим, а Галка как заорет в уши: «Человек! Там человек!!!»
— Спасибо тебе, милая Галка!..
— Да, будет вам, лежите, вам вредно разговаривать. Сейчас мы вас в больницу.
— Разговаривать… В больницу… Вода! — Я вспомнил! То, что вы давали мне — это вода!..
— Конечно, вода, чудак вы человек, не спиртом же было вас, полуживого отпаивать.
— Милая Галка… Вода… Больница… Разговаривать… Спасибо!
— Как же вы так? Могли и умереть, жалко, ведь, человека…
— Я больше не буду, Галка, больше не буду, хорошая моя, славная Галка! Веришь?
— Верю!
Хочу летать!
Желание летать отколупывает с души болячки повседневности. Не как-то на космическом корабле или проще — на самолете, а так вот самостоятельно, без крыльев и турбин, чтобы только ветер в ушах!
Желание летать не то, чтобы возвышало Ее в собственных глазах, оно помогало, давало возможность с большей легкостью ходить по земле. Что же еще могло бы дать это простое, а в то же время непростое желание, если даже поделиться этой своею мечтой, в общем-то, и не с кем. Здорово посерьезневшие сограждане толкуют о деньгах. Есть, конечно, тоже чем-нибудь окрыленные, но в повседневной жизни таковых порой не хватает.
А летать-то хочется!
— Все, я лечу! — как-то крикнула Она и, правда, полетела.
Удивительно, что Она вовсе этому не удивилась, потому что в Ее душе, переполненной радостью, уже не хватило места для удивления, а просто такой интерес: «Ну, ладно, там, Маргарита, с ней понятно, она ради любви к своему Мастеру добровольно согласилась на дружбу с нечистой силой, сюжет-то известный. Потом, у нее был, хоть и примитивный, но, все же, летательный аппарат — метла, а я — раз — и полетела, без всего… Вот здорово -то!»
И никакой тебе боязни падения, и ветер не прорезает волосы, а как-то ласково так вдоль тела, как течение теплой реки. Она летела, и в ней отражался зеленый покров земли, а глаза впитывали этот изумрудный цвет, даря ощущение невероятной свободы и какого-то уже неземного, нечеловеческого счастья.
«Нет, конечно, это все не просто так. Я очень этого хотела, вот и вышло, и я полечу еще. Обязательно! Как полезно хотеть этой вот свободы, и дохотеться, наконец, до того, чтобы сокровенное твое желание сбылось удивительно естественно, само собою. Боже мой, слышишь ли Ты меня? — Я счастлива!»
А я стоял внизу и наслаждался Ее прекрасным полетом. Я приветственно поднял руку, но Она не увидела. Тогда я стал махать обеими руками, стал кричать Ей: «Здравствуй!», но Она была там, а я — здесь, где ветер звучит совершенно по другому, нежели у Нее наверху. Маленький и затерянный на земле я, конечно был для Нее неразличаем, а слабый мой голос заглушался Ее ласковым ветром.
— Будь счастлива, — сказал я небу, — слышишь?.. Будь счастлива!


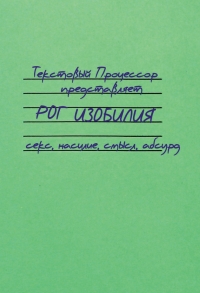
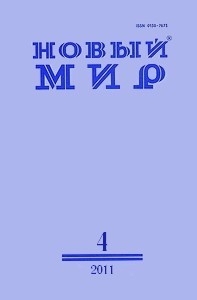








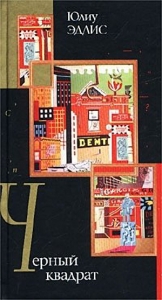
Комментарии к книге «Оставшиеся шаги», Алексей Альбертович Кобленц
Всего 0 комментариев