Борис Екимов ДЕД ФЕДОР
— Поблуда! Кошелка старая! Увеялся! Нет его!! — раздается крик на весь хутор. — Я тебя приучу к базу! Арапником! Буду гнать до самого хутора и пороть! И пороть!! Засеку до смерти! И в барак кину! Нехай тебя бирюки гложут, старая падаль!!
Это Вовка орет. Дело вечернее. Скотина пришла с дневного попаса. Старого мерина нет. Наладился он последнее время уходить на хутор Венцы, что в пяти верстах от нашего. Там и хутора давно нет. Один лишь знак. А вот уходит. Нет-нет и убредет. Вовка, хозяин его, орет. И орет не зря, надрывается. Он знает…
— Запорю до смерти! И каргам! В барак! Нехай клюют!
Мы сидим недалеко. Я и дед Федор. На хуторе — вечерняя колгота. Скотина пришла с попаса. Мык да рев. А мы — на скамеечке, руки — крестиком. Я на хуторе — гость, у деда Федора лишь овца Шура в хозяйстве.
— Запорю! — надрывается Вовка.
Лень ему мерина искать. Пешком — ноги бить, верхом — в седле трястись. Вот он и кричит, все наперед зная.
— Ох и дурак… — качает головой дед Федор. — Сгальный. Аж пенится. И вправду запорет, — тревожится старик. — Человека — как муху, а скотину — и вовсе. Останемся без мерина. А мерин — золотой, без него — гибель, — объясняет он мне ли, миру, поднимаясь нехотя.
И вот уже он шагает ко двору Вовки. А там разговор обычный:
— Не пришел, что ли?
— Нету. Увеялся! Найду — запорю!
— Охолонь трошки. Схожу, — говорит дед Федор. — Приведу.
Вовка сразу смолкает, своего добившись. А дед Федор пошагал себе, легким батожком помахивая, через выгон и далее. Путь его не больно и близок.
Летний вечер. Скотина пришла с попаса. В такую пору хутор оживает. Весь долгий день он словно дремал в обморочной жаркой тиши. Народу нынче не много. Остатки люда рабочего с утра до ночи в поле, на бахчах, в степи. Старики гнут спину на левадах, в огородах. Детвора тоже при деле. Или в счастливых заботах на речке, в лесистом займище: рыбалка, купанье, грибы да ягоды.
Лишь вечер всех сбирает ко дворам. С попаса скотину встретить, коров подоить, остальную худобу поглядеть, вся ли вернулась. Пригнать с речки гусей да уток, коли сами не идут. Вот и несется переклик:
— Ждана, Ждана! Иди сюда, моя доча!
— Рябого телка заверни!
— Камолая убрела! Сынушка, побеги за ней!
— Кызя-кызя-кызя!!
— Ух, натурная! Шелужины просишь!
Коровье мычание, овечье да козье блеянье, надсадный бугаиный рев. Скотий дух, запах молока и пыли. Красное солнце прячется за холмом.
Народ при деле. Лишь мы с дедом Федором прохлаждались возле двора, на скамейке, перекидываясь словом-другим. Теперь мой собеседник увеялся, ноги бьет. Правда, говорун из него — невеликий. В отличие от отца Федора, который не закрывает рот.
Хутор небольшой, три десятка дворов. Есть дед Федор — и есть отец Федор. Чужие иногда путают. А путать тут нечего. Дед Федор теперь ищет чужого мерина. Отец Федор и своего бы не пошел искать. А на погляд они и вовсе — как день и ночь. Дед Федор ростом высок, сухощав, прям как палка, несмотря на серьезный возраст. В одежде он аккуратен, бороду бреет, но имеет усы с острыми, чуть подкрученными кверху концами. А отец Федор хоть много моложе, но зарос диким волосом, носит опорки и плетет всякую ахинею. И никакой он не «отец», сам себе чин присвоил, упирая на свою якобы божественность: «Спаси нас и сохрани…» да «грехи наши…». Этому пусть заезжие верят и величают «отцом». Свой народ его, как и встарь, кличет Федей-сусликом.
Но разговор нынче про деда Федора, а про Суслика — это к слову, чтобы не спутали, о ком речь.
Дед Федор пошагал. Теперь он не скоро придет. Но придет, мерина поставит на Вовкин баз и доложит: «Нашел. На Венцы убрел…»
Дед Федор — говорун невеликий. Он знает, что я «пишу в газетах». Кажется, это ценит. И порой произносит со значением:
— Надо бы тебе кой-чего пересказать… Много всего. Жизня…
Не первый год мы знакомы. Но дальше «надо бы…» дело движется плохо. Даже если на столе самогон от Коли Бахчевника или от Магомада. У Магомада — такая гадость. Но иногда приходится. Когда у Коли Бахчевника простой.
Вечер. Сижу на скамеечке. Хозяева мои — при делах: подоить, напоить всю ораву. Управиться с курами, утками.
Против двора чернеет пустыми глазницами старая хуторская школа. Рядом с ней рушится мазанка бабки Груни, ушедшей лишь год назад. Дальше — кирпичные руины магазина. Лысый бугор, еще недавно заставленный тракторами, комбайнами, сеялками да плугами. Гожими, разоренными, вовсе — ржавлей. Все это лесом стояло. Теперь — голая плешь.
Деда Федора уже не видно. Помахивая батожком, он скрылся в низине. Минует луг, покажется далеко, на угоре. Недолго помаячит в светлых вечерних сумерках и скроется. Пошагал к хутору Венцы.
Дед Федор на пенсии уже десять лет. Но последние годы даются ему трудно. Прежде, когда колхоз был живой и на Лысом бугре, словно на ярмарке, гнездилась техника, в ту пору старому трактористу тосковать не давали, всякий день призывая на помощь: «Дед Федор, погляди…» А деду Федору это на руку. Жену схоронив, он жил бобылем. Сын — в станице; дочка — на Севере; все хозяйство овца Шура. «Дед Федор, приди погляди…» И он откликался охотно, дни напролет проводя с привычным железом. Иногда и не звали, он приходил: «Ну, чего у вас тут?..»
А потом все очень быстро кончилось. Колхоз начал помирать, усыхая. Еще на центральной усадьбе как-то ворочались, а здесь, на хуторе, в два счета все пропало. Даже останки тракторов, иную ржавую рухлядь словно корова языком слизала.
В райцентре, на речной пристани, день и ночь громыхая, грузили старье на баржи для заграницы. Платили наличными. И бугор, еще вчера щетинившийся от железа, обернулся блестящей стариковской плешью. Там даже полынь не росла, вытравленная соляркой да бензином.
Остался дед Федор сиротой. Поднимется утром, наскоро перекусит и по привычке в путь. Шагает легко, красный вишневый батожок лишь для вида. Неизменная фуражка. Никаких кепочек. Рубаха и куртка-спецовка застегнуты на все пуговицы. Крепкие башмаки и брюки. Никаких чириков ли, тапочек, при которых — черные пятки наружу. Никаких спортивных шаровар с непонятными надписями. Дед Федор в одежде строг. Он похож на отставного военного. Прямой как жердь. И шагает быстро, легко.
А хутор невелик. Три десятка домов. Чуть не половина — брошенных да разбитых. Много не нашагаешь. Раз-два… И вот он — Лысый бугор, где полеводческая бригада прежде располагалась. Теперь там плешь. Даже старая кузня исчезла. Ее Коля Бахчевник разобрал и сладил на своем дворе птичник.
Глядеть на пустой бугор мочи нет. Дед Федор отворачивается и плюет в ту сторону.
Раз-два… И вот уже старая школа чернеет глазницами. Памятник погибшим солдатам с выгоревшим добела железным венком. Развалины магазина. Считается центр. Сюда хлебовозка приезжает.
Раз-два… Надо бы шагать помедленнее, тогда и дорога длинней. Но такая уж привычка: быстро ходить.
Раз-два… Вот уже и хутору конец. Последние дома. Дальше — займище, Дон. Там деду Федору делать нечего.
— Волков боюся, — говорит он, тараща глаза и усы топорща, когда ему советуют собирать грибы да шиповник, ловить рыбу, чем по хутору блукать. — И водяного тоже боюсь.
Хутору конец — и походу конец. Надо разворачиваться. Непонятно, зачем ноги бил.
Бывает, что кто-то и встретится. Но с молодыми о чем говорить. Сверстников, считай, не осталось. А кто еще дышит, те в делах огородных.
— Здорово ночевали!
— Слава богу.
— Какие новости?
— Жук одолевает. И никакая отрава его не берет.
Дед Федор слышать не хочет про жука и отраву. Он морщится, словно сам ее откушал, и правится дальше. А вслед ему несется неслышное: «Шалается, как бурлака. Картошки бы насажал, лодырюка…» Дед Федор не любит, чтобы его жизни учили. Потому что у него своя правда: «Грядочки ваши… А тысячу гектар на одного не хочешь? А я могу. Меня профессора проверяли. Как штык… Тысяча гектаров. И везде — порядок. И урожайность… Грядочки ваши». Он поначалу спорил, доказывал, потом устал.
Рядом со старой школой, напротив нее, живет мой товарищ с женою — люди приветливые. Дед Федор заглядывает к ним на дню три раза. У них — телефон. Из станицы звонят, из райцентра, а то и вовсе издалека: «Передайте… Скажите…»
Дед Федор заходит во двор, кивая на телефонный аппарат, спрашивает:
— Ничего?
— Не звонили тебе.
— Ну и слава богу.
Старик присаживается, но поутру долго не сидит. Оглянутся — уже нет его. Сначала удивлялись, потом привыкли.
— С причудами… — вздыхает сердобольная жена моего товарища. — Возраст…
— Шестеренки постерлись, — говорит мой приятель, постукивая пальцем по голове. — Проворачиваются. И получается, что дед Федор — что овечка Шура… В одной поре.
У деда Федора живет на базу овечка-перестарка. Давно бы ее под нож. Он не режет. Раньше и покупатели находились, свои, хуторские: «Давай куплю, — предлагали. — Жирку нагуляет, съедим. Тебе она ни к чему». Дед Федор таращил глаза, фыркал: «Интересно… К чему? А волна? Да я с нее шерсти на двое валенок настригаю. Своих заводи да ешь».
Волна — овечья шерсть — складывается в мешки и — на чердак. Там ее уже шашел погрыз.
— Интересно… Моя овечка, а он ее углядел. Еще покойная бабка гутарила: без овечки — ни варежек, ни чулок. Чем зимовать?
Товарищ мой порою излишне строг, но любит справедливость.
— Кувыркнулся умом старик, — делает он вывод. — Мыкается по хутору. Прибежал, сел, через минуту — подался. Чего приходил, сам не знает. Куда бежит, тоже.
Оно ведь и вправду: у людей — огороды, скотина. У деда Федора — ничего. Но вечно занят. Мне который год обещает:
— Дела поделаем — и сядем с тобой. Много кой-чего есть обсказать. Жизня…
Садились не раз. Обедали, чаевничали, хлебали уху. Было у нас время потолковать. Но все его обещания «много чего порассказать» укладываются в очень короткое: «Трактор был поломатый. Я его делал, делал. Починил, стал работать».
Сначала про детство: «Три класса кончил и бросил школу. Сто ошибок в диктанте, арифметика — ни киле, ни миле. А здоровый был дурак. Сел на прицеп, встал на сеялку, на жатке… За первое лето хлеба заработал в четыре раза больше отца. Зимой — на ремонте. Потом — на курсы. А потом дали мне трактор ломатый-переломатый. Я его делал-делал. До трех разов раскидывал и собирал. А он не ехал. А потом поехал. Стал работать».
Про войну: «Построили нас в шеренгу. Трактористы есть? Повели. А трактор поломатый. Я ему дал ума. Поехал. Стал работать. Таскал какую-то…»
Потом был немецкий плен: «Построили. Кто трактор знает? Привели. А он поломатый. Делал-делал. Поехал. Стал работать».
В плен попал он недалеко от дома. Здесь большие бои шли. Изловчился, ушел из плена. Немцев как раз прогнали. Явился домой, на хутор. Опять та же песня: «Трактор вовсе негожий. И запчастей нет. Я его делал-делал. Довел до ума. Стал работать».
Но это было недолго. Арестовали его, дали десять лет «за измену». В северных лагерях тоже трактор нашелся. «Ломатый-переломатый. Делал-делал его. Поехал. Стал работать».
Из лагерей «изменника» отпустили прежде срока. Четыре года отбыл, простили.
А дома, на хуторе, дали трактор. «Вовсе негожий. Одна кабина. С него все поснимали, дочиста. Я ему долго давал ума. От рук отстал. Но поехал. Стал работать».
И общее, про жизнь: «Работали… В поле и в поле. Уедем в бригаду, еще снег в балках. И до нового снега. Боронуем, сеем, культивируем, пашем. Уборка подходит. Солому стянули, снова пахать да сеять. А потом зябь — до белых мух. Да еще на целину пошлют. Там и зимой убирали, в тулупах. Всю зиму — на ремонте. И снова — весна. Как белка на точиле. Работали и работали. А ныне?.. Аж чудно… Сколько хлеба сбирали… Какие гурты, отары… Молодняк, дойные, матки, валухи. А ныне: ни колосу, ни мыку. Дикое поле… По тысяче гектар на человека обрабатывали. «Кировец» — это машина. Зацепишь три сеялки разом. Он прет. В газете про нас писали. Ордена давали. За хлеб. А ныне…»
Нынче на хуторе два стареньких колесных трактора. «Лягушата», презрительно хмыкает дед Федор. Но для него великий праздник, когда эти тракторы ломаются всерьез. Помучаются хозяева, идут к деду Федору. Он будет глаза таращить, усы топорщить, ругая новые времена:
— Бывало, съездил в мастерскую, проточил, фрезернул. А ныне?..
Трактор он сделает, потом будет всю неделю рассказывать:
— Поломатый… Прибегли. Помоги. А там — чистый утиль. Все на соплях. А чем делать? А где запчасти? Ты мне дай запчасть. Нету… И не откажешь, свои люди. Вот и кумекай. Насилочки, насилочки… Слава богу, кой чего… — Это он про запасы: всяких железяк у него полный двор. — Поехал. Будет работать.
Дед Федор доволен. Жмурит глаза.
Но такие праздники редки. У хуторских тракторят-колесников дел не много. Лишь сенокос: повалить траву, сгрести да свезти. И опять — на прикол. На хуторе тишина. Не то что бывало.
А этому былью целый век: «Три класса кончил и не схотел. Стал работать… В марте уедем в бригаду: боронуем, сеем, потом — просо, подсолнушек, кукуруза, культивация, а там — сенокос. Ни дня, ни ночи не знали. Лишь порты поменять отпросишься. Уборка заходит, озимые, зябь. В Казахстан запрут… А там — на ремонт. А в марте снова».
Может, поэтому всякий день по утрам ему слышится голос: «Кончай ночевать!» Дед Федор вскакивает и по старой привычке торопится, наскоро завтракает. Но обязательно бреется.
И вот уже он шагает по хутору, словно военный: высокий, прямой как палка, на голове — фуражка, все пуговки застегнуты.
Раз-два… И всякое утро кажется ему, что все прежнее — сон, а на Лысом бугре — техника лесом стоит. И кричат ему, машут: «Дед Федор, погляди!»
Раз-два… Тихо на хуторе. И лысый бугор — плешь, ветру не за что зацепиться. Глядеть тошно.
Раз-два… Все дальше и дальше. До самого края хутора. Там на чужом подворье, на пригорке, колесный тракторенок стоит. На приколе. Словно на привязи. Тоже нудится. Кажется, позови — прибежит. Но как позовешь чужое? Да и зачем?
Дед Федор круто поворачивает и шагает назад. Раз-два…
Приятель мой, добрый друг деда Федора, уже проснулся, вышел на баз, заметив старика, окликнул его:
— Здорово ли ночевал? Откель правишься? Либо от бабки Марфутки?
Дед Федор лишь разводит руками, не умея объяснить, куда и зачем он ходил. И потому в который уже раз слушает журбу:
— Ты бы, дед Федор, обзавелся бы лодкой. Сетей навязал, вентерей наплел. И потихонечку промышлял.
— Ты бы, дед Федор, занялся курями. Вон Николай занялся. Сотня кур. Полтысячи яиц в неделю. Это минимум. Приехали, забрали и денежку отстегнули.
— Ты бы, дед Федор…
Старик особо не перечит. Но слушает не слова, а высокий голос тракторного «пускача». Это Чоков каждое утро заводит трактор и едет в соседний хутор, в бригаду. Там — остатки колхоза. Машина, понижая голос, переходит на рабочий режим и не глохнет, огорчая деда Федора. Если бы заглохла, он сразу бы заспешил к Чокову. Но не глохнет…
— Ты бы нашел себе дело… А теперь еще Вова-премудрый за мерином тебя бегать нанял. Он тебе хоть бутылку за это выставил? А? — Товарищ мой, деда Федора старинный приятель, любит справедливость. — Ты — человек старый. А он тебя гоняет. А ты как дитё…
Вот и нынешним вечером, когда дед Федор вернется и обязательно к нам заглянет, товарищ мой будет, жалеючи, укорять его:
— Снова таскался, ноги бил. Цепляет тебя на кукан, как глупого…
Дед Федор оправдывается всякий раз одинаково:
— Он же сгальный. Дурак дураком. Он людей не жалеет. А мерина враз запорет. Как без мерина жить? Зимой за хлебом…
Ведь и вправду зимой да в распутицу, когда хлябь да склизь, мерин выручает. Ездят на нем за хлебом в станицу. Трюшком, потихоньку, но довезет.
— А картошку людям копать? — вспоминает дед Федор. — Другого поставь. Он тебе наварнакает.
Тоже правда. Старый мерин копалку тянет неторопливо и ровно, выворачивая лемехом картофельные гнезда.
— Нет, нам без мерина нельзя. Колхоза нет, а еще и мерина лишимся — вовсе гибель, — заканчивает свои оправдания дед Федор и об ином речь заводит, тоже не в первый раз: — И ты погляди… Ведь он по степи не блукает, он на родной свой хутор идет, на Венцы. А там об хуторе знаку нет, одни лишь сады. А он приходит и становится на том самом месте, где был Юдаичев баз. Тут — хата была, тут — летняя стряпка, амбары. Я помню, мы же в соседях жили. Ныне там лишь бурьян. А он помнит. И прямо на конюшне становится, где его мать принесла. — Дед Федор изумленно разводит руками. — Сколько лет-годов… А теперь, значит, чего-то в голове. Вроде он домой идет. Идет и становится… — И, подумав, добавляет серьезно: — Я вот тоже в детский разум вхожу: одно позабыл, другое — не помню. А свой родный хутор весь дочиста вижу. Ныне дочикилял — уж стемнело. А я все вижу, что было: от Сухой Голубой до Провалов. Калинкины, Мушкетов Исай, Мушкетов Маркей, бабка Хима, Труша Кулюкин, Иван Гулый, дед Лисан, Юдаичевы и тут наша хата.
— Значит, тоже скоро туда… — смеется мой товарищ. — Как мерин, убредешь. Будем искать тебя. И арапником…
Поздний вечер. Густеют сумерки. Коров подоили и снова прогнали с база. Теперь они будут бродить по хутору, по его пустошам, заросшим травою, добирая. А потом, во тьме, снова вернутся и улягутся, каждая у своего база, сыто вздыхая.
Летним вечером долго не хочется в дом уходить. На воле — прохлада. Товарищ мой смотрит телевизор. Жена его спит, за день намаялась — ей рано вставать. Я сижу, перебирая дневное.
Дед Федор, старый мерин… Мать моя, вовсе годами ветхая, тоже в последнее время во сне чуть не всякий день видит далекую родину — Забайкалье. Проснется — радуется: дома была.
А деду Федору снится одно и то же, он завтра придет и расскажет: «Вроде дали мне комбайн поломатый. Я его делал-делал, довел до ума. Стал работать… Хлеб убирать. А пшеница добрая. Молотим и молотим. Весь ток засыпали. Такие бунты лежат высоченные. А мы все молотим и молотим…»
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


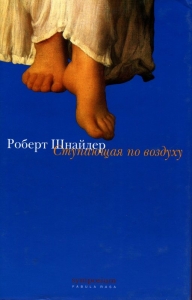


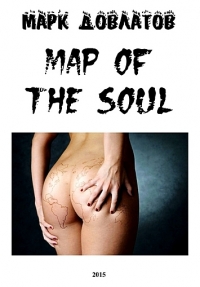


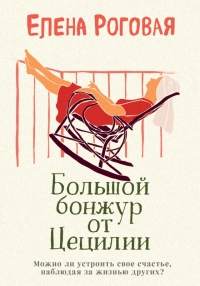

Комментарии к книге «Дед Федор», Борис Петрович Екимов
Всего 0 комментариев