ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
Роман «Отранто» — второе произведение итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. Как определить жанр этого романа? Пожалуй, точнее всего было бы назвать его «романом идей» или «романом аллюзий» и расшифровать: «умозрительная притча гностического толка».
Роберто Котронео — автор до чрезвычайности интересный, и, работая с его книгами, переводчик открывает для себя все новые и новые слои подтекста, связанные с различными идеями: философскими, художественными, этическими.
Бесполезно искать в новом романе итальянского философа драму живых человеческих характеров. Его волнует другое: проблема контактов сопредельных миров — мира реального и мира иррационального; проблема маргинальной, то есть пограничной зоны между двумя мирами и поведение человека, попавшего в эту зону.
Что есть судьба? Что есть творчество? Что есть истина? Чем определяются эти понятия и где пролегает путь к их постижению? Вопросы не новы, и на них известны очень яркие ответы: «Истина прежде всего в том, что у тебя болит голова, так сильно, что ты малодушно помышляешь о смерти». Очень человечная по сути реплика Булгаковского Иешуа в своей парадоксальности перекликается с озарением героини Котронео Велли: «А что, если к истине не причастны ни боги, ни люди, ни разум?».
Велли делает последний рывок, находит в себе силы для постижения и озарения, поняв, что у нее нет другого выхода, и надо подчиниться силе, именуемой судьбой. Она избавляется от страха и отыскивает ориентир в той самой маргинальной зоне, куда по воле судьбы попала. Она добровольно выходит из маргинальной зоны в зону потустороннюю, то есть идет на жертву, отказываясь от статуса реального человека и принимая статус фантома. С этой точки зрения роман очень необычен, так как в нем смещены все привычные для нашего сознания акценты. Мотивация жертвы здесь решена не в рамках христианской морали (жертва ради любви, милосердия или искупления), а, скорее, в рамках морали античной, от которой мы давно отвыкли: не нарушай порядка вещей, определенного роком. А порядок этот, по одной из мыслей автора, определяется чистым произволом, случайностью, и лишен всякого смысла. И возникает образ «Бога, играющего в кости». Противиться этой логике, которая состоит в отсутствии логики человеческой, бессмысленно.
Читателю, не знакомому с гностическими учениями, философией Платона, с традициями обряда инициации, с персонажами, напрямую связанными с «зоной перехода», этот роман скажет гораздо меньше, чем может сказать. Но читать его будет все равно интересно, потому что в нем присутствует свойственное Котронео ощущение тайны, загадки и тот особый «нерв» повествования, который всегда выдает незаурядность автора. В том и сила по-настоящему талантливого произведения, что в нем угадано равновесие текста и разных уровней подтекста, и оно вызывает одинаковое волнение и у «посвященных» и у «непосвященных» читателей.
АННОТАЦИЯ К ИТАЛЬЯНСКОМУ ИЗДАНИЮ
Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной мозаики XII века, занимающей весь пол кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь не случайно, а предопределено таинственной семейной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения.
Если Prestoconfuoco — роман о музыке, то в Отранто центральное место занимает свет. Это свет северных и южных краев; светотень Рембрандта и тени от замка и городских стен. Но это также и свет полуденный, порождающий призраки и демонов, мистический свет христиан и арабов. Отранто — книга о снах и о свершении предначертаний. Всех ее персонажей можно принять за порождения воображения рассказчицы: и мать, умевшую гранить алмазы и исчезнувшую в море; и отца-художника, умевшего виртуозно копировать фламандских мастеров и всю жизнь мечтавшего о ярком свете юга; и призраки, бродящие по городу и взывающие к трагически жестоким событиям и жертвам, сделавшим Отранто из ряда вон выходящим местом, finisterrae, краем земли, сыном жестокой случайности.
Голосу главной героини вторит контрапункт другого голоса, который повествует о событиях, забросивших голландскую художницу в салентинские края.
Это переплетение голосов прослеживается на протяжении всего романа, как мозаика падре Панталеоне покрывает целиком пол храма. И смысл ее рисунка проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности. Роберто Котронео трудился над мозаичными пластинками легенд и судеб, сплетен и пророчеств, снов и предчувствий. Он воссоздал нелегкую алхимию цвета, он высветил яркой вспышкой света, сошедшей с пейзажей, и людские жизни, и беспокойную игру теней, и суровые слова, начертанные на страницах книги.
Роберто Котронео Отранто
Посвящается Федерике и ее краскам…
Все явленное есть свет
Апостол ПавелI
Теперь я знаю точно: демоны выбирают для появления именно полуденный час, когда солнечные лучи сверкающим дождем падают из самого зенита, а небо обретает такую насыщенную голубизну, какую можно увидеть только в Отранто; в других местах небо всегда кажется чуть выцветшим. Я брожу под этим невероятным небом, под солнцем, сгущающим каждую тень, по извилистым улочкам, по ступенчатым спускам и подъемам мимо мощных стен и непроницаемых дверей: в городе сохранился страх, что снова придут турки и начнут рубить головы. В полдень кажется, что розетка о шестнадцати каменных лучах на фасаде кафедрального собора завешена темным занавесом, и это просто черный круг, резко выделяющийся на фоне ослепительно белого камня. Временами, несмотря на яркий солнечный свет, перенасыщенное синевой небо приобретает на горизонте густой грязноватый оттенок. Море, окружающее город-крепость, присутствует в каждой улочке тихим эхом бьющих в бастионы волн. Но не надо думать, что волны плещутся и тогда, когда, как сейчас, нет ни малейшего дуновения ветерка. Гомер рассказывает, как Улисс плыл с попутным ветром, пока ветер неожиданно не стих, словно Бог усыпил волны. Именно тогда он и услышал сирен.
Это случилось в полдень. Сейчас тоже полдень. Августовский полдень. Я пытаюсь найти призрак, который перенес бы меня туда, где я никогда не бывала, и дал бы наконец долгожданное облегчение. Ведь именно в этот час солнце останавливает свой бег, чтобы полюбоваться плясками сатиров и их подружек. Полдень — время неподвижное. Я чувствую себя в плену у светового дождя, у лучей, что падают отвесно, словно сплющивая все вокруг. Плечи мои горят, как поцарапанные. Мы одни на маленькой августовской площади, я и кафедральный собор. Он словно приглашает меня войти и укрыться от раскаленных лучей, посланных богом света. И мне хочется сказать: люди, не изумляйтесь, ведь и там, где все на свету, где все кажется ясным, может оказаться тайна. И я ищу полуденного демона там, где много раз его видела. В городе призраков привидения являются не по ночам, а в полдень.
Я бы, пожалуй, все это рассказала, если бы мне посмотрели в глаза. Хоть разочек, хоть на мгновение блеснули бы чьи-то зрачки, утомленные этим светом, не дающим взгляду ни на чем остановиться. Если бы только заглянули в мои светлые и не по-здешнему прозрачные глаза, что кажутся пришельцами из других краев, как капители крипты. Но никто мне в глаза не посмотрел, хотя кто знает, скольким людям хотелось бы понять, что же видели мои глаза, когда наступал полдень, и что они умели прочесть в кусочках мозаики падре Панталеоне.
За эти годы кожа моя потемнела и больше не краснеет, не обгорает, как раньше. Я никогда не думала, что она так быстро привыкнет к солнцу, и это настолько изменит мое лицо и тело. Солнечные лучи здесь смягчает ветер, завывающий на разные голоса в каменных коридорах города, как обезумевшая толпа, которая мчится, не разбирая дороги. Зимой Отранто пустеет, все в нем ширится и теряет свои истинные размеры. Я коротала зимы, мало с кем перекидываясь словом, вглядываясь в лица и стараясь вспомнить тревожившие меня сны. По ночам мне казалось, что сны обретают ясный смысл, но он терялся, как только солнце касалось крыш. Я бы и об этом рассказала, если бы меня спросили. Рассказала бы, сдержав волнение, чтобы никого не напугать, спокойно, медленно, как поют греческую погребальную песнь, нению: Vasilicò pliatìfidda, ma ta saranta fidda. Saranta s'agapìsane 'vo irta s'epira. Обазилик широколистный, о базилик сороколистный, сорок любили тебя, я пришла и взяла тебя…
Я бы вернулась в то далекое время, и снова ожили бы сторожевые башни, стоящие теперь вдоль берега, как тоскливое свидетельство о былом ужасе. Они славно устроены для пристальных темных глаз, высматривавших, не появятся ли вражеские корабли и не сверкнет ли солнце на кривых клинках. И я бы сказала: не все погибли, кому-то удалось убежать и рассказать обо всем, ведь в мозаике есть надпись: Rex Arturus, Король Артур. Но пока что я в своем времени и медленно бреду, как брела когда-то Градива[1] по улицам Помпеи, населенным призраками. Я прислоняюсь к стенам, пытаясь своим телом, как щитом, утихомирить ветер. Пока что я сама себе свидетель, и больше не знаю, зачем это нужно, и есть ли справедливость в том, чтобы быть единственным свидетелем места и времени, у которого нет времени.
От постоянной работы с кусочками мозаики у меня уставали глаза, и я подолгу глядела на море, опасаясь, что их цвет может поблекнуть. Мне казалось, что, если выбрать самую синюю точку на горизонте, то мои радужки снова насытятся живой синевой. Я вглядывалась в эту синеву до рези в глазах, до онемения лица, и, в конце концов, мне начало казаться, что мои радужки повторяют рисунок лучей на розетке кафедрального собора.
Мне хотелось сказать: что вы об этом знаете, люди в белых халатах, вы и имена-то свои забыли, у вас есть только буковки, вышитые на нагрудных кармашках. Что вы в этом смыслите, если даже не спрашиваете? Ведь я бы вам все рассказала. Но только на рассвете, в ожидании холодноватого утреннего света, когда небо еще может противиться силе полудня. Вы улыбаетесь и треплете меня по щеке. Вы даже не переглядываетесь многозначительно. В ваших учебниках нет ни слова ни о демонах, ни об ослепительном свете, ваши книги не разумеют того, кто начинает вдруг говорить на незнакомом языке, сам понимая, что тут же его забудет. В тот день я повторяла без конца: Ilieme, na mi pai, mino na di posson en' oria tuti pu agapò. Я даже не догадывалась, что это может значить. Вы все спрашивали меня, где я научилась по-гречески. И я отвечала: не знаю. Тогда кто-то прошептал: она бредит. Плевала я на ваши доводы и вашу медицину! И снова погружаюсь в забытье и, теряя сознание, бормочу молитву, языка которой не разумею, но знаю ее наизусть, как будто мне случалось уже ее повторять.
Ilieme, nami pai, mino nadi posson en 'aria tuti pu agapò. Вы называете это бредом. Всего лишь потеря сознания, озноб, бессвязная речь. Я гляжу на всех вас и ничего вам не расскажу. Вы пытаетесь понять смысл моих слов, а я вижу вас где-то далеко-далеко, и вы уже сделали свой выбор: когда все кончится, вы уйдете в небытие.
Когда я уезжала в Отранто, мне казалось, что я знаю, что такое светотень. Еще в детстве отец учил меня рисовать. Он зарабатывал на жизнь, делая копии картин из Рийксмузея в Амстердаме. Это были копии Франца Хальса, Иоганнеса Вермеера и, прежде всего, Рембрандта. В маленькой комнате для гостей в нашем доме висела его самая удачная копия «Ночного Дозора». Туристы утверждали, что его копии невозможно отличить от оригинала. Он улыбался и показывал мне, как можно отличить копию: где кисть пошла не в том направлении, где чуть изменен оттенок цвета. Однажды он принес копию картины не из Рийксмузея, а из Национальной Галереи в Лондоне. Густая тень наполняла высокую комнату; у стола угадывался силуэт сидящего за книгой человека. Я часами разглядывала эту картину, потрясенная не затененной комнатой, а светом, создававшим необычный контраст. Много лет спустя я узнала, что картину написал один из учеников Рембрандта. А тогда я умела видеть только то, что видела: необыкновенно контрастный свет, высокое окно и читающего человека в темной глубине комнаты. До этого момента я жила в мире легких, размытых светотеней. На севере тени образуются за счет слабого рассеивания света, который не может падать отовсюду, и в результате получаются светлые серые пятна без силы, без яркости. Северный свет — это посредник, создающий компромисс чувства и реальности. А картина ученика Рембрандта ближе к чувству без компромисса. В первые же дни после приезда в Отранто, проходя возле Альфонсинских ворот, я заметила, что граница светотени буквально разрезает пространство: по одну сторону ослепительный свет, по другую — сразу, без перехода, будто пространство стало свойством времени, — тьма, тьма и еще раз тьма. Меня так и подмывало встать на линию раздела: интересно, что при этом почувствуешь?
Едва я приехала в Отранто, как мне приснился отец: старый, хрупкий, добрый, он показывал мне ту самую картину ученика Рембрандта. Показывал с гордостью и надеждой, что я, девчонка со светлыми прозрачными глазами, едва способными сосредоточиться даже на том, чего очень хочу, когда-нибудь пойму силу необходимости и воли, которая побуждает нас разделять землю на свет и тень по линиям, прорезающим мироздание и умеряющим наше неистовство.
Сказать им, как отец принес мне эту картину? Пожалуй, можно, но только на моем языке. Вот возьму и спрошу, как тогда: папа, где ты ее срисовал? И опять стану маленькой. Интересно, переменится ли мой голос? Зазвучит он по-детски высоко и звонко или нет?
Окна там, куда меня поместили, забраны массивными решетками, но это больше по старой привычке горожан заботиться о своей безопасности. Решетки отбрасывают резкие тени на неровный плиточный пол. Нет, не стану я им говорить про то, что они сами должны были знать давным-давно. И, совершенно измученная, я засыпаю. Я в надежном убежище, но мне все равно страшно: ведь полдень — самое скверное время для сна. Ни за что бы не заснула, потому что знаю, как опасно засыпать в час, когда появляются призраки, и все лишено тени, а значит, и души. Ведь говорила же я вам: вы все начисто лишены способности видеть, вам все кажется, что мир — это сад, разбитый в строгой и чинной геометрии. Вы глядите на меня с беспокойством и пытаетесь наладить ход моих мыслей на свой манер, а мне это неинтересно. Я уверена, что ваши расчеты неверны, ваш порядок никуда не годится, и я никогда не смогу уместиться в ваши схемы. Думаете, достаточно меня усыпить, и все? Вы что, не понимаете, что это значит — заснуть в полдень? Когда в полях все застывает, и вечность перечеркивает любое проявление жизни тонкими линиями каменных дувалов, когда ветер кажется чудом, дыханием Бога? Когда стрекотание невидимых цикад вдруг обрывается, уходя в никуда? Я говорила вам, что полдень — это час, когда живым позволено приблизиться к миру иному, а вы улыбались многозначительно, набирая в шприц желтоватую жидкость. Я цитировала Евстафия, а вы опять улыбались, закрывая коробочку с лекарством, и не могли уловить смысла его греческого названия.
Вы были обходительны и хорошо знали свое дело. Инъекция, которая позволила мне уснуть, не причинила боли, напротив, по телу разлилось приятное тепло. Демоны, похищающие тех, кто рискует заснуть в полдень, оказались бессильны, хотя они явно отследили, как в моих затравленных глазах появилось счастливое выражение. Мне очень хотелось забыться надолго и хотя бы в искусственном сне привести в порядок свои мысли, свою жизнь, начиная с густой тени в глубине картины и с отцовского лица, сиявшего радостью и удивлением при взгляде на свою удачную работу. Копия получилась лучше оригинала. Я это поняла, когда увидела оригинал в Лондоне. Картина не вызвала никаких чувств, я восприняла ее как копию с полотна, которое знала всю жизнь. Она показалась мне хуже по фактуре и тусклее.
То же ощущение возникло через много лет при работе с мозаикой падре Панталеоне. Она оказалась не такой яркой, какой я ее себе представляла, а пластинки были слишком хрупкими и слишком далеко отстояли друг от друга. Мне показалось, что грандиозная напольная мозаика больна болезнью времени, и простой реставрации будет недостаточно, чтобы ее вылечить. А потом я, опьянев от света и ветра, бродила, как потерянная, по улочкам Отранто, поднимаясь и спускаясь по бесконечным ступенькам и прислоняясь время от времени к стенам, словно пытаясь от всего отрешиться и вернуться в то время, которое и сама не смогла бы определить. И отдаленный плеск моря напоминал одну из забытых молитв, которую я никогда не слышала и тем не менее однажды стала повторять наизусть.
Я родилась в Коогаан-де-Заане, в десяти километрах от Амстердама. В ста метрах от нашего дома находится прекраснейший в мире музей ветряных мельниц. В Голландии ветер трудолюбивый: он вертит мельницы, крутит жернова, дает энергию. В Отранто ветер чувственный: он разметает мысли, как сухую листву. Я родилась там, где солнце бледно и зачастую еле проглядывает; у нас в городе тишина сменялась отчаянным стрекотанием кузнечиков. Я выросла среди ветряных мельниц и яркой зелени пейзажей, а теперь гляжу на красную землю и на оливы с искривленными стволами. По документам имя мое обыденно: Елена. Так, долго не раздумывая, назвала меня мать. Отцу больше нравилось звать меня Велюве, по имени местности, где он мечтал поселиться. Однако Велюве по-голландски означает «бесплодная земля», и такое имя явно не предвещало ничего хорошего. Вчера ночью отец опять мне приснился; он обнимал меня и говорил: «Поезжай, и возвращайся только тогда, когда поймешь, что такое свет, дающий жизнь теням».
Светловолосый доктор с едва заметным шрамом над бровью держал меня за руку и массировал тыльную сторону ладони. Он говорил тихо, с сильным салентинским[2]акцентом, который легко спутать с сицилийским. Меня здесь знают, знают, чем я занимаюсь, не может быть, чтобы я потеряла рассудок, это просто солнечный удар, в августе в Отранто очень жарко. Всего лишь солнечный удар. Правда? Значит, надо было укрываться от полуденного солнца? Светловолосый доктор говорит, что у меня был коллапс, и меня что-то сильно испугало. Он просит меня пока не вставать с этой койки грязно-белого цвета, обставленной со всех сторон подносами со шприцами, пластырями и ватой. Откуда-то донесся детский плач. Доктор успокоил меня: не пугайтесь, его укусила собака, ему вводят противостолбнячную сыворотку.
И я снова вижу мозаику. Там много животных: собак, львов с человечьими головами, верблюдов, минотавров, крылатых драконов, ослов, сфинксов, и все они кусаются, рычат и лают, оглушая беззвучным ревом неф кафедрального собора. Светловолосый доктор говорит, что это всего лишь противостолбнячная прививка. Как только детский плач стихает, мои звери начинают яростно лаять и грызть пластинки мозаики, разрушая работу, стоившую мне столько труда. Однажды мне уже снилось, что вся пластинки смешались, и рисунок мозаики невозможно различить. Но доктор не догадывается об этих снах, хотя хорошо со мной знаком и мило улыбается. Все в городе со мной знакомы, ведь я работаю здесь уже несколько лет. Впрочем, в Отранто не составляет никакого труда стать невидимкой и создать иллюзию, что это твой призрак бродит по бастионам. Другой доктор, постарше, не дал мне долго спать; лучи вечернего солнца просачивались сквозь решетки на окнах и вспыхивали на его белом халате, будто поджигая его. Я наблюдала за ним, пока он привычным жестом заканчивал работу. Почти не глядя на меня, он сказал, что я могу идти. Для всех мое состояние нормализовалось: я стала как все, успокоилась, рассуждаю здраво и могу даже посмеяться и пошутить вместе со всеми: «Как ваша мозаика, докторесса, когда можно будет на нее взглянуть?». «Конечно, вы северяне непривычны к такому солнцу…»
Мне очень хотелось спросить у него: «А вы способны потеряться в полуденный час, который демоны выбрали для появления?»
Пока она доискивается до того, что пока не умеет понять, я снова выхожу побродить по бастионам над морем. В первый же день, когда я увидел чужестранку, я узнал ее. У нее были те же волосы, того же особенного цвета, который ярко вспыхивал только на солнце.
Глядя на чужестранку, я вспоминал, как она выглядела, когда на миг, всего лишь на миг, я обернулся и посмотрел на нее. Это было за несколько дней до того, как ее отняла у меня жестокость турок.
Уходя, я обернулся. А она, больше не обращая на меня внимания, откинула голову назад движением, которое заставило меня затрепетать. При этом ее волосы рассыпались по плечам, глаза закрылись. Она больше не думала обо мне. Моя ночь кончилась.
Кто знает, зачем я обернулся. Она и не посмотрела на меня. Я заметил, что небо меняет окраску, словно выцветая, и поглядел на море. Стояла тишина. Ни звука, кроме шороха ее волос.
Казалось, морские волны сгладились, поглощенные богом, который ждал, когда же они, наконец, взревут, и кончится эта невозможная тишина.
II
Главный управляющий внимательно оглядел мое легкое льняное платье. «Мы вас ждали. Пойдемте, я вам дам прочесть кое-что». Я подумала, что дело касается мозаики, и улыбнулась. Однако он провел меня в капеллу Мучеников и указал на латинскую надпись, которая гласила: «Hoc lapide cives sua guttura turcìs truncanda ob Christi deposuere fidem. A. D. MCDLXXX». Он тоже улыбнулся и спросил меня: «Вы понимаете по-латыни?» Я начала читать: «В год от Рождества Христова 1480-й жители города сложили головы на этот камень, дабы быть обезглавлены турками за веру в Христа». Сложили головы, дабы быть обезглавлены. Как жертвенные животные. Здесь речь идет не о жестокости, а о покорности. Никаких криков и воплей отчаяния, все разворачивалось с сакральной торжественностью. Турки взяли Отранто и обезглавили всех его обитателей, отказавшихся отречься от христианской веры: восемьсот мучеников. Их тела целый год оставались без погребения на солнце, и (о чудо!) тление не коснулось их, пока турок не прогнал Альфонсо Арагонский, герцог Калабрии. Только тогда мучеников похоронили, а их кости потом поместили в кафедральный собор.
Сложили головы, дабы быть обезглавлены. Великая жертва. Но, прежде всего, жертва полуденная. По крайней мере, для первого из них, убитого точно в полдень. Впрочем, вся эта торжественность, может, и придумана. Говорят, что турки, входя в город, подняли такой крик, что нильские журавли нырнули в воду. Христиане были так напуганы и потрясены их непривычной манерой воевать и кровавой резней, что умирали от страха раньше, чем их хватали.
Главный управляющий с гордостью показал мне камень, на котором рубили головы. Кто бы ты ни был, если ты приехал в Отранто, тебя сразу предупредят, что это город мучеников, зверски убитых за Христа, с Христом, во Христе. В кафедральном соборе под высокими хрустальными колпаками сияют их кости. Едва прибыв в город, ты слышишь историю, что повторяется, как эхо, с самого 1480 года. Сначала убили грудных младенцев, оторвав их от матерей: кого зарезали, а кто умер от ран. Беременным женщинам туго перевязали животы, буквально выдавив недоношенных детей, которые тут же умирали, барахтаясь в крови. Остальных женщин, прежде всего девственниц, сначала отдали на поругание туркам, задрав им юбки и связав руки, а потом перебили почти всех. Только самых красивых оставили для пополнения гаремов. Все, кто живыми попали в руки неприятеля, были обезглавлены. Франческо Дзурло, военачальника идрунтинцев[3], арестовали, обезоружили, а потом разрубили пополам. Все масло, которое нашли в домах, вылили на улицу, расколотив амфоры и бутыли, и оно потекло по городу, как вода.
Всего двадцати воинам чудом удалось спастись, многих взяли в плен. Интересно, сколько времени оставались следы крови на стенах домов, на ступеньках узких улочек? И как забыть весь этот ужас? Турки держались в Отранто дольше года, предпринимая отсюда очередные вылазки. Легенда гласит, что целый год тела мучеников, и только мучеников, оставались нетронутыми на солнце и на ветру. Остальных сбросили в море. Но если даже ты приехал в Отранто и ничего про это не знаешь, то бродя по улицам, все равно ощутишь, как демоны касаются тебя. Идрунтинцы никогда не чувствуют себя в безопасности. Может, именно поэтому здесь так расцветают легенды о привидениях. Если демоны существуют, то это место густо ими населено.
Мозаика открывала мне тайны города, при условии, что я возвращу красоту и четкость ее рисунка городским призракам. Я не представляла себе, сколько этих существ ниоткуда придут ко мне, чтобы рассказать о вещах, которых не мог знать никто. Они появлялись по мере того как я приводила мозаику в порядок. Кто это были? Призраки, полуденные демоны? Обыкновенные люди, которых связывало тайное знание, пришедшее издалека и доступное лишь немногим? Что было до меня старику, который явился вскоре после моего приезда, чтобы сказать, где смогу я найти среди персонажей мозаики портрет падре Панталеоне? У старика была всклокоченная седая борода, нечесаные волосы и глазки, похожие на маленькие щелки. Красноватая кожа на щеках приобрела пунцовый оттенок и пестрела лиловыми прожилками. Вместо палки он опирался на кривую узловатую ветку дерева, ноги были обуты в сандалии. Я не испугалась: взгляд его лучился добротой, а беззубый рот таил улыбку. Он громко постучал в дверь, заявив, что пришел издалека, и спросил меня, известно ли мне про Галатину. Я знала, что это была деревня в окрестностях Отранто. Он улыбнулся и сказал: «Ну да, ну да». Откуда он знал, кто я такая, и почему из своей далекой деревни пришел именно к моему дому? Я уже достаточно хорошо говорила по-итальянски, и все-таки боялась, что не пойму его до конца. Уже с появления первого гостя я поняла, что была какая-то связь между реставрацией, которой я занималась, и личной судьбой того, чей контур я пока не могла очертить. Старик из Галатины принес мне бутылку масла: «Оно хорошее, но будьте осторожны, разбить бутылку масла — к несчастью. Городу это тоже принесло несчастье».
Я промолчала, он тоже ничего больше не сказал и ушел. Я видела, как он медленно удалялся, спускаясь по ступенькам, и постепенно исчез. Кто он был? В деревне, похоже, никто о нем не беспокоился. Я многим рассказала потом этот эпизод, но мои слушатели восприняли его безразлично. Только хозяин, что сдавал мне комнаты, выходящие на площадь перед кафедральным собором, розетка которого, вставленная в раму стены, все норовила заглянуть в мое окно, будто напоминая о себе, вспомнил, наконец, старика, который приходил из Галатины и часами глядел в соборе на мозаику.
Я выросла в семье мореплавателей и коммерсантов, мне не привыкать к новым людям и к странным лицам, и поэтому я перестала думать о старике из Галатины. Теперь я понимаю, что после его появления мне надо было бы обратить больше внимания на чуть согнутую фигуру, которая, казалось, высматривала кого-то на узкой улочке, ведущей от моего дома к замку. Но тогда она запечатлелась в моем мозгу, как эскиз, набросок для памяти. Я была увлечена другим сюжетом, но о нем ни за что не рассказала бы даже светловолосому доктору. Иногда случается, что загадка приобретает черты собственности. Бесполезно делиться с кем-то, чтобы стало уютнее и не так страшно. Рациональность крепко держит нас в плену, и мне самой долгое время казалось, что я обитаю в зоне, свободной от иррационального.
Здесь об этом ходит много легенд. Они являются из-за моря, вместе с ветром трамонтаной, и неизвестно, кто их сочиняет. Спрашивать бесполезно, все равно никто ничего не скажет. Как только море начинает темнеть, а небо теряет свою ослепительную яркость, у людей меняются глаза: взгляд становится пристальным, как на барельефах с изображениями салентинских прелатов на боковых порталах кафедрального собора. Грохот прибоя закладывает уши, морская соль жжет ноздри, слепит глаза. Вот тогда день ото дня все настойчивее начинаешь задавать себе вопрос, о чем думают люди, неспешно фланирующие по городским переулкам.
«Видите этот алтарь? Здесь был обезглавлен епископ Отранто, первая из знаменитых жертв турок».
Его убили в церкви, а не на камне, который лежал высоко над городом на месте капища Минервы. Ахмед покачал головой: нет, Стефано Пендинелли, так его звали, вовсе не четвертовали, он умер от страха, и только потом ему отрубили голову. Однако в Отранто принято считать, что перед смертью он произнес длинную вдохновенную проповедь, пытаясь обратить турок.
Ахмед носит имя турецкого паши, который отдал приказ перебить идрунтинцев. В первый раз я увидела его примерно через месяц после приезда. Он был невысок ростом, черноволос и смуглолиц, белки его глаз смотрелись до странности ярко рядом с абсолютно черными радужками. Когда он подошел ко мне на улице Мучеников, я поначалу испугалась. Он спросил с изрядной долей высокомерия: «Ну что, спасем мозаику?». От удивления я в первый момент не могла решить, то ли мне ускорить шаг, то ли вернуться назад к церкви Мучеников. Прежде, чем я успела что-то сообразить, он сказал: «Меня зовут Ахмед». Я поглядела на него, спрятав улыбку, и подумала, что жители Отранто не лишены юмора, если их сыновья могут носить такие имена. Он продолжил любезно: «Ваше имя я знаю, но ведь друзья зовут вас по-другому, правда?» И действительно, коллеги, работавшие со мной, называли меня Велли, как привыкли все меня звать в Голландии. Это имя придумал отец, и теперь мое настоящее имя, Елена, исчезло и как имя, и просто как звук. Меня удивило не то, что Ахмеду, если его и вправду так звали, было известно мое прозвище, а то, что он вот так подошел ко мне в пустынном месте, в жаркий полуденный час. Теперь меня поражает, что тогда я не стала искать подходящего объяснения этому случаю. И вот еще что хочу добавить: называясь Ахмедом, нельзя безнаказанно шататься по такому городу, как Отранто. На следующий день, изучая кусок мозаики, где была изображена шахматная доска, я вдруг почувствовала безотчетное желание еще раз увидеть его, и против воли в моей памяти возник летний день, когда один из моих приятелей принес мне стихотворение, написанное на листке желтой бумаги. На первый взгляд эта абракадабра мало походила на любовное стихотворение. Но абракадабра посвящалась мне. Мне было тогда шестнадцать лет, ему четырнадцать. Выходившие на улицу окна были распахнуты настежь, и какая-то женщина не сводила с нас глаз, пока я не разжала ног, сжимавших его бока. Я вздохнула глубоко и прерывисто, словно выполнив то, что внушило мне стихотворение. А оно было не более чем невинной игрой слов.
Теперь, через много лет, я могла бы объяснить светловолосому доктору причину своего непреодолимого порыва. Когда я декламировала греческую молитву, смысла которой не понимала, то почувствовала, как ее ритм совпадает с ритмом того детского стихотворения, и подумала, что эротизм живет в повторах, в соседстве и соединении слов, а смысл этих слов не имеет значения. Мой юный приятель так и не понял тогда, чту вызвало у меня внезапную страсть, а женщина, глядевшая на нас в окно, поспешила войти в дом, чтобы скрыть смущение, и забыла на улице белье, которое собралась развесить.
Может быть, когда в вену вливалась теплая жидкость, лишая всякой способности сопротивляться, мне грезился Ахмед. Временами я думала, что он призрак: казалось, его никто не видит, словно, находясь рядом с ним, я ходила по городу одна. Но в Отранто это бывает, особенно с такими персонажами, как Ахмед, старик из Галатины и еще многие, что появлялись, будто кто-то их посылал. Потому что каждая пластинка мозаики имеет близнеца за пределами соборного портала, и между ними существует своеобразная игра соответствий. Мне не забыть, как однажды вечером он сказал с заговорщицким видом, словно дразнил меня и хотел напугать: «До самого прошлого века сразу за стенами города царило запустение, это место считалось гиблым. Я хорошо помню. Отранто на века сделалось опустевшим коридором, населенным призраками. Теперь здесь есть живые, которые без конца о них рассуждают, потому что не знают, где их искать».
Он так и сказал: «Я хорошо помню». Но я не испугалась, наивно полагая, что сортировка мозаичных пластинок спасет меня от смутной тревоги.
О, если бы я мог, я бы сам убил ее. Я бы увез ее в море и дождался бы, пока крики чаек не увлекли ее на дно. И смотрел бы, как она уходит на дно. Пусть подводное течение, бормоча, освежует ее кости.
Я бы увез ее в это враждебное море, заставив подчиниться. И она дала бы себя увезти, не говоря ни слова. Как всегда, еле взглянув на меня.
Но море окрасилось в цвет молодого вина, и в воздухе пахло кровью. Чайки куда-то исчезли, Остались только крики палачей и их жертв, которым, перерезали горло. И уже невозможно было определить, чего в этих воплях было больше: скорби или тревоги, жестокой радости убийства или боли и ужаса при виде собственных выпущенных кишок.
Я и теперь чувствую, как улицы покрываются холодным потом тех, кто вопреки всему цеплялся за жизнь.
Но для нее я хотел бы смерти в море. Я бы молил того, кто умеет вращать штурвал и удерживать бейдевинд [4] : не дай ей умереть так ужасно!
III
Мои часы отбивают секунды в тишине. Я подношу руку к самому уху, чтобы лучше расслышать легкое тиканье, потому что здесь время, кажется, не существует, и часы — это единственная зацепка за реальность. Здесь время неподвижно и обладает плотностью. Здесь время — монолит, превращающий часы в бесполезную игрушку, пригодную разве что для того, чтобы услышать ровное тиканье.
Я его слышу. В нефах собора каждый звук гулко отдается и усиливается. Часы нужны мне для напоминания, что время существует, хотя все говорит об обратном. Только свет дает нам понять, что время все-таки движется. Здесь жизнь далека от размеренности, она протекает в рывках и остановках, в спешке и долгих, томительных ожиданиях. Время сразу и бежит, и стоит на месте. Я гуляю среди олив, и мне не приходит в голову поинтересоваться, который час. Может, пора в собор? Может, меня уже хватились и думают, что я заблудилась или превратилась в обитательницу здешних мест, где все теряются и находятся, что, в сущности, одно и то же?
«Там какие-то синьоры вас ищут», — обратилась ко мне вчера незнакомая женщина, остановив меня на мосту через Идро. От испуга я даже не посмотрела на нее. Неважно, поверят ли мне, и значат ли что-нибудь эти строки, если об этом вообще можно писать, или все это самообман, и я пытаюсь своими записями привести в порядок смешавшиеся мысли. Старик из Галатины сказал мне, что за реставрацией наблюдают те, кто умеет появляться в церкви бесшумно и исчезать без предупреждения.
Что я должна была ответить в тот день, когда у меня устали и заболели глаза, пока я, прежде чем отделить фрагмент мозаики, трудилась над его графическим рельефом, и услышала, как мне говорят: «Тринадцать месяцев я был в рабстве»? Я обернулась, но за мной никого не было. Однако голос еще разносился до самой абсиды. Кто произнес эти слова Тринадцать месяцев я был в рабстве? В соборе всегда полно каких-то теней, но в этот раз не было ни одной. Один из техников, работавших со мной, остановился, словно чему-то удивившись, поглядел на меня и спросил, не надо ли мне помочь. Может, мне плохо? Наверное, я сильно побледнела при виде маленького худого человека, похожего на священника. На вид он казался очень старым и прихрамывал. Я пыталась подойти к нему, но он, улыбаясь, все отступал и отступал, а потом забормотал что-то непонятное, но постепенно слова начали обретать смысл. Теперь он почти кричал: «Больше меня не возьмете, больше меня не возьмете!» и бросился бежать, несмотря на свой преклонный возраст. Я огляделась, но никто не стронулся с места, все были заняты работой, как ни в чем не бывало. Тогда я тоже побежала по правому нефу к капелле Мучеников. Решетка входа была заперта, и я, ухватившись за железные прутья, увидела его внутри капеллы. Он стоял на коленях перед аккуратными рядами черепов. И тут я впервые испугалась при виде сотен пустых глазниц, уставившихся на меня из-под стеклянных колпаков витрин. Я закричала, но никто не отозвался. Крикнула еще раз — снова тишина. Вдруг стало темно, розетка фасада почернела, и было непонятно, наступила ночь или это дневной свет переменился с такой скоростью. И тут я проснулась, в поту и ознобе, и бросилась зажигать все светильники, какие были в доме, потом подбежала к окну, выходившему на площадь. Не знаю, который был час. Стояла тишина, только тиканье моих часов, назло собственной кварцевой точности, утверждало, что время не движется. На ярко освещенной площади темнел опустевший собор, каменная стена церкви отбрасывала желтоватый отблеск. Не помню, знала ли я к тому времени, что однажды ночью 1481 года сквозь розетку собора виднелись блуждающие огни над телами мучеников, которые велел снести в собор освободитель Отранто, герцог Калабрии. Да это и неважно. Я об этом даже не думала, и, когда почувствовала, что успокоилась и обуздала свои кошмары, выглянула в окно. Через площадь медленно шел человек. Это был маленький хромой священник в капюшоне. Я вздрогнула и стала ждать, когда он обернется и посмотрит вверх, на мои окна. Я была уверена, что посмотрит. Но он не обернулся и исчез в глубине улочки, ведущей к замку. На часы я так и не взглянула. На следующий день, конечно, нашелся кто-то, кто объяснил мне, что здесь знают старого священника. Он живет в городе и по ночам любит расхаживать и молиться. Ничего странного или тревожного. Я осторожно спросила у главного управляющего, не случалось ли кому-нибудь другому что-то слышать или видеть, как за нашей работой кто-то издалека наблюдает, словно храня мозаику. Он взглянул на меня строго: «Не верьте россказням и старайтесь думать только о мозаике». И я стала думать о мозаике, о том, как восстановить недостающие фрагменты, словно в этом было мое единственное спасение. Я начала убеждать себя, что только удачная реставрация может оправдать кощунство, состоявшее в том, чтобы изъять кусочек мозаики, очистить его и потом вернуть на место.
Этими строками я пытаюсь зачеркнуть время. Есть только свет, который властвует в Отранто, как алхимик властвует над элементами. Словно освободившись от остальных чувств, я выстраиваю свои мысли согласно законам цветовой гаммы, а не законам хронологии. Что же такое произошло в первые дни после приезда в Отранто, когда я еще не успела даже разобрать чемоданы? А произошло вот что: я стояла на площади у музейного садика, и вдруг мне показалось, что колокольня загорелась, и огонь перекинулся на соседние дома и на церковь, и, как это часто здесь бывает, отчаянно громко засвистел ветер. С этим эпизодом явно находился в прямой связи другой эпизод, произошедший много позже. И если о встрече со стариком из Галатины я уже рассказывала, то о галлюцинации пожара — еще нет. Оказывается, я мало что помню из этой галлюцинации: не исключено, что на доли секунды я потеряла сознание, и потом изо всех сил старалась проснуться, как от кошмара. Солнце резало площадь на одинаковые полосы: свет — тень, свет — тень, и время было то же, и цвета те же, даже цвет моего платья. Да нет же, нет, в этих строках времени не существует, как не существует его в Отранто. Все остановилось 12 августа 1480 года.
Как кричат журавли, ныряя в теплые воды Нила? Мне никогда не приходилось слышать. Тесные ступенчатые переулки, способные заморочить и закружить тебя, молчат. Им нет конца, пространство в них может расширяться и сжиматься, и они извилистыми тоннелями все равно выведут в одно и то же место, потому что Отранто — город маленький, гораздо меньше, чем кажется на первый взгляд. Когда идешь по нему, трудно отделаться от впечатления, что улочки постоянно преображаются, меняя свой вид. На самом же деле меняется освещение.
Бродя по Отранто, я все время ловила себя на том, что воспринимаю его в двух измерениях, словно двигаюсь по двум параллельным колеям. Раскладывая пластинки мозаики в соборе, я время от времени уступала желанию вырваться и сбежать. Но чаще, чтобы отдохнуть, наблюдала за светом, проходившим сквозь розетку на соборной стене. Он казался мне потоком воздуха, который можно вдохнуть. Я как будто всегда знала, что именно среди этих камешков найду ответы на мучившие меня вопросы. Почему я оказалась в Отранто? Случайно ли здесь, на кусочке земли, оторванном от Востока морем, постоянно меняющим цвета, понадобились мое ремесло и мои руки? Или было что-то еще? Еще моя прабабушка рассказывала о каком-то нашем предке родом из Отранто. Когда я девчонкой приставала к отцу с требованием показать, где находится на карте Отранто, он смеялся, что в моей настырности чувствуется итальянская кровь. Едва почувствовав, что уже могу что-то решать сама, я, не колеблясь, выбрала местом учебы Флоренцию. Я ехала туда поездом, по дороге даже не глядя на названия станций и городов, и мне было все равно, откуда я попаду в город. На самом деле мне очень хотелось поехать морем и войти в город из порта. Никакой другой город не мог быть для меня лучшей прелюдией к Отранто. Потом оказалось, что это иллюзии: Отранто — вовсе не город на море, это город с морем. После высадки турок рыбаки покинули свои лодки. Те, что остались в живых, ушли в глубь материка, стали возделывать землю и не могли смотреть на море без страха. Тот же страх охватывает порой и сегодня, когда всматриваешься с высокого утеса в линию горизонта и ждешь, не покажутся ли неотвратимо приближающиеся черные точки: тогда времени хватит только-только, чтобы подать сигнал тревоги. Однажды, проходя возле кафедрального собора, я услышала сухой лязг дверного засова, который закрывали изнутри. Я вздрогнула: сколько раз этот звук предварял тревожную тишину, сколько раз резко вдвинутые в петли засовы делали старые дома неприступными маленькими крепостями! После 1480 года турки здесь не появлялись, и теперь сторожевые башни годились разве что для расселения мертвецов, которые могли бродить беспрепятственно, словно знали, что никто их больше не потревожит.
Сколько же времени должно было пройти, прежде чем немногие уцелевшие жители испуганно и нерешительно выглянули из дверей? Высунуть нос на улицу стало действием почти ритуальным, как заклинание. Показаться означало, во-первых, побороть страх, а во-вторых — отсечь все сомнения. Они больше не придут. Остался только свет клонящегося к закату дня. Свет падал чуть снизу, придавая всем предметам необычный ракурс. Лица смотрелись усталыми, глаза печальными. Это не была печаль воспоминаний или сожалений; просто свет так распорядился лицами. Он струился потоком, он был объемен; его можно было разглядывать, как пейзаж, не заслоняясь, не боясь ослепнуть. И от его прикосновения, скрипя и шурша, откатывались от дверей защищавшие их бревна, и стук засовов сменялся осторожными, испуганными шагами горожан. В этот час свет, ослабев, не мог уже проникать сквозь розетку, и собор погружался в темноту. Цвета мозаики блекли, и она плохо читалась. Только отдельные фрагменты фигур почему-то светились то ли сами по себе, то ли вбирали свет непонятно откуда, и это было одним из чудес кафедрального собора. По велению судьбы каждый час каждого светового дня высвечивалась только одна определенная сцена.
Я приехала поездом. И когда, сойдя в Лечче, спускалась на машине в Отранто, то увидела город без солнечного освещения. Такие дни случаются редко. Отранто предстал передо мной таким, каким потом я видела его всего считанные разы. Весь остаток моего первого дня город бил погружен в серую, временами почти черную мглу, не про пускавшую ни лучика. Сразу пошел сильный дождь, порывы ветра наполнились запахом дождевой воды, соли и моря. Одежда прилипла к телу, по спине побежали струйки воды, а мне вовсе не было неприятно, напротив, я испытывала чувственное удовольствие от соленого мокрого ветра и от теплого ручья, бегущего между лопаток, Я почувствовала себя счастливой и рассмеялась. Должно быть, те, кто встречал меня, решили, что я чудачка. Казалось, вода сейчас смоет меня, я промокла насквозь, ко даже не пыталась спрятаться. Вода словно струилась и с неба, и из-под земли. Отранто устроил мне своеобразное крещение. Я попросила, чтобы меня сразу отвезли в собор, и там ручьи с моего платья, с мокрых волос и туфель потекли по мозаике. И я увидела, что два слона, державшие древо жизни, которые казались черными, поскольку из-за непогоды свет вообще не проникал в собор, вдруг приобрели красноватый оттенок. Такой оттенок имеет здешняя земля. Я успела это разглядеть из окна автомобиля, подъезжая к Отранто, и буря, атаковавшая его, показалась мне добрым предзнаменованием.
Я сказала: судьба. Я и теперь так думаю, когда все уже позади, все кончилось. Хотя места, подобные Отранто, ясно дают понять, что все в этом мире непрерывно и ни имеет ни начала, ни конца. И все остается, как есть, словно и не должно меняться, все застыло, как взгляд моего белокурого доктора, который открыл передо мной дверь, сказав, что я могу идти. И я, нетвердо ступая, пошатываясь и вздрагивая, шагнула в мир. Говорят, солнце шутит скверные шутки, и я ничего не видела, пока не добралась до дому и не спряталась в нем. Я боялась света, боялась всего, мне хотелось остаться там, куда свет и тень могут проникнуть только в согласии с цветом: в моем соборе, который умеет разрезать свет на тонкие лучики сверкающих пылинок. Они висят в воздухе, вращаясь и образуя солнечные системы, складываясь в маленькие галактики, чтобы сразу же снова рассыпаться и соединиться по-новому. Когда во время работы мне случалось оторвать взгляд от мозаичного пола и посмотреть вверх, я словно растворялась в клубах светящейся пыли, которую мы поднимали. Микроскопические кусочки снятой мозаики поднимались в воздух и сливались со светом, и свет, изменивший и перевернувший мою жизнь, казался мне материальным, состоящим из крошечных телец, летящих мне навстречу и обволакивающих собою.
Я ощупью, с закрытыми глазами спускалась по лестнице, ведущей с холма Минервы к городу. Я боялась, что закружится голова, меня пугал свет: теперь он стал для меня материальным, и я отступала перед ним. Доктор сказал: «Можете идти». Можете идти. Он выпустил меня на свободу, сделав тем самым заложницей беспорядочных мыслей, которые мне никак не удавалось собрать воедино. У меня в ушах еще звучали голоса, спорившие в соборе о том, каким должен быть утерянный кусочек мозаики: «Это ультрамарин, здесь нужны гидроксид алюминия, сода и сера». А для Марсовой желти[5] нужна осажденная окись железа. Как же отмыть этот красновато-коричневый? Есть еще один коричневый цвет, цвет Ван Дейка, он требует сульфата обожженного железа. Я вспоминала все краски, названия которых утеряны, потому что их трудно различать. Вглядываясь в них, мы все думали, что цвета мозаики различимы, а на самом деле свет, обволакивавший меня, мог превратить киноварь в зеленый, а зеленый в цинковые белила. Он мог ввести в заблуждение. И вокруг этих заблуждений всегда вспыхивали споры. Два слона над латинской надписью, которые символически держат на себе весь рисунок напольной мозаики, в мой первый день здесь смотрелись черными, а потом, омытые водой, обрели красноватый, я бы сказала, карминный оттенок. Увидев эти переливы оттенков, я вспомнила об отце. Он был настоящим церемониймейстером всех в мире красок, жрецом исчезнувшей религии.
Краски. Кармин. С детства я знала их все. Отец оторвался от рисунка, внимательно на меня посмотрел, улыбнулся и спросил: «Велли, какой цвет тебе кажется ярче всех?». Я показала на красный. Тогда он сказал: «А знаешь, из чего делают краску? Из самки маленькой мушки, она живет далеко, в стране, которая называется Мексика. Это редкая краска, потому что она волшебная, с годами она меняет оттенок. Это цвет живой». Я спросила, близко ли Мексика от Отранто. Он посмотрел на меня серьезно: «Конечно, близко. У них одинаковые цвета, а ведь цвета сближают разные страны».
Отец был первым, кто открыл мне эти края. Он ни разу здесь не был, но рассказывал так, будто прожил в Отранто годы. Это стало нашей любимой игрой. Чем больше я спрашивала, тем больше он фантазировал: то в городе были огромные белокаменные ворота, изумлявшие туристов; то ворота, наоборот, были маленькие и такие низкие, что, не согнувшись, не войти; то ворот вовсе не было, а был лишь один выход к морю. Он рисовал и говорил, говорил, а я слушала. «Нарисуешь мне эти ворота?». И он отвечал: «Много лет назад я обещал твоей маме, что никогда не поеду в Отранто и никогда не буду его рисовать». Я всякий раз спрашивала: разве обещание действует, если человека уже нет? Мне было непонятно, почему мама не велела рисовать. Все это сделало Отранто для нас заколдованным местом, которое лучше было лишний раз не упоминать.
Когда я в первый раз въехала в город через Альфонсинские ворота, для всех я была просто дамой, приехавшей издалека, из другого мира, чтобы изучать и реставрировать мозаику. Но довольно быстро я начала понимать, что, хотя и приехала, действительно, издалека, но ни в коей мере не из другого мира, и что многие здесь знают это гораздо лучше меня. С детства я чувствовала связь с этой землей. Отец всегда знал, что я, рано или поздно, сюда доберусь. Мама однажды не вернулась домой; последний раз ее видели на дороге, ведущей к маяку. Это случилось в послеполуденный час пасмурного дня, шел дождь, море штормило. Потом одни говорили, что ее унесло море, другие — что она сбежала с иностранцем, недавно появившемся в городе. А отец сказал, что он догадывается, в чем дело: здешний свет ей не годился, ее тело теряло форму, исчезало. И куда бы она ни ушла, это обязательно должно быть место, где свет ярок и все цвета насыщенны. Отец никогда не рисовал маму. Только на одной из картин мне показалось, что я узнала ее среди фигур заднего плана. Но это было мимолетное впечатление. Мама, как и я, была светловолоса и светлоглаза, и все говорили, что она появилась издалека.
Сквозь щель приоткрытой двери виднелся кусочек стены старинной церкви Сан-Пьетро с маленьким окошечком, из которого тянуло морем. Стояла странная тишина, все будто замерло, и был слышен только скрип дверных петель.
Я подумал о ней. Теперь мне было знакомо то, что думают о женщинах мужчины, для которых привычка уже сама по себе утешение. Этой мысли мне было достаточно, чтобы вернуться, а ей — чтобы подчиниться.
Дверь была открыта. Я быстро повернул обратно в дом и почувствовал, как в спину мне ударил ледяной ветер. Откуда такой холод в жаркий летний день?
Ужас может остановить время навсегда. Он заставляет его двигаться по кругу и неустанно грохочет в мозгу, не давая забыться. Воспоминание рождается с солнцем, на закате обманчиво исчезает, а с рассветом появляется вновь, как и в первый день, и так без конца.
В то утро я вышел из ее дверей после того, как она подарила мне ночь. Я хотел, чтобы она дарила мне все свои ночи. Но я был знатен, а она простолюдинка.
IV
Я увидела его в един из тех дней, когда, на первый взгляд, ничего особенного не происходило. В Отранто так бывает: все вдруг точно впадает в оцепенение, жизнь останавливается. Даже время для любви в Отранто, кажется, еще в незапамятные времена было определено высшей силой.
Я увидела его… Если это действительно был он, то был он плечист, легок и чуть сутуловат; он стоял ко мне спиной, облокотившись о парапет, огораживавший фасад замка. Он вполне мог сойти за одного из туристов, которые останавливались здесь, чтобы полюбоваться панорамой. Но, как только он обернулся, у меня сразу возникло ощущение, что этот человек, которого я раньше ни разу не видела, был со мной всегда. Никто, казалось, не замечал человека, незрячим взглядом скользящего по замковому фасаду. Я окончательно убедилась, что это не турист, когда какая-то девочка направилась в его сторону, подошла к парапету, облокотилась, посмотрела вниз и отошла, как ни в чем не бывало. Она оперлась о парапет как раз в том месте, где стоял он, и не увидела его, будто его и не было. Я сидела за столиком в маленьком баре и во все глаза глядела на его неподвижную фигуру, силясь понять, откуда он взялся. А потом, как это часто бывает, поднос с бокалом, улыбка официанту, я чуть отвлеклась — и он исчез. Все как будто осталось на своих местах, как в прерванной шахматной партии, когда кто-то украл с доски одну из главных фигур: без короля партии нет, играть нельзя. Тут официант загородил мне окно, и я привстала, чтобы разглядеть неподвижную фигуру у парапета. Но там никого не было. Я опустилась на стул, смирившись с правилами неизвестной игры, которые мне когда-то объясняли, и я это смутно помнила, но взять в толк не могла. Куда же делся этот человек, если он вообще куда-то делся? Точнее — как возможно исчезнуть в никуда среди бела дня? Козимино, здешний обитатель, который зимой бездельничает, а летом возит туристов вдоль берега на маленькой шлюпке, утверждает, что видения в Отранто — не что иное, как средиземноморские миражи, порождения света. Со временем так привыкаешь к прозрачности здешнего воздуха, что начинает казаться, будто ясное видение указывает на особое знание. Козимино возит туристов до самого порта Бадиско, а иногда и до грота Дзиндзулуза, где кричат летучие мыши. По его мнению, солнце порой не может пробиться сквозь облака и размазывается (он так и говорит — размазывается) по ним. А облака, задерживающие солнечные лучи, нагреваются, распускаются и порождают теплые испарения. Потом эти испарения становятся туманом, который заволакивает землю, и она словно плавает в молоке и выглядит нездоровой. Вот в эти-то дни, когда лето забывает, что оно лето, и появляются чудеса. Козимино называет это чудесами. Он говорит, что настоящие путешествия начинаются по ту сторону «Плотины восточного табака». «Синьора, мозаика пока спит, нынче уже никто не умеет ее прочесть. Поверьте мне, все свои тайны монахи и по сей день прячут в подземных и подводных гротах». Козимино худой и смуглый, его голову всегда венчает вылинявшая синяя кепка, нечесаная борода топорщится, один глаз чуть-чуть меньше другого, поэтому всегда кажется, что он прицеливается. Лет ему немного, вряд ли больше тридцати. Зимой к неизменной кепке прибавляется широченная фуфайка; полотняные штаны остаются те же.
Козимино стоял возле замка и делал мне знаки, указывая на кого-то на другой стороне улицы. Я поглядела на него в недоумении, и мне на память снова пришел мой незнакомец и «молочное» небо Козимино. Однако ни цвет, ни освещение в этот день не предвещали никаких «чудес», хотя с неба изливалось что-то неуловимое, словно острый сок, привкус которого явственно ощущался в горле.
Я встала и побрела по направлению солнечных лучей искать незнакомца. Свернув в крошечный переулок, такой узкий, что он казался входом в дом, я спустилась вниз на две каменные ступеньки и заглянула дальше. Там, в глубине, сияло море света. Я же двигалась в тени, и эта холодная тень оставляла на коже странное ощущение, словно я шла по невидимому сырому подземелью, и при этом знала, что сюда меня перенес незнакомец, и улочка известна только ему. А в конце улочки сияло море, очень похожее на то, которое я видела каждый день, выходя из собора. Море казалось раскаленно-белым, как серебристо-белая краска, о которой отец всегда говорил, что она была бы хороша для копий Рубенса. Однако один из его друзей по неосторожности отравился ею и умер. Отец сам не пользовался белой серебристой, но рассказывал, что Рубенс умел довести этот белый цвет до такой ослепительности, что рядом с ним все белые краски казались серыми: «Это не я говорю, это сказал Ван-Дейк, а он знал толк в красках». Меня с детства околдовала эта сверкающая краска, которая ложилась очень ровно и не смешивалась ни с какой другой. Я знала, что ее пыль опасна, и растирать ее надо очень осторожно. Прежде чем использовать эту краску, венецианцы около года выдерживали ее на воздухе. Уже потом, в Венеции, я узнала, что белая серебристая — это карбонат свинца[6], и что со временем она темнеет. Когда названия красок еще ничего мне не говорили, и я воспринимала цвета через детали картин, этот белый связывался у меня с белизной манжет «Продавца воды из Севильи» Веласкеса.
Стена, которой сейчас касается мое плечо, цвета той же белой серебристой краски, разбавленной льняным маслом. Краска может потемнеть, если ее долго держать на воздухе, но способна и сохранять цвет, как никакая другая. Я повернула, шагнула в ослепительно белый свет и увидели незнакомые дома, зеленую дверь, маленький сад за стеной и дерево… Какая удивительная тишина! Слышится только голос Козимино, который повторяет: «Синьора, только скажи мне, и я отвезу тебя до самого порта Бадиско, если захочешь». Но Козимино рядом нет. Я петляю по незнакомым улочкам, и, через несколько мгновений, снизу, с бастионов, доносится шум прибоя. Где я? Сквозь короткий переулок снова выхожу на свет. Почему никто не попадается навстречу? Нет, вот кто-то хорошо одетый наклонился над парапетом и смотрит в море. Это снова он? Или кто-то другой? Я делаю шаг в его сторону и слышу голоса. Люди здороваются со мной, дети затевают игру. Я боюсь о чем-то догадаться, и мой страх похож на белую серебристую: он такой же густой и вязкий и так же плотно покрывает все вокруг себя. И он так же ядовит, даже если его целый год выдерживать на воздухе, как поступали венецианцы, часто доплывавшие до этих краев. Ветер в корму им дул тот же, а вот свет был другой.
«Синьора, только скажи мне…», — повторяет Козимино с деликатностью, отличающей местных жителей. Козимино относится ко мне, как к иностранке, и смотрит своими разными глазами вкось, как бы давая понять, что ни за что не отвечает. Белая серебристая… «Берегись этой краски, насколько можешь, ибо с течением времени она чернеет» — предупреждает Дженнино Дженнини.
Берегись, насколько можешь… Белизна домов, сверкание камней — все почернеет и перестанет пропускать свет. Краски Отранто, с его белой серебристой и с мрачными, темными бастионами, вообще не прозрачны. Чтобы получить темно-коричневый тон для бастионов, надо смешать сажу, воду и гуммиарабик. Этой краской пользуются, чтобы передать фактуру камня или наметить контуры на большой картине. Отранто с моря — это темно-коричневые бастионы, а дальше, до самого холма Минервы вверх — серебристо-белая краска колокольни, кафедрального собора и домов. Все это вместе смотрится, как незавершенный, забытый набросок.
Снова стало тихо. Я вглядываюсь в море и чувствую, что незнакомец облокотился о парапет рядом со мной. Медленно, не поднимая головы, поворачиваюсь, и вижу его ослепительно белую неглаженую рубашку из грубого полотна. Я стараюсь разглядеть его получше, но освещение искажает цвета и объемы предметов и сбивает меня с толку. Не могу определить ни какого он роста, ни какое у него лицо. Замечаю только, что лицо не вбирает свет, а глаза на лице не смотрят. И как только я понимаю, что это лицо лишено и света, и взгляда, меня охватывает страх. Я пытаюсь отодвинуться, но боюсь, что он заметит. Он стоит неподвижно, только пальцы правой руки слегка постукивают по парапету. Я уверена, что он ждет, чтобы я с ним заговорила. Вдруг он чуть поднимает голову, будто заслышав какой-то звук. Издалека действительно донесся голос, и его беспокойство сразу исчезло. Пальцы перестали барабанить по парапету, напряженная поза умиротворенно обмякла. К нему подошла пожилая женщина, которой я раньше никогда не видела, тихо окликнула по имени, взяла под руку и подала ему тонкую белую палку. Они медленно прошли мимо меня. Она меня словно не увидела, а он повернул ко мне незрячее лицо и улыбнулся. И сразу оглушительно зазвенели детские голоса, которые я перестала слышать, пока разворачивалась вся эта сцена. Мне казалось, что они куда-то пропали, но, скорее всего, это я вошла в другое измерение.
Значит, слепой… Слепой, который один, без палки, передвигается по тесным переулкам. И маленькая старушка, которая видит и замечает только его. И детские голоса, которые смолкают именно тогда, когда эта пара проходит мимо меня. А потом снова звенят с прежней силой. Как могут дети все сразу, в один миг, перестать бегать, играть и кричать? Чушь какая-то!
Пожалуй, я и об этом расскажу белокурому доктору со светлыми, как у меня, глазами. Я ему все повторяю, что его можно принять за голландца. Он качает головой и объясняет, что его предки во втором колене происходят из Нардо, а в третьем — из Стернации. А дальше он не помнит. Но в Саленто были и норманны.
Наивный человек, это он мне говорит, что здесь были норманны! Надо бы ему объяснить, что в моем недомогании виноваты и его норманнские предки. Разве не от них я унаследовала белую кожу и светлые волосы? Мозаика явно сложена рукой норманна. Может, норманны пришли из Сицилии. Падре Панталеоне, скорее всего, пользовался их советами. На огромном мозаичном ковре для молитвы, предназначенном для неграмотных прихожан, попадаются темы, фигуры и сюжеты, о которых до той поры никто не слышал. Король Артур. Никто во всей Европе тогда не знал о короле Артуре. Традиция гласит, что первое упоминание о нем относится к началу XIII века. А здесь, на краю земли, посередине между Римом и Византией, король Артур упоминается в 1165 году. Это, несомненно, одна из загадок мозаики. Кто привез сюда эту легенду, и кто решил, что она должна стать частью грандиозной религиозной эпопеи, выложенной на полу кафедрального собора? Ответа на этот вопрос не существует. Моя мозаика их не дает, да и я, перебирая ее кусочки, не задаюсь мыслью, что они должны означать. Только выйдя из собора, освободившись от потоков света, выхватывающих каждый раз новую часть мира, я могу спросить себя, что же означает это грандиозное произведение, которое я призвана пробудить от векового сна.
Ахмед говорит о столетиях так, словно он их знает наизусть и прожил все разом. Он не то, что Козимино. Он не предлагает прокатить меня в лодке вдоль берега. Ахмед иностранец, он думает, как иностранец, и его глаза, кажется, могут останавливать все вокруг, впитывая свет. Думаю, что, если бы он только захотел, то смог бы затенить самое небо, ясное, сверкающее небо. Ахмед появляется тогда, когда меньше всего его ожидаешь. Вот и сейчас: он сидит за столиком маленького бара у края бастионов. Я издалека его разглядываю, но он, кажется, меня не видит. Временами Отранто кажется городом слепых. Как незнакомец, что только что ушел, все опасаются глядеть в глубину, боятся горизонта. Поэтому рыбаков так мало, и лишь очень немногие выходят в море. Даже Козимино, который живет в лодке и рассуждает о береговой линии и гротах, о мысах и причалах, никогда не отрывает глаз от земли и поворачивается спиной к голубой линии горизонта, словно боится ее. Ахмед вообще не смотрит ни в какую сторону, он задумался. Я окликаю его, он улыбается. Эту улыбку я никому не могла бы объяснить, даже светловолосому доктору. Ахмед улыбается только половиной рта, другая половина остается неподвижной. Он говорит, что у него не действует один из лицевых мускулов. И еще он говорит, что на свете мало кому стоит улыбаться. Улыбка Ахмеда, скорее, напоминает гримасу, чем улыбку. Я подхожу к нему. Он перестает задумчиво глядеть в пустоту и делает вид, что только сейчас меня заметил. Но я знаю, что это он, правда, не понимаю пока, каким образом, командовал издалека сценой с детьми, которые разом замолкли, и стало слышно, как хлопает крыльями пролетевшая птица, и как с точностью часового механизма стучит о камни палка. Как сказать ему, что я догадалась? И что он сможет мне ответить? Угостит кофе?
Ну да, он угостил меня кофе, и чары развеялись. Все снова стало на свои места, все успокоилось.
«Что, пол останется вовсе без мозаики? Вы ее всю снимете? Ничего не оставите?».
Возможно, под мозаикой падре Панталеоне сохранилась римская или греческая мозаика, может, там есть захоронения. Конечно, все потом будет уложено, как было. Ахмед сгорает от любопытства: ему не терпится войти и самому все увидеть. Он называет это вернуться назад во времени. Далеко назад.
«Велли, а ведь турки не разрушили мозаику. Даже после того, как превратили собор в мечеть. Потому что в мозаике было предсказано, что они придут, и они умели ее прочесть».
Кто сказал об этом Ахмеду? Все это легенды, сказки, в которые, однако, рано или поздно я все равно поверю. Что они могли прочесть, эти люди, не знавшие жалости? И что же было начертано в мозаике? Спрашивать Ахмеда бесполезно, он сам ничего не знает. Он болтает без конца, потому что не знает, что сказать дальше. Однажды я спросила его о том, о чем без опасений могла спросить и у своего доктора. Я его спросила, понимает ли он, о чем говорит, и зачем он морочит мне голову своими сказками. И еще попросила больше меня не пугать, я и так еле живая от слабости. Он опустил глаза и заметил, что Отранто такой город, где невозможно жить без некоторой доли страха, и что я привыкну. Привыкну и к серым мозаичным плиточкам, составляющим фон, и к черно-коричневым, очерчивающим контуры фигур. Цвет в мозаике задается типом камня. В живописи контуры обводятся сепией и временами дают золотистый отсвет. Издавна по всему побережью Адриатического моря, отсюда до Венеции, торговали коричневой сепией, красящим веществом, которое получают из внутренностей моллюска. Коричневая сепия боится света, и ее лучше не смешивать с маслом. Я тоже боюсь света, вернее, научилась его бояться, когда он обманывает. Ахмед, правда, говорит, что свет не может обманывать, а если и обманывает, то только непосвященных. В одной из сур Корана говорится, что Бог имеет шестьдесят покрывал из тьмы и света, и если он их сбросит, то нестерпимый свет, исходящий от Его лица, может испепелить каждого, кто взглянет на Него.
Мне покоя не давал мой незнакомец. Что меня в нем так поразило? Как сумел он один, без палки, так быстро добраться сюда от самого замка? Ахмед веселился каждый раз, когда я не могла найти сносного объяснения очередному чуду. Казалось, он являлся именно для того, чтобы это объяснение преподнести. А на самом деле его соображения были еще менее убедительны, чем мои: «Ты не видишь это море по-настоящему, как не понимаешь до конца свою мозаику». Может, и слепой был загадкой только для меня, и больше ни для кого. Ясно, что я не могла знать в лицо всех обитателей Отранто. И ни к чему так волноваться, всему есть свое объяснение.
Все в порядке. Так, наверное, хотел сказать мне мой белокурый доктор, когда я говорила с ним, как со священником на исповеди, с той только разницей, что смотрела ему в глаза. Но не сказал. Он нервничал, выглядел озабоченным. Что ж, и такие рационалисты, как он, твердо уверенные в правоте рассудка, могут волноваться. Он, всегда такой спокойный, ясный, гордый своими снадобьями, казалось, понял меня.
Ахмед нагромождал сомнение на сомнение, неуверенность на неуверенность. И жители маленького приморского города начали наперебой давать ответы на вопросы, которые я сама еще не могла сформулировать. Ахмед настаивал на своем: «Иногда свет обжигает глаза, и надо остерегаться ярких бликов на поверхности воды». Ему вторил доктор: «Случаи слепоты на маленьких островах бывают чаще, чем где бы то ни было, особенно у старых рыбаков. Если годами смотреть на яркие солнечные блики на воде, то сетчатка глаза может пострадать. Мы живем не на острове, но и здесь яркий свет может нанести немалый вред».
А как же шестьдесят покрывал, или шестьсот, или шесть тысяч, как гласят другие источники? Или это всего лишь ученая цитата из Корана? И кто улыбнется в ответ на мои соображения? Ахмед, который рассказывал об арабских мудрецах, или белокурый доктор, утешавший меня своими клиническими случаями? А может быть, Козимино? Бывали дни, когда он жаловался, что не видит уже так хорошо, как раньше, и не рискует больше поворачиваться к горизонту, к открытому морю. Есть еще и мой слепой, высокий старик с белыми зрачками, который быстро передвигается по городу, ощупывая стены, и способен остановить все вокруг себя. Встречи с ним были коротки, но ощущение возникало одно и то же: вокруг него все замирало, и каждый раз казалось, что он меня видит. Всего лишь раз я собралась заговорить с ним, но слова застряли в горле, словно мне не хватило дыхания, чтобы их озвучить. Я всего лишь смогла угадать его улыбку, и все. Позже я узнала, что это церковный органист, который давно уже не играет. Он мог довольно быстро ориентироваться в городе, потому что его глаза еще смутно различали свет, и он шел всегда по направлению светового потока. За все это время мне ни разу не удалось услышать его голос, и он никогда не играл на органе в моем присутствии. Только однажды мы услышали звуки органа, и все, как по команде, повернулись: было непонятно, каким образом мог кто-то проникнуть в собор, пока там шли реставрационные работы. Сколько времени играл органист — не могу сказать. Потом он удалился, и никто из нас не осмелился его догнать. Мы все словно приросли к месту. Не могу сказать с уверенностью, был ли это мой незнакомец. Музыку я узнала: он играл Прелюдию, фугу и вариации Сезара Франка. Кто еще, кроме городского органиста, мог в Отранто так хорошо сыграть эту музыку?
Не могу сказать, что было тому виной — кипящее масло или душевная боль, только солнце будто заволокло туманом. И я перестал различать предметы. Медленно, шаг за шагом, мир, а вместе с ним и моя память, погружались во тьму.
Никто не похитил ее. Но я знаю, что она даже не вскрикнула, все произошло мгновенно. Один из них перерезал ей горло. И кровь, забившая фонтанчиком, погасила ее невероятные глаза.
Меня не было среди мучеников. Я не удостоился великой чести быть обезглавленным на холме Минервы. Мои кости не хранятся в кафедральном соборе. Я жил потом еще долго. Но в тот день я искал ее, а вокруг меня была только кровь. И только спустя какое-то время, когда я еще даже не думал о побеге, я почувствовал, что мои глаза сожжены, и я ничего не вижу.
Не знаю, кто отнял у меня зрение, может, и какой-нибудь турок. А может, вор, который обыскивал меня сонного в поисках золота.
Больше я не видел света. Для меня наступила ночь, похожая на бесконечный день. И я получил страшную привилегию смотреть в лицо этого дня сквозь все шестьдесят покрывал.
V
Я не ходила больше по дороге в Нордвик, которая ведет потом к маяку. И каждый раз, когда я видела, что небо набухает облаками и вот-вот прольется на землю, меня охватывала тоска. Живя в Голландии, я часто видела черное небо без света. Оно не вязалось с цветом глаз и волос моей мамы. Отец говорил, что не может ее рисовать, потому, что нет краски, способной передать ни особый светящийся оттенок ее волос, ни зеленоватую голубизну глаз. По цвету глаз он часто определял мамино настроение. «Сегодня они голубые», потом — цвета армянского камня, а временами становились темно-серыми, как несущиеся над головой облака. Отец воспринимал характеры через цвета и их оттенки. Он мечтал написать большую книгу о цветах, энциклопедию, которая раскрыла бы мир во всех его бесконечных оттенках и полутонах. Теперь я знаю, что цвет есть свет, и в мире правит светотень. Она сильнее всех религий и теологии. Ахмед говорил, что лик Бога скрыт за шестьюдесятью покрывалами. И мне на ум приходят вдруг моя мозаика, свет фресок, который я научилась распознавать, и византийское звездное небо. Лицо матери не всегда было озарено светом. Случались дни, когда оно гасло и тускнело, как на картине, которая требует реставрации. Мама говорила мало и не любила здешние дома и вечно серое море.
А это правда, что один человек попал в плен к туркам в Отранто, а потом его увезли в Албанию и в Константинополь, а потом он вернулся и снова уплыл на корабле, а корабль потерпел кораблекрушение у берегов Испании? А оттуда, мимо Геркулесовых столбов и Португалии, он добрался до Голландии? Что это был за человек, двадцатилетний старик, сожженный солнцем и страхом, который появился в один прекрасный день в харчевне маленького городка и решил больше никуда не уезжать? И что это была за девушка, едва достигшая шестнадцати лет, которую он попросил стать его женой? Все это записано, отвечал отец, когда в темные вечера я начинала приставать к нему с расспросами, почему и куда исчезла моя мама. Все это записано в документе, пережившем столетия. Вся история семьи моей матери была историей появлений и исчезновений. Меня это пугало, а отец надо мной посмеивался и говорил, что не надо слишком доверять легендам, потому что они все — обман зрения, декорации, которые притворяются жизнью, оптическая игра света и перспективы.
Отец рассказывал, что познакомился с мамой случайно. Казалось, она возникла ниоткуда прямо на улице Нордвика. Она появилась ниоткуда и исчезла в никуда. Все это похоже на печальную сказку (если таковые бывают). И о моей бабушке с материнской стороны тоже не все известно: она покинула мир, оставив множество вопросов и недомолвок. И чем дальше проникаешь во время, тем больше все тускнеет и теряет цвет, как краски, чернеющие на открытом воздухе. Не потускнел только человек, пришедший из далеких краев, который уже в старости дождался гонца от епископа Отранто и, уступив уговорам, написал документ, взяв с гонца клятву, что он будет храниться среди страниц церковной книги:
«Сего июня восемнадцатого дня, года 1539-го, почтенный синьор Джованни Леондарио, гражданин идрунтинского города, положив руку на Святое Писание, поклялся посланцу Церкви Антонио Ладзаретте говорить правду. На первый вопрос, сколько лет он уже не живет в Отранто, допрашиваемый отвечал, что родился о Отранто семьдесят семь лет тому назад и уехал оттуда пятьдесят лет назад, дабы достичь морей и земель, далеких от Турции. На второй вопрос, сколько лет тому, как идрунтинский город был взят турками, он ответил, что, по его мнению, тому уже пятьдесят девять лет. На третий вопрос, был ли он в городе, когда пришли турки, он ответил, что был и что турки взяли его в рабство и увезли в Константинополь.
На четвертый вопрос, известно ли ему, что в оккупированном городе турки зверски убили многих жителей, допрашиваемый ответил, что его самого турки схватили и вывели за городскую стену на место, которое именуется „Сант-Иоанн-де-ла-Минерва“. В то же место согнали на казнь около восьмисот связанных горожан. Допрашиваемый, который был тогда молод, очень испугался, и хозяин велел одному из рабов сказать ему, что, если он честный человек, то его помилуют. И в том же месте означенный свидетель видел, как все восемьсот горожан были зверски убиты.
На пятый вопрос, знает ли он сейчас и знал ли тогда, за что были столь жестоко убиты горожане, и что говорили они, идя на смерть, свидетель ответил: ему известно, что, ворвавшись в город, предводитель турок, которого называли „паша“, потребовал, чтобы все горожане, и народ, и знать, добровольно ему сдались, и обещал обращаться с ними хорошо. Тогда и знать, и народ заявили ему единодушно, что готовы умереть за веру во Христа, и за верность своему государю. И еще свидетель прибавил, что среди связанных горожан был человек уже пожилой, по имени маэстро Гримальди, который своими речами воодушевлял людей вытерпеть мученическую смерть ради любви к Господу нашему Иисусу Христу. И свидетель видел своими глазами, как они все склонили головы под мечи.
На шестой вопрос, не знает ли он сам, и не слышал ли от других о появлении каких-либо необыкновенных знаков, которые можно было бы расценить как знаки Божий, данные в знак избранности убиенных, дл я того, чтобы причислить их к мученикам, свидетель ответил, что от многих достойных доверия людей слышал, что над местом казни, где трупы убиенных лежали тридцать месяцев до освобождения города, появляются огни. И такие же огни зажигаются над архиепископской церковью, куда останки мучеников были перенесены герцогом Калабрийским после освобождения им Отранто. И свидетель добавил, что чудесен и тот знак, что, оставаясь тридцать дней без погребения, тела сохранились, не издавали дурного шпаха, и их не тронули ни волки, ни собаки, ни черви, ни птицы, и поэтому светлейший герцог Калабрии распорядился перенести их в идрунтинскую церковь, а многих из них с почестями, как святых, в закрытых ящиках перевезти в Неаполь. Все, о чем сообщил свидетель, он видел собственными глазами и слышал собственными ушами».
Почему Антонио Ладзаретта отправился до самой Лейды, на север Европы, чтобы получить эти свидетельские показания? Кто его послал? И почему эти листочки с латинским текстом не вернулись в Отранто? Никто теперь не может сказать, что случилось. Может, Ладзаретта умер в Голландии сразу по прибытии, и его миссия не удалась. Может, произошло еще что-нибудь. Но зачем, все-таки, ехать в такую даль ради показаний какого-то Джованни Леондарио, отбывшего в неизвестном направлении столько лет назад? Наверное, такие вопросы бессмысленны. Эта история уходила корнями слишком глубоко, чтобы меня заинтересовать. Я знала, что было следствие, и что подобным образом допрашивали многих. И все они говорили приблизительно одно и то же: о жертве, об огнях, о том, что тела оставались нетленными. Но все другие свидетели, освободившись из плена, жили в Отранто. Один только Джованни Леондарио сел на корабль, плывущий в Испанию, а оттуда добрался до самой Лейды, высадившись в Нордвике. Он снился мне во сне. Он спрыгивал на пляж с крохотной шлюпки, босой, в лохмотьях. Я не умею пересказать, что на самом деле происходило в этом сне, но теперь, в Отранто, сон стал возвращаться чаще.
Мне казалось, что на мои вопросы вряд ли имелись ясные ответы: год 1539 был очень далеко, списки населения, церковные регистры о крещении младенцев перечисляли всего лишь ни о чем не говорящие имена, хотя имена эти доходили до первых лет нашего века. У Джованни Леондарио было тринадцать детей, и многие из них умерли в младенчестве. Не знаю, откуда у нее были эти сведения, но моя бабушка говорила мне, что в живых остались только семеро. И лишь один из них отправился в море и не вернулся. Может, он пытался вернуться сюда, и мне почему-то приятно думать, что он сгинул именно в этом море. Если бы у светловолосого доктора была охота выслушать эту историю и, тем более, в нее поверить, он мог бы возразить, что во всем этом несомненно только одно. В письме, датированном 4 октября 1903 года, дед моей матери, богатый амстердамский коммерсант драгоценных камней, интересовался, существуют ли в готической церкви Сан-Пьетро в Лейде документы о регистрации браков за последнее десятилетие XV века. История Джованни Леондарио начинается там и доходит до моей бабушки. Поколение за поколением, без особых скандалов или сюрпризов. Выходит, что даже по именам церковных регистров все можно довольно точно восстановить.
С этого момента название Отранто по праву вошло в обиход семьи моей матери и обрело магический смысл. Достаточно было лишь произнести его, и прадед тут же восклицал: «Вот построим корабль и поплывем!». Теперь все это выглядит старой забавной историей. Что же такое помнил Джованни Леондарио о том, что случилось 12 августа 1480 года, и почему он окончил свои странствия именно в Лейде? Епископ Отранто знал, где он находится, и велел его разыскать. Его свидетельство было очень важно, гораздо важнее, чем это следует из листков протокола, хранящегося в церковной книге. Антонио Ладзаретта пересек Европу, чтобы узнать причину начавшихся в Отранто чудес, но назад не вернулся. В Лейде он встретил всего лишь старика, у которого не было никакой охоты об этом говорить. Усталого старика с онемевшими руками и слабостью в ногах. В Голландии он разбогател, может быть, ему удалось попутешествовать. Но больше он не вернулся ни сюда, ни в Константинополь. Каким взглядом встретил он ревностного слугу Церкви, который пытался заставить его вспомнить что-то такое, что он прятал в глубинах памяти даже от себя самого? Какими глазами поглядел он на монаха, готового записать все, словно он был нотариусом чудес? Скорее всего, сказал он мало. Если бы Джованни Леондарио набрался мужества и сказал все, я бы сегодня не бродила, как неприкаянная, среди этих стен и бастионов.
Но здешний свет поведал мне и другое. Он поведал мне, что, когда кто-то пускается в рискованное путешествие, чтобы разыскать парня, сбежавшего за море, это означает, что Джованни Леондарио знал гораздо больше. Он мог рассказать не только о дне 12 августа, не только о том, как его фонтаном обдала кровь из чужого перерезанного горла, но еще и о том, почему турки под предводительством Ахмеда-Паши через ближнюю Албанию явились именно сюда и именно эту землю с безжалостной жестокостью пятнали кровью на протяжении столетий. И двадцатилетний Джованни, бежавший из Отранто, куда глаза глядят, должен был рассказать о том, что он видел, слышал и о чем с трудом догадался. А может быть, и рассказал или намекнул. Он был единственный, и ему надлежало вернуться. Кто-то рассказал, что видел его и говорил с ним в северных краях. И гонец отправился за ответами. Нам неизвестно, что это были за ответы. Свидетельства Джованни Леондарио походили на все прочие свидетельства, а сам он так и не вернулся. Кстати, не вернулся и гонец архиепископа. Что с ним случилось? Листки его записки остались здесь, среди документов человека, который знал разгадку, из-за которой он сюда приехал. Может, он вовсе не погиб по дороге обратно, а умер здесь же, у свидетеля, получив удар ножом, чтобы никогда не вернуться и не рассказать о том, о чем догадался.
Не спрашивайте меня, как оценил эту историю белокурый доктор. Он ничего не знает, и я не смогла бы с ним об этом говорить. Хорошо еще, что он собирается рассказать мне все, что знает о норманнах. В такую историю он бы просто не поверил. Он бы посмотрел на меня так, словно понимает, что я все еще брежу, изобразил бы интерес, потом предложил бы мне отдохнуть. Другое дело Ахмед. У того глаза бы вспыхнули, и сразу стало бы ясно, что черный цвет — самый ослепительный. А потом он притворился бы, что знает кое-что о клирике Ладзаретта, который не вернулся назад. Ночью в Лейде он получил в сердце безошибочно точный удар стилета. Но грабитель не нашел у него ни одной золотой монеты. Его я тоже видела во сне. Разбойник был темен, как на картине Рембрандта. Вся сцена снилась мне, как полотно на реставрации, и я видела ее сквозь сеть крошечных трещин, которые обычно доставляют столько хлопот реставратору, потому что картина оказывается как бы разбитой на маленькие мозаичные плитки.
Во сне я видела, как разбойник приближается к испуганному и растерянному человеку и наносит ему единственный удар. Он всем телом навалился на рукоятку стилета. В этот миг, удостоверяясь в том, что лезвие проникло вглубь и дошло до сердца, он мог заглянуть в глаза жертвы. А потом Ладзаретта упал. Он валился на спину, похолодевший от боли, окаменевший, пораженный внезапностью нападения, в глубине души благодаря хотя бы за то, что удар был молниеносен. Прежде чем сорвать с убитого кошелек с золотыми монетами, разбойник замешкался, бросив взгляд на сумку, перевязанную кожаным ремешком. Его не заботила короткая агония жертвы, словно этот человек умер еще до того, как его закололи: злодей был уверен в точности удара. Он отвязывал кошелек почти с презрением. Во сне я различала цвет лица разбойника. На густом, темном фоне всей сцены он был бледен. Отец использовал бы тут свинцовые белила, а потом, когда краска высохнет, затемнил бы ее. Отец умел притемнять белую краску, чуть-чуть ее разбавляя, а первые мазки клал обычно очень густо. Скорее всего, мой сон породили детские воспоминания о какой-то картине, может быть, и о Рембрандте: в память запало ярко выделяющееся, почти белое лицо и движения отцовской кисти по холсту. Отец был невысокий, хрупкий, с тонкими руками, и иногда мне казалось, что он вот-вот растает в глубине огромных холстов, с которыми он работал. Сегодня я не в силах сказать, наяву или во сне видела я эту сцену. Я знаю только, что ясно различала профиль худого белого лица разбойника, наполовину закрытого большой черной шляпой. В моем мозгу ясно отпечаталось, что сон — это мой рисунок, в котором действие остановилось в тот момент, когда грабитель с окровавленными руками уже готов убежать, но обернулся и вот-вот взглянет на творца и картины, и сна, то есть, на меня, словно на мне сфокусированы все линии перспективы остановившегося страшного мига.
Я проснулась, как от толчка, а в голове стояла эта картина. Я видела ее так ясно, что могла бы тут же нарисовать. Не знаю, кто был тот разбойник, знаю только, что такие сны начали приходить вместе со светом здешних мест. И это не ночные кошмары, это видения полуденные. Зачастую, просыпаясь, я не понимала, что привиделось мне: сон или галлюцинация ошалевшего от жары, постоянной смены света и терпкого запаха моря сознания. И своего Рембрандта (почему-то я не могу назвать его иначе), изображающего Убийство клирика Антонио Ладзаретта разбойником, я тоже увидела то ли в полудреме, то ли в неглубоком, чутком сне. С тех пор как я приехала сюда, мне не удается заснуть по-настоящему: я все время боюсь, что от меня что-то ускользнет, словно настоящее сознание приходит ко мне только в таком вот чутком полусне, где смешиваются, сон, явь и галлюцинация. Позавчера мне приснилась журчащая в фонтане вода и арабская, даже, скорее, арабо-андалузская музыка. И больше ничего. Проснувшись, я выбежала из дома к морю, и далеко на горизонте, словно миражи, нарисованные сероватой дымчатой краской, возникли горы Албании. Это оттуда отплывали в Отранто турки. Мне казалось, что я растворяюсь в мираже, выраставшем из моря, и тогда музыка зазвучала так громко, что я обернулась посмотреть, кто это играет. Мне послышался голос Ахмеда и мой собственный, только со стороны, как бы отделившийся от меня, который перечислял названия звучащих музыкальных инструментов. Арабы называют этот ритм Б'тайи. Я знала, что такое кеманча, похожая на виолу, что такое дарбука или канун[7]. Интересно, в тот страшный вечер, когда тьма смешала все цвета, когда все почернело, даже кровь, смог бы кто-нибудь из ослепленных яростью турок поддаться обаянию музыки? Слышались ли тогда барабаны и салерты, чей звук напоминал шуршание щетки по ткани, крученые струны цитр и гайды[8], напоминавшие шотландскую волынку? Везли ли с собой воины Ахмеда-Паши музыкальные инструменты, годившиеся для Кордовы, Севильи или Гранады, но чужие для Отранто? Сияние против свирепости, ослепляющий свет против света, который спроецирован в витражах мечетей. Кровь, бурлящая в венах и зажигающая мысль, и кровь, стекающая с холма и окрашивающая луга в пурпур. Может, это Ахмед сказал мне, что ритм зовется Б'тайи. Я обернулась, но за мной никого не было. Музыка звучала внутри меня, и я ее узнавала, я ее уже когда-то слышала.
Горы Албании неожиданно потускнели, как миражи. Чуть стемнело, и этого было достаточно, чтобы сероватые, будто нарисованные серой угольной краской вершины, начали таять. Теперь они походили на набросок, сделанный на желтоватой бумаге, на прелюдию к настоящему рисунку, которому еще предстоит наполниться цветом и светом. И с приходом темноты музыка смолкла, и остался только один звук. Арабы зовут этот инструмент «игра воды».
И мне захотелось вернуться домой и плотно закрыть все двери и окна, словно вот-вот придет враг, и прийти он должен с моря. И еще захотелось досмотреть тот сон, где легкое журчание воды аккомпанировало ритму Б'тайи.
Иногда до меня доносилась музыка. Играли на струнном инструменте. Эту музыку я слышал в ту ночь. На холме Минервы зажигались огни. Никогда я не видел там огней.
Я увидел ее только на следующее утро возле входа, чуть поодаль, в сторону Сан-Пьетро. Глубокая рана на шее казалась ожерельем.
В ту ночь я не пытался войти в город. Я сидел на скале, круто обрывающейся в море. Меня занимали, слабо светящиеся огоньки на холме. Рядом слышался звук инструмента, который турки зовут кеманчой. Мелодия лилась медленно-медленно, медленнее, чем набегали волны. Море было спокойно.
Всю оставшуюся мне жизнь, все отпущенные мне дни я порой слышал этот инструмент трубадуров, на котором играют смычком из гнутого дерева с натянутым конским волосом.
Я знаю, что чужестранка слышит мелодию кеманчи. Ее можно услышать по ночам, когда море спокойно, и она глубокой вибрацией остается в тебе до утра.
VI
Старая дорога выводит из города к хутору Орте, Если идти по ней дальше, то дойдешь до вершины скалы. Но дальше скала взлетает круто вверх. Козимино хочет повезти меня на лодке, чтобы я увидела берег от Сан-Никола до бухты Орте, а главное — Змеиную башню: «И как она только до сих пор не упала!». Башня словно перерублена острым клинком, причем вдоль. От тридцатиметровой башни остался только кусочек. Козимино верит, что с этой башни часовой увидел приближение турок Ахмеда-Паши. Красивая сказка, но башни построили уже после 1480 года испанцы, хотя Змеиная Башня считается самой старинной, и никто точно не знает, когда ее возвели. Согласно легенде, она называется Змеиной, потому что по ней каждую ночь вползал змей и, просунув голову в окошко, выпивал все масло из фонаря. Башня была римской постройки, раньше служила маяком и так и звалась: faroHydruntum. В городе жило около 30 тысяч жителей, и его окружали и защищали 100 башен. На гербе города изображен змей, обвивающий башню. Именно в эту башню чаще всего бьют молнии. С севера и с востока она кажется целой, а с юга видно, что это обломок. Несмотря на шторма и ветра, она все еще стоит, хотя когда-нибудь рухнет. С моря она выглядит впечатляюще. Местные жители часто добираются до самого поворота берега, до залива, чтобы посмотреть на это чудо. Говорят, что змей — это река Идро, извилистая, как тело змеи. Она отравляет город, заражая его малярией.
«По старой дороге, ведущей на хутор Орте, можно подняться до башни, — сказал мне Ахмед. — Похоже, что те, кому удалось спастись от турок, ушли именно по ней. На этой дороге можно иногда встретить незнакомцев, которые молчат, когда к ним приближаешься. Отсюда были хорошо видны огоньки на холме, и поэтому ни у кого не хватает смелости отвернуться от моря и посмотреть в сторону города». Однажды утром, когда накрапывал легкий дождик, погружавший все вокруг в серую пелену и чернивший стволы деревьев, я двинулась из города по этой заброшенной дороге, которая тянулась километра два и приводила в дикое, пустынное место. Я медленно шла по направлению к морю, время от времени оглядывалась на холм Минервы и думала, что могу исчезнуть с этой дороги, как исчезла когда-то моя мать. Мне хотелось, чтобы меня украли и увезли отсюда. Я надеялась встретить кого-нибудь из тех, молчаливых и нелюдимых, о которых говорил Ахмед. Я дошла до самой башни, подошла к краю обрыва и глубоко вздохнула. Море было неспокойно. И мне снова пришла на ум мама. Об этом я рассказала белокурому доктору, не смогла удержаться; и он так на меня посмотрел, словно наконец-то понял. Я пыталась догадаться, что с ней случилось: то ли море поглотило ее и унесло, то ли ее увез от нас какой-то мужчина. Холодное море, рядом с которым я выросла и к которому всегда относилась с подозрением и недоверием, с определенного момента превратилось в чудовище, хранившее ужасную тайну. Оно было причастно к нашей трагедии, а может быть, и повинно в той утрате, которая обесцветила жизнь, сделала тени прозрачнее, а свет тусклее. У отца поменялась манера класть краску на холст: я видела, как побледнели его небеса, повлажнели облака и стали бесплотными фигуры. «Больше у меня не получится копировать Караваджо», — бормотал он, стараясь не глядеть на меня. И временами у меня возникало впечатление, что он разучился смешивать краски. Его взгляд уже неспособен был насытить мир и холст сочными, объемными мазками. Море у него ушло в фон и проступало лишь намеком, как у художников XIII века. А когда ему приходилось все же его рисовать, то выходило, что масляная краска, как акварель, готова исчезнуть при ярком свете.
Дождливый и серый день делал море похожим на море моего детства, и я вглядывалась, стараясь отыскать знакомые тона, знакомые оттенки. И думала, что здесь, на юге, в почти восточном уголке, море гораздо легче, воздушнее, серые тона, менее определенны, а голубые обладают прозрачностью, которую нам северянам трудно себе представить. Здесь море не поглотит тебя, оно тебя унесет медленно и лениво. Рыбаки смеялись надо мной, когда я им рассказывала, что этим морем командует благородный Нептун. Они на чем свет стоит проклинали шторма и бури, и уж кто-кто, а они-то видели, как скалы качались и рушились под ударами волн. Я глядела на море, на Змеиную Башню и думала об отцовских красках, которые были гораздо ближе к цветам салентинского моря, чем моря северного. После исчезновения мамы он словно стремился перенести ее сюда, как будто она ушла в никуда не по пестрой от тюльпанов голландской улице, ведущей и морю, а просто шагнула сюда, шагнула — и все. И, оказавшись на одной из этих скал над морем, смогла постичь судьбы будущего, разгадать загадки, а с наступлением ночи покинула эту землю, где растут оливы, чьи затейливые стволы похожи на скульптуры. Наверное, она думала о Джованни Леондарио, который должен был отсюда отплыть в Средиземное море и дальше в Испанию. Его гнал страх, а может быть, он слишком много видел и знал. Он не мог вернуться назад, он бежал от полуденного солнца, которое теперь стало для него грозным. Возможно, я поддалась силе внушения, однако, когда над городом начали вспыхивать первые молнии обещанной грозы, я поняла, что пришел момент ответа на все вопросы, и что надо сесть на скалу и дожидаться бури здесь. Но не тут-то было. Небо почернело какой-то невероятной чернотой, море пенилось все больше и больше, грохот стоял такой, что закладывало уши, и казалось, все переворачивается: небо стало черным, как морская вода, а на море то и дело вспыхивали неожиданные белые сполохи. Я подняла глаза и увидела, что башня не серая, не коричневая, а белая. Словно отцовская рука свинцовыми белилами изменила ее цвет на знакомой с детства картине. Змеиная Башня вмиг сделалась беломраморной. Я в ужасе отпрянула назад. Место было пустынное, тридцатиметровая скала, открытая небу и морю, которое с ревом поднималось все ближе. Я слышала раскаты грома и видела молнии; казалось, что они загораются как раз над холмом Минервы. Город был черен, как небо, только часть соборного фасада, которую было видно отсюда, светилась белизной. Белый собор и белая башня. Вдруг я заметила вдалеке человеческую фигуру, бежавшую в моем направлении. Человек бежал, согнувшись, хотя и довольно проворно. Я вспомнила слова Ахмеда о молчаливых и сторожких существах, которыми населена эта земля, и которых можно здесь встретить повсюду, и решила, что мне навстречу бежит одно из них. Существо приближалось, а у меня словно отнялся язык, и я не могла ни крикнуть, ни позвать на помощь. И тут издалека послышался знакомый голос: это был голос Бридзио, одного из наших рабочих, и доносился он с дороги. Вскоре показался и сам Бридзио, бежавший ко мне. Согнутая фигура обернулась и застыла неподвижно, и был момент, когда все вокруг тоже застыло: и мои глаза, и Бридзио на бегу. А потом она исчезла где-то на скале над морем.
Белокурому доктору я рассказала, как была благодарна Бридзио за то, что он накрыл меня курткой, с улыбкой довел до своей машины и все спрашивал, что я делала одна в таком месте и в такую погоду. «Вы ничего не знаете о Змеиной башне?». Он не верил, что я пришла сюда одна, пешком. «Вы смелая женщина. В такую непогоду, если чуть высунуться со скалы, море может унести, и никто тебя не найдет. Я помню, однажды так и случилось. Это была женщина не из наших мест. Я ее хорошо запомнил. Ее видели у Змеиной Башни, а потом, как она шла к скалам до самых пещер, где они подымаются очень высоко. Потом она исчезла и больше не вернулась».
Когда, уже под утро, я сказала белокурому доктору, что эта женщина была моя мать, с меня словно свалился огромный груз. Словно улица в Нордвике и дорога на Орте продолжили друг друга. Лучи света — те, что привиделись моему отцу, и те, что вспыхивали в волнах, заставляя все переворачиваться, — соединили эти две дороги. И я, наконец, могу поверить, что мама исчезла, отправившись в обратный путь: она просто вернулась после долгого путешествия и, как говорит Бридзио, исчезла на скалах, самая высокая из которых зовется Палашия. Думаю, мой отец об этом знал: ведь он рассказывал, что мама исчезла в сумрачный день, и в такой же день меня потянуло на скалы до самой башни. День с северной хмурой повадкой, когда некуда деться от серой беспросветной хмари, а море временами кажется битумом, смолой и ничего не отражает, на нем нет ни малейшего отблеска. А ведь отец умел эти отблески поймать и оживить, заставить их светиться, и год от года это ему удавалось все лучше и лучше. Он словно искал свет, которого наяву никогда не видел. Он никогда не путешествовал и женился на девушке из чужих краев. Когда я уговаривала его уехать на юг, броситься очертя голову в какое-нибудь пустынное место среди скалистых гор и увидеть такие цвета, которые он не мог даже вообразить, он молча указывал мне на угол в глубине комнаты, под самым большим окном. Там располагался стол, замазанный всеми мыслимыми и немыслимыми красками, на нем лежали тюбики, свернутые в трубочки, как будто их сплющили подошвой огромного башмака, в беспорядке валялись кисти из жесткой щетины и всяческого рода палитры: кусочки дерева, керамические тарелки или просто осколки стекла. Там же помещались бутыли и свернутые холсты. Когда я закрываю глаза, я всегда одинаково вижу этот ярко освещенный угол комнаты. В моем представлении он не меняется, беспорядок красок на нем я могла бы описать безошибочно. Удивительно, почему я вижу его всегда одинаково, хотя он все время менялся? Почему из многих рабочих столов, вымазанных краской, я вспоминала только этот — разноцветный угол, как мне нравилось его называть? Теперь уже поздно задавать себе такие вопросы. Мне осталась только память об отцовском ответе: как он указал на свой рабочий стол и чуть приподнял плечи. Он был настоящим алхимиком света и хорошо знал, где его искать — свет, которого никогда не видел, свет пустыни, свет Отранто, вечно исчезающую субстанцию. Он насыщен и прозрачен, он одновременно и голубой, и серый, он влажен и осязаем. Я не знаю, как его определить, и не знаю, как его добиться.
Что за человек, сгорбившись, бежал ко мне перед тем, как Бридзио меня позвал? Что согнуло его, возраст или невзгоды? На нем была старая, рваная матросская роба с капюшоном, который сильно уродовал пропорции этой и без того странной фигуры. Я не могла сказать белокурому доктору, видел ли незнакомца Бридзио. У меня не хватило духу его спросить, чтобы он не подумал, что я одержима галлюцинациями.
«Или откровениями», — заметил Ахмед, сразу посерьезнев, — «Ты же знала, что на этой дороге случаются странные встречи. Они желанны нашей фантазии, самовнушению. Башня — вон она, чудом уцелела и стоит исключительно для того, чтобы держать людей в страхе. Она — символ города, и, скорее всего, именно она изображена на гербе. И это подлинный символ: одна часть башни видима и реальна, другая — невидима и призрачна. Жалко змея: ему больше нечего лакать, нет масла. Помнишь, Велли, что тебе сказал старичок из Галатины? Ты говорила, он принес тебе бутылку масла и велел не разбить ее. А ты знаешь, что турки, войдя 12 августа в Отранто, разбили все бутыли с маслом, и оно потоками стекало по крутым улочкам? Змея больше нет, ему нечего делать на расколотой, наполовину призрачной башне, которая уже никому не может служить маяком».
Я подумала о маяке в Нордвике, до которого можно дойти через песчаные дюны пляжа. Помню, как брела к нему босиком по песку. Каким чудом он мне казался! Его было видно издалека, особенно в такие дни, когда только его мигающий свет подавал сигнал морякам. Все остальное было в тумане, и море хмурилось. Я воспринимала маяк как фигуру огромного человека, который ничего не видит, но твердо и бесстрастно стоит на своем месте, как часовой. Его дело — зажечь темноту лучом жёлтого света, который в туманные дни становится мутно-молочным, а когда в редкие дни ветер разносит облака и открывает небо, вспыхивает золотом. Мне нравилось думать обо всех на свете маяках: и о тех, что я видела, и о тех, что могла только вообразить. Мама, наверное, долго смотрела в море и представляла, что оно совсем другое, и ей удавалось увидеть море здешнее, легкое и прозрачное. Последний раз ее видели на пляже возле маяка. А маяк Сайта Мария ди Леука стоит как раз в том месте, где сливаются два моря. Есть еще огромный маяк в Александрии, чудо из чудес. А в маяке Змеиной Башни масло горело слабо, и свет, наверное, теплился маленьким огоньком, подавая редким кораблям знак, что здесь можно причалить. У таких маяков не было фонарей с линзами, усиливающими свет. Их огни повисали в воздухе, когда башни, на которых их зажигали, тонули в темноте, заволакивающей заливы и проливы. И если не знать, что за этими огнями, висящими в пустоте, есть земля, их можно принять за миражи или морские призраки. Тому, кто плыл из Греции или из северных земель, Салентинский полуостров был нежданным сюрпризом: восточная пристань на пути, что вел из Константинополя в Салоники и потом, вдоль берега, в Дураццо. Днем путь до мыса казался близким, а ночью, когда время движется вспять, он мог уйти в бесконечность, и огни казались недостижимыми. От этой пристани норманны отчаливали в Малую Азию, в Антиохию. Мозаика кафедрального собора уже тогда изумляла путешественников, повествуя об истории мира, которую кусочки мозаики и терпение падре Панталеоне сделали понятной для людей, говорящих на тысячах разных языков. Отсюда отплывали священники, авантюристы, пираты и убийцы; маги и алхимики оставляли свои тайные записи среди миниатюр греческих и латинских манускриптов. В монастыре Казоле почти все монахи владели греческим, и говорили, что кое-кто читал и по-арабски. Турки вошли в храм знания по той же дороге, по которой каждый день, на рассвете и на закате, падре Панталеоне отправлялся в кафедральный собор набирать свою мозаику. Они разрушили все: церковь, монастырь, уничтожили многие старинные рукописи, которые монахи изучали и копировали. От монастыря остались две колонны, кусок фасада да несколько хозяйственных построек.
Я часто наведываюсь в Казоле весной и осенью, когда дорога еще не выжжена солнцем и не покрыта пылью. Та же пыль покрывала ее и во времена падре Панталеоне, и во времена нашествия турок, и еще Бог знает в какие незапамятные времена. И каждый раз, когда я приближаюсь, слышен лай собак. Это немецкие овчарки, собаки-пастухи, щенки-полукровки, выросшие в полях. Развалины монастыря теперь составляют часть хуторской территории, и не хочется верить сплетням, будто под этими стенами спрятаны несметные сокровища. За любым разоренным богатством скрываются легенды о том, что где-то подспудно оно сохранилось, точно так же как за любой самой замысловатой алхимической формулой стоит неистребимое желание получить золото. Из моих краев золото просто грабили вражеские корабли, безо всяких алхимических формул. Я выросла там, где хутора не прячутся от посторонних глаз, где на дорогах нет пыли, где, казалось бы, нет никаких тайн. Там все на виду, все чувствует себя очень уютно под крылом молочно-белого рассеянного света, которому не нужны ни резкие тени, ни яркие контрасты.
Когда мы ехали назад в город на машине Бридзио, он без умолку говорил, с трудом подбирая нужные слова, и в его монологе чувствовались сразу и желание предостеречь, и откровенная доверительность, и склонность к расследованию. Теперь его голос звучит у меня в ушах, словно я прослушиваю магнитофонную запись. Постараюсь ее воспроизвести со всеми характерными особенностями: с постоянным повторением «синьора», с неожиданными переходами с «вы» на «ты», что вообще характерно для здешних жителей. «Синьора, ты очень испугалась? Прости, но это все здешние байки. Их все немножко знают. Может, это все и ерунда. Вот что: мне рассказали одну, про синьору, которая не вернулась. Кто-то, не знаю кто, ведь прошло уже столько лет, говорил, что видел ее на дороге к башне. А потом, кто знает, может, она и вернулась, собрала вещи, да и уехала себе. Скажу вам, однако, синьора, что про нее спрашивали даже карабинеры, потому что она оставила все как есть в своем домике в новых кварталах. Говорили, ничего не пропало, нашли даже раскрытую книгу на постели, а на столе в кухне чашку из-под молока. Как будто хозяйка должна была вот-вот вернуться. Я тогда был мальчишкой. Тогда женщины у нас не одевались так, как она: она казалась голой, все просвечивало. И мы ехали за ней на велосипедах, чтобы поглядеть. И поджидали, когда она выйдет из дома. Когда она исчезла, все были поражены, и потом, туристов ведь в наших краях тогда не было. Она появилась неизвестно откуда. Это было невероятно. Потом один знакомый мальчишка рассказывал, будто побывал у нее дома: она его позвала в окошко. Никто, конечно, ему не поверил. Карабинеры вошли в ее дом через несколько дней. Все думали, что ей стало плохо, и она не смогла позвать на помощь, или что-нибудь в этом роде. А потом, когда в доме ничего не нашли, стали говорить, что ее видели на дороге и что, должно быть, ее смыло морем. Я сам ничего не знаю. Тут все только и делают, что рассказывают всякие байки вроде этой. Мне это не по душе, это не дает никому покоя. Вот и теперь: я еду на машине и вдруг вижу тебя, одну, в такую непогоду. Я, было, решил, что это не ты, уж больно ты походишь на ту чужестранку, которая нам нравилась, и за которой мы в детстве шпионили. Впрочем, для нас все чужестранки на одно лицо… Ой, что я говорю, наверное, это нелюбезно. Одним, словом, я растерялся. Вы-то, синьора, тут причем? А потом, знаешь, у меня создалось впечатление, что в том месте был кто-то еще. Может, и привиделось. Просто не верится, что ты оказалась в такую непогоду у башни совсем одна. Погляди на дворники, с ними и то ни черта не видно. И все-таки там бежала какая-то тень, когда ты меня увидела. А может, и нет, может, это моя застарелая мания. Мне всегда говорят: „Бридзио, не зацикливайся, Бридзио, спятишь!“. Есть у меня такая мания, бродить по здешним дорогам. Безо всякой цели, просто сажусь в машину и еду себе потихоньку. Еду и гляжу по сторонам. Вам, наверное, интересно, синьора, что я ищу? Отвечаю: сам не знаю. В хорошую погоду останавливаюсь и гляжу на горизонт. А сегодня погода немножко пугает, верно? Не возражаешь, если я тебя высажу здесь? В это время дня нельзя въезжать в исторический центр на машине. Я приду в собор попозже. Пока, синьора».
Андромеду, дочь эфиопского царя Цефея и Кассиопеи, приковали к скале. Отец предназначил ее в жертву морскому чудовищу, которое опустошало его владения. Однако Персей, увидев прикованную Андромеду, убил чудовище, спас девушку и женился на ней.
Морское чудовище звали Кетус, то есть Кит. И Кит, и Андромеда, и Кассиопея — созвездия осеннего неба, и моряки их хорошо знают.
Стояла уже осень, когда кто-то из молодых рыбаков сказал мне, что звезды Андромеды нынче сияют, как никогда, и что это хороший знак. Я спросил у него о созвездии Кита и о Персее. Я не смог, как Персей, спасти ее от ревущего чудовища, которое пришло с моря.
Глядя в осеннее небо, я подумал о мальчики, которого в городе все знали как нашего сына. Он не сложил свою голову на камень, моля Бога.
Его видели со связанными руками на мостике корабля, отплывающего в Константинополь. Он пристально вглядывался в небо, как звездочет. Но такого не мог бы предсказать ни один оракул.
VII
Мне нравилось, как отец крутил педали велосипеда. Молчаливо, как все, что он делал. Слышно было только тихое стрекотание цепи, похожее на стрекотание детских игрушек-вертушек. Он ехал со мной рядом, и я только диву давалась, как у него получается найти тот единственно верный ритм, который вел его велосипед неспешно, уверенно и с достоинством. У меня так не выходило. Даже на подъемах он никогда не напрягался, не пытался форсировать скорость, и казалось, что колеса его машины крутит благородный мотор. А я всегда ехала рывками, то отставая, то вырываясь вперед, и часто многое из того, что ровным и спокойным голосом рассказывал на ходу отец, не долетало до моих ушей. Он говорил, что мама тоже ездила так: «Никак ей было не приноровиться ехать, как положено. То слишком увлекалась и рвала вперед, то задумывалась и отставала». Кончалось тем, что снашивались тормоза, и велосипед приходилось чинить. Но мама не унывала, она шла пешком в своих любимых туфлях без каблуков, похожих на балетные тапочки, хотя в Голландии такие туфли очень неудобны: в них холодно, и они промокают от частых дождей. Голландки не носят таких туфель, особенно зимой. Мама носила их круглый год и, если б могла, она, наверное, с удовольствием ходила бы босиком. Готова поклясться, что иногда она так и поступала. Мы с отцом — другое дело, мы разъезжали на велосипедах бок о бок, как можно ближе друг к другу.
Когда мы ездили в Нордвик, чтобы потом отправиться к маяку, я старалась поближе держаться к нему. Не для того, чтобы слышать, что он говорит, а потому, что я боялась этой дороги. Отсюда появился мой предок Джованни, сюда ушла и исчезла моя мама. Однажды, перед отъездом в Италию, я приходила сюда одна. Эту дорогу называют дорогой тюльпанов. Иногда сюда забредают туристы, но мало кто из них доходит до моря. Многие останавливаются на обочине, пораженные невероятным контрастом. Серое небо, подъемные мосты, одни коричневые, другие белые, гармонирующие с небом, которое, по большей части, само приближалось к темному тону домов. В Голландии любят, чтобы тюльпаны росли полянами, как яркие пятна: жёлтые, синие, красные, и даже черные. Но черные насыщенной, блестящей и яркой чернотой, без серо-пепельного оттенка. На этих островках радостного, чистого цвета отдыхает глаз, привыкший к серым, молочно-белым и коричневым тонам, царящим вокруг.
Предки моего отца все происходили с севера Голландии, из маленького прибрежного городка под названием Хинделоопен. Там пейзажи еще темней, чем здесь. Зато в Хинделоопене делают великолепную, ярко раскрашенную мебель. Люди приезжают отовсюду, чтобы на нее полюбоваться. Мебель вырезают и раскрашивают в сочные красные и зеленые тона моряки, которые за этим занятием коротают время в промежутках между плаваниями. Из Хинделоопена торговые суда всегда уходили очень далеко, гораздо дальше, чем с остальных голландских территорий. Они доплывали до Индии, даже до Китая, и возвращались, храня в памяти цвета Востока. Вернувшись, моряки одевали своих женщин в невиданные в этих краях одежды сочных, вызывающих цветов. На фоне темно-серого неба они смотрелись, как яркие цветовые пятна.
Мой отец был сыном моряка, который вырезал диковинную мебель, и его жены, которая ходила в ярких платьях. «Я научился так полировать дерево, что темно-зеленая краска на нем сияла, я научился класть красную краску, как лак», — рассказывал он, гордый своим ученичеством и знанием цветов. Дед, возвращаясь с Востока после долгих месяцев плавания, рассказывал фантастические вещи: «Мне было лет пять. Он рассказывал, как небо на протяжении дня много раз меняло цвета. И я мечтал стать художником и найти коробку с красками, где были бы все оттенки. Однажды я попросил его привести мне краски с Востока. Я был уверен, что у них там совсем другие палитры. Тогда я уже подрос. Я разбирал старые отцовские кисти, которыми он раскрашивал мебель и красил стены, и делал из них кисти поменьше для своих картин. Волоски у старых кистей были слишком мягкие, но тогда ничего другого у меня под рукой не было».
Я никогда не видела деда: он умер в своем доме, много наплававшись на самых разных кораблях и много наработавшись в своей маленькой мастерской с окошком на море. Я тогда еще не родилась, и отец на несколько дней уехал в отчий дом, когда дедушка начал угасать. В отличие от изящного, тонкого отца, дед был высоким и сильным здоровяком. Однако, на тех набросках, что сделал отец после его смерти, собравшись, да так и не написав его портрет, дед удивительно походил на него лицом. Это уже не было лицо здоровяка: осунувшееся, потемневшее, с погасшими глазами. Я нашла наброски совершенно случайно перед отъездом в свое путешествие без обратного билета. Лицо отца, да, пожалуй, и взгляд, были очень похожими. И я подумала, что, прожив жизнь в мечтах о свете и постоянно занимаясь переносом воспоминаний на холсты, он заслужил право на свою отстраненную жизненную позицию. Отцовские глаза вовсе не были погасшими, в них жило беспокойное желание ничего не позабыть, не упустить ни одного оттенка. Судьба так распорядилась, что он родился в местности, где уловить оттенки было трудно, их можно было только вообразить. Дед мой побывал в тысяче разных мест, отец никогда не выезжал из Голландии. Самый долгий путь он проделал из Хинделоопена в Амстердам по тому же верному себе пейзажу. Дед умел вспоминать. Отец фантазировал. Его способность представлять себе освещение была сродни умению уверить всех, и меня в том числе, что он прожил жизнь актера, а не зрителя, что он действительно знал те пейзажи, которые на самом деле видел только глазами мамы. Он женился на ней потому, что нашел в ней ту же самую страсть, только опрокинутую, с другим знаком. Казалось, мама в жизни уже все прожила, это было понятно по ее взгляду на многие вещи. Точнее, это отец старался дать мне понять, когда я спрашивала о маме. Ее исчезновение было для меня страшной болью, но вместе с тем и неизбежностью, предопределенной судьбой, неизбежностью, которая у всех нас читалась в глазах. «Твоя мать не переносила этого освещения, ей было тяжело сознавать, что события могли изменяться, что возможно повлиять на будущее. Она была похожа на моего отца, твоего деда. Для него резка мебели была отдушиной. Потом он уплывал далеко, где все могло случиться. Одним из самых черных дней в его жизни был тот, когда закончили строительство дамбы, этого чудовищного плода трудов нашего народа, длиной в двадцать девять километров и шириной в восемьдесят метров. Она перегородила выход в Северное море. Из окон нашего дома она казалась редутом, построенным для уже проигранного сражения, в котором никто и не думал драться. Дамбу, этот немыслимый ватерпас длиною в тринадцать лет, торжественно открыли в 1932 году с лозунгом: „Народ строит свое будущее“. Отец тогда был еще мальчишкой. Но именно тогда он решил искать свое будущее в море, где нет дамбы, которая отсекает душу».
Дед плавал по морям и океанам, а потом рассказывал моему отцу о громадных волнах и морских чудовищах, о людях без будущего, которые боялись моря, и все-таки должны были плавать каждый день, даже по ночам, и часто не возвращались. Он рассказывал, раскрашивая или вырезая мебель «с отсутствующим взглядом, целиком сосредоточившись на работе, не желая смотреть вокруг себя, словно весь пейзаж с морем и с дамбой, которая виднелась отовсюду, куда ни глянь, был ему непереносим». Мать моего отца была женщиной, каких много в тех краях. Она терпеливо ждала деда, пока тот плавал, а потом так же терпеливо ждала, когда он снова уйдет в плавание. Для нее вся жизнь была сплошным ожиданием. Только в последние годы ей пришлось заново привыкать к этому человеку, и привыкать с трудом, потому что оказалось, что она его совсем не знает. Ее единственный сын отправился на поиск собственных пейзажей, как только представилась возможность. Однако, далеко он не уехал, потому что сам страдал от того, что так больно ранило его в отце: от постоянного отсутствия. Но судьба (Ахмед называет это «случай») распорядилась так, что и в его жизни отсутствий хватало с избытком: и исчезновение мамы, и мой отъезд, который он, наверное, перенес еще тяжелее. Он не захотел ни уходить в море, ни оставаться за щитом дамбы. Он перебрался немного южнее, туда, где почти все время дует ледяной норд-вест, а пейзаж похож на лунный: только дюны да редкие кустарники способны выдержать такую погоду. Только дюны да одиночество маяка. Мы остановили велосипеды в Нордвике, и отец удовлетворенно взглянул на меня. Легкие волосы стояли венчиком вокруг его головы, и он был похож на доброго клоуна. «Наконец-то ты научилась крутить педали». Дело было не в педалях, и мы оба это знали. В этот раз я не избегала того дорожного ритуала, который он так любил: неспешного, зачастую молчаливого диалога на ходу. Когда им с мамой надо было поговорить, но они не хотели, чтобы я слышала, они садились на велосипеды и ехали вдоль канала. В тот день мы поехали по той самой дороге, и он попросил меня сесть на мамин велосипед, «у которого по временам появлялся странный звук, и я никак не мог его отладить. Как будто где-то заедало цепь, и резкий, внезапный скрежет прерывал разговор и напоминал мне, что твоя мама не любила тишину наших прямых улиц и медленных, чинных каналов».
В Отранто нет каналов, река Идро больше похожа на ручеек. И улицы здесь не прямые. И автомобили не включают фар в первые же вечерние часы, потому что здесь нет туманов, заволакивающих все вокруг. Голландские каналы — это лабиринт, из которого непросто выбраться: они так изматывают тебя, что в конце концов теряешь всякое желание искать выход. У деда дело обстояло еще хуже. Он свой выход видел: выход этот находился за пределами чудовищной дамбы, которая загораживала море, отнимая у деда его судьбу, невозможную без событий, без приключений, отнимая даже возможность фантазировать. В Голландии слишком много воды и мало света, и эта вода безжизненна, она похожа на рабыню, обреченную на вечный труд, она обессилена и обезличена. И северное море, с его призрачными лунными пейзажами, только в Нордвике напоминает, что оно действительно море. Иногда маяка не видно совсем, его заволакивает густой туман, смешанный с песком, который взвихривает ветер, меняя очертания дюн. Маяк слепнет, повисает в пустоте, и только моряки могут его видеть.
На пляже в Нордвике море совсем другое, холодное и мрачное. Оно не знает, что делать с песком, таким белым, что кажется ненастоящим, занесенным бог знает откуда. Отец говорил, что за всю жизнь ни разу не выкупался в этом море. Я в детстве купалась, но уже к августу вода становилась холодной, и привыкнуть к ней было невозможно. Такое море всегда находится в отдалении, в него не бросишься с головой, не почувствуешь близко. И, в конце концов, начинаешь его сторониться и искать другого.
В этом море, возле маяка, исчезла моя мать. На пляже ее никто не видел, но я точно знаю, что она дошла до пляжа. Знаю потому, что она часто ездила на велосипеде к маяку, а я ехала за ней, но так, чтобы она меня не видела. Я боялась потерять ее из виду, а она мчалась вперед, словно ей было нужно успеть на очень важное свидание. Когда однажды я призналась отцу, что следила за ней, он поглядел на меня с добродушным любопытством. Я оставила велосипед за дюной и решила спрятаться и посмотреть, что мама будет делать. Мне хотелось понять, какая сила тянула ее к маяку, и что скрывалось за ее молчанием. Я уже, было, решила, что у нее есть какая-то своя тайная жизнь. То, что я увидела, в точности напоминало одну из картин, которые рисовал и рассказывал отец. Мама неподвижно сидела в глубине пространства полотна, ветер чуть шевелил ее волосы, а над нею бежали облака, сквозь которые так и не удавалось пробиться ни одному солнечному лучу. Она куталась в длинную шаль, достававшую до босых ног, глаза потерянно и отрешенно всматривались в горизонт. Проходили часы, и мне стало страшно: я не решалась подойти к ней и боялась одна ехать обратно по темной дороге. Я застыла в напряжении, не зная, на что решиться. И, пока во мне боролись упрямство, стыд, благоразумие и чувство вины оттого, что я шпионила за ней, она вдруг резко поднялась, словно задавая себе вопрос, с чего это она вдруг оказалась на пляже, взяла велосипед, провела его несколько метров, чтобы выйти из песка, и умчалась, проехав совсем рядом со мной. Только тому, кто хорошо знал этот ее характерный отрешенный взгляд, было понятно, что она ничего не замечала вокруг себя. Несколько метров она ехала прямо на меня, но я даже не пряталась: ее глаза были далеко, и даже велосипед, казалось, притих.
Я рассказала отцу только об этом дне. На самом деле я много раз приезжала на пляж, и каждый раз заставала одну и ту же сцену: мама неподвижно сидит под маяком, рядом на песке стоят ее туфли, велосипед прислонен к подножию маяка. Если день был ветреный, а это случалось почти всегда, плечи и горло закрывала шаль. И всегда наступал момент, когда она словно просыпалась, очнувшись от странного оцепенения, и уезжала прочь, не видя меня. Когда я поехала за ней в последний раз, я специально уселась на пляже так, чтобы попасть в поле ее зрения, хотя и была уверена, что сейчас я для нее не существую. Мне горько теперь, что я не поступила точно так же в тот день, когда на пляже нашли брошенный велосипед, туфли и красную шаль, которую я иногда набрасываю на плечи здесь, в Отранто, в ветреные дни. Отец тогда пешком дошел до Нордвика и, не садясь на мамин велосипед, руками довел его домой. Он возвращался, казалось, целую вечность, и вернулся уже за полночь. Ему необходимо было время, чтобы все обдумать, не торопясь. Он сказал, что после этого дня у него вообще больше не стало причин куда-либо торопиться. Меня в тот день на пляже не было, но я могу с точностью воспроизвести все, что там происходило. Я вижу, как мама спрыгивает с велосипеда, знаю, какую туфлю она сбросит раньше — левую, могу точно описать, как, усевшись на песок, она завернется в шаль до самого подбородка и станет смотреть в какую-то, одной ей ведомую, точку на горизонте. Тогда я решила больше не прятаться, и много раз шла впереди ее, то и дело нагибаясь за камушком и бросая его в море, которое, казалось, сразу же поглощало все, даже память об этом камушке.
Полиция заявила, что мама утонула. Тело не нашли, и это само по себе было невероятно. Когда я заворачиваюсь в красную мамину шаль (на Змеиной башне она тоже была со мной, защищая от дождя и водяных брызг), мне кажется, что я чувствую запах ее мыла или крема. Может быть, я напрасно привезла сюда этот единственный предмет, сохранивший след ее пребывания в моей жизни. Я рассказала отцу о том последнем дне, когда я бросала камушки в море под самым носом у мамы, и что тогда мне показалось, что она меня все-таки увидела. И только тогда отец признался, что мама знала о моих эскападах. По ночам она ему об этом рассказывала. Она бессильна была объяснить маленькой девочке, что все время слышала голоса, которые с ней говорили, звали ее, настаивали, говорили, куда она должна идти. Она не понимала, что это за голоса, не понимала, на языке какой страны ее зовут. Чтобы освободиться от них, она и убегала к морю, но все это продолжалось слишком долго. Белокурый доктор сказал мне, что мама страдала хорошо известным заболеванием, которое зовется шизофренией. Отец никогда не произносил этого слова. Он помогал маме вывести велосипед из-за двери, когда чувствовал, что она сейчас уедет, а по вечерам, когда она возвращалась, приводил в порядок ее туфли, смятые в гневе, страхе и в неистовом желаний поскорее от чего-то избавиться. В тот день, под монотонный шум канала, который понятен только тем, кто годами живет среди наших пейзажей, отец много вспоминал, и краски его воспоминаний словно сошли с полотен Рембрандта: яркие, но без мечты, без надежд и иллюзий, покорные в своей мрачноватой густоте.
«Твоя мама по ночам разговаривала на языке, который утром не могла вспомнить. Ее еще в детстве потрясла история того человека, Джованни Леондарио. Она все повторяла, что это судьба, и она должна вернуться. Это странная история, Велли. И слова ее звучали странно. Ты была еще маленькая, ничего не понимала, да я и не хотел, чтобы поняла. И сейчас не хочу, несмотря на то, что уже ничего не могу поделать.»
Я поведала белокурому доктору, что ночами мама разговаривала по-гречески. Он взглянул на меня с привычной безмятежностью, но в его взгляде промелькнула тревога, которую он не сумел спрятать. Та же тревога была в отцовских глазах, когда я сказала ему, что в день исчезновения мамы она мне улыбнулась. У меня в ушах до сих пор стоит его голос, тихо выдохнувший: «Нет, Велли!». И тогда я уже без страха спросила его, дошла ли мама до маяка. Я в тот день просилась с ней и заметила, что моя просьба ее напугала. Теперь я понимаю, что она не хотела потерять возможность скрыться от посторонних глаз и боялась, что на мои неизбежные расспросы придется давать понятные ребенку объяснения.
Я рассказывала светловолосому доктору об одной из наших длинных прогулок с отцом на велосипедах, и о том, чем она закончилась. Когда мы приехали на море, он остановился и велел мне возвращаться. Он очень нервничал, и ноги, казалось, готовы были унести его прочь при первой же возможности. За все время нашей долгой дороги ни разу не проглянуло солнце, хотя на дворе стояла весна. Единственный свет, попадавшийся по пути, был светом фар встречных автомобилей. На другой день я уезжала в далекое путешествие по Италии, конечной целью которого было Отранто. И вечером отец вдруг начал приводить в порядок студию и свой рабочий стол. И у меня возникло ощущение, что это не я, а он собирается в далекие края.
Я никогда не узнал, когда он вернулся. Мне не сказали, на каком корабле он приплыл. Он был свободен, но глаза стали, другими. Мне не сказали, оставался ли он в городе и рассказывал ли какие-нибудь неслыханные истории о своей неволе или о книгах, которые никто никогда не читал.
Я узнал, что он приезжал, когда он уже уехал. Он отплыл в Испанию, бросив морю вызов и не побоявшись долгого морского путешествия. Ни обо мне, ни о моей беде он ничего не спросил. Только помолился за упокой души своей матери.
Из Испании он поплыл дальше, в те края, где свет не вводит в заблуждение. Он высадился на берегу, покрытом лунно-белым песком, оборванный, босой, с баулом, разъеденным морской солью и с кожаным кошельком на поясе.
От одного из купцов, имевшего с ним дела в городе под названием Лейда, я узнал, что Джованни разбогател и научился обработке драгоценных камней.
Много лет спустя, кто-то вспомнил о человеке, знавшем чужестранца из Отранто. И в Лейду послали гонца, чтобы узнать, что же произошло в тот день 12 августа.
VIII
Если бы не белокурый доктор, моей памяти никогда бы не вернуться к тем далеким, разорванным воспоминаниям. Он осторожно и ненавязчиво понуждал меня вспоминать. Этот прекрасно воспитанный, мягкий, все на свете знающий человек был не из тех, кто верит в мистику. По крайней мере, я довольно долго так полагала. Он говорил, что всего лишь хочет научить меня управлять собой и спать без снотворных. Эти снадобья погружают меня в глубокий сон без сновидений, потому я их и принимаю. С этими каплями мои ночи темны и спокойны, без бормотания, привидений и снов. Потом я, правда, замечаю, что начинаю грезить днем. Я прогоняю свои сны по ночам, но они настигают меня, когда полуденный жар застает врасплох, и я засыпаю. Чаще всего это случается на террасе, откуда видно море и все побережье. Я просыпаюсь в испуге, потому что во сне, вместо знакомых лиц и родных мест, вижу чужие лица и места, где никогда не бывала, незнакомые пейзажи каких-то иных краев. Мне все время снится старинный дом со сводчатыми потолками и крошечными окнами, в котором я почему-то знаю все комнаты. Стены дома сужаются кверху, с потолка свешивается кованая железная лампа. Комната пуста. В углу жаровня, два стула и старый рабочий стол. Темные стены не выбелены, и на них проступает рисунок кирпичей. В комнате сыро и холодно, снаружи волны бьют в самые стены, словно комната находится на скале над морем. В окна не видно ничего, кроме неба. Небо синее, идрунтинское, с густыми облаками, готовыми рассеяться при первом порыве сирокко. В глубине комнаты находится ребенок, скорее, подросток. В руках он держит что-то сверкающее, и это что-то меня смущает. «Велли, — говорит мне белокурый доктор, — постарайся вспомнить точнее, ребенок и подросток — не одно и то же». Знаю, что не одно и то же, но точнее сказать не могу: во сне я всегда вхожу в комнату с одной и той же стороны и вижу, что это действительно маленький ребенок. Я подхожу к нему, и время, кажется, бежит вместе с моими шагами, потому что ребенок на глазах превращается в подростка. Он стоит ко мне спиной, но все равно видит меня. Прежде чем я успеваю до него дотронуться, он говорит: «Велли, я тебя ждал». И в этот миг море смолкает, словно волны успокаивают свой бег. Я не знаю, что означает этот сон. Белокурый доктор говорит, что все это мои призраки. Ara, отшучиваюсь я, и он тоже поверил в видения. Он терпеливо объясняет, что существуют ментальные представления, и эти видения гораздо опаснее, чем настоящие призраки. Их надо остерегаться. А я допытываюсь, чего мне надо остерегаться: собственной судьбы? Голосов, которые гнали мою мать к маяку? Красок, которые заменили отцу окружающий мир? А может, деда, которому при виде дамбы приходили на ум люди, затянутые морем или смытые волнами с палуб? Мой доктор говорит, что и здесь море может затянуть того, кто слишком доверяется легендам.
Теперь я хорошо знаю, что демоны выбирают для появления именно полуденный час. Но что же делать, если этому никто не верит? На такой вопрос нет ответа. С белокурым доктором я об этом не говорила, только с Ахмедом. Но у него никогда не разберешь, шутит он или говорит серьезно. Он утверждает, что его зовут Ахмед, как и мучителя идрунтинцев Ахмеда-Пашу, однако в городе никто не знает человека с таким приметным именем. Он причисляет себя к арабам, но и здесь, в Саленто, полно таких же, как он, оливково-смуглых людей. Он знает обо всем, что случилось в 1480 году, и якобы обречен на бессмертие, пока души мужчин, женщин и детей, убитых в Отранто, не обретут покоя. Он все это рассказывает, а потом хохочет, потому что прекрасно знает, что я все равно не поверю, да и никто не примет его всерьез «А все-таки ты мне веришь, Велли, хоть и против воли. — часто повторяет он. — Жаль, что я не могу рассказать тебе, как сделали мозаику. Меня тогда еще не было на свете, я родился в 1462-м, может, чуть раньше, в албанских горах, в деревне, которая так давно исчезла с лица земли, что я уже сомневаюсь, была ли она на самом деле. Мне было двадцать лет, когда я принял участие в экспедиции против Отранто. Нам говорили, что мы должны быть жестокими, гораздо более жестокими, чем обычно. С брызгами крови повсюду — от дома к дому, от города к городу — должна была разноситься наша слава. Это было очень важно. О той резне говорят и по сей день, и через пятьсот лет рассказ не выцвел, не потерял смысла, о резне помнят все, даже молодежь, даже дети. Едва родившись, они уже знают, что произошло 12 августа 1480 года. Велли, тут нечего пугаться, так оно и было, я знаю».
Я никак не могла понять, почему с ним никто не раскланивается, когда мы бродим вдвоем по улицам города. Однажды я спросила у доктора, знает ли он Ахмеда. Он ответил уклончиво: да, конечно, он много раз видел этого человека, но не знал, что он носит такое имя. И многие его видели на бастионах, но он ни с кем не заговаривал. Он часами сидел в баре, не отрывая взгляда от порта. Доктора разбирало любопытство: почему этот человек разговаривает только со мной, и о чем мы беседуем? Если бы он не смотрел на меня с таким озабоченным видом, я бы ему сказала, а так мне пришлось оставить вопрос без внимания и не касаться наших разговоров с Ахмедом. Не стану же я всерьез полагать, что он бессмертен и прожил уже без малого 500 лет. Я не сомневалась в том, что он обыкновенный мистификатор и обманщик, и способен на дьявольские шутки, иначе ему не пришло бы в голову насмехаться над останками мучеников Отранто. Однако в тот день он сказал одну вещь, которая дошла до меня не сразу. Он сказал о своей вине, о врезавшемся в память событии, которое, по его словам, и обрекло его на вечные скитания в этих городских стенах.
За церковью Сан-Пьетро есть маленькая площадь. Там мы с Ахмедом уселись на ступеньки, и он пристально на меня взглянул. В его глазах застыло отчаяние. Пожалуй, это был единственный раз, когда он не шутил и ничего не пытался мне втолковывать.
«Я пришел на эту площадь. Одежда, меч, кинжал — все было в крови. Везде, где мы проходили, мы вышибали двери и кололи всех без разбора. Не знаю, скольких я убил — десять, сотню… Перед тем как нанести удар, мы орали, возвещая о своем появлении короткими резкими криками, и от наших криков люди цепенели, у них перехватывало дыхание. Площадь была завалена давлеными фруктами и залита маслом. Здесь было тихо, голоса доносились откуда-то издалека, казалось, это место обошли, забыли. Я держал кинжал наготове, и лезвие посверкивало на солнце. Вдруг мне показалось, что кто-то скользнул мимо меня. Я обернулся и ударил, ударил ее прежде, чем увидел. Я разглядел ее только в тот момент, когда уже перерезал ей горло. Один короткий миг мы смотрели друг на друга, пока ее тело оседало. Я не успевал отдавать себе отчет в том, что я делаю. Не было времени. Через мгновение я был уже далеко, у входа в какой-то дом, меня захлестнула толпа, в которой уже невозможно было отличить моих соотечественников от перепуганных горожан. Потом все смешалось, и падающие тела все стали на одно лицо. Они не оказывали сопротивления, как безжизненные куклы, у них не было оружия, и, наверное, мы должны были их миловать. А у нас, наоборот, от бешенства ломались клинки, когда мы кололи направо и налево, втыкая их то в тела, то в каменные стены домов, то в мостовую. Так я оказался у кафедрального собора, и все стихло. Не помню, когда я вошел в собор, сразу или днем позже. Помню, что я отстегнул меч и рухнул на пол. Я был настолько забрызган кровью, что сам мог сойти за убитого».
Может, Ахмед вычитал эту историю в какой-нибудь книге? Разум мой отказывался ему верить, но, глядя в его глаза, я понимала, что он не врет, и молча, настороженно слушала. У меня не хватало сил его судить. В его рассказе меня поразила одна деталь: взгляд женщины, оседавшей на землю, когда кровь из ее горла хлестала фонтаном. Не веря, я уже решила поверить, решила, что все услышанное — эпизод из сказки, плод воображения, и для меня не имело значения, как соотнести все это с реальностью. Мы сидели на площади, и я ждала от Ахмеда следующих деталей того мира, который только он мог обрисовать так, словно сам все видел.
«… Ахмед-паша был моим отцом, по крайней мере, мне так говорили, когда я был ребенком. Я увидел его, только когда стал взрослым. По происхождению он был славянин, стал янычаром, потом великим визирем, впал в немилость, и его заключили в замок Анадолу Хизар на Босфоре. Экспедиция в Отранто и Пулью против неверных была ему очень кстати. Он снарядил для нее 80 вооруженных кораблей. К славным воинам, собиравшимся покорить эти города, присоединился и я. Мне хотелось на поле боя доказать отцу, на что я способен. Мой щит на солнце отсвечивал золотом, а лезвие меча просто ослепляло. Мы вгляделись в землю напротив маяка, по-арабски ylan qulesi, того самого, что вы зовете Змеиной башней, и дали залп из пушек. Когда мы вошли в город, в нас не было жалости. Однако мне выпал жестокий жребий убить ту женщину, что успела взглянуть на меня перед смертью. И вот я здесь, Велли, я готов показаться любому, кто умеет читать в моей судьбе. Но не бойся, я не привидение, я живой человек, осужденный пережить самого себя, а эта участь пострашнее…»
Последнюю фразу он произнес угодливо, и у меня снова возникло чувство, что он ведет со мной игру, понимая, что в этой игре мы с ним партнеры, и в данный момент я ему подыгрываю: «Велли, мозаика включала много человеческих изображений, и у всех глаза были, как у той женщины, которая смотрела на меня и не видела, ослепленная изумлением, что умирает вот так, без крика, без страха, мгновенно, словно по ошибке судьбы. Я увидел грязную, запыленную мозаику. На полу лежало много наших, и они почти закрывали его телами. Кроме того собор был полон всякой живности, по настеленной на полу соломе бродили кони, куры… Многие из наших спали сном праведников: ведь они славно послужили своему Богу и побили неверных. В соборе стояла тьма, света факелов не хватало, чтобы осветить нефы. Я медленно добрел до абсиды, пристально вглядываясь в те уголки, где было хоть немного света, словно отыскивая врагов и не веря, что все кончено, и результат нашего большого похода налицо: кучка молящихся пленников да тела, сваленные в кучу не берегу или оставленные у стен домов истекать кровью и глядеть перед собой невидящими глазами. Многие из наших были ранены и стонали. Мне говорили, что местного епископа живьем разрубили пополам на глазах у всех, и с ним пришлось немало повозиться, ибо он брыкался и кричал. Может, так оно и было: не знаю, не видел. Зато видел, как на костре, сложенном из обломков деревянного креста кафедрального собора, варили еду. Я искал, с кем поговорить. Мне было страшно, и я никому не мог довериться. Мне все казалось, что на меня кто-то пристально смотрит, вернее, кто-то пристально смотрел на меня, пока слабело женское тело, словно становясь со смертью легче и меньше. Я не осмеливался обернуться на того, кто неподвижно стоял у меня за спиной, готовый подставиться под мой клинок и умереть. Уже вечерело, крики постепенно замолкали, кровь запекалась и приобретала нефтяной оттенок. Я двинулся по улицам в поисках этого взгляда, полного либо страха, либо глубокой ненависти. Кто бы ни был человек, стоявший тогда за моей спиной, он не стал бы спасаться от моего клинка. Казалось, он исчез — то ли был убит, то ли находился среди пленных. Так оно и оказалось: я поймал на себе ненавидящий взгляд одного из самых юных пленников, предназначенных на вывоз в Валлону. Я просил, чтобы его отдали мне, но меня не послушали: его участь была уже решена, и после галеры он должен был стать рабом. Мне очень хотелось его прикончить, чтобы больше не судили меня эти глаза, но я ничего не мог сделать. Надо было обернуться сразу, и тем же клинком снести ему голову. А теперь было поздно. Ахмед-паша уже распорядился судьбой пленников: одни должны были отправиться в рабство, другие — сложить головы на камень, дабы быть обезглавлены единым ударом. Не могу сказать, что ждало этого юношу. Да и конец той ночи я помню смутно: кто-то играл нашу музыку, я каким-то образом выбрался из города, хотя это и было чистым безрассудством, а потом я кого-то ограбил и убил. Ограбил я спящего человека, а когда он проснулся, я изранил ему лицо клинком. Я устал убивать, но должен же я был что-то сделать, чтобы он на меня не смотрел! Я убежал в поля и бродил там без цели, не зная, где я нахожусь, и сильно рискуя, потому что меня самого могли в любой момент убить. Но я был везучим». Откуда взял Ахмед эту историю? Священник кафедрального собора даже слушать ее не пожелал, обвинив меня в кощунственных фантазиях. Он остановил меня криком, призывая вспомнить, как выглядит Сатана на мозаике. Знал ли он Ахмеда? Догадывался ли, с кем я говорила? Я хотела правды об этом человеке, но никто не мог мне помочь. Кто он? Сумасшедший, фантом, нечистая сила? А может, это я сошла с ума и беседую с собственной тенью на крошечной церковной площади, где все меня могут услышать? Кто даст мне ответ? Почему никто не избавит меня от этого Ахмеда? Белокурый доктор явно смущен: «Ахмед? Ты что, не понимаешь, что это за имя? Неужели ты всерьез полагаешь, что кто-то здесь может его носить? В Отранто всего 3 000 жителей. Не может быть, чтобы его никто не знал и не мог сказать, кто он». Короче говоря, все считали естественным, что какой-то человек, сидя со мной рядом на ступеньках церкви Сан-Пьетро, выстроенной по греческому образцу и гораздо более древней, чем кафедральный собор, рассказывал мне о резне в Отранто, в которой он, якобы, сам принимал участие. И было в порядке вещей, что за это время никто не прошел мимо, ни в одном окне не мелькнуло ни силуэта, и даже церковный сторож не вышел на закате, как обычно, запереть храм на засов. Так я и сказала доктору. Ничего, совсем ничего не было слышно, только волны бились о скалы, словно желая смыть Отранто. Чтобы взять город, турки трудились 14 дней: «Мы приплыли 28 июля, но город пал только 11 августа. Понимаешь, так было предначертано, так должно было случиться. Для всех это был праздник, а для меня — предзнаменование. Я знал, что останусь здесь навсегда. Она взглянула на меня, и теперь я был обречен вечно переживать эту сцену: как я вхожу на площадь, кричу, вижу тень, и мой клинок в ослеплении подводит меня, движимый одновременно и страхом, и инерцией убийства. Я вскидываю руку и с силой ее опускаю. И только в тот момент, когда чувствую струю крови на подбородке, понимаю что такое эти глаза. Белли, мы так тебя ждали, чтобы все, наконец, обрело покой и вернулось на круги своя».
Я долго думала над этими словами. Ахмед произнес их без всякой иронии: «Мы ждали тебя, Велли… Мы ждали тебя, Велли…». Сколько же раз он это повторил? Не помню, как он исчез, не знаю, оставил ли он меня сидеть на ступеньках церкви или проводил до дома, окна которого выходили на кафедральный собор. Есть моменты, когда бесполезно спрашивать себя, стоит ли верить выдумкам. И нет смысла доискиваться до истины. Я так никогда и не узнала, кто был в действительности Ахмед. По его рассказу выходило, что он провел здесь все время с 11 августа 1480 года до наших дней. Кафедральный собор из его рассказа осквернен грязными башмаками, копытами коней и кровью. Вот он, передо мной. И вот мозаика, она не меняется уже 900 лет. И это значит, что Ахмед обманщик. Я понимаю, что мои аргументы ничего не стоят. За словами Ахмеда кроется история, которая пока от меня ускользает. Но мне ее расскажут, я заставлю ее рассказать во что бы то ни стало. По ту сторону соборной мозаики есть мозаика другая, составленная из кусочков моей жизни, жизни моей матери и всех, о ком здесь идет речь. Реставрируя соборный пол по крохотным кусочкам, я отдавала себе отчет в том, что собирать надо две мозаики. Рисунок падре Панталеоне мы восстанавливали сообща. Но был еще другой рисунок, который только я сама могла восстановить. И этот рисунок замыкал круг. Я понимала, что отправной точкой для обретения ясности станет то, что пока скрыто во мраке, не поддается разумению и подчас кажется абсурдным. Усесться на ступеньки церкви с фантомом по имени Ахмед было первым из того, что мне предстояло осуществить. И ничего не стоили доводы тех, кто владеет разумом и обороняется им от фантомов и наваждений, преследующих нас всю жизнь. Бывают моменты, когда разум становится всего лишь пристанью без пищи, без тени и питьевой воды: так, всего лишь видимость спасения. Я пришла к выводу, что обе мозаики надо читать вместе. Только так обретала смысл судьба, забросившая меня в этот город, повернутый лицом к Востоку.
Я шел за чужестранкой до самого входа, потому что знал, что при этом свете, делающим цвета осязаемыми и живыми, она обязательно придет посмотреть на мозаику. Я сделал так, чтобы она увидела ее, словно впервые. Я подарил ей мою мозаику, чудесным образом открыв крышу собора.
Но даже я не могу ускорять события. Чтобы вновь увидеть эти глаза, я должен ждать, хотя хорошо знаю, что предначертание свершится.
Я читаю судьбы, как открытые книги, и умею видеть то, чего никто не видит. Я могу идти рядом. И останавливать мир вокруг нее. Я подарю ей собор таким, каким он был тогда, я подарю ей мозаику Панталеоне. Сверкающую и не скрытую лесами.
Она примет это за галлюцинацию и решит, что слишком доверилась свету, который обманчиво изменяет формы и заставляет звучать пустоту.
Я видел, как чужестранка говорила с Турком. С тем самым, что убил ее и отнял у меня зрение. Турок ждал ее. Ждал столетия. Отчаявшись ее встретить.
IX
Откуда же читать ее? С основания дерева или с кроны? С абсиды или с главного портала? Я ищу и не нахожу бокового входа в собор. В конце XV века он был открыт, а теперь его нет, будто его замуровали. По этой детали я начинаю понимать, что либо я сплю, и собор мне снится, либо я нахожусь под каким-то сильным внушением. Гляжу вверх; розетка дает прямое освещение, совсем как полуденное солнце. Колонны отбрасывают на мозаику ритмичные, как музыка, тени. Не видно ни Капеллы Мучеников, ни витрин с мощами. Потолок совсем другой, часть фресок на стенах уже разрушена. Может, это и сон, но меня не покидает ощущение, что я нахожусь в соборе сразу после того, как город покинул последний из турок Ахмеда-Паши. В храме чем-то сильно пахнет, и все перевернуто вверх дном. Одна мозаика кажется нетронутой и такой яркой, какой я ее ни разу не видела. Если я пойду от двух слонов, держащих дерево, то прочту мозаику, как это делали латиняне, западный народ, а если начну с противоположного конца, то попаду в совсем иной мир. Если я иду от абсиды, то оказываюсь на Востоке, в Византии. И мне навстречу сразу попадается король Артур верхом на козле, а рядом — Каин и Авель. Каин бьет склоненного Авеля дубиной. Я усаживаюсь возле этой сиены, которая нуждалась в реставрации, потому что у Авеля недоставало нескольких кусочков мозаики на груди. Но в мозаике, которая сейчас передо мной, нет недостающих пластинок, она смотрится великолепно, полна жизни и движения. В манере рисунка мозаики, изобилующего деталями, в резких контурах фигур чувствуется что-то варварское и в то же время неотразимое.
Глядя на мозаику, я часто задавалась вопросом, что же она на самом деле означает. Вряд ли это только своеобразная средневековая энциклопедия, цепь разрозненных эпизодов из истории человечества, которые прекрасно известны любому из верующих, ежедневно посещающих церковь. Рисунок, прочитанный от абсиды, явно адресовался тем, кто хорошо знал «Физиолога»[9] и средневековый бестиарий и был знаком с апокрифическими Евангелиями, пришедшими с Востока через арабов. Эта мозаика начинается с греха гордыни, с Вавилонской башни и с Александра Великого, сидящего между двух грифонов. Он повинен в том, что слишком на многое посягнул.
Гордыня и вина. Восстанавливая мозаику, я долго жила среди ее пластинок, и мне всегда выпадало глядеть на нее, начиная с портала, в привычном направлении. Здесь все понятно: гордыня и грех наказаны. Вот строится Ноев Ковчег, вот потоп, вот рыбы заглатывают людей. После картин потопа появляется оливковая ветвь, и воцаряется мир. Я двигаюсь по рисунку в этом единственно возможном направлении и понимаю, что двигаться по-другому боюсь. Я боюсь прочесть мозаику наоборот, и здесь, в крепости Бога, мне особенно страшно. Мозаику можно прочесть, только двигаясь по сюжету рисунка. Теперь, когда у нас на вооружении есть фотография, мы можем прочесть ее так, как никогда не удалось бы ни средневековому прихожанину, ни прихожанину XIX века. Мы видим ее целиком, и это глубоко впечатляет, хотя и противоречит ее природе. Я прохожу между надписями, которые прерывают рисунок, переводя от одного эпизода к другому. Вот я уже над круглыми картинками, изображающими месяцы календарного года. Каждый месяц представлен своей работой, ибо труд помогает избежать греха. И дерево, чей огромный ствол пересекает всю церковь — это путь к спасению, к искуплению. Это путь верующих, которые по рисунку мозаики изучали Евангелия, роман об Александре, цикл легенд о короле Артуре. До мозаики падре Панталеоне нигде в мире ничего подобного не было. Почему же норманны пожелали, чтобы этот удивительный хоровод символов, это чудо искусства было сотворено именно здесь, на южной окраине Европы?
Непонятно, для чего служат два слона, на которых все держится, и маленький слоненок между ними. Кто они? Адам и Ева? А малыш — Христос? За годы, проведенные в Отранто, я много слышала о мозаике. Но то были рассуждения строго научные: описания, комментарии к деталям. Что они могут объяснить? Как, например, попал император Александр в рисунок религиозного содержания? И почему ствол дерева, как перст указующий и обличающий, упирается прямо в картину первородного греха? Первородный грех — вот что было ключом к мозаике, двигало рукой падре Панталеоне и вдохновляло его. Но тогда причем здесь шахматная доска? Чисто арабский элемент? Возможно. И элементы письма внутри кругов, и олифаны, охотничьи рога, и изображения многих животных — тоже явно арабского происхождения. И все это такое ясное, четкое и яркое, словно мозаику только что сложили.
Но как же так? Как попала я в эту церковь? И почему здесь никого нет? Ни следов реставрационной работы, ни людей… Куда они все подевались? Ахмед подвел меня ко входу, словно заранее зная, что я войду, но перед тем, как быстро зашагать по узкой улочке к замку, оглянулся на колокольню кафедрального собора. Я тоже оглянулась, и мне показалось, что там кто-то есть. Задаваться вопросом, почему мне обязательно надо войти, я не стала. Войдя в собор, я сразу же оказалась у него в плену: я не узнавала его, он был совсем другой, не тот, который я видела столько раз. Мозаика сияла великолепием. Никакая реставрация не могла бы добиться такого эффекта. Я потеряла направление и пошла по кругу, махнув рукой на все попытки найти смысл мозаики. Мне захотелось разглядеть ее поближе, почувствовать отсветы камня, и я опустилась на колени, прижавшись лицом к полу.
Дальше я иду быстро, словно нахожусь на тележке осадной машины, и мне надо очень быстро осмотреть весь пол. Пробегаю глазами сцены сельской жизни в двенадцати кругах, где одновременно указаны и знаки зодиака. Для чего они нужны? Видимо, чтобы дать направление. Отчего библейские сцены здесь уступают место чисто бытовым, где крестьянин пашет на быках под изображением чашек весов? Я приближаю лицо к чашкам. Они кажутся двумя фонариками или воздушными шариками. Можно различить пальцы на босых ногах пахаря. На той мозаике, что я реставрировала, такие детали терялись. И я понимаю, что передо мной совсем другая мозаика, меньше пострадавшая от времени.
Я возвращаюсь к верхушке дерева, чтобы снова увидеть короля Артура. Но теперь на нем нет короны! Я распускаю волосы и прячу лицо в ладони, сидя как раз на том месте, где через весь пол проходит ствол дерева Долго не открываю глаз, выжидаю. У меня нет уверенности, что все вернется на свои места. Хочется спать. Надо выбраться из собора и придти потом, позже. Не может быть, чтобы я увидела пол таким, какого больше не существует. Но дверь закрыта, кажется, заперта, и храм выглядит заброшенным. Точнее — забытым. Словно все случившееся покрыло патиной забвения мозаичный шедевр, тысячи пластинок мозаики, бегущих вдоль центрального нефа и забегающих в боковые.
«Мы ждали тебя, Велли», — сказал мне Ахмед. «Мы вас ждали», — сказал мне главный управляющий. Мозаика тоже меня ждала. Эта мозаика. И я вдруг понимаю, что вовсе не больна, что все мои видения — это привилегия, сокровище, которое должно меня осчастливить, а не опечалить. И оттого, что я нахожусь здесь, в месте абсолютно мне чужом и в то же время таком родном, меня захлестывает волна радости.
Я оглядываюсь, брожу, то и дело останавливаясь: вот Вавилонская башня, вот Александр Великий, слоны, Ноев ковчег и грифон, волк и страус. Цвета совсем другие: яркие, свежие. Кто-то, о ком я ничего не знаю, позволил мне увидеть их такими, какими их видел падре Панталеоне. И возродить их во всем блеске и великолепии не сможет никто. Я заглядываю в глаза коней и пантер, медленно иду мимо царицы Савской, мимо сирены с раздвоенным хвостом, мимо Соломона и тонконогого аиста и думаю, насколько же трудно будет восстановить недостающие де тали, следуя еле уловимой неточности рисунка, которая, в конечном счете, придает легкость каждой фигуре. К какому лагерю примкнуть? Согласиться с теми, кто находит вполне естественным, что в конце XII века нашелся человек, которому оказалось по плечу сложить во весь пол собора мозаику, вобравшую в себя огромную часть сакральной и профанной культуры эпохи? Или рассматривать ее как произведение загадочное, во многом необъяснимое, с чужеродными элементами, явно пришедшими с Востока? Эта мозаика не удивляет ни красотой, ни фактурой. Она не идет ни в какое сравнение с монреальской, не говоря уже о равеннской, где просто дух захватывает от переливов света и нахлынувших чувств. Здесь буйство света потрясает за пределами собора, а внутри него мозаика все время будит мысль, определенным образом сопрягая библейские сцены. Здесь, в Отранто, в строгом пустынном соборе, рисунок, вроде бы ничем не примечательный, обретает особый смысл. И норманны именно отсюда отплывали в крестовые походы, и арабы здесь были у себя дома. Кроме мозаики, ничто не указывает на страхи и тревоги этих мест, и только она дает информацию о монастыре святого Николая, от которого не осталось ничего, кроме нескольких колонн.
Теперь я осталась один на один с мозаикой в пустом соборе, и можно, наконец, отбросить все доводы разума по поводу этого шедевра, где каждый элемент имеет столько значений, что в конце концов так и остается загадкой. Я гляжу на фигуры, мысленно оживляя их, и думаю о том, чей замысел в них воплотился. Когда в это священное место ворвались турки, они не тронули мозаику, прочитав и восприняв ее по-своему. Я медленно иду от фигуры к фигуре, пристально вглядываясь и стараясь охватить взглядом как можно больше, хотя мозаика не предназначена для такого прочтения: ее надо читать медленно, страница за страницей, как книгу.
Черный дьявол, грех подлога, ворота в ад. За ними — Эриннии, змей с заостренным хвостом, чудовища и Церберы. Мозаика левого нефа должна устрашать, на ней изображен ад. Я поднимаю глаза к источнику света. Световой поток, льющийся с неба, разделен на шестнадцать абсолютно одинаковых лучей, и я замечаю, что он доходит в эту часть собора и освещает сцены ада. Что же это за свет, ведь в аду не может быть никакого света? Не успеваю ответить себе на этот вопрос, потому что слышу доносящуюся издалека музыку, которой тоже не может быть. В церкви, где я сейчас нахожусь, нет органа, она абсолютно пуста. В ней вообще ничего нет, кроме мозаики и убогого алтаря. Я оглядываюсь, всматриваюсь в пространство между колонн, но поначалу никого не вижу. Затем, приглядевшись получше, в правом нефе, почти на уровне двери, начинаю различать какую-то одетую в темное бледнолицую фигуру. Органист играет, хотя труб органа не видно. Звук словно льется отовсюду, обволакивая собор. Я так и остаюсь сидеть на полу. Мне страшно: кто этот органист, и почему его глаза, когда он играет, неподвижно уставлены в одну точку на потолке? Откуда здесь взялся орган? У меня нет сил ни подняться, ни бежать отсюда. Я стараюсь не смотреть на мозаику, потому что боюсь обнаружить органиста среди ее фигур. Я узнаю пьесу, которую он играет: это Прелюдия, Фуга и Вариация Сезара Франка. Кончив играть, органист каждый раз, немного подождав, начинает пьесу сначала, как будто кто-то послал его, чтобы подать мне знак этой нескончаемой музыкой.
Надо встать и пойти к органисту. Иными словами — проследить рисунок мозаики в сопровождении музыки. Тот, кто продумал и создал весь этот невероятный сценарий, хочет, чтобы я двигалась по мозаике на звук органной пьесы… Но я не трогаюсь с места. Свет гаснет, слабеет и не может уже просочиться в храм сквозь розетку. Тени от колонн удлиняются, и краски на полу, снившиеся мне долгие месяцы, тускнеют. Органист тоже погружается во мрак вместе со своей музыкой, которая звучит, повторяясь раз за разом, словно кто-то без конца ставит одну и ту же пластинку. Я уже перестала считать, сколько раз ее повторили. До соборного портала, туда, где слоны держат дерево, я добраться не могу. Он там, все глядит и глядит в одну точку невидящими глазами, которых я уже не различаю в темноте. Мне хочется закричать, но я боюсь разбудить невидимые тени, наверняка сопровождающие каждый мой шаг. Боюсь турецких коней, раненых, крови, лившейся во время штурма, боюсь, что вот-вот появится Ахмед и увлечет меня за собою в левый неф, где располагается ад, уготованный мне, а прежде всего ему, за то, что не успел вовремя остановить свой клинок. Я не хочу, чтобы портал открылся, и даже испытываю облегчение оттого, что на месте второго, левого, входа сейчас ничего нет, словно его и не строили никогда.
Я гляжу на фигуры мозаики, а сверху снова, как пытка, начинается Andantecantabile[10]. Я уже выучила его наизусть, могу повторить нота за нотой. Басы вздыбливают пластинки мозаики, как лаву, готовую выплеснуться из жерла вулкана, и они оживают. Каин резкими ударами бьет по голове Авеля, лестница, ведущая на вершину Вавилонской башни, приходит в движение, откуда-то слышатся голоса. Все зверье, изображенное на мозаике, начинает прыгать вокруг меня. Что же это такое? И нет ни врачей, ни Ахмеда, никого, кто мог бы вызволить меня отсюда. Надо выбираться самой. Ритм музыки замедляется. Органист, сыграв главную тему, приступил к фуге. Я вытягиваюсь на спине посреди центрального нефа, решив больше вообще никуда не смотреть, зажмурив глаза и приготовившись скорее умереть, чем терпеть все это дальше. Судя по тому, что Andantino[11]прозвучало более деликатно и раздумчиво, пьеса в очередной раз подошла к концу. Мои надежды на то, что он больше не станет повторять, не оправдались: он начал сначала. И тут я закричала, закричала громко, не боясь больше разбудить призраки, которых не желала видеть. От моего крика разнеслось эхо, к потолку взметнулся гул, и пол ответил содроганием.
Свет померк, тьма заволокла большую часть собора, и фигуры мозаики стали неразличимы. Я кричала от ужаса и от желания освободиться от неминуемой, невыносимой кары. Музыка смолкла, а я не могла в это поверить. Она все звучала и звучала у меня в ушах, словно по инерции. Я внутренним слухом восполняла недостающие звуки, внутренним зрением восполняла недостающие фигуры, невидимые в темноте. Теперь я превратилась в мотор, дающий движение всему, что происходило. Я сама была и светом, и генератором звуков, сама командовала событиями. Страх сменился ощущением всемогущества и силы, которое выплеснулось в долгом раскате смеха. Смех окончательно заглушил музыку, погрузил собор во тьму и растворил в этой тьме рисунок розетки. И наступила тишина. Потом послышалось тихое постукивание палки. Я вгляделась получше: орган исчез, а дверь портала, наконец, открылась, впустив поток синего света, и сбор осветился кобальтом ночного неба. Органист ощупью нашел выход, и звук его палки долго затихал вдалеке. Я поднялась, ошеломленная, опустошенная, и, не глядя больше на мозаику, которая вновь обрела прежний, такой знакомый, вид, побрела к выходу. Выглянув наружу и увидев клочок неба над площадью, я поняла, что синева была предрассветной. Я опустилась на ступеньки лестницы музея напротив соборного фасада и колокольни и смотрела на темные окна своего дома. А потом кто-то взял меня под руку и распахнул передо мной входную дверь.
Мне дали понять, что я счастливица, но никогда не понимала до конца своего счастья. Меня предупредили, что у мозаики есть два направления: одно от первородного греха ведет к спасению, другое же, противоположное, на первый взгляд заставляет тебя повернуть назад, а на самом деле приводит к первопричине всего сущего, к основанию, не имеющего корней, дерева, чей ствол держат загадочные слоны.
Я вышла из портала, возвращаясь назад этой дорогой, и в смятении и тоске пыталась понять, почему я оказалась здесь, и кто подверг меня этому испытанию. Подумав о слепом органисте, игравшем Франка, я вспомнила, что в детстве слушала эту пьесу в амстердамской церкви. Тогда со мной была мама. Кто-то привел меня к вратам ада, а потом помог выбраться. И неважно, что я не в себе, и уже потеряла всякую надежду вынырнуть из сна и избавиться от мозаики, меняющей цвета.
Когда я увидела кобальтовое небо, поняла, что могу выйти, и что внешний мир ничуть не изменился, я смирилась со своим предназначением, которое уже начала угадывать. И тогда я вспомнила, кто говорил мне об органисте из собора, вспомнила тот день, когда весь мир замер, и даже дети замолчали, вспомнила застывшее море и слепого незнакомца, может, того самого, что играл в соборе на возникшем из пустоты органе. Я вспомнила слова Ахмеда.
И я задумалась над своей судьбой и над ее связью с судьбой города: может быть, откровения соборной мозаики помогут, наконец, собрать мозаику моей жизни, чей рисунок не менее загадочен, чем фигуры падре Панталеоне.
Никто не понял, почему юноша, вместо того, чтобы радоваться возвращению домой, задумал снова уехать, и на этот раз навсегда. Никто не понял, почему он спешил, чего боялся, словно не желая больше видеть этого города, обращенного лицом на Восток. Он никому не сказал, куда едет, сел на первый попавшийся корабль. Доплыть до Испании ему было мало.
Он добрался до Голландии. Так рассказал бывавший там купец. И кто-то спросил его, не сошел ли с ума тот юноша, ибо он нашел способ огранки алмазов.
Говорят, что алмазы дают бессмертие и обладают необыкновенной силой: они могут властвовать над призраками. «Физиологус» утверждает, что алмазы поддаются обработке только свежей кровью жертвенного козла, заколотого ночью.
Я видел, как чужестранку ослепило солнце, огромный алмаз. Я видел, как она разглядывала Короля Артура, который в мозаике сидит верхом на козле, на жертвенном животном.
Гранить алмазы означает создавать свет. Это божественное ремесло. Временами святотатственное. Оно равно открытию философского камня, и должно сохраняться в тайне.
X
Я проспала два дня и две ночи. Кто-то перенес меня в постель, когда я была в беспамятстве. Мне снилась мозаика, осыпанная драгоценными камнями: рубинами, изумрудами, но больше всего было алмазов. Играла та же музыка, и меня угрожающе обступали трубы органа, огромные, как корабельные мачты. Мне снился морской шторм, каким его рассказывал отец, ни разу не плававший по морю. То был шторм деда, настигавший его на Востоке; то был ментальный шторм, сразивший маму. В ее шторме бушевали голоса. Они бежали вперегонки, напоминая собой полифоническую пьесу; именно так объяснила она однажды отцу. Голоса то чередовались, то звучали вместе, слова превращались в музыку и походили на мелодичный и певучий рокот морских волн.
Я проснулась, разбуженная солнечным лучом, согревшим щеку, и поняла, что тело мое достаточно отдохнуло. Я оделась получше (было уже утро, и я не представляла еще, сколько проспала) и вышла из подъезда, который выходил как раз на церковную площадь. Розетка собора показалась мне еще больше, а суровый фасад создавал впечатление, что я стою перед крепостной стеной. Издалека, из улочки, ведущей к морю, опершись на палку, за мной наблюдал старик. И весь город казался еще более сонным, чем я.
Я вошла в собор через центральный вход. Мозаика была такой, какой я привыкла ее видеть, реставрация подходила к концу. В пыльном воздухе собора витал дух особой сосредоточенности места, где идет серьезная работа, где потомкам обеспечивают возможность и дальше любоваться шедевром искусства. Я прекрасно помнила все свои галлюцинации и понимала, что это случилось наяву. Меня мучил страх, что придется жить в изоляции от всех: ведь мало кому смогу я рассказать о своих необъяснимых переживаниях. Я подошла к двум реставраторам, работавшим вместе со мной. «Корону короля Артура придется убрать. Она тут не нужна. Ее добавил неопытный реставратор в девятнадцатом веке. Погляди на рисунок». Я удивилась: вот уж не думала, что в первоначальной мозаике короны не было. А мне казалось, что я знаю каждую деталь этого пола. Неужели забыла? Я вспомнила ту ночь в соборе и ту мозаику. Там на Артуре тоже не было короны; таким я его и запомнила, без короны, верхом на козле. С меня было достаточно и совпадений, и знаков судьбы, и демонов. Однажды Ахмед сказал, что в Отранто все говорят о призраках, только не знают, где их искать. Я их не искала и не за тем сюда приехала, но они что-то часто стали мне являться. От них я спасалась под крылом белокурого доктора, думая, что рок можно одолеть медицинскими снадобьями. Это привело только к тому, что он начал смотреть на меня так, словно я посягнула на его ясную уверенность. Все было очень просто: я не замечала уступок или перемен в его отношении ко мне, а он не изменил клятве Гиппократа, не отказался от капель и склянок, одним словом — ни от чего, что составляло суть его твердой позиции. Он, светловолосый житель Отранто, словно пришедший издалека, продолжал опекать меня, а я, такая же светловолосая голландка, словно родившаяся и всегда жившая в этих краях, позволяла ему себя лечить. Однажды он заявил мне, что только мы, чужестранцы, способны видеть и представлять себе призраков. Он заметил это как бы вскользь, про себя, а глаза говорили другое, и впервые его взгляд затуманился тенью сомнения. Всего лишь на миг, но этого было достаточно. Больше я ничего не расскажу этому человеку: он сам боится, и надо уважить его страхи, вынудившие его столько лет прожить в городе и ни разу не усомниться. И не мне суждено в следующий раз погасить его взгляд. Теперь я знала, что ни его глаза, ни его лекарства меня не спасут. Снадобья заставляли меня спать и отнимали сны. Сознание отключалось, мысли исчезали. А его взгляд, затравленный постоянным стремлением не выдать страха, ослаблял мою связь с миром, и я уподоблялась дрейфующему кораблю. Когда я спросила его слепом органисте, игравшем пьесу, которую я слышала в детстве вместе с матерью, он вздрогнул и разбил вдребезги мензурку с успокоительным. Он посмотрел на меня необычно долгим взглядом, но я лежала с закрытыми глазами, не желая, чтобы он догадался. Священник кафедрального собора однажды, показывая мне орган, который тоже был на реставрации, упомянул, что ослепший органист, много лет игравший на службах, имел сына-медика. Итак, соборный органист был отцом белокурого доктора, от какой-то болезни потерял зрение и теперь почти не выходил из дома и перестал играть. «Доктор, я видела, как слепой органист, одетый в черное, играл Прелюдию Сезара Франка, знаете такого композитора? Доктор, на самом деле никакого органиста не было, и орган располагался напротив портала. Все это были призраки: и органист, и мозаика, и музыка, которую я слышала. Все. Понимаете?».
Мензурка разбилась вдребезги, доктор взглянул на свой палец и поморщился то ли от боли, то ли от смущения. Я видела, что он в замешательстве, я уже достаточно научилась его понимать и знала, насколько он уверен в себе на людях и насколько ему не хватает выдержки, когда он попадает в ситуацию, затрудняющую общение.
Я знала, с кем говорю. Знала, что органист — его отец. Знала, какой силой внушения обладают совпадения. А он удивился и испугался, как ребенок, и на какое-то время мы поменялись ролями: теперь он просил у меня помощи, не осмеливаясь, однако, в глубине души себе это позволить. На самом деле я ошибалась: то был не страх, а тоска. И у меня закралось сомнение: а вдруг он воспринял это как игру с моей стороны? Вдруг он заподозрил, что я хочу убедить его в своей правоте при помощи аргументов из его личной жизни? Но как я могла умолчать о той ночи и о двух днях, что я проспала без всяких лекарств?
Мензурка разбилась вдребезги, и он начал над собой подтрунивать: «Такого со мной раньше не бывало», — сказал он, смеясь, и прибавил: «Не сумел дозировать силу рук. Надо сказать, что в детстве я тоже играл на органе, и отец учил меня, что клавиш надо касаться легко. С какой силой ни ударишь по клавише — звук останется тем же. Я разве не говорил вам, что мой отец был органистом кафедрального собора? Ах да, не говорил. В органе меня всегда поражала одна вещь: звук не получается сразу. Вы нажимаете на клавишу, и звук путешествует по трубам, и только потом его можно услышать. Звук всегда отстает, особенно в быстром темпе: вы играете, а музыка звучит с опозданием больше чем на миг. Много раз, разговаривая с вами, я думал об этой особенности механики. Вы мне что-то рассказывали, а я понимал с опозданием. Звук, значение ваших слов, доходили до меня не раньше, чем пройдут все трубы моей памяти и будут переведены на язык моего опыта. Поначалу так не было. Поначалу я делал свое дело, ведь я врач, и где бы я ни родился, здесь или в другом месте, это дела не меняет. Потом что-то начало меняться внутри меня. И с тех пор ваши слова стали во мне соотноситься с чем-то более глубоким, личным. Это происходило помимо моей воли. Каждый раз вы рассказывали, а я словно возвращался назад. Греческий, я слышал, как вы говорили по-гречески, мои дед и бабка разговаривали на этом языке, его знал отец. Вы произносили фразы, которых я не понимал, но они отзывались в моей памяти родным звуком. Ваше растерянное лицо и ясные глаза заставили меня признать, что во многих из нас есть что-то необъяснимо чужое, непохожее. Такому рационалисту, как я, нелегко было все это осмыслить. Как я могу теперь вас лечить, если я для себя решил, что рассудок ваш в порядке, а психику не изменили абсолютно здоровые страхи и видения? Как только я начинал понимать, что как медик, как психиатр способен разгадать тайну, вы отнимали у меня эту тайну. Сколько раз я просил вас рассказывать мне абсолютно все, что вас беспокоит? И каждый раз у меня возникало ощущение, что вы боитесь продолжать, двигаться вперед в рассказе».
Он слишком много говорил, но я не пыталась его остановить. Он не понимал, что, если и он сдался, то у меня не остается больше ни единой зацепки, потому что я надеялась только на него. Он вызывал меня на откровенность, а я пряталась и отступала, все больше и больше опасаясь этого разговора и пугаясь своего открытия, кто был его отец. Я еще не знала, что за этим последует, и теперь мне становится смешно при мысли о том, как он мне об этом сообщил, нехотя, словно стыдясь. Он отвернулся, закрыл глаза, и всем своим видом показывал, что едва сдерживается. Потом спросил, не хочу ли я пройтись немного, чего с ним никогда не бывало. Я глядела на него с тревогой, потому что ко мне пришло чувство настоящего одиночества: теперь я превратилась в пациентку, вынужденную спасать своего психоаналитика от его собственных неврозов. Я ответила, что прогуляюсь с ним охотно, и ждала, что же он еще мне поведает. По его тону было ясно, что он хотел бы рассказать все, но стеснялся, годами уверенный, что некоторых вещей просто не может быть. Я согласилась, хотя и знала, что это неосторожно Мне хотелось на одном из бастионов повстречать Ахмеда и понять, видел ли его мой спокойный и рассудительный доктор и говорил ли с ним о чем-нибудь. Все это проносилось в моей голове, пока я, слегка пошатываясь, спускалась по каменным ступенькам.
«Я долго видел вас, как сквозь стекло И стекло это становилось все тоньше и прозрачнее. Сначала оно было словно затерто наждаком, и я различал только общую форму ваших рассказов, не улавливая деталей. Потом я начал видеть все лучше и лучше, и, наконец, совсем хорошо. Но стекло присутствует, Велли, я это чувствую, и оно мешает мне идти дальше. Правда, теперь оно стало таким тонким, что может разбиться от легкого прикосновения моих пальцев, и наши миры соприкоснутся. Я перестану быть просто наблюдателем и войду туда, где находитесь вы со всеми вашими призраками. Я боюсь только подойти не с той стороны. Надеюсь, вы меня поймете. Куда пойдем?».
Пойдем в предместье Минервы, к церкви Мучеников. Надо разобраться, насколько меня еще шатает. Теперь я была сильной стороной, а он слабой. Я не умела управляться с мензурками и лекарствами, хотя сейчас занялась бы этим с радостью. Теперь моя очередь поддержать белокурого доктора в его бреду и помрачении сознания, как раз на том месте, где были обезглавлены 800 несчастных. Он понял, что я угадала его слабость, и уже ничего не будет, как прежде, ни для него, ни для меня. Я перестала быть его пациенткой. Не знаю, повлияло ли это на него, замутилась ли его привычная ясность страхом, тоской и стремлением к исповеди. На этой ясности все последнее время держалась изрядная часть моей жизни. Теперь я шла ко дну вместе с белокурым доктором, Ахмедом, стариком из Галатины и слепцом с бастионов.
Я взглянула на него: он был бледен, и, казалось, с трудом взбирался на последние ступеньки лестницы перед церковью. Солнце заходило, окрашивая небо в красные тона. Отец рассказывал, что красный и голубой — цвета не простые, это цвета света и мрака. «Знаешь, Велли, — говорил он, — солнце освещает землю, а вокруг земли воздух, и солнечные лучи, перемешиваясь в воздухе, создают свет. Но в космическом пространстве, там, очень высоко, царит абсолютный мрак, абсолютная чернота. Когда на земле день, ты, посмотрев наверх, в вечный мрак, должна бы увидеть черное небо». Тут он останавливался, проверяя, слежу ли я за ходом его мысли. Потом продолжал с довольной улыбкой: «На самом же деле вместо черного ты видишь голубое небо, потому что все вокруг освещено солнцем. Отсюда мы можем заключить, что тьма сквозь свет видится голубой. Чтобы понять тайну красок, ты должна понять, что такое рассвет и закат: свет сквозь тьму видится красным».
На воспоминания об отцовских рассуждениях меня навело красное закатное небо, когда я поднималась на холм Минервы. Если искать свет за пределами тьмы, если искать объяснения тому мраку, в котором я жила, надо помнить, что все должно отсвечивать красным: «Цвет крови, а голубой — цвет кислорода. Кровь всегда нуждается в кислороде». Отец любил рассказывать такие байки, даже если сам себе не верил. Указывая на небо, я растолковывала моему напуганному доктору, почему голубой и красный так важны для понимания смены тьмы и света. Он посмотрел на меня. К чему вели мои рассуждения? К тому, что только через красный цвет я могу вытащить на свет то, что составляло темную сторону моей жизни? Может, мне и случалось так думать. Отец часто пользовался очень темной красной краской, почти черной. Вот он, густой, вязкий, удушливый цвет; цвет изначальный, едва вышедший из мрака, первая ступень познания. Дальше ярко-красные тона постепенно распускались, побеждая мрак, отметая все предчувствия, даже самые мрачные. Теряя густоту, они наливались вином, отсвечивали красной глиной, разжигая гнев и желание битвы. Но гнев не выплескивался наружу, смиряясь и утихая. И небо приобретало лиловый оттенок, где смешиваются голубой и красный. И мне подумалось, что это смешение красок, их наплывы и разводы и вправду отражают игру тьмы и света. С полчаса мы шли под закатным солнцем, не говоря ни слова, и эти мысли теснились в моей голове. Наконец впереди показалась церковь, и мы присели на ступеньки. Под нами расстилался город, за нашими спинами — море. Юго-западный ветер доносил до нас шум прибоя. Всю дорогу он молчал, но я знала, что его рассказ не окончен: «Мой отец медленно терял зрение. Врожденное заболевание, думаю, наследственное. Дед тоже видел очень плохо. Может, и я, в конце концов, ослепну. Отец ничего не видел с пятидесяти лет. Тебе покажется странным, но он говорил, что, когда засыпает, видит красный свет, а когда просыпается, голубой. Отец умер два года назад, у нас с сестрой на руках. Он давно уже не играл, и я думал, что соборный орган теперь совсем заброшен. Умер он в августе, в разгар туристского сезона. Хоронили его в спешке, народу пришло мало. Отец был очень стар, и не все его помнили. Из детей я самый младший. Знаешь. Велли, почему я тебе это рассказываю? Потому, что, когда его похоронили, все вдруг переменилось, и о нем начали вспоминать. Ко мне не приходили сказать, что любили его, и теперь всем не хватает его музыки, что старика все знали, и теперь оплакивают. Нет, мне говорили: „Доктор Калт, с полчаса назад здесь проходил ваш отец, и мы помогли ему перейти улицу“. Поначалу я глядел на них в смятении: кто они такие, что им нужно, и с кем я, в конце концов, имею дело? С идиотами, которые не знают, что его уже много месяцев нет в живых? Я думал, что на двоих-троих таких сумасшедших, утверждавших, что видели его то в кафе, то на улице, дело кончится. Однако, шли месяцы, а история продолжалась: похоже, никто не знал, что мой отец, Дамиано Калт, умер в своей постели, на руках у родных. Казалось, все об этом позабыли. Более того: все считали, что он жив, и в одиночку разгуливает по городу. Это он-то, которому весь мир виделся смутными красными и голубыми пятнами! Тогда я решил, что это не они, а я сошел с ума. А потом в городе, где все рассуждают о мучениках и призраках, как о невинной забаве, появилась ты, Велли. И я услышал, как ты заговорила по-гречески и завела речь о демонах. Мне это не понравилось. Ведь ты приехала издалека и ничего не можешь знать. И вдруг ты начинаешь мне рассказывать, что видела человека, который утверждает, что был здесь в 1480 году, и слепого старика, по всем приметам похожего на моего отца. И говоришь, что не только видела его на бастионах, но слышала, как он играл свою любимую вещь, Прелюдию, Фугу и Вариации Сезара Франка. Не смотри на меня так, Велли. Свой путь здесь, в Отранто, ты продолжишь одна. Ни мои лекарства, ни мои слова утешения тебе больше не помогут. Я уже потерял надежду на то, что живу в измерении, которое все остальные полагают нормальным.%Мы с тобой в пограничной зоне. Тонкий покров здравого смысла пока защищает нас, но не знаю, надолго ли. По крайней мере, для меня. Я долго надеялся, что встречу того человека, и смогу разглядеть, вправду ли он похож на отца. Но мне не дано видеть призраки. Может, вместе с тобой у меня бы и получилось, но я не знаю, хочу ли этого Лечение закончено. Вместо того, чтобы вылечить тебя, я заболел сам. А может, наоборот, излечился от странной болезни, поражающей всякого, кто думает, что всегда на все имеет ответы».
«Велли, Велли, погляди на закат, какое красное небо! Здесь такого почти не бывает, ведь оно всегда затянуто облаками. Но сегодня кажется, будто мы на юге…». У меня в ушах все звучит тонкий голос вечно перепачканного краской человека, указывающего мне на небо из окна. Он ни разу не путешествовал и воспринимал мир сквозь призму оттенков своих акварелей и масляных красок. Ими он этот мир моделировал с помощью кисточек, холстов и растворителей. Интересно, что сказал бы он о том юге, где я нахожусь, о невероятном мире, сотканном из таинственных появлений и исчезновений? Какой свет придумал бы он, чтобы это передать? Однажды он сказал мне, что ему никогда не удавалось копировать Ван Гога. Не получался цвет: в подлинниках он возникал из глубины, словно рождаясь сам собой, и любая попытка это воспроизвести выходила грубой. Существуют цвета и свет, которые невозможно прочесть или описать, потому что они суть проекции нас самих, нашей жизни. Это цвета тех невероятных снов, что не остаются нам даже в воспоминаниях, настолько они хрупки, неосознанны и интимны. Смогу ли я сказать опечаленному доктору, что призраки не поддаются цветовым описаниям? Что меня поразил черный тон одежды органиста, а бледность его лица не передать никакой белой краской? Скажу ли я ему, что начала понимать, куда тянутся те нити случая, что принято называть судьбой?
Диамант, то есть алмаз, по-гречески означает «неодолимый». Говорят, что первые алмазы на Запад завез Александр Великий из Индии. У Плиния есть описание шести из них. Разумеется, это неполный перечень: многие неизвестные камни разными путями доходили отсюда до Рима.
Юноша, бежавший из Константинополя, на корабле случайно встретился с армянином родом из Мадраса. Этот человек говорил, что владеет тайной света.
Он показал юноше мешочек, плотно прикрученный к поясу, и сказал, что везет в Венецию сокровище, и фортуна ему благоволит. И еще добавил, что камни не дают достаточно света, потому что они не огранены. Только один, огромный, сиял, как никакой другой в целом мире.
Человек этот собирался доплыть через Адриатическое море до Венеции, но не доплыл даже до Отранто. Он утонул в море. Его попутчики говорили о несчастном случае.
Константинопольский беглец сошел на берег в Отранто. К его поясу был плотно прикручен мешочек. Он никому не сказал о сокровище и решил, что увезет камни как можно дальше отсюда.
XI
Случай священен. Теперь я свободна, и море может увлечь меня за собой и уничтожить, как поступило оно с моей матерью. Поэтому слушайте меня внимательно.
Случай — это судьба, рок. Я знаю, что здесь, в Отранто, в городе-мученике, где турки обезглавили 800 человек, жертвоприношениями, муками и выбором жертв распоряжается случай. Я хочу, чтобы вы все меня услышали, чтобы мой голос перекрыл рокот моря. Для этого я вернулась сюда, к башне, которую раньше всего видели арабы, достигавшие этих берегов. Я одна, и говорю в полный голос. Может, кто и захочет меня схватить, как уже было однажды, но перед ним окажется другая женщина. Я не стану дрожать от смятения и страха, не буду искать понимания. Есть греческие слова, которые гласят: Mi me mini mai, chiatéramu, mai, mai canèa cerò dé ja coma eghèttimo, coma, coma na spernisi. Это означает: не жди меня, дочь моя, никогда, никогда, ни годы, ни века, ни ради добра, ни ради зла.
Я бы хотела дождаться здесь своей матери, хотела, чтобы случай привел ее ко мне из-за моря. Но судьба не даст мне этого счастья. Случаю было угодно выбрать Отранто для высадки турок. Случаю было угодно выбрать восемьсот мучеников. Жертвоприношением всегда правит случай, а не причина. Слушайте меня, полуденные демоны, те, что способны являться мне, отражая августовское солнце! Знайте, что я тоже научилась играть в кости! Я усвоила, что ваши отсветы поражают цель наугад, и задала себе кощунственный вопрос: а что, если истина совсем в другом, и к ней не причастны ни боги, ни люди, ни разум? Я спрашивала себя, что со мной творится, я просила людей сведущих и рассудительных разъяснить мне мои кошмары. А они сказали, что на мой вопрос ответа нет, и сами начали у меня допытываться, что же было той точкой, на которой запнулся, остановился город, уничтоженный нестерпимой катастрофой. Нестерпимой — из-за отсутствия первопричины, из-за полной нелепости. Отранто — это мука, это потемневшее небо, это кровь, текущая по улицам. Слушайте меня внимательно: здесь произошло первоначальное злодеяние, которое продолжает управлять всеми событиями. Я это знаю, это начертано в мозаике: бойня и восемьсот голов, покатившихся с холма, сделали это место священным. Здесь, в Отранто, себя явило Насилие, слепое и случайное, которое выбирает жертву, не рассуждая, и обрушивается на нее со всей силой.
Ахмед обо всем этом не догадывается, хотя и над ним тяготеет ужас. Ему удалось лишь рассказать о лице и глазах убитой женщины. На Божьем лике, что испепеляет смертного, осмелившегося на него взглянуть, видны отсветы жертвы, насилия и рока. Эдип объявлял себя сыном Тихэ, то есть Судьбы, Случая. И я вдруг поняла, что здесь, в Отранто, случай и жертва были словами не простыми. Мне говорил об этом один из студентов-практикантов незадолго до начала реставрации. Студенты работали в соборе последние дни, потом собор должны были закрыть и начать снимать пол. По нефам бродил еще последний из студентов, пожалуй, самый юный, француз, приехавший сюда на специальную стипендию. Я долго не обращала на него внимания: меня захлестывала радость оттого, что я, наконец, в Отранто и вижу долгожданную мозаику. Я умирала от нетерпения приступить к работе и ничего не замечала вокруг себя, включая и этого французского паренька. Но однажды я услышала из-за плеча его голос:
«Вы никогда не задавались вопросом, почему в мозаике такое большое место занимает сюжет об Ионе? I Усмотрите, ему уделено больше внимания, чем Вавилонской башне и Всемирному потопу. Это не может быть случайностью».
«А вы как это объясняете?», — спросила я.
«Хоть эта мысль и может показаться сумасшедшей, я начинаю думать, что в мозаике заключено пророчество о муках и жертвах идрунтинцев в 1480 году. Оно начертано за 300 лет до события. Вы ведь знаете историю Ионы? Бог отправил Иону в Ниневию с проповедью покаяния и с предсказанием гибели города за нечестивость, если жители его не раскаются. Иона же не послушался Бога и уплыл на корабле в Испанию. Тогда Бог наслал на море страшный шторм, и корабль стал тонуть. Напуганные моряки начали кричать и молиться, каждый своему Богу, и сбрасывать с палубы все подряд, чтобы облегчить корабль. Иона же преспокойно спал в трюме. Кормчий разбудил его и тоже велел молиться: „Может, Бог вразумит нас, и мы не пропадем“. И тут наступает ключевой момент: молитвы явно недостаточно, и моряки договариваются бросить жребий и узнать, кто повинен в постигшей их беде. Жребий пал на Иону».
Я остановилась и пристально на него взглянула, потом молча двинулась за ним. Рассказывая, парень указывал мне на фигуры мозаики, словно пользуясь ими для иллюстрации.
«Корабль в данном случае представляет собой общество, а шторм — религиозный кризис. Знаете, почему бросают жребий, чтобы узнать виновного в кризисной ситуации? Потому что под давлением силы надо доверяться случаю. Случай приравнивается к Божеству, он не может ошибиться. Когда жребий пал на Иону, тот вынужден был все рассказать. Моряки поначалу пытались всячески выручить Иону, но потом бросили его в море, чтобы не дать погубить невинных. И море успокоилось. Жребий указал на жертву, а сообщество моряков спаслось, изгнав Иону и сразу после жертвоприношения обратившись к другому Богу: к Яхве».
До меня начал доходить смысл его слов, и мне стало страшно. Я почувствовала, что моя жизнь подвешена на тоненькой ниточке, целиком подчиняясь случайности. Я слушала его мягкий, вкрадчивый голос и понимала, что утешить меня он не в состоянии.
«В современном мире случай утратил свою божественную принадлежность. У древних все обстояло иначе. У них случай обладал всеми характеристиками сакрального свойства: он мог погубить, но мог и возвеличить. Падре Панталеоне это хорошо знал. Вот почему маленький библейский эпизод занимает у него такое место. Вот почему он изображает короля Артура, рыцаря Грааля, чаши Христовой, верхом на козле, то есть на жертвенном животном. И вот почему ни в какой другой мозаике фигура Каина, убивающего Авеля, не обладает такой пронзительной выразительностью».
Я спросила его о мучениках и о турках, явившихся сюда через 300 лет после того, как была закончена мозаика. Мне трудно было тогда понять, почему беда обрушилась именно на этот город, и по какой причине захватчики замучили столько стариков, женщин и детей, пытаясь обратить их в свою религию. Теперь я могу дать объяснение и этой жестокости, и тому, что турки разрушили в соборе все. Даже настенные фрески, а мозаику не тронули.
Много лет мучила меня проблема рока. Вся моя жизнь прошла под знаком подчинения странным обстоятельствам. Я задумывалась над тем, какое предначертание правило событиями, что разворачивались вокруг меня. Не могло быть случайностью ни исчезновение мамы, словно проглоченной морем, ни находка латинского документа в книге, которую никто никогда не открывал. Этот документ обозначил сюжет, немыслимый для нашей семьи, для спокойных голландцев, привыкших к тусклому северному свету. Сколько раз я спрашивала себя, что же такое совершил в Отранто тот человек, что добрался до наших земель после турецкого плена. Теперь я могу задавать эти вопросы, не бледнея, не испытывая тревожного беспокойства, без одышек и головокружений. Кто был отец этого человека, кто его вырастил, остались живы его родные или их тоже убили турки? Быть может, в числе 800 мучеников были и мои предки? Ответить на эти вопросы мне до сих пор не удалось, ничего нового я не открыла. Но теперь, возле башни, я чувствую, что правда обо мне и о жертвах, принесенных в этом городе, где-то рядом. Демоны кружат вокруг меня, пугают меня, но готовы открыть мне тайны прошлого и настоящего, готовы сбросить покров с того, о чем я пока не догадываюсь. Есть другая истина. Я готова к встрече с ней, сколь бы ужасной она ни оказалась. Даже если это будет свет испепеляющий.
Но раньше я должна убедиться, что тот самый рок, который Ахмед называл «цепью совпадений», а все остальные определяют как «волю богов» — не более чем случай, и мы сами приписываем ему ту или иную цель. Как же мне смириться с тем, что миром правит Бог, играющий в кости?
«С этим приходится мириться, — говорил студент, — еще и по другой причине. Вы ошиблись местом. Здесь одно из немногих во всем мире мест, где еще жива сакральность. Люди не отдают себе в этом отчета: они рассуждают о своих мертвых и ходят по мозаике. И если вы войдете в капеллу Мучеников, вы увидите огромные витрины, откуда беззастенчиво выглядывают черепа и кости, выставленные напоказ как символы смерти и жертвоприношения. Случаю было угодно, чтобы они покоились здесь. Не было никакой необходимости убивать их владельцев, но случаю было угодно, чтобы их казнили. Бог и с ними поиграл в кости. Идрунтинцы не скрывают этого ужаса, они выставляют его напоказ, словно не желая, чтобы он изгладился из памяти. Именно поэтому тела казненных оставались нетленными дольше года, хотя августовское солнце должно было превратить их в кашу. Они оставались нетленными до тех пор, пока оставалась неизменной изначальная жертва. Их перенесли в кафедральный собор, чтобы так было всегда. Поглядите, поглядите в их пустые глазницы. В них посрамление всей современной этнологии. Я приехал сюда затем, чтобы в этом разобраться. Мы с вами, фактически, делаем одно дело: мы пытаемся поддержать жизнь в необъяснимом чуде. Вы восстанавливаете старинную мозаику, я обследую такие места, как Отранто, чтобы понять, каким образом мы сегодня снова сталкиваемся с изначальным Насилием, которое давно успели позабыть и потерять из виду. Оно возвращается к нам посредством чуда. Ведь и Гераклит, и Еврипид это чувствовали, но не решались нарушить табу, не осмеливаясь открыто заявить, что именно на изначальном Насилии зиждется любое человеческое общество».
Я глядела на три огромные витрины и старалась представить себе, какие глаза смотрели там, где теперь зияют пустые глазницы, рассматривала форму черепов, пытаясь понять, что это были за люди, навечно приникшие теперь к стеклам витрин. А вот и белый камень виднеется под алтарем. На нем рубили эти головы. Тогда я еще не знала, что безвыходность и есть единственный путь к спасению от ужаса. У меня закружилась голова, и я решила, что, пока я нахожусь в Отранто, надо бы поостеречься этой экспозиции смерти, выставленной здесь в течение столетий.
Вернувшись к мозаике, я задумалась, почему король Артур изображен именно на козле. «Не знаю, — сказал студент. — Может, потому, что Артур — король Грааля, а Грааль хранил кровь Христову, кровь жертвенную. Козел же — символ жертвоприношения. А может, потому, что Артур был провожатым на пути в царство мертвых». Тут он замолчал. Я тоже ничего не ответила.
Тогда я еще совсем мало времени прожила в Отранто, но поняла, не знаю почему, что этот парень из Франции был последним, кто говорил со мной ясно и прямо. С этой минуты жизнь моя потекла между демонами и человеческими существами, которые отметали любую мысль о сверхъестественном. Я угодила между двух параллельных миров, никак друг с другом не сообщавшихся. Мои метания внутри этого чувственного манихейства[12] облегчал светловолосый доктор: он был для меня дверью между двумя мирами. Этому поборнику реализма выпало подбирать шифр к замку двери, ведущей на территорию, которую я не могу описать. Ветер, смешанный с солеными брызгами, может и вправду унести меня туда, но мне впервые ни капельки не страшно.
Бог, играющий в кости, устроил так, что я увидела покойного органиста, которого все считали живым, потому что встречали на бастионах. Благодаря той же божественной забаве я узнала, что человек, которого я называла белокурым доктором, и к которому приходила, как только начинались удушья и головокружения, на самом деле сын органиста. Если я не скажу правды, пусть на меня обрушатся остатки башни, наполовину уже снесенной ветрами и морем. Мне все равно никто не поверит. Ну и пусть. Мне нечего бояться, я появилась с другой стороны, оттуда, где не с кем биться об заклад. Если Бог, играющий в кости назначил мне объяснить миру, что этот город останется недвижен и неизменен в веках как символ бессмысленной жертвы, я это сделаю. Я напишу и расскажу об этом всем, и не посмотрю, что истории о призраках не принято ни записывать, ни рассказывать: их держат в тайне, пряча от шарлатанов.
Французский студент показался мне тогда просто чудаком, знающим толк в небылицах. Его истории не произвели на меня никакого впечатления, потому что я еще не понимала, о чем он, собственно, говорит. Он толковал, что мозаика была для Отранто пророчеством жертвы. Он шел рядом со мной, низко склоняясь над мозаикой и то и дело нагибаясь, чтобы показать мне очередной сюжет или деталь. А я не поняла, что он и сам был пророком всего, что здесь произойдет со мной. Он рассказывал о вещах, которые я только сейчас начинаю понимать.
Я скажу всем, что теперь знаю тот полуденный час, когда появляются демоны. Я перестану прятаться в тень домов с высокими стенами. Только кому же мне сказать все это, как не самим демонам? Мне надоело их кружение. Пора перестать быть простым зрителем в их спектакле, пора начать разговаривать с ними. Я отправлюсь на поиски того старичка и бутылки масла, что оставил он у моего порога, и не попадусь больше в сети ни к каким видениям. Если Бог играет в кости, то нечего спрашивать у него правила игры. Я пойду на риск и брошу вызов тому случаю, что лежит в основе всего здесь происходящего. Разве не могу я изменить события, в которых мне предначертано участвовать, разве не могу переадресовать их и придать им новый смысл? Почему бы мне не разыскать тех людей, которых я не знала до сих пор, и о чьем существовании даже не догадывалась? Все это было мне недоступно, пока доктор не рассказал о своем отце.
Пока не закончена мозаика, я обречена бродить под черепами по мозаичным плиткам, которые и сохранились только потому, что местная беднота входила в храм босиком. Теперь работа подходит к концу, и мозаика подарила мне ключи ко многим своим тайнам. Теперь я, наконец, могу сесть и сама бросить кости, став участником того ритуала, что не требует больше ни поиска связей, ни объяснений.
Он плыл, сам не зная, куда занесут его корабль судьба и непогода. Гренада уже два года как пала во славу Изабеллы и Фердинанда, и ему пришлось плыть в Португалию. У Понтеведра и Сан-Себастьяна он потерпел кораблекрушение, но остался жив.
Он вознес Господу хвалебную молитву за свое спасение, и еще за то, что мешочек с камнями остался цел и невредим, и ни один камушек не выпал. Наконец, его прибило к прибрежным дюнам.
С собой у него был баул, и теперь он знал, куда его надо нести, потому что еще в Таррагоне ему сказали, что в эти края завозили драгоценные камни, и что их можно тут даже купить. Только вот никто знал, как их огранить и заставить засиять.
Ему казалось, что здесь он, наконец, навсегда забудет пережитый ужас. Камни сделали его богачом, и он смог прикупить их, еще.
Он владел секретом огранки, и потому был впереди остальных. Блеск его камней был ослепителен. Никакой Бог не мог бы сделать лучше.
XII
Отцу не удавалось копировать Ван Гога. Он делал вид, что сожалеет об этом только по экономическим соображениям: копии имели успех у туристов и давали хороший заработок. Но отцу они не удавались. «Видишь, цвета не те, — говорил он безутешно, — у меня не получается. Цвета принадлежат ему и только ему. Никак не выходит. Чего-то мне недостает».
Отец был превосходным мастером. Он мог скопировать любую картину, и его копии пользовались большой известностью. Великолепно получался у него Ван Дейк, и в передаче блеска бокалов, возникающих из ничего, из темноты, он был просто виртуозом. Он написал копию «Ночного дозора» почти в натуральную величину и хорошо на ней заработал. И Вермеер ему удавался на славу. «Если бы я взялся подделывать картины, то зарабатывал бы еще больше», — шутил он. А вот с Ван Гогом у него не получалось Чего ему недоставало? Я не понимала, и очень удивлялась, что мой отец, который умеет все, не может скопировать подсолнухи или комнату с жёлтыми окнами и голубыми дверьми.
Я так и не смогла этого понять, пока не приехала сюда и не увидела свет, мало отличавшийся от того, который видел Ван Гог в Арле, в Провансе. Отец никогда не путешествовал, даже по Голландии. Он пытался представить себе этот свет, но ему каждый раз чего-то не хватало. При всей своей непохожести отец и художник-самоубийца сходились в одном: миром правит свет. Свет формирует характеры, красит или, наоборот, старит женские лица, свет меняет мир, ощущение собственного тела, понимание окружающих тебя людей. Тот, кто собирается стать художником-копиистом, очень хорошо это знает. Отец был мастером такого класса, что мог бы преподавать в любой престижной художественной академии. Он знал о живописи все. Он владел всеми секретами красок, ему были знакомы все виды кистей от тех, которыми рисовали в XVI веке, до современных. Когда он познакомился с мамой, он учился в школе искусств в Амстердаме. Они встретились впервые на дороге в Нордвик. Мама была богата и жила одна. Ее семья веками занималась огранкой и продажей алмазов. Она рано осиротела: отец умер, когда ей было всего несколько месяцев, мать десять лет спустя. Ее вырастила бабушка, которая пустила по ветру весь семейный капитал, неудачно вложив деньги. Когда мама познакомилась с отцом и увидела его за мольбертом, она сразу спросила, может ли он скопировать Ван Гога. «Я ответил, что не могу, хотя много раз пытался. Только „Едоки картофеля“ получились: там нет света, все полотно заволакивает тень. Но твоей маме хотелось другого, хотелось Ван Гоговских олив и ярких красок».
Отец говорил, что цвета у этого художника возникают изнутри, их невозможно наложить на холст. Несколько раз он водил меня в музей Ван Гога. Мы отправлялись туда по утрам. Отец считал, что днем Ван Гог принимает оттенки, которые могут опечалить меня. Утренний свет подходил лучше. Некоторые картины он миновал очень быстро, словно чего-то боясь, а перед другими задерживался надолго, наклонившись над ними и пристально вглядываясь. Обычно, стоя перед картиной, он мог говорить часами, а здесь не произносил ни слова. Он притихал, напуганный обилием света и мазками, которые заставляли воспринимать полотно скорее как скульптуру, чем как живопись. Только однажды я спросила его, почему он никогда не копирует Ван Гога, и он просто ответил: «Я на это не способен».
Этот ответ меня поразил. Для меня отец был величайшим в мире художником. Он мог все. Почему же у него не получались эти картины с насыщенными цветами и искаженными пропорциями лиц? И почему от некоторых картин он отводил глаза, словно испугавшись? «Я никогда не был на юге, Велли, у меня нет представления о тамошних оттенках цвета. Я ведь не писал картин, я их только копировал, да и то не все, потому что некоторых цветов определенной насыщенности я просто не видел и не могу их воспроизвести».
Я много раз спрашивала его, почему мы не едем на юг, и он отвечал всегда одинаково: «Мы поедем, когда захочет мама, но она не хочет». Я никак не могла понять, почему отец не осуществит свою мечту, почему мама боится юга, с его красками, солнцем и светом. И почему отец с ней заодно? Это молчаливое соглашение, в которое меня не посвятили, казалось мне абсурдным. Когда я подросла, история нашего предка и место под названием Отранто понемногу стали у меня связываться со странностями матери. А потом все завертелось с неимоверной быстротой. Мама начала уезжать на пляж, и отец провожал ее тем же взглядом, каким глядел на картины Ван Гога: в его глазах светились робость, страх и зависть. Видимо, ту же зависть он испытывал к полотнам безумного художника, который никак ему не давался, и чье умение делать цвет живым он так высоко ценил. Ван Гога привез на юг Поль Гоген, он показал ему густой, объемный свет. Значит, в том, что Ван Гог стал великим художником, есть и его заслуга. В равной мере на нем лежит и ответственность за то, что Ван Гог не выдержал этого света и сошел с ума.
Внешностью и манерой двигаться мой отец был типичный северянин: в нем чувствовалась привычка постоянно себя беречь. Мама, наоборот: гибкая и подвижная, она шла, будто ступала по мягкой, колеблющейся почве. Когда я видела их вместе, я сразу понимала, что они выходцы из совершенно разных миров. Отец, сдержанный и осмотрительный, скромно занимал свою нишу в этом мире; мать — решительная и властная, была способна неожиданно ворваться в любое пространство и так же неожиданно из него исчезнуть. Тогда у маяка я следила за ней не только из любопытства: каждое ее движение было исполнено красоты и изящества.
Я родилась, когда мои родители были, в сущности, детьми, и мне досталась трудная доля единственного ребенка странной женщины со слабым материнским инстинктом. Со мной, в основном, возился отец, и, когда он рисовал, я всегда сидела рядом. Мама была образом прекрасным, но далеким. Она очень красиво двигалась, особенно, когда ускоряла шаг или бежала, и ее крепкая грудь вздрагивала в такт движению. Я любила ее, и после ее исчезновения быстро поняла, что, если сама в скорости отсюда не уеду, то потеряю все. Каким бы ни был город Отранто, для меня он стал единственной возможностью спастись от дюн на пляже, от северного ветра и северного света. Уехать туда означало вернуться. О возвращении в нашей семье много говорили, но ничего не предпринимали. Среди родни матери мореплавателей не было: семья жила в достатке и не видела смысла в путешествиях. Так получилось, что не оставшись учиться в Амстердаме и уехав в Лейду, я оказалась единственной, кто действительно подумал об отъезде. Когда я решила стать художником-реставратором, то выбрала мозаику и камень. Мне не хотелось заниматься холстами и фресками: душу тяготила мысль, что не отец, а кто-то другой будет учить меня тому, что составляло неотъемлемую часть моей жизни, и было связано только с ним, с его голосом. Ведь с тех пор, как я себя помню, отец всегда что-то рассказывал о живописи, как занятную волшебную сказку. Так, как он, этого не сумел бы никто. Когда я выросла, он часто призывал на помощь цвет, чтобы помочь мне разобраться в своих чувствах. Помню, как-то раз я вернулась домой не в духе, потерпев маленькое фиаско на любовном фронте. Тогда мне это казалось трагедией, хотя теперь я даже не помню имени мальчишки, с которым поссорилась. Отец быстро понял мое состояние, взял меня под руку, подвел к чистому загрунтованному холсту и начал большими мазками класть на него ярко-зеленую краску. Потом, не прекращая работы, заговорил: «Смотри, Велли, какой дивный цвет. Когда-то его называли зелень Паоло Веронезе. Эту краску делают из арсената меди. Она очень хороша, но нестабильна. Достаточно подержать ее на свету, и она начнет менять оттенок, пока не почернеет. На свету краски обнажают свою сущность, они сами говорят, можно ли им довериться. Тебе надо было внимательнее вглядеться в свой зеленый цвет, Велли, подержать его на свету, на солнце. Ты доверилась, подумала, что дивный, радостный блеск останется, но он тебя обманул. Арсенат меди[13] не выносит света».
Моя любовная история обернулась для отца странной субстанцией по имени арсенат меди. Маме все это было безразлично. Она всегда знала, что я не смогу жить в этой стране, и говорила, что мне предназначено уехать, то есть, вернуться. Пока мама была здорова, она часто рассказывала мне историю загадочного семейного документа. Когда я достаточно подросла, она показала мне пергамент со словами: «Там, между строк, словно открыта дверь».
Прошло много времени, и Ахмед сказал мне «Бог послал турок, чтобы сбылся его каприз, и мозаика обрела смысл. В тот день солнце сияло над Саленто, как никогда. Невероятный свет». Мама рассказывала, что ее средиземноморский предок был первым в их семье, кто научился огранке алмазов. От него и пошла та ветвь, которая закончилась на мне, и это он принес семье богатство, уже почти растаявшее. Бабушка была очень богата, но разорилась. Однажды гадалка сказала бабушке и матери, что деньги не удерживаются у нас потому, что везение и благополучие нашей семьи началось с преступления, повлекшего за собой долгие скитания по морям. И вовсе не богатство определяло судьбы членов семьи, и огранка алмазов была для них не просто заработком: таким образом они бросали вызов Невозможному, состязались с Богом-шутником, который в одно яркое солнечное утро повернулся спиной к морю. У отца есть картина, где усталый, сгорбленный человек, отвернувшись, уходит от скал, за которыми виднеется город. Город кажется сошедшим с одной из фресок Симоне Мартини, а человек похож на автопортрет Рембрандта из музея Уффици. Город явно вымышленный: в нашем доме сведения об Отранто имелись только в книге Итальянского Туристического клуба 1937 года издания, посвященной южным районам Италии. Там о городе говорилось в короткой аннотации на 109-й странице с несколькими черно-белыми фотографиями. Одна фотография мозаики, другая — соборного нефа и третья — вид города и порта с птичьего полета. Никакой другой информации ни у меня, ни у отца не было, и он нарисовал крепостные стены, которые могли бы принадлежать любому городу. Никто не заботился о том, чтобы раздобыть другие книги, и Отранто оставался городом без лица, словно мы из поколения в поколение стремились защититься от его чар. Впервые я увидела эту мозаику во Флоренции в одной из книг по искусству: большое цветное изображение раскладывалось на четыре страницы. Помню странное ощущение, охватившее меня: я боялась вглядеться получше, чтобы не открылось что-то такое. В то время я училась во Флоренции и не планировала сразу отправляться в Отранто, хотя и знала точно, что приеду сюда. Время меня образумило, и я уже не могла просто так сесть в поезд и поехать. Я решила, что отправить меня в Отранто должен случай, а не моя собственная воля. Я приобретала мастерство и уже прекрасно знала мозаики Равенны. Теперь наступила очередь мозаики Отранто, и я получила туда направление.
В детстве я была уверена, что в Отранто идут все поезда, плывут все корабли. Я мечтала, как проплыву мимо берегов Нормандии, увижу вдали страну басков, побуду в Лиссабоне ровно столько, сколько нужно, чтобы посмотреть город, и возьму курс на Танжер. Я представляла себе, как буду писать отцу длинные письма о переливах цвета, которых он никогда не видел, и мои приключения станут для него приключениями красок. Я расскажу ему, сколько оттенков у моря, как меняют цвет горы на горизонте. И пока я пишу ему длинные письма, корабль через Средиземное море приплывет в Отранто. А там я напишу роман о приключениях нашего предка в конце XV века. И я буду искать встреч с привидениями: я ведь читала Замок Отранто. Я наснимаю кучу фотографий и пошлю их маме. Пусть смотрит, она ведь не очень любит читать. И она увидит, как выглядит ее замок, кафедральный собор и мозаика. В детстве я верила, что тот замок, что виднелся на фотографии в книжке, принадлежал нам. Мы, правда, сдали его туркам, но только после храброй обороны. Здесь, проходя по городу, я часто ловлю на себе взгляды людей, считающих меня чужестранкой, которая приехала слишком издалека, чтобы понять эти места. И тогда я возвращаюсь памятью к серым дням, проведенным в одиночестве детской за мальчишескими играми в сражения и осады. Отец сделал мне замок из гипса, и выглядел этот замок довольно странно: у него не было ни зубцов на башнях и стенах, ни подъемного моста. Посреди замка имелся двор с внутренними постройками, и это придавало замку вид деревеньки с маленькими окнами и террасами. Когда я приехала в Пулью[14] и увидела крепость, оказалось, что она выстроена точно так же, как макет, сделанный отцом. Это был замок моих детских игр. У моих родителей, кроме меня, не было детей: после родов мама перенесла сильную депрессию, и отец говорил, что именно тогда она начала слышать «голоса». Потом все как будто прошло, и мама занялась моим воспитанием, молчаливая и легкая, как всегда. В лаборатории она работала только по утрам. Она научилась гранить камни наперекор бабушке, которая считала, что эта работа не для нее, и что от вспышек и отблесков бриллиантов может повредиться рассудок. Но мама упрямо твердила, что это сильнее ее, и только работа дает ей какое-то подобие облегчения. Так продолжалось довольно долго. Видимо, слишком долго для такой женщины, как мама. Каждое утро она уезжала на работу и возвращалась только после обеда. Я уже знала время ее возвращения и ждала у двери, не покажется ли вдалеке бледно-желтый фонарь ее велосипеда, который порой был почти невидим из-за внезапно опустившегося тумана.
Мама умела гранить алмазы, совсем, как Джованни Леондарио, первый в Голландии. Он обучился этому то ли у одного индуса в Константинополе, то ли у некоего Людвига Ван Беркена, который потом уехал в Брюгге и там демонстрировал свое искусство перед Карлом II Смелым, герцогом Бургундским. Это ремесло перешло по наследству к трем сыновьям Леондарио, потом к внукам, и так дальше. А потом работа прервалась, и на протяжении трех поколений никто не хотел учиться искусству творить свет. Захотела только мама, и ее решению невозможно было противиться. Десять лет занималась она этой тонкой, волшебной работой, а потом сказала, что больше не может. Она заявила об этом за столом, когда отец наливал ей суп. Мы сидели на кухне. Тогда еще не сломали стенку между кухней и соседней комнатой, чтобы расширить кухню, и она была очень тесной. Я сидела за столом, мама рядом со мной, опершись локтем на скатерть и подперев рукой затылок. Бокалы на столе казались мутными, без отблесков. Посередине стола красовался букет черных тюльпанов, которые отец часто покупал на цветочном рынке. Мама нервно растерла затылок ладонью и сказала: «Больше на работу не пойду. Они сказали мне, что я не должна больше этим заниматься. Не знаю, почему».
Отец осторожно поставил супницу. Потом негромко и озабоченно спросил: «Кто тебе сказал, что ты не должна больше работать?»
«Они сказали. Последнее время я и так просила, чтобы мне давали рубины и изумруды. Алмазы даже видеть не хотелось. Каждый раз после работы мир казался темным, а небо — невыносимо и беспросветно серым. А потом они сказали, что я больше не могу работать. Не должна…»
Отец сел, очень внимательно прислушиваясь к каждому слову матери. Она не смотрела на него, уставив неподвижный взгляд в окно, на кирпичную стену напротив. Потом уронила ложку в тарелку и сказала:
«Сегодня я на работе не была. Я уехала из города к маяку в Нордвик. Там мне и разъяснили, что ко мне это больше отношения не имеет. Вернуться должна будет Велли, не я. Они не хотят, чтобы я испытывала судьбу. Я больше не могу…»
Тогда я впервые услышала разговор о маяке. Конечно, я ничего не поняла. Как я смогу вернуться, и куда? Город Отранто, моя мечта и игра, предмет моих детских фантазий, впервые приобрел совсем другие черты. Он превратился в конкретное место, куда мне предназначено отправиться, и я была бессильна что-либо изменить. Я не уверена, что тогда, девчонкой, я так точно это восприняла. Скорее, понимание пришло позже. Конечно, мне стало не по себе, и, прежде всего, потому, что я увидела, как побледнел отец. В тот день он не стал работать и не отходил от меня. Он сказал, что мама устала, ей надо отдохнуть, и что теперь, поскольку она не будет ходить в лабораторию, она сможет больше времени проводить со мной. Но все его слова ровно ничего не значили. Я это поняла, поглядев на мать, вернее, на ее неподвижный силуэт в полумраке комнаты. Она сидела в кресле-качалке, и на самом деле мне были хорошо видны только ноги. Все это походило на одну из тех мрачноватых картин, которые время от времени рисовал отец. Они мне не нравились. И мне не нравились мамины замершие, неподвижные ноги, даже не пытавшиеся качнуть кресло. Казалось, она заснула, но это было не так. Мне хотелось понять, о чем она думает, почему молчит и кажется немного не в себе. Белокурый доктор не знает, что есть призраки, которые берут власть над живыми, и есть люди, ставшие призраками и неспособные обитать в мире живых. Он рассказывал, как мучительно было ему узнать, что его умерший отец бродит по городу, и его все принимают за живого. Моя мама была со мной, живая и невредимая, но меня пугал ее неподвижный, чужой, скорбный взгляд.
Из событий того дня я помню еще, что поднялась со стула и начала петь какую-то песенку. Я пела все громче и громче, я уже почти орала, в надежде на то, что в соседней комнате хоть что-то пошевелится, стукнет, и мамины ноги примутся, наконец, раскачивать кресло. Небо очистилось от облаков и засияло такой синевой, какую в наших краях невозможно себе даже представить. Но ничего не произошло. Все осталось без движения, и я заплакала. В этот день я поняла, что не смогу жить в таком месте, где солнце с трудом пробивается сквозь облака, где море такое холодное и такого безжизненного цвета. Я сбегу отсюда. И потом — все равно у меня такая судьба. Или так выпал случай. Это я понимаю только теперь, в священном городе, где свет не дает передышки, насыщая все цвета и населяя улицы призраками.
Голоса маяка Нордвик походили на голоса Змеиной башни: скорее, вихри звуков, чем отдельно различимые звуки. Они были похожи на пение. Я слышал их, они провожали меня до самого Змеиного маяка, и я с наслаждением вдыхал в темноте запах моря. Они казались смешением говорящих и поющих голосов, которые сплетались, как затейливый узор на молитвенном коврике.
Она попала в эти звуковые вихри в один из серых северных дней. В этот день дул ветер, и дюны Нордвика казались белее обычного.
Вихри унесли ее, как последний легкий листок дерева с бесконечными корнями. Она оказалась здесь, под лазурным небом, у зеленого пенного моря. Но ее судьба была уже решена. Тот, кто попал в мир «голосов», будет ими унесен, и сделать тут ничего нельзя.
Я видел, как она скользила к горизонту. По Отранто она прошла, как видение. Парни соперничали друг с другом, чтобы, только коснуться губами ее глаз.
Но «голоса» увлекли ее за собой. Навсегда. Они сплетались причудливо, как лучи света, отраженные гранями бриллианта.
XIII
Я изумилась, снова увидев его: ведь прошло уже столько времени. Он все так же опирался на узловатую палку. Сначала я не поняла, кто это, и только когда он помахал мне рукой, узнала старика из Галатины. На этот раз я не позволила ему просто так уйти, подошла к нему и попросила проводить меня до церкви Сан-Пьетро. «Пойдемте помедленнее, я уже стар, и ноги плохо слушаются. У вас еще цело масло, которое я вам принес?» И, не дожидаясь моего ответа, удовлетворенно закивал головой. «Синьора, как вы нашли Отранто? Вам понравился город?» Я сразу спросила, как его зовут, и почему он вернулся. «Как почему я вернулся? Вы же сами позвали меня сюда из Галатины. Я получил записку, что меня ждут в Отранто, в том же месте, на площади, и что синьора хочет со мной поговорить. Я уже много лет не получал почты. На конверте стояло мое имя, то, под которым я записан в муниципалитете: Антонио. Меня никто никогда не называл Антонио. И фамилия была тоже моя. У нас в деревне не пользуются фамилиями: у нас в ходу прозвища. Их дают по приметам: высокий человек или низкий, или имеет какой-нибудь изъян; есть у него огород или оливки, телега или скотина. И потом, я не умею читать. Это почтальон сказал мне, что на конверте написаны мое имя и фамилия. За много лет я ни разу не встречал этого почтальона, должно быть, он нездешний. Я ему сказал, чтобы он распечатал письмо и сам прочитал. Там лежал листок, и на нем было написано об Отранто и о площади перед церковью, или перед кафедральным собором, как вы ее зовете. Я вспомнил, что уже видел вас однажды, но это было давно. И я подумал, что теперь в церкви все в порядке, пол стал снова таким, каким он был. И я смогу поглядеть на него, синьора, если не очень вас побеспокою. Видите ли, это очень старая история. В Галатине у меня есть дом. Но я родился здесь, за церковью, в детстве я из окна видел эти камни. Потом я уехал. Познакомился с девушкой из другого города и решил жениться. Но отсюда хотелось уехать, потому что день ото дня море пугало меня все больше и больше. Такой меня одолевал страх, что я не мог ни смотреть на море, ни слышать его плеск. И я уехал туда, где не было моря. Нашел дом в Галатине, завел скотину, и оливы у меня были — грех жаловаться! А вот детей не было, не рождались даже девочки. В деревне жила женщина, к которой обращались, если не было детей или вообще сильно не везло. Понять ее было трудно, потому что она засыпала на полуслове. Тогда ей умывали водой лицо, и она снова начинала говорить, не открывая глаз. Она сказала, что мне не надо бояться моря, потому что с моря больше никто не придет. Надо вернуться и много молиться. И я вернулся, синьора. И у входа в церковь снял башмаки, запачканные грязью, красной, как земля под моими оливами. И я увидел всех этих чудищ, зверей, короля в короне и дьявола. Я вспомнил, как в детстве мне говорили: „Если видишь, что кто-то выходит из моря, беги что есть сил и не давайся в руки!“. Меня, синьора, этот пол в соборе по-настоящему спас. Мне было так хорошо, я брел и разглядывал все картинки, и дерево, и месяцы, и времена года, и слонов. Там было море и земля, и король в Корине, и брат, убивающий брата. И тут священник спросил меня, нравится ли мне мозаика. Голос его шел будто бы с самого неба, и я испугался, потому что не ждал, что кто-то задаст мне такой вопрос. Не нашелся, что ответить, и тогда он начал мне рассказывать, что означает каждая сцена. Он сказал, что, если идти и смотреть все по порядку, то это равносильно пути к спасению. В конце пути исчезнут все мои грехи. Это было давно, синьора, я тогда еще хорошо видел, не то, что теперь. Я объяснил священнику, что у меня нет детей, и что та женщина велела мне вернуться и молиться. Священник спросил, что за женщина, и я назвал ее имя и прибавил, что она плоха и часто теряет сознание, и за ней надо ухаживать: однажды она упала и сломала бедро. И тогда он сказал, что у меня будут дети. Я благодарил Господа, я был согласен даже на девочку. Но детей все не было. Моих рук не хватало, чтобы вести хозяйство. Тогда я снова отправился к той женщине, только пошел теперь один, без жены. И женщина сказала мне, что я, наконец, вернулся, и не боюсь больше шума моря. Но судьба испытывает меня за давние грехи. Когда здесь были турки, кто-то из моих предков заплатил за свою голову. Она так и сказала, синьора: заплатил за свою голову. Золотом. И турки не отрубили ему голову, а отрубили кому-то другому. А он свел дружбу с турками, и вся эта кровь его миновала. Потом, когда турок прогнал герцог Калабрии, он сбежал из Отранто в какую-то из соседних деревень, никому не сказав, что продался туркам. Женщина велела мне подождать, если хватит терпения, и обещала назвать эту деревню. Она ее назвала: то была Галатина. Я бежал от моря туда же».
Старичок ковылял медленно. Голос его журчал, и по ходу разговора, он то и дело опирался на палку и украдкой поглядывал на меня, словно проверяя, какое впечатление производит. Врал он или не врал? И была ли в Галатине женщина, умевшая толковать прошлое? «Синьора, я знал, что вы здесь, еще тогда, когда приходил с бутылкой масла. В церкви говорили, что чужестранка приехала реставрировать мозаику и поселилась в доме напротив музея. Потому я вас и поджидал, понимаете? Вы правда не разбили бутылку с маслом?».
Вы правда не разбила бутылку с маслом? Этот пассаж о масле, что текло по улицам, когда турки убивали и резали население, я помнила хорошо. Но ведь фонарь маяка Змеиной башни заправляли маслом, и змей приползал и выпивал его. На гербе города изображена змея, ползущая по башне. В городе говорят, что змея символизирует реку Идро, то есть, Гидрум. И название Отранто происходит от древнего Гидрунтум. «Масло, синьора, это большое богатство. Турки испакостили и разбили все масляные кувшины, и богатство было потеряно. Но то, что творили они в те дни, не поддается никакому разумению и не укладывается ни в какой божеский закон, в том числе и в закон их Бога. Это был сущий ад: крики, стоны и всеобщее истребление».
В очередной раз нашелся некто, принявшийся пересказывать мне события того дня так, будто бы сам там был. Отранто словно бы существовал в расширенном времени, где сто лет равны десяти, где века коллапсируют, как звездная материя, и вся история доступна, спрессованная в ядро величиной с орех. Отранто и есть такое ядро, коллапсирующая звезда, в которой отражается вся вселенная, с ее историей и повседневной жизнью, где годы не движутся, и все обладает способностью к взаимопроникновению. Здесь призраки запросто разговаривают с тобой на улице, здесь все знают, что находятся не там, где находятся, здесь время не линейно, оно сворачивается и, свернувшись, замыкается. Ты можешь бродить по Отранто и ничего не замечать, потому что не умеешь проникнуть по ту сторону видимости. Но если попадешь в застывшее время этого города, то быстро поймешь, что здесь возможно все.
«Синьора, я должен вам сказать одну вещь. Не обижайтесь, но вы мне очень понравились, когда я увидел вас впервые. Я столько лет хожу сюда, что привык разуваться, даже если на улице не грязно. Я знаю здесь всех, и чужестранцев тоже. Отранто, знаете ли, город маленький. И я всем рассказываю, что у меня нет детей, потому что Господь наказал меня за чужую вину. Жена говорит, что это наказание вернуло мне молодость, что я очень изменился, и во мне появилось даже что-то от святого. Чепуха все это, хотя я действительно чувствую себя неплохо. Я не об этом хотел вам сказать. Часто, возвращаясь сюда на повозке, я останавливался передохнуть в садах за стенами города. Вы ведь там бывали, правда? И однажды я увидел сидящую там чужестранку. Прошло уже столько лет. Она была очень красива. И когда я вас увидел, то решил, что это она: вы похожи, как две капли воды. Я не мог поверить в это: ведь только Бог может подарить вечную молодость, оставив человека навсегда неизменным. Синьора, так вы не та женщина, которую я встречал много лет назад, и которую в Отранто называли чужестранкой?».
Нет, я не та женщина. Бог не наделил меня ни вечной молодостью, ни способностью год за годом бродить по городу, то исчезая, то появляясь. Та женщина, на которую я так похожа, и о которой мне говорил еще Козимино, могла быть только моей матерью, хотя это и противоречит любой логике. Я помню себя и отца в комиссариате Мордвина после трех бессонных ночей. Полиция уже начала терять надежду. Если мы ее не найдем, нам выдадут сертификат о предположительной смерти. Я твердила, что мама не умерла, что ее унесло море, а человек в форме, не поднимая глаз, сличал даты на документах о регистрации населения. Он даже нацепил очки, чтобы лучше разобраться. Казалось, его ничего не интересует, кроме документов мамы, найденных на пляже. Они были в равной мере вещественным доказательством как того, что она существовала, так и того, что ее может уже и не быть на свете. Ничто не могло смутить его смиренной любезности, даже сбивчивая речь испуганной девочки.
«Здесь в фамилии буква п или б?», — спросил он, повертев в руках тонкий листок с фотографией.
«Я…», — ответил отец тусклым от усталости голосом.
Для полицейского это было единственное сомнение. Остальное не в счет: в такую погоду в море невозможно остаться в живых. Теперь дело только за тем, чтобы найти тело. Он готов поклясться, что его найдут.
Тела, однако, так и не нашли. Дни шли за днями, и смерть становилась все более предположительной и все менее определенной. Когда старичок из Галатины поведал мне, что знавал женщину, как две капли воды похожую на меня, я почему-то вспомнила быстрый, из-под ресниц, взгляд полицейского, спрашивавшего мамину фамилию. Теперь я так же поглядывала на старичка, стараясь понять, случаен его визит или его кто-то прислал. Я уже давно не видела Ахмеда. Что же до белокурого доктора, то я к нему больше не пойду, и пусть он хоть вовсе пропадет. Теперь снова появился старик, и мне опять стало не по себе: места, обстоятельства, воспоминания и совпадения начинали явно складываться в некий рисунок. Даже усталая беспечность отца, занятого своими красками, казалась мне тайным предзнаменованием, которое я должна со временем понять. И огромная мозаика, где были уже предначертаны все сражения и совпадения, оракул из тысяч пластинок, назначена мне, как ребус, для разгадки. Мое призвание — спасти ее от вековой пыли истории и снова вернуть ее вечности. Я сделала такую мозаику, в какую мог сложиться только Отранто, город-мученик, город вне времени. Эта мозаика должна навеки остаться неизменной.
«Покажете мне обновленную мозаику?», — спросил старичок с таким видом, будто он был хозяином соборного пола, и спрашивал только из вежливости. Он, казалось, и не ждал ответа на свою просьбу: его не волновало, возьму я его с собой в собор или нет. Мозаика принадлежала ему и таким, как он. Каково же было мое предназначение? Сказать ли ему, что та женщина была моя мать? А если скажу, то вдруг я раз и навсегда войду в это искривленное, двойственное время и уже не смогу выйти из него? И стану появляться на перекрестьях городских улиц как полуденный демон, сама не понимая, кто я: живое существо или видение. А почему не воспользоваться этой привилегией среди привилегий? Что означает в мозаике фигура короля Артура, скачущего на козле? Народное верование гласит, что король Артур был проводником заблудших душ. Если и есть в мире место, где полно блуждающих, неприкаянных душ, так это Отранто. Пусть уж король ведет нас всех, и меня в том числе.
Словно подслушав мои мысли, старичок обернулся и спросил с видом жреца древнего культа: «Убрали ли вы корону с головы короля Артура в мозаике?».
И я тут же ответила, почти испугавшись: «Откуда вам известно, что короны не было?».
«Синьора, ведь мы здешние, понимаете. Если уж мы этого не знаем…».
«Я и то не знала, что корону сделал в XIX веке неумелый реставратор».
«Он вовсе не был неумелым, он всего лишь выполнил приказание».
При этих словах глаза его сверкнули, но лишь на миг; так порыв ветра приоткрывает дверь в незнакомую комнату, и ее изображение успевает отпечататься на сетчатке глаз, и тут же гаснет. Взгляд старичка снова сделался добродушным:
«Он не был неумелым, корону надо было надеть, потому что мало кто верил, что это король, и ему назначено вести за собой души. И никому другому. Однако здесь я должен остановиться».
Я попросила его не останавливаться, сначала вежливо и робко, а потом, встретив его бесстрастный, тяжелый взгляд, потеряла всякий контроль над собой. Впервые вопросы посыпались сами собой. Впервые я не теряла сознания, не просила о помощи, не просыпалась опустошенная и раздавленная реальностью, которой не понимала. Я сознавала, что мне назначено соединить две тоненькие ниточки, связующие случай и предначертание и высвечивающие невероятные миры. Я жила в Отранто, не понимая, кто я. Я сидела на берегу моря и ждала событий как мученица из страшной сказки. Я ждала турок или при зраков турок. Я ждала, что неприкаянные, лишенные душ люди запляшут вокруг меня, как в шабаше. Но теперь; должна сорвать покров, даже если это будет стоить мне жизни, должна войти в тот мир, которого поначалу стремилась бежать. Откуда старикашка из Галатины мог знать что когда-то в мозаике на голове Артура не было короны? И что он хотел сказать словами «мало кто верил»?
«Синьора, вы столько сразу хотите знать. И ведь я вал обо всем говорил, только вы не хотите верить, вас это пугает. Днем, при ярком солнце, вы видите тех, кого на самом деле нет. По ночам они вам снятся. Когда вы приехали, кое кто подумал, что вы вернулись, и поэтому вам ничего hi надо объяснять, вы сами все знаете. Почему вы спрашиваете меня о вещах, которые сами знаете? Почему они Bai пугают? Что я могу вам сказать? Что меня сразила дурная судьба? Что моя жена так и не поняла, почему у нас не было детей? Я ведь не мог объяснить ей, что беда шла издалека. Потому что здесь, в Отранто, внутри городских стен, все имеет давнюю историю. И вы тоже. И я не верю, что вы об этом не знаете. Все об этом знают».
Что еще спросить? Действительно ли та женщина, что бесцельно бродила в стенах города, была моя мать? Не было смысла спрашивать. Теперь я это знала и была в этом уверена. И не было смысла задаваться вопросом, куда она исчезла. Я знала, что она здесь, и ждала встречи с ней лицом к лицу при ярком солнце, в полуденный час.
«Все это знают, синьора. Здесь время остановилось. Оно остановилось двенадцатого августа. Понимаете, это чудо. Мучение все изменило. Даже камни домов теперь другие. Вы назовете меня невеждой, потому что камни не могут ничего помнить. Но здесь все по-другому. Этот город словно был накрыт горящей лавой. А потом его откопали таким, как он был. Здесь беда пришла с моря. Знаете, что в ясные дни, когда видно Албанию, с моря доносятся крики? Говорят, это кричат дети, которых турки резали первыми. Это не составляло труда, ведь они были самые слабые. А взрослые мужчины и женщины Отранто при виде кровожадных злодеев так напугались, что не нашли в себе сил бороться с ними. Их парализовал страх. И теперь, когда из-за моря видно землю, откуда они пришли, мы слышим крики. Когда земля исчезает, голоса стихают. Я тоже однажды слышал эти крики, потому я и боялся моря».
Больше он ничего не сказал. Не дожидаясь следующих вопросов, он отвернулся и медленно пошел прочь. Прежде чем завернуть за угол, он как-то передернулся и остановился. Несколько мгновений он не двигался, и я сделала несколько шагов за ним, решив, что ему плохо. Но он чуть обернулся, словно проверяя, что происходит у него за плечами, и двинулся дальше с резвостью, которой я от него не ожидала. А потом наступила тишина, и все вокруг меня, казалось, замерло, даже ветер. Такая тишина не могла наступить ни в каком другом месте. И я уселась ждать, впервые без страха, впервые почувствовав в себе силу, которую раньше не могла и вообразить.
Где же я теперь буду ждать чужестранку? Теперь, когда ее настигли волны всех морей, а голоса увели далеко. И свет открыл ей необыкновенные пейзажи. Теперь она умеет бродить по Отранто, как мы. Она стала одной из нас. И ее шаги кажутся все легче, спокойней и молчаливее.
Сейчас, когда я поджидаю чужестранку в том месте, которого она не знает, я чувствую, что небо меркнет. И души бегут из города.
Я вижу, как они толпятся на молу, кружат по стенам. Я прошу их, быть осторожнее и не показываться всем сразу. А они отвечают мне вопросом: какая судьба ей уготована? Что с ней делать? Что ее ждет?
Ответа нет. Нет света, что сможет прояснить эту тайну. Никакой демон не сможет остановить всадника в короне.
Я вижу, как он, словно стрела, летит на своем коне, почти задевая живых, а они идут по своим делам, как ни в чем не бывало. Корона его сверкает. Только чужестранка, кажется, видит его и отстраняется, чтобы он ее не сшиб.
XIV
Не все призраки себя обнаруживают. Но на этот раз я была уверена, что разговаривала с фантомом. Я поняла это, когда он меня коснулся: его тело оказалось мягким и пустым, словно я потрогала подушку. Не все призраки говорят, но у них есть голоса. Мама сказала однажды, что слышала «голоса, но они не складывались в слова». Может, когда она оказалась здесь, они ей явились, показались. А может, моя мама сама была фантомом, и серое, холодное море поглотило ее, чтобы она смогла потом достигнуть Отранто и явиться всем. А вдруг мне все это приснилось, и я никогда не покидала детской в Амстердаме, с окнами на улицу, где вдали виднелся парапет канала? И город этот я себе напридумывала и никогда в нем на самом деле не была. Ведь я же видела его во сне: мне часто снилось, что я собираюсь сесть на поезд до Отранто, и не сажусь. Но все эти рассуждения — лишь защитная реакция. Кто же был старичок? Призрак того человека, что заплатил за свою голову золотом?
Я усомнилась в том, что действительно нахожусь в Отранто и говорю с людьми из плоти и крови. Не знаю даже, принадлежу ли сама к живым, действительно ли я реставратор, голландка, и в самом ли деле привела в порядок мозаику кафедрального собора. На днях я вышла из дома и, проделав метров сто, остановилась перед журнальным киоском и пристально уставилась на киоскершу, пытаясь определить, призрак она или нет, и не заговорит ли со мной о мучениках. Может, она тоже что-то знает? Купив какой-то журнал, я взглянула на путеводители по Отранто и книги о мозаике. Самая большая называлась Загадка Отранто. И мне пришла на ум мысль, что моя собственная загадка близка к разрешению. Но уж теперь я знала наверняка, что ничего не смогу сделать, только ждать. Ждать, пока все кончится. Я не пыталась добраться до смысла происходящего, не искала ясных ответов. Я лишь просила моих демонов не переворачивать мою жизнь до основания и не уговаривать меня следовать за ними. Но то были мысли, не подвластные никакой воле. Киоскерша подала мне журнал и взглянула на меня, кивнув в знак приветствия. Заметив, что я разглядываю книги, расставленные в ряд на прилавке, она сказала: «Вы, должно быть, все знаете о мозаике. В честь открытия мозаики сегодня архиепископ должен служить мессу. Об этом напечатано в газете».
Месса, я же позабыла о мессе. Я оставила журнал на прилавке и бросилась бежать. Как же я могла забыть и не увидеть ничего особенного, выйдя из дома? Месса с архиепископом. Не успели эти обрывки мыслей промелькнуть в моей голове, как я была уже у бокового входа в собор. Но с этого входа внутрь я не вошла, а отправилась к главному. Площадь была абсолютно пуста, словно вообще ничего и не происходило. Я вошла, но внутри тоже никого не было. Может быть, киоскерша перепутала? В соборе молились две старушки; одна преклонила колени неподалеку от алтаря, другая с покрытой головой стояла рядом. Направляясь к капелле мучеников, я слегка задела ее. Я знала, что день был тот самый, но теперь не стала задавать себе вопроса, что происходит, потому что понимала, что надо предоставить событиям идти так, как они идут, не пытаясь угадывать их наперед. Я уселась на скамью, взглянула на свои ноги и обнаружила, что они касаются как раз Вавилонской башни. Я невольно улыбнулась, вспомнив свой странный бред, когда я говорила на языке, которого не понимала. Мозаика и вправду была закончена, но я так и не поняла до конца, над чем работала. Теперь мозаика виделась мне как вечное возвращение вне времени. Это не был памятник искусства, который надо спасать, это была история, где надо было все расставить по порядку. Я взглянула вглубь собора, но и там никого не было. Лучше бы я сюда не возвращалась. Я снова почувствовала странное несовпадение того, что творилось со мной, и того, что чувствовали остальные. У меня не было уверенности, не было точек опоры, я жила в городе призраков и больше не была способна правильно воспринимать окружающее, даже простые слова киоскерши.
Я вернулась к киоску, но он был закрыт. Именно в этот момент рядом со мной очутился Козимино, рыбак, возивший туристов в лодке.
«Правда, что завтра будет большая месса в честь открытия мозаики?», — спросил он.
И словно небо очистил от облаков порыв грозового ветра. Завтра, Козимино сказал «завтра». Завтра, вот в чем дело. В соборе просто никого нет, и никто не исчезал. Мне вдруг захотелось уйти к морю, искупаться, перестать прятаться от солнца. Я поглядела на Козимино и спросила, не может ли он отвезти меня в лодке до порта Бадиско. В его глазах отразилось величайшее удивление. Он столько раз уговаривал меня поехать, а я все никак не могла решиться. Мне было страшно посмотреть на землю так, как смотрели турки: с моря. До последнего момента я никогда не отплывала от Отранто, словно оторваться от берега означало опасность. Я мало купалась, даже в самые жаркие дни, когда удержаться было невозможно. С морем у меня сложились странные отношения: глядя на него, я испытывала смесь ужаса и преклонения. А теперь я велю Козимино остановиться в самом синем кусочке моря, нырну прямо с лодки и буду плавать долго-долго. Обязательно нырну.
Мы договорились встретиться в порту через полчаса. У Козимино была маленькая, очень тихоходная моторка с тентом от солнца. Она звалась Минерва. Я спустилась к морю через Альфонсинские ворота. Солнце стояло в зените, и у меня возникло ощущение, что за мной кто-то наблюдает. Но теперь я решила не обращать внимания ни на какие воздействия.
«Куда вас повезти, синьора? Поедем вдоль берега, чтобы вы могли все разглядеть?».
Расспрашивая меня, он завел мотор и вырулил в море. Я увидела Отранто с моря в первый раз и посмотрела наверх, туда, где городские стены спускаются к скалам. Снизу были видны еле различимые фигуры старика и женщины. В них я без труда узнала органиста и его спутницу. Они стояли точно в том месте, где я их увидела впервые. Я окликнула Козимино, указала ему на них и спросила, встречал ли он когда-нибудь этого человека. И услышала ответ, которого боялась: «Это органист из кафедрального собора. Раньше он хорошо играл. Мы видели его однажды У него еще есть сын, вы, наверное, знаете его: он лечит умалишенных».
Пока он все это говорил, фигура старика становилась все меньше и, наконец, вовсе пропала из виду. День и без того начался странно, а теперь я погрузилась в какой-то необыкновенный свет, льющийся отовсюду, и с неба, и с моря. Я вспомнила о старике на бастионе: он, казалось ждал нашего отплытия, словно должен был нас проводить. Он мог быть посланником или предвестником, хотя Козимино и сказал, что он просто церковный органист. Хотелось бы думать, что это так, очень уж много всего случилось за последнее время. Я чувствовала себя окончательно выбитой из колеи, и мне не терпелось поскорее выбраться из той фантасмагории, в которой я постоянно жила.
Козимино мои мысли не интересовали. Миновав порт, он повернул к югу, и передо мной стала вырисовываться Змеиная башня. Раньше вид башни с моря наверняка напугал бы меня, а теперь, глядя, как она приближается, я спокойно размышляла о том, что в Голландии я ни разу не выходила в открытое море, ни разу не ступала ногой на корабль. Я плавала только в маленькой лодке по каналам. Сейчас я оказалась в открытом море впервые в жизни, да и то Козимино не решался далеко отойти от берега на своей посудине. Я могла, наконец, разглядеть берег и предоставить Козимино возможность рассказывать мне все байки, которыми он развлекал туристов. Но он покосился на меня с подозрением и поинтересовался, какие истории я хочу услышать, настоящие или для всех? Он словно проверял, можно мне доверять или нет. Я ответила, что, конечно же, настоящие, но и от историй для всех я тоже не откажусь. Что он там обычно говорит туристам?
«Да ничего особенного, синьора: Эней, порт Бадиско, башня, легенда о змее. А потом — как здесь ловится рыба, и почему гроты названы так, а не иначе…».
«А настоящие истории?».
«Настоящие? Да их тоже не так много. Знаете, как называется эта бухта? Бухта Орте. Орте одновременно означает восходить и рождать. Отсюда видно, как восходит солнце над морем».
И это все? Чувствовалось, что Козимино пошел на попятный, он явно не доверял мне. Но мне не хотелось допытываться. В тот момент это мне было неинтересно. Я всматривалась в берег, но больше всего меня занимало ослепительное свечение, идущее с моря. Оно становилось то голубым, то белым, то жёлтым, то зеленым. Цвет менялся каждый миг, от каждого движения, и проследить эти изменения было невозможно. Ослепленная быстро сменявшими друг друга вспышками света, я подумала об отце. Интересно, какие краски он бы взял, чтобы нарисовать постоянно меняющееся море, как передал бы оттенки цвета, которые не смешивались, а чередовались в едином непредсказуемом вихре? Невозможно было оторват! взгляд от этой схватки полутонов. Но меня отвлек Козимино:
«Я всегда говорю туристам, что солнце сверкает в воде как алмазы. Они соглашаются, может, в угоду мне».
«Моя мать умела гранить алмазы», — неожиданно вырвалось у меня. Я сказала, и сама испугалась своих слов, хотя и непонятно, почему. Разве это тайна, тем более для Козимино? И все же мне стало страшно, словно я выболтала то, о чем надо было молчать. Я вообще не любила говорить о матери. С отцом мы тоже уже давно избегали этой темы, и вовсе не потому, что так договорились. Мы безотчетно уберегали друг друга от неосторожных высказываний: нас могли неправильно понять. Ведь окружающие были уверены, что мама сбежала неизвестно с кем, с каким-то иностранцем, появившимся в Нордвике незадолго до ее исчезновения. Нас эти сплетни больно ранили. Она умерла, исчезла в море. Мы ни с кем не говорили о ней, и нас никто не спрашивал. Ни соседи, ни жители нашего квартала. Когда я уехала, у меня пропал страх, что кто-то спросит меня о ней. Я могла держать свои мысли при себе и воображать все, что угодно. А здесь, в Отранто, где знаки ее судьбы проступали все ярче и ярче, у меня вдруг вырвалась эта фраза.
«Наверное, это очень трудное занятие», — ответил Козимино. Я поняла, что выдала свой испуг, и разговор нельзя ни в коем случае прерывать. «Ваша мать и вправду умеет гранить бриллианты?», — прибавил он, смущая меня тем, что все время перескакивал с вы на ты. «Да, но больше она этим не занимается». «Ваша мама живет в Голландии, правда? И там тоже есть море?».
«У нас моря нет».
Я сама не знала, что говорю. Мой ответ был ложью, но иначе ответить я не могла. Я разглядывала переливы воды и морщинистое, сухое, загорелое лицо Козимино. Этот человек едва умел читать и писать, не разумел латыни и, может быть, ни разу не видел ни одной книги. Но было в нем что-то особенное, и не только в нем, но и во всех здешних людях. Мудрость, сформированная своими, недоступными мне путями. То же ощущение не покидало меня, когда я смотрела на мозаику и понимала, что она адресована к униженным, которые знают гораздо больше, чем можно подумать. В тех краях, где я родилась и выросла, были ученые и были люди необразованные, не обладавшие знанием об окружающем мире. Здесь все было не так, здесь была удачливая середина между этими крайностями. Совсем, как мозаика: с грубо нарисованными фигурами, без мастерства и изящества мозаик Равенны, но какая мощь, какая великолепная игра отражений и ассоциаций! Глядя на этих людей и мысленно перебирая все мои встречи в Отранто, я должна сказать, что падре Панталеоне знал, что делал, создавая такую мозаику именно в этом городе. «Синьора, вы знаете, какие отличные морские ежи ловятся в Палашиа? Их еще зовут протоиерейскими, не знаю почему».
Отранто — место, где нет ответов даже на простые вопросы. Обыкновенные морские ежи здесь теряются в нагромождениях обозначений, в которых никто не может разобраться. Козимино указывает мне на маленький остров в южном направлении. Я пока не понимаю его размеров: может быть, это просто скала. На острове угадывается какое-то строение, а над ним кружит множество птиц. Я оборачиваюсь к Козимино, но он не смотрит на меня, пытаясь, не выпуская руля, наладить тент. Интересно, где мы находимся.
«Это остров Сант-Эмилиано. Вы его никогда не видели?».
Никогда. Над островом кружит несметное количество чаек, а строение, по мере продвижения лодки, обретает контуры башни. Козимино глушит мотор, и теперь хорошо слышны хриплые голоса чаек. Меня начинает знобить, как зимой. День испортился, море нахмурилось, начал дуть западный ветер, трамонтана, и нанес множество облаков. Солнце, алмазами сверкавшее на гребешках волн, почти исчезло и едва светило. На фоне жемчужно-серого горизонта порхали белые перья чаек. Наступила странная тишина, и это молчание шло от острова. Я бы ни за что на свете не согласилась на него высадиться: ни травинки, только камни да скалы.
«Эта башня пятнадцатого века, синьора. Говорят, там раньше была церковь, но ее разрушили. Они самые, турки».
Временами кажется, что турки здесь поубивали и разрушили все на свете. Козимино даже говорит о них по-особому, понижая голос, словно доверяя тайну. Турки ответственны за непроходимые ландшафты, за холодные зимние ветра, за разоренные церкви и дома. Турки разрушили и разбили все, даже фрески кафедрального собора. Все, кроме мозаики. Я не знаю, вправду ли эта церквушка на острове, где крики чаек кажутся голосами из несуществующего мира, тоже пострадала от турок. Да это и неважно. Теперь мне понятны слова французского студента, что мучение, ниспосланное Богом, играющим в кости, поставило это место в ряд святых мест мира. Обернувшись, я вижу, что башня слилась с удаляющимся ландшафтом.
«А вот и порт Бадиско. Хотите, расскажу его историю? Я ее хорошо знаю, и все, кого я сюда вожу, просят ее рассказать. А уж как расскажу, то дальше умолкаю и везу их внутрь. Там они выходят из лодки. Они не боятся, чувствуют себя в безопасности. А вот Энею было страшно, и святому Эмилиану тоже, а они были героями».
Ахмед мне как-то сказал, что доплыть сюда — все равно, что вернуться назад. Считается, что это место так и осталось задворками Европы с тех пор, как сюда приплыл Эней, прародитель рода Юлиев[15]1 От Энея до Римской империи, потом Священной Римской империи и до наших дней. С бухты Бадиско, должно быть, все и началось. Но эта легенда из всех самая примитивная и лживая. Такой была бы и мозаика, если бы означала только путь от первородного греха к спасению. Это не я так говорю, это утверждает, Ахмед, великий жрец здешних мест. Он велел мне — «если тебе когда-нибудь удастся туда добраться» — обратить внимание на фиговые деревья. Они посвящены Дионису. Культ Диониса до самой Индии завез Александр Великий. Эти деревья прибыли из Греции, как Эней. Порт Бадиско имеет два прочтения: прямое и обратное. Как мозаика, как все, что здесь происходит. Как Эней и Дионис. «Синьора, знаете, как говорится об этом месте в Энеиде? „Крепнет долгожданный бриз и приближается бухта Бадиско с храмом Минервы на горе“. Это поэт Вергилий».
Снова храм Минервы, снова бриз. Я вышла из лодки, и меня опалило солнце, иссушающее кожу, даже когда небо покрыто облаками. Странная тишина окружала меня, дикие скалы круто обрывались в море. И я подумала, что так и не нырнула с лодки, наверное, не была готова, все еще считала это место опасным. Хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать, пока Козимино не скажет, что уже пора возвращаться. Я решила больше не глядеть на берег и, наперекор тоске и страху перед неведомым, повернулась лицом к морю. На миг мне открылись Албанские горы, те самые, от которых отплывал Ахмед-Паша. На обратном пути я с моря любовалась бастионами, и во мне росла уверенность, что в городе меня ждут.
Да будет свет. Я видел, как от света загорелся корабль, угрожавший порту. Свет сделал белые стены города нестерпимо яркими. Он слепил глаза, заставляя щуриться, он смешивал очертания предметов, высвечивая их истинную сущность.
Да будет свет. Свет полуденный, смиряющий волны, утишающий ветры, сжигающий силы. Он все останавливает, обездвиживает, обнажает все страхи.
Да будет свет. И да поведает он о том, что должно случиться, если что-то может случиться. Свет со всеми его демонами. Животворящий свет полудня. Когда он набирает полную силу, от одного его луча могут понести девственницы.
Но в полуденный час, в момент наивысшего триумфа, животворящая сила растворяется в отречении, сном заканчивается ее живой трепет, слабостью ее полнота.
Пусть узнает чужестранка, что суд придет вместе со светом полудня, когда воля к жизни отступает, уходя в безразличие, как вода уходит в песок.
XV
Мама говорила, что в ее лаборатории свет перебегал от стола к столу неуловимыми сполохами. Стоило одному из алмазов дать блик от лампы, как этот блик тут же, как порох, вызывал беззвучную детонацию. Свет алмазов не создает теней, он тонок, как тысячи иголок, он ослепляет, надолго оставляя на сетчатке глаза темные точки. Если потом закрыть глаза, точки не исчезают и продолжают светиться.
Мама рассказывала, что часто, возвращаясь домой, она закрывала глаза и все еще видела эти светящиеся точки. Я никогда не была у мамы на работе и временами думала, что вовсе мама не занимается никакими алмазами и не работает ни в какой лаборатории. Эти сомнения стали посещать меня, когда, уже после ее исчезновения, нам пришло письмо из центра психического здоровья с запросом, почему мама перестала каждое утро туда являться. Отец сказал, что это было недоразумение, старая история, и что они, конечно, ошиблись. Он снова оберегал меня от истины, которая меня пока не касалась. Однако в ту ночь я всерьез засомневалась, не выдумка ли все это, и вправду ли мама занималась таинственной, магической работой. Сомнение было мимолетным, и потом мысль о маме в лаборатории снова стала привычной реальностью. Это была, скорее, реальность сна, но какая разница? Такая реальность ложится в основу романов, а романы подчас более достоверны, чем действительность. В романе жизни моей матери был этот сюжет: маленькая лаборатория, куда она отправлялась, когда туда поступали драгоценные камни. Отец рассказывал, что мама занималась только алмазами, хотя в лабораторию привозили разные камни со всего мира. Рубины из Богемии светились розовым светом, калифорнийские рубины — темно-красным. Самым ярким и красивым зеленым цветом отличались уральские изумруды. Аквамарин, привезенный из Сиама, был ярко-голубым, а ляпис-лазурь — синим с золотистыми вкраплениями. И ни один камень не был похож на другой. Обо всех этих камнях мама рассказывала отцу. Точнее, так утверждал отец, когда я донимала его расспросами, почему мама так мало говорит. Рассказывала она и об одном сотруднике из лаборатории, который безошибочно умел различать камни по цвету. Он без тени сомнения мог сказать, что это за камень, и отличить его от другого даже в том случае, когда камни всем вокруг казались абсолютно одинаковыми. И все это он проделывал на глаз, безо всяких инструментов. Он говорил, что искусство определять камни сродни искусству смешивать краски и получать нужный цвет. Одни лишь алмазы с их ослепительным, кощунственно белым цветом, не поддавались никакому определению. Их свет был самым чистым, и потому алмазы часто становились предметом поклонения. Тот мастер не мог отличить один чистый алмаз от другого: ведь абсолютная чистота не знает градаций. Свет и блеск этих камней невозможно было подделать. Его можно было только сравнить с ослепительными лучами солнца в далеких южных краях, где небо словно сжимается, когда солнце в зените.
Мамина лаборатория была маленькая, и работало там мало народу. Мне казалось, что в этом здании с низкими окнами, выходящими на канал, можно играть светом в пинг-понг: ведь он там отскакивал от всего, вытворяя при этом всякие затейливые штуки. Я представляла себе, что камни — это маленькие зеркала, которыми любили забавляться ребятишки, наводя зайчики на стены домов или слепя ими прохожих. Чтобы резать алмаз, используют алмазную пыль, потом острое лезвие приставляют к тому месту, где надо отколоть, и ударяют по лезвию молотком. Удар должен быть очень точным, иначе кристалл рассыплется на мелкие кусочки. Отец говорил, что огранить алмаз — трудное искусство: надо угадать самые слабые его места, потому что каждый камень имеет свою внутреннюю структуру, и нужна интуиция мастера, чтобы ее определить. Я была околдована тем, что алмаз можно резать только алмазом или алмазной пылью. Если же необработанный камень был привезен из Австралии, трудность возрастала, потому что австралийские алмазы самые твердые и трудно поддаются обработке. Для резки австралийских алмазов годятся только австралийские.
Возвращаясь на велосипеде с работы, мама на знакомых участках дороги ехала, закрыв глаза, чтобы дать им отдохнуть, а в ушах у нее стоял шум камнерезного станка. Другие драгоценные камни не имели особого звука при резке, но алмазы можно было узнать сразу по характерному свисту станка.
Однажды маме ночью приснился сон, настолько ясный и подробный, что отец, когда она через много дней отважилась его рассказать, записал его для памяти в маленькую тетрадку. Во сне маме явился Джованни Леондарио и попросил ее сесть и выслушать историю о маленькой индийской девочке, нашедшей в окрестностях города Голконда странный, удивительный камень, сверкавший ярким блеском. Камень сочли священным и увезли далеко на юг, в храм Шрирангам, и укрепили на лбу статуи Брахмы. За несколько лет до того, как турки привезли Леондарио в Константинополь, какой-то армянин украл камень и сбежал с ним в Мадрас. Оттуда, после долгих скитаний, он попал в Константинополь. Но целью его была Венеция. Кроме чудесного камня он вез другие камни поменьше, которые нужно было огранить. Этот же в огранке не нуждался. На рассвете армянин вдруг соскользнул с палубы в море. Огни Отранто были уже совсем близко. Мешочек с камнями и баул с его одеждой остались на мостике. Леондарио не открывал мешочка: он уже умел гранить камни и боялся, что алмаз привлечет внимание. Самые красивые алмазы светятся даже в темноте, когда, казалось бы, нет источника света. Только потом, в Отранто, укрывшись от посторонних глаз, он взглянул на камень. Это был огромный алмаз прямоугольной формы, примерно в 215 карат. В Голландии он камень не продал, решив, что его надо хранить, как бесценное сокровище. А потом алмаз бесследно исчез, и никто его больше не видел. Приснившийся маме Леондарио был в отчаянии: он не знал, куда делся дивный камень, который, из-за его голубого свечения, называли «море света».
В тот момент мне было невдомек, что, когда мы с Козимино плыли к порту Бадиско, во мне оживала память об этом голубом свечении. Море света. По-арабски Darya-I-Nur. C тех пор, как я решилась подняться в лодку с тростниковым тентом, все вокруг стало обретать смысл. Я поняла, что свет в Отранто был, как раскаленная лава, текущая вниз с вулкана и притягивающая взгляды против воли. Окунувшись в ослепительный свет и вынырнув на поверхность, смотришь на все другими глазами. К этому вулканическому потоку существовал контрапункт, и жил он в маленькой лаборатории, которую я никогда не видела. Там свет трансформировался в отдельные вспышки, в сверкающие иглы, яркие, но без чувства, без теплоты. Воображение рисовало мне комнату с темными столами, темными стенами, темным рабочим инструментом. И сама атмосфера этого помещения была окрашена в густой коричневатый цвет, определявший тональность мыслей и жестов персонажей, как на картине Рембрандта. Рабочие и мастера лаборатории запечатлены в момент начала работы: кто направляется к столу, кто держит в руках деревянную инкрустированную шкатулку с камнями, кто, обернувшись, с удивлением смотрит на художника, словно не ожидав угодить на картину. Люди одеты в платье той эпохи; в глубине картины просматривается еще одно помещение со сводчатым потолком. Сложенные инструменты едва обозначены. Мама на этой картине изображена на втором плане справа. Она стоит у высокого окна, опустив глаза, распущенные волосы падают на плечи. На картине мало света, по колориту она мрачновата, и только человек в широкополой шляпе, изображенный в центре, одет ярко. В нем угадывается старший.
Я пересказала отцу привидевшуюся картину, и он взглянул на меня задумчиво: «Ты рассказываешь наш семейный вариант „Ночного Дозора“». Несколько дней спустя я увидела эту картину: отец нарисовал все, что я ему рассказала, точно передав цвета и лица персонажей. Наши с ним взаимоотношения подчинялись странному кодексу: он всегда стремился вникнуть во все, что я рассказывала, даже в самый незначительный, едва намеченный из моих снов, и переводил это в фигуры и цветовые сочетания. Так появился наш домашний «Ночной дозор», с фигурой отца в углу, с нашим котом, свернувшимся под столом в клубок, и с толстяком с кожаным мешочком на широком поясе и с толстым баулом в руках. Однако на моей картине толстяка не было. Я спросила у отца, кто это, и он ответил: «Это человек, с которого все началось, Велли. Погляди хорошенько, это человек из маминых снов, тот, что приплыл из Отранто».
А что, если все это — игра ассоциаций, легенда, в которую ее молчаливый и хитроумный автор, мой отец, заставил всех нас поверить? Меня само собой, но прежде всего — маму? В последние годы я много размышляла над своими снами и страхами, и теперь не смогу сказать точно, мое ли воображение порождало эту вереницу персонажей из семейного прошлого. Может, они приходили ко мне с отцовских полотен, с копий, которые он писал, и из книг с репродукциями знаменитых картин? Впервые я задумалась над этим в Лондоне, в Национальной Галерее: я внезапно почувствовала себя плохо, и служители отнесли это на счет эмоционального потрясения перед лицом великих полотен. На самом деле причина дурноты крылась в другом: с этих полотен на меня глядели знакомые лица, я попала в мир своих детских снов. Когда отец нарисовал «Ночной дозор» с маминой лабораторией, и я увидела толстяка с кожаным мешком на поясе, мне трудно было догадаться, что у него лицо с картины Рембрандта из Национальной Галереи. Когда я пришла в себя, то поняла, почему всегда так волновалась перед знаменитыми полотнами: все это были фантомы, что кочевали из картины в картину, то входя в мою жизнь, то из нее исчезая. С этими фантомами я выросла, в этом мире я играла с детства. Рисунки с густыми мазками, которые вблизи напоминали горные цепи с долинами, заменяли мне кукол. Холсты пахли подсохшим маслом, и этот запах напоминал аромат здешних оливок во время сбора урожая.
Можно ли представить себе мир, где реальность кончается рисунком, а рисунки способны внушить, каким образом изменить существующие вещи и события, чтобы сделать их более притягательными? Мой белокурый доктор говорил, что так начинается процесс, ведущий к безумию, когда уже невозможно отличить воображаемое от реального. Только увидев отцовское подражание Рембрандту, я стала представлять себе лабораторию, куда мама каждое утро уезжала работать. С теми же людьми, с тем же реквизитом и освещением. Казалось бы, общего не так много: и помещение определенно другое, и взгляды спокойнее, и сцена, где все застигнуты художником врасплох в момент начала работы, уступает место ежедневной рутине. О том, что на отцовской картине было вымыслом, а что реальностью, могла сказать только мама. И я помню, что она посмотрела на отца с улыбкой и объяснила, что в ее лаборатории стены белые, а окна забраны железными решетками, чтобы никто не мог залезть и что-нибудь украсть. Решетки отбрасывали резкие тени на неровный плиточный пол. В их рисунке попадались едва обозначенные серые пятна, как растушевки, словно солнце готовило местечко для тени. И мне было неважно, походила отцовская картина на мамину лабораторию или нет: я радовалась, разглядывая эту сцену, именно она была для меня реальностью, и никакая другая. Не имело значения, умела мама гранить алмазы или нет, ездила она каждое утро в лабораторию или не ездила. Имело значение только то, что в моей зрительной памяти нашлось надежное место именно этой картине, с ее цветовой гаммой под стать цветам нашей жизни. Жизни в ожидании, жизни, что наматывалась сама на себя, запутываясь, как легкий шелковый шарф без начала и конца. И теперь, через много лет, над морем света, забравшим всю мою волю, мне на глаза вдруг попался предмет, напомнивший этот бесконечный закрученный шарф. Козимино называл его «аульяра», рыболовная сеть. Когда хорошее время для ловли кончалось, ее наматывали на руку, возвращаясь из гавани Бадиско. Я размотала и распутала свои воспоминания вместе с временем, которое они охватывали, а потом все их переплела, поменяла местами и сложила вместе. И получилась бесформенная масса ощущений и оттенков красок. Такой и была моя жизнь. За месяцы, проведенные в Отранто, я часто разглядывала свои руки с короткими, обломанными ногтями. День ото дня они меняли цвет, в зависимости от цвета мозаики, с которой я работала. Со временем цвета перестали различаться, и с ногтей все труднее было смывать пленку непонятного цвета. Память моя напоминала эту пленку: она была полна неизгладимых и несмываемых наслоений, прочесть которые стало уже невозможно.
Мою жизнь составлял отцовский мир, сотканный из сказок, красок и картин. Отцу выпало быть постоянным посредником между загадочной или просто сумасшедшей матерью и девочкой, которая не могла, да и не должна была все понимать. Таинственная лаборатория, куда мама уезжала гранить драгоценные камни, вызывала много сомнений. А вдруг все это были только ее фантазии? И тут появлялся отец, маленький, легкий, и начинал рисовать или лепить из гипса на деревянном столе. Я усаживалась за его спиной, чуть поодаль, чтобы не пропустить ни одного движения. Он появлялся — и загадочная лаборатория превращалась в рисунок на столе или на холсте. Игра воссоздавалась заново по другим правилам: ободряющим и доверительным. Мир преображался с каждым взмахом волшебной палочки — отцовской кисти с насохшей краской. Из-за этой насохшей краски кисточки напоминали кукол с разноцветными волосами. Так и проходила моя жизнь. С одной стороны был отец с его видением мира через цвет и светотени, с его сказками, где он красками создавал добрых рыцарей и страшных драконов. Он творил видимость мира в бесконечных рисунках, находив них то, чего ему так недоставало: способность к настоящему творчеству. А с другой стороны была странная женщина, моя мать, которую здесь в Отранто, судя по всему, хорошо знали. Даже Козимино, когда я рассказала ему о матери, заметил, что мое описание напоминает signuraleta. На салентинском наречии signuraleta означает фантом. Я выросла в доме, где всем, так или иначе, являлись видения. Вот только мамины видения были слишком реальны. Однажды я даже попробовала прибегнуть к помощи священника-экзорциста[16]. Было это во Флоренции, незадолго до отъезда сюда. Он меня принял, выслушал, а потом спросил, знаю ли я об истории Отранто. И стал рассказывать, что мозаика является памятником христианства, и что на меня возлагаются большие надежды по возвращению ее к жизни. Отранто — город, где жертва во имя Христа достигла наивысшего, наидраматичнейшего проявления. И проповедовал еще долго. Потом, словно спохватившись, начал задавать вопросы. Я старалась отвечать, но в мыслях моих не было ясности. Я смутно сознавала, что отчаяние мое происходит оттого, что у меня нет, а может быть, никогда и не было правила, кодекса для ориентации в мире. Я выложила священнику все, что знала о матери, об отце, о картинах и легендах. Но он меня оборвал и принялся громить тех, кто верил в существование «шайки Эллекина». Он разглагольствовал об этой ужасной банде всадников без голов, которая скакала всегда с только с севера на юг, и которую никому не удавалось остановить. Когда я оставила его, почти бегом пустившись к Школе живописи, он все говорил и говорил, расхаживая взад и вперед по двору собора Св. Марка.
Я бежала по направлению к Школе, а в голове вертелась мысль: эти всадники, эта «шайка», как назвал их мой священник, были без голов, как мученики Отранто. Тогда я еще не знала, что Эллекин и король Артур — одно и то же лицо: тот, кто осуществляет связь между миром реальным и миром потусторонним. И Эллекина называют еще Эрлекинус или Арлекин, персонаж в разноцветной маске. Отец как-то раз нарисовал мне Арлекина на манер Шагаловского скрипача. Эта картина висела у нас в прихожей: она и осталась последним воспоминанием о доме, из которого я уезжала навсегда.
Я знаю, она уплыла с рыбаком в южном направлении. Знаю, что перед этим она зашла в церковь, словно что-то искала. Каждый раз, когда она проходила мимо меня, мне хотелось, чтобы мир замер. И он замирал. Теперь осталось ждать недолго. Она спросит меня о многом, не подозревая, что ответить на все вопросы может только она одна.
Я ничего больше не узнал ни о сыне, исчезнувшем где-то за Гранадой, ни о других пленниках. Закат разоренного и покинутого турками города растянулся на века.
Теперь она избавилась от страха, не желает ничего видеть, и отдалась на волю разума, который все маскирует и все обращает в фантазии. Она думает избежать своей судьбы. Но phantasia происходит от phainein, что означает показывать. Бежать не удастся, ей придется снова пройти через все, что она знала когда-то.
Ей покажут ее судьбу, ей скажут, почему мы все так ждали ее, чужестранку. Только так священный холм Минервы очистится от крови.
Я видела турка Ахмеда, и старика, и светловолосого парня. А в Долине Памяти ждала беспокойная тень. Все это означает, что время на исходе.
XVI
Я страдаю «перемежающейся памятью». Теперь я это знаю, и многое начинаю понимать. Где же мое время, то самое, что искривляется за пределами видимого с террасы неба, а потом замыкается? Почему давно не видно Ахмеда? И куда делся мой доктор, напуганный не меньше меня и так и отважившийся со мной встретиться? И где старик, у которого не хватило духа рассказать мне правду до конца: отчего его предок, заплатив за свое спасение, не смог заплатить и за сына? Не смог или не захотел? И сын оказался среди восьмисот блаженных мучеников, что вовсе не сделало меньше горе старика из Галатины.
Я страдаю «перемежающейся памятью». Не могу вспомнить, сколько комнат было в нашем доме. Я все время ошибаюсь на одну комнату и начинаю считать снова. И, пока считаю, медленно, как в кино, прохожу насквозь все комнаты и коридор: пятая, шестая, седьмая рядом с кухней, потом студия отца и комнатка, из которой по лестнице из четырех высоких ступенек можно спуститься во двор. У последней ступеньки был острый обломанный угол. Когда мне случается, засыпая, потрогать правую руку и нащупать слегка выступающий шрам, мне снится, как отец несет меня на руках в больницу. А я напугана больше тем, что не послушалась, чем болью: ведь отец не велел мне прыгать возле лестницы. Рана причинила гораздо меньше страданий, чем суровый отцовский взгляд. Тогда, наверное, я его сильно разочаровала. Но это был первый и последний раз, больше такого не случалось. Интересно, какой рисунок, в каких тонах он выбрал бы, чтобы изобразить эту историю? Теперь мне почему-то кажется, что он не стал бы ее рисовать. Когда я объявила ему, что собираюсь уехать, и может быть, навсегда, он покорно меня отпустил, продолжая грезить о свете, которого никогда не видел, о лицах, которые не мог себе представить, и о мирах, которые навсегда остались для него чужими. Его страсть к странной женщине давно угасла, и я понимала, что он смотрит на мир, не обращая внимания ни на какой здравый смысл. Отсюда и его привычка все переводить на язык переплетения ярких цветов и воспринимать жизнь через эффект перспективы, то есть через обман зрения. Он не нарисовал тогда мою окровавленную руку, не сумел переосмыслить и преодолеть в зримых образах боль и страх поранившегося ребенка. Стоило самой незначительной детали жизни застать его врасплох, он оказывался не способен поместить эту деталь на сцену своих холстов. Так было с матерью, ни одного портрета которой он не нарисовал, так было с маяком в Нордвике и с замком Отранто из нашего путеводителя. Интересно, как бы он отреагировал на здешний свет, если бы добрался до этих краев? Он бы, наверное, перестал рисовать и ничего бы не смог больше выдумать. Он бы растворился, потерялся в море света. Он сумел посвятить меня в мир красок, но я понимала, что за всем его вниманием кроется одно: отправить меня из дома, и как можно скорее. Мне сказали, что перед смертью он продал все свои картины: и те, что имел, и те, что написал после моего отъезда. Он хорошо знал, что я не вернусь. И меня не покидает ощущение, что на последних его картинах мелькало и мое лицо, мой образ, который он так хорошо знал. Может, на них попала и девочка с порезанной рукой, испуганная отцовским выговором. Интересно, что все мужчины, любившие меня, спрашивали, откуда этот шрам. И никому из них было невдомек, что с этой пустяковой детали прослеживается маленькая трещина, точка кризиса, который привел меня сюда, в одну из болевых точек мироздания. И каждый раз ничего не значащий вопрос погружал меня в мысли о наших комнатах, о красках, о свете и о смирении. Я без страха вышла на истинный свет только после того, как сделала выбор и прошла часть пути вспять, и незаметный шрам стал значить для меня не больше, чем для остальных. И в тот день, когда Ахмед, лаская губами мою руку, остановился в нерешительности, я поняла, что он не спросит, потому что ему незачем задавать мне вопросы. Он и вправду ни о чем не спросил. Я скажу, конечно, что это случайность, что его это не волновало, но втайне буду уверена, что он смог понять.
Иногда мне кажется, что я все это уже давно видела, и, если проследить все картины моего отца, то на них можно будет найти лица Ахмеда, старика из Галатины, доктора или органиста. Но это неосуществимо: картин уже не найти, хотя, какие-то из них, может быть, и висят в музеях под чужими именами. Ведь отец мог имитировать все что угодно, даже нашу жизнь, при условии, что ему будет дана привилегия объявить ее своей. И эту привилегию ему всегда предоставляли в обмен на его ни на что не претендующий талант.
Кому в Отранто я могу все это рассказать? Кто поймет меня? А если это все тоже было во сне? Тогда, проснувшись, я должна была ощутить запах скипидара и масла и услышать уютное шарканье кистей по сукну: так отец их чистил, чтобы они стали мягче и пушистее. Но с меня хватит этих наваждений! Если бы я от них не избавилась, жить бы мне в мире медленных, неопределенных жестов и тусклых красок, среди домов, окрашенных в смазанные, приглушенные тона.
В Отранто дома белые. Их белизна белее любой фламандской краски, и солнце безжалостно высвечивает на ней все дыры, изломы, изъяны штукатурки. Такую белизну мне всегда хотелось разбавить, пустив в ход растворители, которыми пользовался отец, чтобы придать краске прозрачность. Порой, проснувшись утром, я чувствовала, как ветер несет над городом запах этих растворителей. Откуда этот запах мог взяться в Отранто? Может, он доносился из студии какого-нибудь художника? Какая разница? Важен был лишь рисунок моей судьбы, игра запахов, игра света, и больше ничего.
Белокурый доктор сказал бы, что бывают обонятельные (ольфактивные) галлюцинации. Он взглянул бы на меня испуганно, доктор, заблудившийся в этом мире, куда угодил по ошибке и откуда не умел выбраться.
На другой день состоялась большая месса. Была суббота, присутствовали представители власти. Кафедральный собор готовили к мессе с понедельника: вытерли пыль, убрали мусор, отогнали грузовики со двора. В соборе прекратилась суета, и с площади уже не просматривался беспорядок. Торжественную понтификальную мессу служил архиепископ Отранто, в первых рядах разместились городские власти, толпа заполнила собор до отказа. Я впервые за это время увидела весь настоящий Отранто: горожан, синдако[17], чиновников и других, с кем я встречалась случайно и, дай Бог, перекинулась несколькими словами. Впервые в городе, где редко встретишь прохожего, я увидела такую толпу. Потом я уселась на скамью как зритель, загляделась на мозаику, и запах курений поглотил меня. Я вслушивалась в ритуальные формулы службы и наблюдала, как мозаика постепенно покрывается черными и коричневыми следами от ботинок и женских туфель. И кусочки мозаики, затоптанные толпой, теряли свой смысл: кто постукивал каблуком по сцене февраля из времен года, кто придавил грифона, а какая-то старущка уперлась палочкой прямо в пасть крылатого монстра, словно собиралась его заколоть, как св. Георгий Змея. Толпа топтала мозаику, даже не глядя на нее. В средние века по этому полу ходили босиком, почтительно и робко, наклоняясь, чтобы лучше все разглядеть. А в этот день только очень немногие пытались что-то разглядеть между скамеек или в коридоре, разделившем толпу на два крыла и оставившем свободным Древо Жизни. Создалось впечатление, что сцены Панталеоне потерялись, и ветви дерева заканчиваются изображениями современных горожан, повторяющих за священником слова литургии. Никто из них не мог прочесть мозаику.
Кто они? Не верилось, что раньше весь город ускользал от моего внимания. И где же те, с кем я разговаривала, кто сопровождал и поддерживал меня, когда силы мои кончались? Где все фантомы, старички с узловатыми палками? И самое главное: где Ахмед? Мое внимание привлек голос архиепископа: он читал по-латыни, месса была не итальянская. Он уже приступил к Introito[18]. Я обернулась: никто не выказывал удивления. Я обратилась к незнакомому человеку, сидевшему рядом со мной: «Ведь это латынь!». Он пожал плечами и ничего не ответил «Но мессы больше не служат на латыни!», — прибавила я. Однако никто не собирался мне отвечать. Свет смешался с дымом ладана, и от этого церковь преобразилась и стала непохожа на себя. Все формы предметов сместились, колонны приобрели странную кривизну, и архиепископ казался отделенным от всех пришельцем из другого мира. Я оглядела толпу, одетую в темное. Teigitur. Потом Memento. И Communicantes. Я откинулась на скамью и стала глядеть просто в пространство. Меня охватило ясное, презрительное спокойствие. Я не попалась в ловушку и вышла из нее с победой. И не позволю больше двойному смыслу проникнуть в реальность, в жизнь, в самую мою суть. Я отреставрировала мозаику, и по случаю этого события архиепископ служит мессу, на которой присутствует весь город. Да, но какой город был городом всех этих людей, одетых в черное. Я вгляделась получше: все в черном, все неподвижны, не шевельнут даже пальцем, и пристально смотрят в одну точку, как автоматы. Мне на ум пришла гофмановская история про Песочного человека. Когда мама ее читала, мне было страшно, но сказать об этом не хватало духу. Я кусала простыню, но молчала. А мама все читала, читала, как архиепископ, теми же размеренными фразами. О Господи, ведь это невозможно, дайте мне выйти из этого сна, я никогда не была в Отранто, я никогда не видела ни этого света, ни мозаики! Я ничего не знаю о турках, мой отец не умел рисовать… Заклинаю вас, не заставляйте меня слушать сказку о Песочном человеке! Однажды я так и сказала светловолосому доктору, когда еле добрела до него: подкашивались ноги. Было так страшно в темноте, и в мозгу все время крутилась история о Песочном человеке. Он не читал Гофмана, и ничего не понял: «Велли, а в чем там дело в этой сказке?». «Натанаэль — чувствительный, склонный к фантазиям ребенок, его детство омрачено рассказами гувернантки о колдуне, который кидает детям песок в глаза, пока глаза не вылезут из орбит». Кажется, начинает понимать, попросил рассказывать дальше. «Это очень сложная сказка. Она мне кажется сложной даже сегодня. Я всегда останавливала маму и просила объяснить. Мальчик Натанаэль считает, что Песочный человек — это друг его отца, алхимик Коппеллиус. Этот персонаж появляется в книге много раз. И еще в книге есть волшебник, который изобрел автоматическую куклу Олимпию. Доктор, я с детства боялась в нее превратиться». Белокурый доктор вглядывался в меня и силился понять. И я точно так же вглядываюсь сквозь дым от ладана в неподвижно сидящих людей, в священника. Per quem haec omnia… «Доктор, а если бы вам, как Натанаэлю, случилось в юности влюбиться в Олимпию, не подозревая, что она автомат? Ну да, он влюбился и потерял рассудок. И как раз в тот момент, когда он, наконец, освободился от этого жуткого существа и вернулся к своей прежней невесте, происходит трагедия. Глядя на город с башни, он встречает взгляд Коппеллиуса, и колдун понуждает его броситься вниз. Я увидела одну из башен замка, и мне стало страшно. Я снова кусала простыню, доктор, но ведь это не помогает…»
AgnusDei… Я на одном дыхании рассказала сказку белокурому доктору. А мне казалось, что я ее не помню. Она пряталась во мне все эти годы. В голосе архиепископа мне чудятся мамины интонации, и вся толпа кажется автоматами, как Олимпия. Обернувшись, я слышу звуки органа, расположенного справа от алтаря. Органист, которого я не могу разглядеть, начинает играть. Сезар Франк, «Прелюдия, фуга и вариации». Я встаю и иду к нему, расталкивая людей. Никто не обращает на меня внимания. Comunione, причащение святых даров. Теперь я хорошо вижу органиста: это он. И рядом с ним его постоянная спутница. Оглядываюсь кругом: вот белокурый доктор, вот сидят рядом Ахмед, старичок из Галатины и тот странный священник, что, не оглядываясь, прошел под моими окнами. В толпе много людей, словно сошедших с картин моего отца. Я протираю глаза и снова вглядываюсь. Свет, падающий из розетки, как пыль, рассыпается по всей церкви и мешает смотреть. Ко мне подходит белокурый доктор и осторожно берет за руку:
«Работа с мозаикой окончена, и тебя ждут». У меня не хватает духу его о чем-нибудь спрашивать. Я вижу, как архиепископ поднимает облатку; органист прибавляет звук, подходя к Вариации; слышен голос, читающий мессу. И я вдруг отчетливо понимаю, что деваться мне некуда, и надо идти за ним и за незнакомцами в черных одеждах. Снова сажусь и гляжу под ноги: я в аду. Прямо подо мной часть мозаики, изображающая Сатану. И все чудища, пожирающие друг друга, тут, рядом с другими персонажами ада. Я читаю надписи: InfernusSatanas, Abra, Ysac, Cervus, Iacob. И понимаю, что время пришло. Доктор указывает на картину за моей спиной: мучение, изображенное на ней, сопровождает длинная латинская надпись, которую мне не удается прочесть. Этой картины я никогда не видела, хотя прекрасно знаю собор. Оборачиваюсь и вижу другой незнакомый рисунок: турки, отрубающие голову священнику, и еще, почему-то, чудо Благовещения. Латинский эпиграф к этому рисунку меня ошеломил: «Когда были разрушены стены Отранто, варвары ворвались в храм и, осквернив его и учинив множество разрушений, принялись убивать. Один из них, эфиоп, отрубил голову преподобному Стефану, призывавшему народ к единению в благочестии. При этом гнусном злодеянии образ Девы Марии Божьей Матери, висевший в храме, исчез по воле Божественного провидения».
Белокурый доктор показал мне еще один рисунок вдалеке. Откуда взялись эти рисунки? Может, их заказал Альфонсо Арагонский в 1482 году, в год освобождения Отранто? Никто не знает, где они теперь. Но меня не удивило, что они снова появились именно теперь. Я силилась сохранять спокойствие, мне хотелось потрогать картины и убедиться, существуют ли они на самом деле или привиделись. Но они висели очень высоко, и добраться до них было невозможно. Белокурый доктор потихоньку вывел меня из церкви:
«Говорят, что эти картины появляются время от времени. У света словно есть память на то, что он когда-то освещал, и способность воссоздавать увиденное. На самом деле ничего этого нет, это миражи, необъяснимая фата-моргана. Говорят, что 12 августа 1980 года, через 400 лет после трагедии, на несколько часов появился и образ Божьей Матери, исчезнувший по воле Божественного провидения. Но это все легенды».
Я оказалась у выхода как раз в тот момент, когда архиепископ произнес Itemissaest. Кто-то стиснул мне руку, кто-то приветствовал жестом. Площадь перед собором наполнилась народом, нормальными людьми, которые более или менее были мне знакомы. Все кончилось, кафедральный собор Благовещения очередной раз явил свое чудо. Мы задержались на площади. Со всех сторон сыпались вопросы, трудно ли было завершить такую сложную работу. Управляющий шепнул мне на ухо, чтобы я не забыла о предстоящем ужине. Я поглядела в направлении открытой двери, пытаясь осмыслить странный провал в восприятии. Мне не терпелось увидеть, выйдут ли из церкви те, кого я там встретила. И они вышли: священник, старик из Галатины, махнувший мне рукой, а потом и органист со своей спутницей. Я увидела его на ступеньках и хотела подойти. И в этот момент меня крепко схватили за руку, и схватившая рука обожгла, как жгла в детстве рана от пореза о ступеньку. Я обернулась: это был он, белокурый доктор, которому в последнее время я безгранично доверяла.
«Не теперь», — сказал он.
Все вокруг словно замерло. Прервалось ощущение теплоты, всеобщего интереса и поддержки. Но это было только на миг. Едва исчез органист, быстро завернув по направлению к абсидам церкви, все снова задвигалось, как в механическом театрике, когда возобновили кончившийся завод. Я опять обернулась к доктору; в ушах у меня еще стояло его «Не теперь». Но эти слова отдавались уже далеко, перепрыгивая от стенки к стенке, как пингпонговые шарики. Что это значило: «Не теперь»? Да и сказал ли кто эти слова? Может, это был далекий внутренний голос или наваждение, посланное озорным демоном, не желавшим показаться на свет?
Вокруг все было, как обычно. Я снова вошла в церковь: хотелось еще раз взглянуть на картины, которые мне показали. Я направилась к левому нефу и посмотрела наверх. Там было темно, свет не доходил туда, теперь он освещал алтарь и часть правого нефа. Может, это и правда, что свет имеет память и может показать то, чего больше нет? Галлюцинации таятся в нашем сознании, но воспринимаются вне его. Нам кажется, что фантомы, которые мы носим в себе, могут показаться на свет, если чудо спроецирует вовне наши мысли и наваждения. Но нынче все происходило наоборот: свет, демон изначальный, демон демонов, сотворил в моих глазах иллюзию того, чего не существовало в моем сознании.
А что, если так же появились и все рассказанные мне истории с их персонажами? Из этого наваждения просматривался только один выход: поверить, что бог света задумал подсказать мне разгадки всех окружавших меня тайн. Но я знала, что так не бывает: демоны не могут выступать утешителями. Начавшийся ветер закрутил по земле палую листву. Ветер был теплый, полный голосов из прошлого, шороха старых гераней, вздохов и грядущих разочарований, которые сулит нам ностальгия. Время у всех нас действительно истекло. Я явилась туда, куда привела меня воля случая, и теперь молила, чтобы не произошло ничего ужасного, чтобы открывшийся наконец смысл вещей не повлек за собой событий апокалиптических. Я надеялась, что все определяет только случай, что не все поддается объяснению, что я смогу, наконец, жить, не рискуя взглянуть в лицо Бога, скрытое за сверкающими покровами. Я бы молила Его, чтобы все простые люди, стоявшие в церкви рядом со мной, не потеряли человеческой сущности, не превратились в воинство автоматов. Ради этого, если нужно, я готова броситься со скалы в море. Ветер, полный голосов из прошлого, обвевал мои плечи, ласкал руки, как Ахмед, молча погладивший шрам. И я поняла, что должна броситься в море, чтобы этот ветер окончательно не разрушил городских домов.
Ветру нет больше смысла дуть. Если бы я захотел, я бы сделал его ледяным, чтобы она передернула спиной. Дивной спиной, на которой я когда-то мог пересчитать один за другим все позвонки. Все до низу, пока не потеряю рассудок.
Я уже не раз видел ее возле собора. Она глядела вдоль улицы, ведущей к морю. Это был важный день. Она шла от мессы.
Она не может знать, что ее ожидает. Не может угадать, какая судьба ей предначертана. В книге судьбы нет одинаковых страниц, и все они непостижимы. Ветер листает страницы наудачу.
Я видел, как она вгляделась в глубину улицы, ведущей к морю, и остановилась на площади, которую не узнавала больше. Ее напугал ветер, полный голосов из прошлого.
Я знаю эти голоса; теперь они долетели и до нее. Спросите меня, какая она была тогда, какая она теперь, когда идет по бастиону. Но не спрашивайте, почему она вернулась.
XVII
Знаете, как колотится сердце, когда нагибаешься, чтобы войти в тесный и низкий коридор подземелья башни Пинта? Место, где стоит башня, расположено в центре Долины Памяти, всего в двух километрах от города, но кажется, что оно изолировано от всего мира. Сердце неожиданно пускается вскачь, ускоряя удары, кровь отчаянно пульсирует, вздувая вены. И стучит гулко, как барабан в той комнате с низким потолком. Тело воспламеняется, каждый мускул, каждый нерв наполняется жизнью. Известно, что в этом месте происходят странные вещи. Стоит только приблизиться ко входу в подземелье, как чувствуешь необъяснимый прилив энергии. Но едва снова поднимаешься по ступенькам, как все становится, как раньше. Во власть этого странного ощущения попадаешь только внутри.
Никто не знает, что представляет собой подземелье, для чего служило это странное круглое сооружение с нишами, скамьями и комнатой, похожей на покойницкую. Согласно преданию, ниши были выдолблены для погребальных урн. А еще говорили, что старики из окрестных долин и пещер, почувствовав приближение смерти, брели сюда, садились на каменные скамьи и ждали своего конца. Потом их кремировали. Неизвестно, насколько все это соответствует истине. Здесь, у входа в подземелье, смотрящего на Долину Памяти, мне предстояло дожидаться ответов на все мои вопросы. Настал момент выведать их у книги, где записано все. Не хочется рассказывать, как я сюда попала. Меня проводили к подземелью уже под вечер и оставили у входа, чтобы я могла за ночь обдумать все, что со мной случилось. Сердце мое отчаянно колотилось; вся жизнь проходила передо мной. Я встретила рассвет без страха и тоски, стараясь различить и назвать по именам гаснущие звезды. Рассветное небо закрывали плотные облака, потом разъяснило, и показалось солнце. Я дождалась полудня, следя, как солнце медленно поднималось в зенит, и свет зажигал все вокруг, словно полуденные демоны разом решили появиться, ибо все явленное есть свет. По мере того как солнце разрывало покровы облаков, спрятанные, приглушенные краски менялись. Теперь я поняла, что имел в виду Ахмед, когда говорил о море адской бездны, не пропускающем лучей света: «Море ада — это здешний низменный мир с его смертельными опасностями, соблазнами и ослепительными вихрями». Я провожала глазами расходящиеся облака и размышляла над его словами: «Облака — это ложные суждения, порочные фантазии, создающие непроходимые завесы. Чтобы увидеть свет, надо заглянуть за них». Теперь все открывалось, возвращаясь к изначальному, совершенному порядку вещей. Небо раздвигалось, как воды Красного моря, и прямо над моей головой открылась сияющая лазурная, с золотыми отблесками, полоса. Долина тоже осветилась световым потоком, не просто дающим ей жизненные силы, а определяющим, казалось, само ее существование. Я провела ночь, силясь понять, что же должно произойти. Теперь я это знала. Молча, не двигаясь, стояла я лицом к лицу с небом, которое все было в движении, как античное войско перед битвой. Облака плыли друг за другом по огромной небесной сцене, исчезая за горизонтом и снова появляясь с другой стороны. Наконец, голубое сияние с золотыми отсветами поглотило все серые полосы; остались только маленькие облачка, словно нарисованные рукой художника. Они светились ярким белым светом, как снег, сверкающий отражением ледников.
Какое же видение было мне уготовано? Я огляделась: все вокруг непрерывно менялось — и цвета, и воздух, насыщавший светом даже самые недосягаемые уголки. Казалось, это ветер, уносивший облака, принес свет и зажег в небе огненный шар, на который невозможно глядеть дольше мига. Мне захотелось вдруг полного солнечного затмения, чтобы увидеть край солнца и огромные языки пламени, срывающиеся с него в пространство. А внизу, в тени, вспыхивала земля, и цвета обретали оттенки, которые создает сдержанный, напряженный внутренний свет. О, как хорошо мне были знакомы эти полутона! Если бы на картинах моего отца можно было вспороть холст и выпустить на волю свет, насильно загнанный внутрь! Он бы окутал и ошеломил меня, и затмение в тот миг было бы просто необходимо, чтобы упорядочить шальное небо, разобраться в невероятных цветах, утихомирить солнечный жар и заглянуть по ту сторону светового моря. Но то было просто естественное желание защититься от ослепительного блеска, не дававшего открыть глаза. Тогда я их закрыла и увидела звезды. Они плавали и блуждали внутри меня, словно я сама стала источником света и обрела кощунственную способность освещать мир. И в этой святотатственной космогонии, оказавшись по ту сторону светового моря, я могу творить то, чего нет и никогда не будет, и трудиться над картиной мира, сотканной из световых потоков, людских судеб и историй, которые блуждают, как облака, напомнившие мне легионы Александра Великого с мозаики. Или шайку всадников Эллекина, неистово скакавших в полдень по дорогам в окружении повозок, собак и соколов, не отвечавших ни на какие вопросы и растворявшихся в воздухе при малейшей попытке их остановить оружием.
Теперь я увидела то, чего в церкви давно уже не был и меня вели те же голоса, что заманили мою мать сначала к морю, а потом и к подземелью. Чего же мне было еще просить? Разъяснений? Но как можно объяснить порядок о лаков или ветров, соображения времени, которое непрерывно меняется, логику голосов, тающих в воздухе и уходящих в никуда?
Я набралась мужества и, хотя ноги мои были тяжелы как все колонны собора, а спина окаменела, как у мраморной статуи, потихоньку начала обход странного мест куда меня привели. Здесь так поглощались все звуки, что порой казалось, будто я оглохла. Войдя в очередной раз подземелье, я заметила, что солнце поднялось в зенит потому что свет сверху стал падать в центральную круглую камеру без крыши. Я пристально вглядывалась в светящийся круг, твердо зная, что сейчас увижу ее. Я настолько хорошо это знала, что даже не могу сказать, в дела ее на самом деле или нет. Была ли то действительно она, или это мои глаза спроецировали усилие золи там, облаками, в кобальтово-синем небе, в светящемся воздухе, который обволакивал меня, лишая последних сил? Но дайте мне сказать, что это была она, дайте почувствовать облегчение от иллюзии, что вечное возвращение, наконец, состоялось, что колесо вернулось к исходной точке, можно опять его толкнуть, чтобы оно вошло в новый загадочный круг. Это была она: те же волосы, те же босые ноги, с которых она все время норовила сбросить туфли, то же платье, что было на ней, когда она ушла к маяку не вернулась. А горло, как ожерелье, опоясывал шрам. Она молча глядела на меня, и я знала, что должна выдержать ее взгляд, не приближаясь. Спина у меня вдруг заледенела, но я не могла ни двинуться с места, ни обернуться. А обернуться мне очень хотелось, потому что я чувствовала за плечами чье-то присутствие. Не знаю, сколько я простояла так, не в силах пошевелиться. Может, целую вечность. За спиной у меня свистел ветер, тот самый, что, разогнав облака, позволил свету спуститься сюда сквозь открытый в небо купол вертикального колодца.
Я всегда знала эту историю. Может, я сама ее и сочинила, как падре Панталеоне свою мозаику с ее сюжетами о святости, насилии и мученичестве города Отранто, не подозревая, что все это сбудется тремя веками позже. Достаточно было того, что я знала о существовании Отранто и своего предка, приплывшего отсюда в Голландию. И об алмазах, из-за которых он пошел на убийство. Я знала о многих вещах, записанных в той книге, что мне пока не дано прочесть. Я сама была сейчас персонажем книги, в которой перепутались страницы, и потерялся порядок событий. Кто же прочел мне пророчества и легенды из этой книги? Слепец, подобный Тиресию или моему органисту? А не сама ли я придумала этот сюжет, раз за разом его меняя и перекраивая? Никто мне его не рассказывал: демоны ничего не рассказывают, а тот, кто с ними встретится, теряет рассудок. Я поняла, что женщина, возникшая посередине круглой камеры подземелья, была не просто похожа на мою мать. Она была одновременно и моей матерью, и той далекой несчастной, которой перерезали горло одним взмахом клинка. Той женщиной, что взглянула перед смертью на Ахмеда. Когда ужас, сковавший меня, немного отступил, и я смогла, наконец, обернуться, оказалось, что я не одна: за мной стоял слепой органист, которого белокурый доктор назвал фантомом своего отца. Он глядел в пустоту, в небо, и, наверное, видел его темным. Был ли этот человек отцом Джованни Леондарио? Теперь я знала, что он был любовником зарезанной Ахмедом женщины, и она родила ему сына, которого турки угнали в Константинополь. Там его освободили после того, как он выведал тайну света в гранях дивного алмаза, вывезенного из Индии неким армянином. Все, казалось, становилось на места. Или это тоже был плод моих фантазий и упорного желания навести порядок там, где царил хаос легких, все пронизывающих частичек света? Пока тот человек спал, Ахмед изрезал ему лицо, не ведая, что в тот же день убил мать его ребенка. Бог уготовал отцу тьму, даровав сыну ослепительный свет, сиявший издалека, со лба индийского божества. Бог, играющий в кости и всегда выходящий победителем, сделал так, что случай привел его в то место, где мечтали о свете. Я смотрела на мать, для которой свет был мечтой всей жизни. Я заглянула в ее глаза, не замечавшие меня, пока она была жива. Я попыталась подойти к ней, но стоило мне приблизиться, как контуры ее тела начали расплываться. Я снова отступила назад — и фигура матери стала обретать четкость и пугающую яркость. Она внимательно смотрела на меня, повернув голову в мою сторону, но глаза были лишены выражения, хотя явно меня видели. Вдруг на какой-то миг они оживились и взглянули вверх, словно что-то увидев. Это «что-то» отвлекло мое внимание, и в ту же секунду фигура матери исчезла, а я услышала приближающийся цокот копыт и поняла, что сейчас что-то должно случиться. Ко мне скакала шайка Эллекина, всадники без голов… Я ничего не видела, солнце слепило меня, долина растворилась в потоке света, в глазах замелькали какие-то тени, и они могли оказаться чем угодно, в том числе и порождением дурноты от зноя. Органист исчез, как исчезла женщина в столбе света. И я уже не могла сказать, кто она была: моя мать или та, которую в 1480 году зарезали в Отранто. Я снова осталась одна в пустынном месте, вдали от города. На память пришла первая встреча с Ахмедом, и меня охватил страх. Тогда он спрашивал меня о мозаике, о Капелле мучеников и о камне, увезенном с холма Минервы и хранящемся в крипте. По его словам, лишь немногие знали, что камень в крипте не настоящий. «Говорят, что настоящий камень где-то спрятали. Как можно выставлять такие камни на показ? Ведь на нем след жертвы: с него все началось, и на нем все кончается и замыкается».
Некоторые считают, что этот камень спрятан внизу в подземелье. В какой-то миг мне показалось, что ко мне осторожно подкрадывается Ахмед. Но если это действительно он, и глаза наши встретятся, то вполне может повториться то, что произошло пятьсот лет назад. И, как тогда, сверкнет его клинок, и этот отблеск канет, как камень, брошенный в пропасть. И я увижу, как хлынет моя кровь, и посмотрю ему в глаза. Кто знает, может, он век за веком повторяет один и тот же жест: ведь он был обречен искать меня, как искал мою мать, и после меня будет искать еще кого-нибудь. Цокот копыт приближался и нарастал. Я повернулась и вошла в подземелье. Там никого не было. Все было кончено. Ахмед оказался всего лишь тенью, и клинок не сверкнул; исчезла женщина, исчез слепой органист. Ничего не осталось. Тогда, в далекий день нашей первой встречи, Ахмед усадив меня под деревом, показал на солнце: «Говорят, боги умирают только в полдень. Потому полдень — время землетрясений. В момент смерти бога природа потрясена, все ее элементы приходят в смятение». Вот что это за час, час полудня, когда скрытые силы вселенной заставляют землю содрогаться, когда огонь извергается из жерл вулканов, и небо чернеет, как при солнечном затмении, которого так жаждали мои глаза. Так было, когда умирал Христос: земля задрожала, и небо почернело. И было это в час девятый, то есть от полудня до трех часов.
Внизу, под скалами, в отсветах солнца, билось море. Этот свет мой отец умел читать, как книгу. Я поднялась на ноги, теперь уже твердо зная, что, показав мне мир и развернув передо мной всю мою жизнь, как тайну, с которой сняли печати, фантомы исчезнут навсегда. И я подумала о богах, обреченных на насилие и жертвы, о мучениках Отранто, о своем отце и о том, что напишу ему, наконец, обещанное письмо. Письмо о цветах, которые ему так и не удалось ни увидеть, ни понять, ни скопировать, ибо природа их непереводима. Мой белокурый доктор исчез в тот момент, когда я собралась обрести в нем опору и, вглядываясь в его вечно всклокоченные волосы и внимательные глаза, начала уже думать, что все поддается лечению, и в основе мира лежат логика и ясность. Чего я ждала? Что небо почернеет? Что солнце, подчиняясь логике чуда, закатится в полдень? Нигде не записано, что жертвоприношение мучеников должно повториться. Я осталась одна в подземелье, и теперь могла вернуться в Отранто. В голове пронеслись мысли о судьбе, о страхе и о древнем языке: I chiatera mu'rte 's ìpuno spassièonta mes tin mànatti pu en enfani ghià tin mànatti pu en enfani ghià macati. Я не знала греческого, но повторяла, не понимая: «Во сне мне явилась дева; она брела по улице и причитала, что никогда больше не увидит своей матери».
Я ее увидела, и на миг взгляды наши встретились. Теперь я знаю: демоны выбирают для появления полуденный час.
Теперь, когда чужестранка знает, что свет подчиняется порядку, я хочу, чтобы она поняла: порядок этот не бесконечен, круги света восходят к первоисточнику, который есть свет в себе и для себя, и черпает только в себе, и от него, согласно общему порядку, расходятся лучи мирового света.
И пусть узнает она, что лишь тот свет достоин называться светом, что светится сам по себе, освещая предметы иной природы.
Теперь для нее прояснилась истина отношений. Она уразумела, что понятие «свет» происходит прежде всего от понятия «Света Вечного», над которым ничего нет, и от которого исходит свет на все сущее в мире.
Я без сомнений утверждаю: название «свет» для всего, что не является Светом Изначальным, есть всего лишь перенос значения, ибо все остальное не может светиться само по себе.
Вот что пришло мне на ум в ответ на твои вопросы, чужестранка, и эти вопросы меня ничуть не удивили… Ведь броситься в бездонное море божественных мыслей — занятие трудное и тягостное.
XVIII
Светловолосый доктор продолжает заниматься своим делом и не говорит со мной больше о покойном отце. Об Ахмеде я ничего не знаю, может, он уехал, во всяком случае, в городе я его не видела. И старичка из Галатины тоже. Но временами мне кажется, что все за мной наблюдают, я просто чувствую слежку. Хотя, может, я и ошибаюсь.
Я осталась здесь, но сменила жилье: теперь мои окна выходят на море, на бастионы. Мне нравится бродить там по ночам, когда никого нет. Меня так и зовут: синьора с бастионов. И когда-нибудь все забудут и о мозаике, и о том, зачем я сюда приехала. Мозаику уже давно открыли на всеобщее обозрение. Время от времени я захожу в кафедральный собор на нее поглядеть. Теперь ее можно читать, как книгу. Конечно, для туристов, бездумно бродящих по ней, она книга за семью печатями, но не для меня.
В соборе я задерживаюсь, чтобы помолиться. В хорошую погоду дохожу до самой Змеиной башни и гляжу на море до заката, пока моя тень не начнет удлиняться и прятаться за скалой.
Тогда я возвращаюсь домой и пишу длинные письма отцу. Я рассказываю ему обо всех оттенках света на поверхности моря, изобретая новые слова для обозначения невиданных красок, которых никто не знает, потому что их не существует. Я пишу ему по-голландски, по-итальянски, по-английски и даже по-немецки. Чтобы описать то, что я вижу и представляю, я пользуюсь словами всех языков мира. На конвертах пишу каждый раз его имя, наш адрес и, по диагонали, одно слово: Велли. Потом наклеиваю наугад любые марки, с которыми письма, может, и не дойдут до Голландии. К сожалению, я знаю, что ответа на них все равно не будет. Бывают периоды, когда я посылаю ему по письму каждый день. Кто знает, где они кончают свой путь, укладываясь в стопки в каком-нибудь почтовом отделении. А может быть, почтовый служащий, в конце концов, вскроет одно из них просто так, из любопытства. Вот он удивится описаниям красок моря и света! Наверное, будет с нетерпением ждать следующих посланий о голосах из прошлого, которые я раньше умела слышать, а теперь разучилась. Теперь я глуха и к предначертаниям, и к голосам демонов, остановивших навсегда время в этом городе. Но свободной я себя чувствую только по ночам, когда лучи света, как нити золотого ожерелья, не терзают мои глаза. Только ночью, бродя по бастионам, как легкий мираж, я обращаюсь к редким напуганным прохожим, подпускающим меня близко: «Освободите меня от дневных цепей, от полуденного света! Только тогда я стану свободной и смогу прийти в ваши сны».
Примечания
1
Градива — героиня популярного романа Уильяма Дженсена. Она — ожившая статуя из Помпеи, и в нее влюбляется молодой человек.
(обратно)2
Город Отранто расположен на юго-восточной оконечности Италии, на Салентинском полуострове, его жители говорят на салентинском диалекте.
(обратно)3
Идрунтинцами называют жителей долины реки Идро.
(обратно)4
Бейдевинд — курс корабля, позволяющий двигаться и лавировать против ветра.
(обратно)5
Марсова желть — одна из разновидностей желтой краски.
(обратно)6
Свинцовые белила (прим. перев.).
(обратно)7
Дарбука — ударный инструмент; канун — струнный монохордовый (с одной струной) инструмент.
(обратно)8
Гайда — духовой инструмент, по форме напоминавший флейту. Использовался дервишами в Персии и Индии.
(обратно)9
«Физиолог» — древний сборник статей о природе. Возник во II–III вв. до н. э., предположительно, в Александрии. Описывает как реальные, так и сказочные живые существа и явления природы.
(обратно)10
Andantecantabile — музыкальный термин: неторопливо, певуче.
(обратно)11
Andantino — чуть живее, чем Andante.
(обратно)12
Манихеи — средневековая дуалистическая секта, проповедовавшая наличие двух противоположных сил в мире: добра и зла, тьмы и света.
(обратно)13
Арсенат меди, или мышьяковистомедная соль, входит в состав зеленой краски, отличающейся яркостью и красотой тона.
(обратно)14
Отранто находится в департаменте Пулья. (Прим. перев.).
(обратно)15
Согласно античной мифологии, от легендарного защитника Трои Энея и его сына Иула ведет свое происхождение патрицианский род Юлиев.
(обратно)16
Экзорцист — специалист по изгнанию бесов.
(обратно)17
Синдако — глава городской администрации.
(обратно)18
Introito, Teigitur, Memento, Communicantes, Perquemhaecomnia, AgnusDei, Comunione — названия частей «большой» мессы. Itemissaest — реплика священника об окончании мессы.
(обратно)



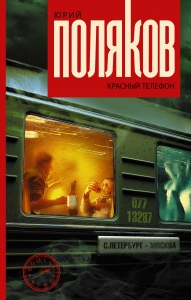




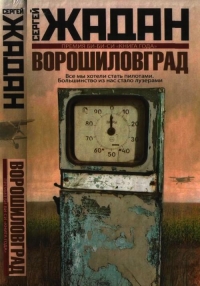



Комментарии к книге «Отранто», Роберто Котронео
Всего 0 комментариев