Борис Екимов НА УСАДЬБЕ
Великое дело — телефон, тем более — один на хуторе. Новости сбирать не надо, они сами собой идут. Прибредет старый человек, детям в станицу позвонит, пожалуется на здоровье, на квочку, которая никак на гнездо не усядется, хоть ты ее гвоздями прибей. Другие договариваются с райцентровским магазином, чтобы свинью ли, бычка забить и сдать целиком, тушею. Это — жизнь. Порой примчится раскуделенная Верка Рахманиха:
— Больница! Строчно приезжайте! Строчно!
В сельской больнице люди мудрые, болезнь рахмановских мужиков для них не секрет. Тем более, что единственная больничная машинешка на все четыре колеса хромает. Берегут ее для дела, больничная округа — пятьдесят верст.
— Вы клятву Гиппократа давали! — вскипает Верка. — Вы свято должны ее исполнять!
Что значит восемь классов закончила, всякие слова знает. Но доктора здешние и не то слышали. Пошумит Верка, брякнет телефонной трубкой и — ходу.
Приятель мой, хозяин двора и телефона, недовольно бурчит, осматривая аппарат: «А он, между прочим, не колхозный, колотить его. Пузырек от Коли Бахчевника вам поможет, а не «скорая», — ставит он безошибочный диагноз и, глянув через забор, добавляет: — Туда она и намылилась, к Коле. Сразу бы надо, без этих… Гиппократов. И аппарат целее».
Но самых впечатляющих спектаклей возле телефона нынче, видимо, не дождемся. На дворе — июнь, а Городские носа не кажут. Видно, нажились, нарыбачились, воздухом хуторским надышались. Самого Городского вроде бы от должности отставили. Кончились казенные машины да шофера. А своим транспортом сюда добираться далеко и накладно. Видимо, и спектакли закончились. Молочного производства на хуторе не будет, не получит город и экологически чистых овощей.
Но обо всем по порядку, не забегая.
Дом и двор, где я по летнему времени порою гощу, от просторного поместья Филюковых отделяет лишь скотий прогон да пустошь, на которой стояла когда-то хуторская почта. Филюковское поместье пустует который уже год. Хозяев нет: Праскуня умерла; Иван сразу же перебрался к сыну, в райцентр, где недолго прожил. Но усадьбу он успел продать случайному городскому человеку, помешанному на рыбалке. Места тут — рыбацкий рай: малая речка, Голубинская старица, Дон, озера.
Городской рыбак в первое же лето привез семью: жену да мальчонку. Был он каким-то начальником, при шофере и казенных автомобилях: то белая «Волга» его привозила, то вездеход «УАЗ», судя по погоде. Привезут, увезут. Обычно на выходные. Но порою неделю живет и больше. Рыбалка — его страсть. Чуть свет он уже на речке. Щук ловил, и очень удачно. Семью свою рыбою закормил.
Имени да фамилии его никто не запомнил. Так и остался Рыбаком или Городским, хотя городские на хуторе не редкость. Но те — свойские, а этот напоказ чужой: белотелый, с пузцом, бабьим просторным задом, в очках и при соломенной шляпе — ни дать ни взять городской. И разговор бестолковый: «Какая рыбалка… Это просто удивительно… Мне просто не верят… Это невероятно: на четыре килограмма щука…»
В городе, может, такие разговоры и к месту. А здесь народ серьезный. Сомик пудов на пять — это интересно. Или весною за один «плав» поднять три ли, четыре сотни чехоней. Об этом стоит гутарить: под каким берегом вентирь ставил, «сплывал» да в какое время. А что твоя щука…
Но Городской был очень доволен жизнью на хуторе: охал, ахал, закатывая глаза. Жена его занималась нехитрым хозяйством, мальчонкой, любила чаевничать посреди своего двора, счастливо приобретя в собеседницы тоже ненашенскую молодуху, которая еще недавно работала на телеграфе в далеком городе Ош, а нынче бедовала на хуторе, в чужой хатке, попав сюда неизвестно зачем и как.
Одна баба — ум, две — вовсе кладезь.
Но виноват был еще и филюковский двор: просторное поместье, в котором жилой флигель занимал лишь малое место, а все остальное — скотьи сараи, стойла, базы, прибазники, закуты, рубленые амбарчики, клуни. Словом, поместье, в котором городской мальчонка забредал и терялся; находили его только по реву и не враз. А еще — немереный огород, просторная левада, полого стекавшая к речке.
Завязку будущих спектаклей я пропустил. В очередной приезд неожиданно встретил на хуторе земельного начальника из райцентра. Тот уже отъезжал, в ответ на мой вопрос засмеялся.
— Вам скучно, мы ездим и веселим. Все землю просят… — добавил он уклончиво.
Я подивился. Земли вроде все уже наелись. Какие брали, назад вернули. В том числе и мой хуторской приятель. Но мало ли…
И вот тут начались телефонные страсти, каких еще не бывало. Что молодая Рахманиха… Прошумит привычное: «Обязаны! Клятву давали!» И нет ее.
У Городских все много серьезнее. Вначале вдали слышится заливистый голос хозяйки: «Гал-гал-гал…» — на весь хутор. И отзывается под горой. «Гал-гал-гал…» — подпевает ей подруга-телеграфистка. А сам Городской, которого от речки отлучили и ведут к телефону по делу серьезному; он поддакивает бабам, точно бьет в глухой барабан: «Реально… Это реально… Вполне… Вполне… Очень реально…» Да еще мальчонка верещит, и лает приблудная шавка. Словом, табор цыганский. Все ближе и ближе.
— Взгалчились… — сообщает мой приятель и прибивается ко двору от база ли, с огорода, любопытствуя.
Пришли. В тихом дворе — то ли ярмарка, то ли Тришкина свадьба. Мудрая собака Пальма спряталась от греха в конуру: всех не перелаешь.
За главного, конечно, сама Городская. Она первая — у телефона. Остальные вокруг.
— Весь необходимый пакет документов давно у вас. Бизнес-план прошел экспертизу и получил одобрение. Есть ходатайство городской администрации. Они заинтересованы в экологически чистых продуктах. Я в который раз… Настаиваю! И я буду вынуждена… Еще раз объясняю: бизнес-план одобрен… Экспертиза, понимаете. Разговаривай, а не стой как столб! — сует она трубку мужу, отступаясь и выливая свой праведный гнев теперь уже нашему двору: — Идиоты! Форменные идиоты! Такие проекты! Экологически чистые овощи! Без электричества! Без этих атомных станций! На Западе за такой проект сразу бы ухватились! Идиоты!
Между тем супруг ее, прикрывая ладонью трубку, солидно басит в нее:
— Да, да… Две независимых экспертизы подтвердили, что все очень реально. Заинтересован город. На уровне мэра. Да, да… Есть соответствующие бумаги. Конечно, конечно… Надеюсь, надеюсь. Договорились… Обязательно.
Трубка положена. Городской протирает очки, радостно сообщает:
— Кажется, дело сдвинулось.
— С боку — на бок, но не с места, — язвительно остужает его супруга.
Теперь за телефонную трубку берется их соратница и подруга, тоже толкует, словно по писаному:
— Закон о вынужденных переселенцах гласит… Вы обязаны в течение месяца… Служба занятости подтвердила согласие… Все документы у вас… У меня есть право… а вы не имеете права, по закону…
Телефонная трубка все терпит. Телефонные провода — длинные, от столба к столбу, на десятки верст, через пустую курганную степь несут и несут слова человечьи, остужая их и утишая.
Городским известно мое газетное да книжное ремесло; и потому весь нерастраченный пыл, какой в телефонную трубку не поместился, теперь — ко мне:
— Одну нашу идею напрочь забюрократили! Какой был проект! За него все двумя руками… — не в первый раз рассказывает мне Городская. — Экологически чистые овощи! Без нитратов. Без затрат электроэнергии! Ни атомные станции не нужны, ни тепловые! На Западе за такой проект сразу бы Нобелевскую премию дали! Овощи на родниковой воде! Вы же знаете, там столько родников! Там все очень просто! Но эти идиоты… А теперь второй проект, и то же самое: волокитят и волокитят… Экологически чистые молочные продукты: творог, сметана, сливки.
— Вполне, вполне реально… — подтверждает супруг, воровато оглядываясь и отступая.
— Я изучила конъюнктуру рынка, его потребности, — вычитывает мне Городская. — Проект экономически выверенный. Тридцать коров. Всю продукцию забирают лучшие рестораны: «Волгоград», «Интурист», «Дракон». Экологически чистейшие продукты. Здесь такой воздух, вода, трава… — со вкусом, даже причмоком втягивает она воздух. — Продукты будут на вес золота. Только для очень богатых людей, которые это могут себе позволить. И банку это очень выгодно. Покупаем коров и тут же начинаем погашение.
— Это реально, реально… — уже издали поддакивает супруг, ныряя в отворенную калитку. И вот уже нет его.
— Всем выгодно: продукция, рабочие места…
Мой приятель, радушный хозяин двора и телефона, любит справедливость. Ему дипломатия чужда. Он ставит вопрос конкретно:
— А кто будет работать? Филюковы-то померли, Праскуня да Иван.
Начинается галда дворовая.
— Это — глупости. В стране — безработица. Здесь будет управляющая всем руководить. Она все организует. И рабочую силу. И производство.
Это о подруге-беженке, бывшей телеграфистке, которая подтверждает решительно:
— Производственные помещения есть, рабочую силу найдем.
— Где найдешь? Кто конкретно будет работать? — настаивает мой хозяин. Кто будет на плантациях или за титьки тянуть?
— Таиса будет доить. Она согласна. Главное — кредит и организация, сбыт.
Таиса — одинокая немолодая баба, тоже пришлая, живет, как говорят, на прилипушках, в чужом дворе, но держит корову, кур.
— На тридцать коров одна Таиса? — недоверчиво переспрашивает мой приятель. — Да она их сроду не продоит. У колхозных доярок меньше нагрузка. Да еще подоить — полбеды. А молоко еще надо обработать. Процедить, охладить, перепустить, вскипятить, заквасить… На сметану ли, на творог, на кислое…
— Все будет сделано, — обещает помощница Городских, которую они в управляющие наметили. — И творог будет, и сметана.
Приятель мой настойчив:
— Кто будет прибирать у скотины, поить, кормить, базы чистить, пасти, сено заготавливать, телят пестать… Там — делов… С одной-двумя коровамя моя вон хозяйка ревет. А тут — целое стадо.
— А как же Филюковы справлялись? У которых мы дом купили? — спрашивает Городская. — Ведь там всего понастроено. Там не тридцать, там, наверное, сто тридцать голов было. И люди говорят, они сами справлялись, вдвоем. Никого не нанимали.
Приятель мой отвечает не вдруг, вздыхая да головой качая. Но отвечает уверенно:
— Таких людей уже нет, как Иван да Праскуня. Нету! — ставит он в разговоре точку.
Городские со двора уходят. А мы остаемся, не сразу возвращаясь к привычным делам, толкуя, теперь уже между собой, но о том же. Подходит кто-нибудь: вдова недавно схороненного Фомы Жармелова — Хомовна; сухонькая востроглазая баба Катя — родная тетка моего приятеля; тихая, словно мышь, баба Акуля — все свои, прожившие на этом хуторе век.
— Могучие были родники… — это про филюковские огороды. — Прямо кипучие. Белый песок — буруном.
— Потому что их чистили каждый год, вот и буруном. А ныне?..
— Везде нужны руки. Те же огороды у Проскуни, бывало, как на картинке: канавочки везде ровные. А земля? Грядочки — любо глядеть. А все труды. Копай, боронуй, сажай, с рассадой кохайся, как с дитем. А потом на все лето казня: гнись и гнись. Трава — дурняком лезет. Да всякая гадость. Откель чего и берется. Зеленый червяк, тля, черепашка, клопы зеленые… На помидорах, на перце, на луке… Какой только страсти Господь не посылает.
— Проскуня… такую игу несла… Сколь скотины, сколь птицы…
— Иван тоже моторный, заядливый: надо и надо… Ни дня, ни ночи… Ни лета, ни зимы… Все надо. А теперь — ничего не надо.
Вспомянули, повздыхали, расходятся с вечным присловьем: «Сиди — не сиди, а работать надо…» Немолодые, пожившие. Морщинистые лица, мослатые корявые руки… Уходят к своим дворам и делам. Я остаюсь — философ…
Так — было. А нынче — уже месяц июнь, Городские носа не кажут. Их соратницы, телеграфистки из города Ош, тоже не видно. Может, пристроилась где.
А подворье филюковское пока на месте.
Когда летним вечером идет с пастьбы немалое хуторское стадо, филюковская усадьба — на пути. С мыком и блеяньем, в полнеба пыля, штурмом берет скотина усадьбу, пробиваясь через худые и вовсе поваленные заплоты и растекаясь на просторном подворье, чтобы всласть почухаться, потереться о какой-нибудь стоянок или укрыться от надоевшего гнуса на пустых базах. В жаркую пору там прячутся от кусучего овода хуторские телята. Соседские куры порой заглянут, погрестись на чужом базу, а петухи — кукарекнуть. Вот и все. Дни напролет дремлет старая усадьба в тиши.
Порою я прихожу на это подворье, брожу по нему, присяду в тени ли, на солнцепеке, когда какая погода. Поместье доживает свой век. Но словно человек, годами старый, а телом еще могучий, оно завораживает. Сидишь в тишине, а прошлая жизнь — вот она, из каждого угла глядит.
Высоченный просторный сенник, словно самолетный ангар, большие ворота, куда можно въезжать на лошадях, на машине, на тракторе с возом сена. Шиферная крыша, крепкие столбы, стены. Теперь здесь пусто и сумрачно и оттого еще более просторно. По углам — тьма, под крышею — голуби воркуют. Как-то жутковато. Но кружит голову, ноздри щекочет настоянный за долгие года сенной дух. Кажется, различаешь: горьковатый степной полынок, что-то еще подзабытое.
Из огромного сенника ход напрямую в скотьи сараи, стойла. Низкая крыша, мазаные стены, решетчатые ясли-кормушки для сена, затянутые пыльной паутиной малые оконца, полутьма, отворенные двери к базам выгульным с плетневыми загатами — защитой от ветра. Скотий дух. Ласточки шныряют. Их лепленые гнезда здесь от веку. В свою пору пищат птенцы.
Сумрачные лабиринты скотьих вертепов кончаются дверью, ведущей в «теплушку» — низкую просторную хату с глинобитным полом и печкой-«грубкой». Тут зимней порой, после окота, держали новорожденную малышню: телят, ягнят, козлят. Когда-то здесь крыша поднималась от блеянья да мычанья. Из «теплушки» — ход в летнюю кухню-стряпку с просторною русской печью. Рядом — черная кухня, где на низких печурках в котлах грели воду, готовили пойло и мешанку для скота и птицы.
Чуть далее — птичники. Для кур, с насестами и гнездами, для гусей, для индюков, для уток. С лазами и выходами на базки, во двор и на волю. По летнему времени птица уходила на выгон, на воду — куда кому положено. А дальше свинарники, тоже с базами, где навек вросли в землю неподъемные корыта, вырубленные из дикого камня. Даже могучему борову их не перевернуть.
Конюшня, навес для косилки и конных же грабель. А еще — мастерская с верстаками, наковаленкой. Рубленый амбар с плетневыми, мазаными закромами.
Скотьи сараи, катухи, загоны, базы, птичники, службы стоят, подпирая друг друга и охраняя поместье, словно крепостная стена.
Замшелый, камнем обложенный колодец, каменные корыта-поилки, тонущие в земле и траве, теплые от солнца. На них хорошо сидеть.
Хутор наш нынче довершает свой век, съеживаясь и умаляясь домами, людьми. Но он еще жив. И потому всякое брошенное ли, оставленное без надзора строенье быстро исчезает. На месте почты, клуба, колхозной столовой — заросшие бурьяном ямы. Магазин лишь закрылся, там сразу началась возня. Сначала в сумерках. Приятель мой всполошился: «Надо пойти хоть стекло принесть, — и объяснил: Окошко разобьется, а у меня в зубах нечем поковырять». Принес. Тут объявился дед Федор, увидал добычу, заохал: «У меня стекла грамма нет. Надо побечь».
Разнесли магазин вплоть до вывески. Она теперь во дворе у моего товарища. Большая, из жести: «Смешанные товары».
— Торговлю думаешь открывать? — усмехаясь, спросил я.
— Сгодится. Доброе железо.
В брошенной старой школе стучат добытчики. Приятель мой похвалился:
— Три рамы припер. Гляжу, тянут. А рамы край нужны для парников. Надо еще сходить хороших досок с потолка или с пола выдрать. На запасные весла. Сломается весло, потом кукарекай. Пока не растянули, надо сходить.
Растянут. Дело обычное. С живого порой кожу снимают. Бобыль Савушка зимою криком кричит: «Ломают хату!!» Это его соседи стараются — Рахманы. У них сроду не хватает дров. Вот они и пользуются: чтобы далеко не ходить, по ночам дерут доски с живого дома.
Дело привычное. Колхозная бригада на хуторе закрылась, через неделю на месте бревенчатой кузни и склада — ровное место. Не сожгли ведь, а в пользу произвели. Для жизни. Любая доска нынче денег стоит. А где их взять? Тем более, что магазины — далеко. Хлеб месяцами не возят. О прочем чего и говорить.
Но к моему удивленью, вот уже который год стоит посреди хутора брошенная без пригляда филюковская усадьба. Хозяева померли, новые городские владельцы носа не кажут.
Летней порою за долгий день лишь соседские куры проведают, погребутся на чужом базу, петухи раз-другой кукарекнут. И снова — покой. Вечером чужая скотиняка забредет ненадолго. И настанет ночь.
Зимою и вовсе усадьба стоит угрюмо и одиноко, словно черная крепость.
И не трогают ее, не зорят. Пробредет мимо старый Лисовин или жена его тетка Шура, суетной дед Федор прошагает с костыликом, просеменит сухонькая Катерина по дороге ли, а то и напрямую, уже набитой скотьей и человечьей тропой. Идут-идут и вдруг остановятся, словно неволей, оглядывая дощатые и плетневые стены, шиферные да камышовые крыши. Потом — долгий вздох, и дальше пошли.
Стоит усадьба. Ни единого стеколка не вынули, листа шифера не сняли, не оторвали доски. Память ли, совесть… Как знать…
Но все равно этому будет конец. Ударит молния или чьи-нибудь городские внуки в затишке костерок запалят. Полыхнет — и конец всему. Новым летом на пепелище лесом поднимутся конопля, крапива, дурнишник, надежно укрывая остатнее: ржу да камень. Конец.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

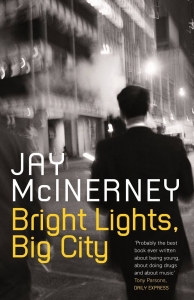



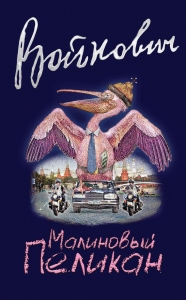


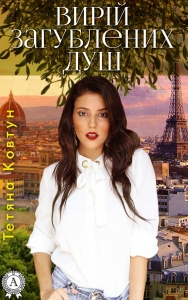
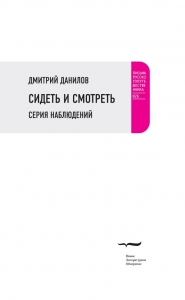
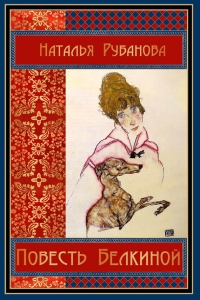
Комментарии к книге «На усадьбе», Борис Петрович Екимов
Всего 0 комментариев