Фернандо Арамбуру Родина
First published in Spanish as Patria by Tusquets Editores, S.A., Barcelona, Spain, 2016
This edition published by arrangement with Tusquets Editores and Elkost Intl. Literary Agency
© Fernando Aramburu, 2016
© Н. Богомолова, перевод на русский язык, 2019
© Filiep Colpaert / EyeEm/Getty Images, cover image
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2019
© ООО “Издательство Аст”, 2019
* * *
1. Каблуки стучат по паркету
Ох, бедняжка, расшибет она себе лоб. Как волна расшибается об утесы. Немного пены – и поминай как звали. Неужто сама не видит, что этот тип даже дверь перед ней открыть ни разу не догадался? Нет, совсем околдовал ее или еще чего похуже.
Это ведь надо – каблуки вон какие высоченные, и помада на губах ярче не бывает, а ведь ей уже сорок пять. И все ради чего? При твоих, дочка, достоинствах, при твоей должности, при таком образовании… А ведешь себя как сопливая девчонка. Глянул бы на тебя сейчас aita[1]…
Подойдя к машине, Нерея подняла глаза на окно, из которого мать наверняка наблюдала за ней. Так оно и было, и, хотя Нерея не могла различить ее с улицы, Биттори с горечью, нахмурившись, провожала дочь взглядом и шепотом разговаривала сама с собой: бедная моя девочка, прилипла к этому павлину, а он ведь никогда ни о ком, кроме себя, не думает и ни одну женщину не способен сделать счастливой. Не дано ему это. Нет, вы мне скажите, до какого отчаяния должна дойти жена, чтобы после двенадцати лет семейной жизни из кожи вон лезть, стараясь соблазнить собственного мужа? И если уж говорить начистоту, то только радоваться надо, что нет у них детей.
Нерея, прежде чем сесть в такси, небрежно взмахнула рукой, прощаясь с матерью. После чего Биттори, стоявшая у окна в своей квартире на четвертом этаже, перевела взгляд туда, где за крышами домов виднелись широкая полоса моря, маяк на острове Санта-Клара, а еще – легкие облака вдали. Женщина из передачи про погоду пообещала на сегодня солнце. И Биттори – ох, что-то я становлюсь совсем старой – снова посмотрела на улицу, но такси уже пропало из виду.
Тогда Биттори попыталась разглядеть за крышами домов, и за островом, и за синей линией горизонта, и за грядой далеких облаков, и где-то еще дальше, в потерянном навсегда прошлом, картины свадьбы своей дочери. Она снова увидела ее в соборе Доброго Пастыря в белом платье с букетом в руке – слишком уж счастливую. Мать смотрела на изящную, красивую, улыбающуюся Нерею, и у нее появились дурные предчувствия. Вечером, уже дома, Биттори хотела было сесть перед портретом Чато и поделиться с ним своими страхами, но у нее болела голова, а кроме того, Чато все семейные дела, особенно если дело касалось дочери, принимал слишком близко к сердцу. Запросто мог и слезу пустить. Да, конечно, фотографии не плачут, но ведь понятно же, что я имею в виду.
Туфли на высоких каблуках Нерея выбрала, чтобы пробудить у Кике аппетит, но не тот, само собой, который можно утолить хорошим обедом. Цок-цок-цок – простучала она по паркету всего несколько минут назад. Надо еще проверить, как бы дырок мне в полу не наделала. Но я ни слова ей не сказала – ради общего спокойствия. Они ведь ненадолго ко мне заехали. Только проститься. А от него – это в девять-то утра! – уже попахивало виски или еще чем-то крепким, наверное, каким-то из тех напитков, которыми он торгует.
– Ama[2], ты уверена, что справишься тут одна?
– А почему бы вам не доехать до аэропорта на автобусе? Такси отсюда до Бильбао небось кучу денег будет стоить.
Он:
– Ну, уж об этом ты можешь не беспокоиться.
Потом стал объяснять про чемоданы, суету, лишнее время в пути.
– Да, но ведь времени у вас более чем достаточно, насколько я понимаю?
– Ama, давай оставим этот разговор. Мы решили ехать на такси – и точка. Так удобнее.
Кике начал раздражаться:
– Да, нам удобно именно так.
Потом сказал, что пойдет на улицу покурить – а вы тут пока поговорите. От него разило одеколоном. А изо рта разило спиртным, хотя сейчас всего девять утра. Он попрощался, любуясь на свою физиономию в зеркале, висевшем в прихожей. Хлыщ, другого слова не подберешь – хлыщ и есть. А потом он по-хозяйски – вежливо, но сухо? – бросил Нерее с порога:
– Только про время не забывай.
Пять минут, пообещала та. Но эти пять минут, естественно, растянулись до пятнадцати. Когда они остались вдвоем, Нерея сказала матери, что эта их поезда в Лондон очень много для нее значит.
– Да? Что-то мне плохо верится, что тебе отведена какая-то роль в переговорах, которые будет вести твой муж со своими клиентами. Или ты забыла мне сообщить, что теперь работаешь на его фирме?
– В Лондоне я сделаю все, чтобы спасти наш брак.
– В который раз?
– В последний.
– И что ты удумала теперь? Станешь ходить за ним по пятам, чтобы не изменил тебе с первой же подвернувшейся бабой?
– Ama, ради бога. Мне и так нелегко.
– Ты прекрасно выглядишь. Парикмахерскую сменила?
– Да нет, хожу все туда же.
Нерея вдруг понизила голос. Услышав ее шепот, мать бросила взгляд на входную дверь, словно боясь, что за ней их подслушивает кто-то посторонний. Ничего особенного не произошло, просто мы с Кике отказались от мысли усыновить младенца. А сколько было разговоров! Кого взять – китайца, русского или мулатика? Девочку или мальчика? Нерея и сейчас была бы не прочь, но Кике дал задний ход. Хочет собственного ребенка, плоть от плоти его.
Биттори:
– И про Библию сразу вспомнил?
– Понимаешь, сам Кике считает себя очень продвинутым, но на самом деле он мыслит прежними категориями и не может ни на шаг отступить от традиций. Это, ну, как рис с молоком…
Нерея сама и в подробностях все разузнала про усыновление – они с мужем любым формальным условиям отвечали. И с деньгами никаких проблем. Она готова была ехать хоть на край света, лишь бы наконец почувствовать себя матерью, даже если ребенок будет рожден не ею. Но Кике больше говорить на эту тему не желает. Нет – и все тут.
– Черствый он какой-то, тебе не кажется?
– Ну хочется ему своего мальчишечку, чтобы был на него похож, чтобы играл когда-нибудь потом в “Реале”. Это у него стало просто навязчивой идеей. И он у него будет. Уф, уж если он что вбил себе в голову, не отступится! От кого, не знаю. Кто-нибудь изъявит готовность. Но меня лучше ни о чем не спрашивай. Откуда мне знать кто. Наймет чужую утробу и заплатит сколько положено. А я? Я помогу ему подобрать здоровую женщину, и его прихоть будет исполнена.
– Ты что, совсем спятила?
– Но ему-то я, разумеется, пока этого не сказала. Надеюсь, в ближайшие дни в Лондоне как раз и подвернется удобный случай. Я все хорошо обдумала. Нет у меня никакого права делать его несчастным.
Уже стоя у двери, они слегка потерлись щеками. Биттори: ну что ж, поступай как знаешь, счастливого пути. Нерея с лестничной площадки, где она ждала лифт, сказала что-то про злосчастную судьбу и про то, что нельзя лишать себя радостей. А напоследок велела матери сменить коврик у двери.
2. Славный месяц октябрь
Пока все это не случилось с Чато, она верила в Бога, а сейчас не верит. И ведь какой набожной была в юности. Даже в монастырь собиралась уйти. Вместе со своей подругой из их же поселка, о которой теперь лучше не вспоминать. Но обе пошли на попятный в самый последний момент, когда дело было уже считай что решено. Нынче все эти разглагольствования про воскрешение из мертвых, и про вечную жизнь, и про Создателя, и про Дух Святой, кажутся ей чистыми выдумками.
Ее сильно рассердило кое-что из сказанного епископом[3], его лицемерие. Не подать руки такому важному сеньору она, конечно, не отважилась. Но его рука показалась ей какой-то липкой. Зато она посмотрела ему прямо в лицо, чтобы сказать все, что нужно, без слов, чтобы он прочитал в ее глазах, что верить в Бога она перестала. Стоило ей увидеть Чато в гробу, и вся ее вера лопнула как мыльный пузырь. Она даже физически это почувствовала.
И тем не менее к мессе она иногда ходит, но скорее лишь по привычке. Садится на скамейку где-нибудь поближе к выходу, смотрит на спины и затылки прихожан и ведет беседу сама с собой. Дома ей очень одиноко. К тому же Биттори не из тех, кто проводит время в барах или кофейнях. Магазины? Покупает она только самое необходимое. А еще у нее пропала всякая охота хоть немного принарядиться – еще один мыльный пузырь? – пропала сразу после смерти Чато. И если бы не приставания Нереи, изо дня в день носила бы одно и то же.
Вместо того чтобы бегать по магазинам, она предпочитает сидеть в церкви и молча укрепляться в своем неверии. Однако никаких богохульств или презрения к собравшимся здесь людям она себе никогда не позволит. Биттори рассматривает росписи на стенах и говорит/думает: нет. Иногда говорит/думает об этом, чуть покачивая головой и словно подчеркивая таким образом свой протест.
Если идет служба, она остается в церкви подольше. И своим беззвучным “нет” отзывается на все, что произносит священник. Помолимся. Нет. Тело Христово. Нет. И далее в таком же духе. Иногда, утомившись, позволяет себе и вздремнуть, но так, чтобы никто этого не заметил.
Когда Биттори вышла из иезуитской церкви на улице Андиа, уже стемнело. Четверг. Тепло. После обеда она видела, что термометр у аптеки показывал двадцать градусов. Машины, пешеходы, голуби. Вдруг попалось знакомое лицо. Ни минуты не раздумывая, она свернула в сторону. Из-за резкой смены маршрута скоро оказалась у площади Гипускоа и пересекла ее по дорожке вдоль пруда. Понаблюдала за утками. Очень давно она была здесь в последний раз. Если память ей не изменяет, еще когда Нерея была маленькой. Вспомнила черных лебедей, которых сейчас видно не было. Дин-дон, дин-дон. Бой часов на здании городского совета вывел ее из задумчивости.
Восемь. Хорошее время, славный месяц октябрь. Вдруг ей вспомнились слова, сказанные утром Нереей. Про то, что нужно сменить коврик у двери? Нет, другое. Что нельзя лишать себя радостей. Обычная чушь, которую говорят старикам, когда хотят их подбодрить. Ведь Биттори охотно признавала, например, что вечер нынче чудесный. Но чтобы запрыгать от счастья, ей понадобилась бы причина поосновательней. Какая? Ох, да кто ж ее знает. Вот если бы изобрели машину, способную воскрешать умерших, и вернули мне моего мужа… И она тотчас переключилась на другой вопрос: сколько уж лет прошло, не пора ли начать забывать? Забывать? А что это такое?
Воздух насыщен запахом водорослей и моря. Совсем не холодно, нет ветра, небо чистое. Значит, сказала она себе, можно вернуться домой пешком и сэкономить на автобусе. На улице Урбьета она услышала свое имя. Услышала отчетливо, но ей не хотелось оборачиваться. Мало того, она даже ускорила шаг, хотя и это не помогло. Ее догоняли чьи-то быстрые шаги.
– Биттори, Биттори!
Голос прозвучал прямо у нее за спиной, так что нельзя было и дальше притворяться, будто не слышишь его.
– Ты уже знаешь? Они говорят, что больше этого не будет, то есть терактов больше не будет.
Биттори не могла не вспомнить времена, когда та же соседка старалась не встречаться с ней на лестнице или мокла под дождем на углу улицы, поставив сумку с покупками на асфальт, лишь бы не входить вместе в подъезд.
Она солгала:
– Да, мне только что сообщили.
– Вот ведь какая хорошая новость, правда? Наконец-то и у нас наступит мир. Давно пора.
– Ну, это мы еще посмотрим, посмотрим.
– Я ведь в первую очередь за вас радуюсь, за тех, кто по-настоящему пострадал. Дай-то бог, чтобы все это прекратилось и вас оставили в покое.
– Прекратилось что?
– Теперь они перестанут приносить людям горе, пусть добиваются своего, никого не убивая.
А так как Биттори молчала и не выказывала ни малейшего желания продолжать разговор, соседка попрощалась с ней, словно вдруг вспомнив о срочном деле:
– Ну, я пошла, а то обещала сыну приготовить на ужин барабульку. Очень уж он ее любит, барбульку. Если ты домой, пошли вместе.
– Нет, у меня тут неподалеку встреча.
И, чтобы избавиться от ненужной компании, Биттори перешла улицу и какое-то время без определенной цели бродила поблизости. Потому что эта сплетница сейчас будет чистить рыбу для своего сыночка, который всегда казался мне глуповатым или даже совсем безмозглым, и, если услышит, что я возвращаюсь домой следом за ней, подумает: ах, вот оно как, выходит, нарочно не захотела возвращаться вместе со мной. Биттори! Что? Ты начинаешь злобствовать, а я тебе много раз говорил, что… Ладно, оставь меня в покое.
Позднее, уже двигаясь к дому, она приложила ладонь к шершавому стволу дерева и беззвучно произнесла: спасибо тебе за твою доброту. Потом приложила ладонь к стене какого-то дома и повторила фразу. Затем проговорила то же самое, по очереди касаясь урны, скамейки, светофорного столба и других уличных предметов, которые попадались ей по пути.
В подъезде было темно. Биттори хотела было воспользоваться лифтом. Нет уж. Шум может выдать меня. И она решила подняться на четвертый этаж пешком, да еще сняв туфли. У нее еще хватило времени, чтобы прошептать последнее благодарение – перилам – и тоже за их доброту. Потом со всеми возможными предосторожностями вставила ключ в замочную скважину. И что плохого нашла Нерея в ее коврике? Нет, не понимаю я это существо и, пожалуй, никогда не понимала.
Не успела Биттори войти, как зазвонил телефон. Кошка Уголек, свернувшись черным клубком, дремала на диване. Не меняя позы и лишь чуть приоткрыв глаза, она следила за тем, как хозяйка спешит к аппарату. Биттори подождала, пока звонки смолкнут, проверила номер на экране и тотчас набрала его.
Шавьер пребывал в страшном возбуждении. Ama, ama! Включи скорей телевизор.
– Мне уже сообщили.
– Кто сообщил?
– Соседка сверху.
– А я думал, ты еще не знаешь.
Он сказал, что целует ее, она ответила тем же, и на этом их разговор закончился – попрощались, и точка. Про себя она решила: не буду я включать никакой телевизор. Но очень быстро верх одержало любопытство. На экране Биттори увидела троих типов в беретах и с закрытыми лицами, они сидели за столом, и вся сцена была выдержана в стиле ку-клукс-клана. Белая скатерть, патриотические плакаты, один микрофон на всех. Биттори подумала: интересно, а мать того, который сейчас говорит, узнала его по голосу? Она чувствовала глубокое отвращение к тому, что ей показывали, мало того, все это ее просто бесило. Долго она не выдержала и телевизор все-таки выключила.
День для нее закончился. Который был час? Ближе к десяти. Она поменяла воду кошке и легла в постель – раньше обычного, не поужинав, не открыв журнала, который ждал на ночном столике. Уже надев ночную рубашку, остановилась перед фотографией Чато, висевшей на стене в спальне, чтобы сказать ему, что:
– Завтра приду и обо всем тебе расскажу. Вряд ли ты сильно обрадуешься, но, в конце концов, новость важная, и ты имеешь право ее узнать.
Погасив свет, Биттори попыталась заставить свои глаза пролить хотя бы одну слезинку. Бесполезно. Сухие. И Нерея не позвонила. Не потрудилась хотя бы сообщить матери, что долетела до Лондона. Где уж там, она ведь сильно занята – старается спасти свой брак.
3. С Чато на кладбище Польоэ
Вот уже несколько лет как она не поднимается до кладбища Польоэ пешком. Не то чтобы не может, смогла бы, да сильно устает. А если честно, то и не усталость вовсе ее пугает. Просто зачем, вот именно, зачем? Кроме того, время от времени у нее начинает колоть в животе. Поэтому Биттори садится в автобус девятый номер, который останавливается в двух шагах от входа на кладбище, а побывав на могиле, уже пешком спускается в город. Шагать под горку – совсем другое дело.
Из автобуса Биттори вышла следом за какой-то женщиной, других пассажиров в нем, кстати сказать, и не было. Пятница, спокойно, хорошая погода. На арке над воротами она прочла: “Скоро о вас скажут то, что сейчас говорится о нас: они умерли!” Такого рода мрачные фразочки на меня не действуют. Звездная пыль (это я слышала по телевизору) – вот что мы такое, и не важно, дышишь ты еще или уже отправился к праотцам. Да, я люто ненавижу отвратительную надпись и тем не менее не могу при входе на кладбище не остановиться и не прочесть ее в очередной раз.
А вот пальто ты, голубушка, могла бы оставить дома. Сегодня оно уж точно лишнее. Вообще-то Биттори надела его только для того, чтобы на ней было что-то черное. Первый год она соблюдала траур, потом дети убедили ее, что пора начинать снова жить обычной жизнью. Обычной жизнью? Наивные люди, знать не знают, о чем говорят. Но она последовала их совету – только чтобы сын и дочь оставили ее в покое. Тем не менее ей все равно кажется неприличным ходить среди мертвых в чем-то ярком. Поэтому сегодня так и получилось: ранним утром она открыла шкаф и поискала что-нибудь черное, чем можно было бы прикрыть платье разных оттенков синего. Увидела пальто – и надела, хотя и знала, что запарится в нем.
Чато делит могилу с дедушкой и бабушкой по материнской линии, а также со своей теткой. Могила находится прямо у идущей слегка под уклон дорожки, в одном ряду с другими такими же. На плите имя и фамилии покойного, дата рождения и дата смерти – тот день, когда его убили. Без эпитафии.
В дни, предшествовавшие похоронам, родственники из Аспейтии посоветовали Биттори не писать и не выбивать на плите ничего – ни фраз, ни символов, ни косвенных указаний, по которым можно будет узнать, что Чато стал жертвой ЭТА. Меньше будет проблем.
Она возмутилась:
– Послушайте, один раз его уже убили. Во второй у них это вряд ли получится.
По правде сказать, Биттори и не собиралась помещать на плите надпись с объяснением причин смерти мужа, но достаточно было кому-нибудь начать отговаривать ее от чего-то, как она немедленно решала поступить наперекор советам.
А вот Шавьер согласился с доводами родственников. Так что на плите появились только имя и даты. Нерея по телефону из Сарагосы предложила изменить дату смерти. Они удивились: как это?
– Мне пришло в голову, что лучше бы на могиле указать другой день – либо до, либо после убийства.
Шавьер пожал плечами. Биттори сказала, что об этом не может быть и речи.
Через несколько лет, когда испачкали краской плиту на могиле Грегорио Ордоньеса[4], который лежит метрах в ста от Чато, Нерея, как всегда бестактно, снова напомнила им свое старое предложение, хотя о нем, по правде сказать, все уже давно успели забыть. Показывая фотографию в газете, она сказала матери:
– Говорила я тебе, что лучше принять хоть какие-то меры предосторожности? Посмотри, ведь такое и с нами могло случиться.
И тогда Биттори швырнула свою вилку на стол и объявила, что уходит.
– Куда это ты так заспешила?
– У меня вдруг пропал аппетит.
Она ушла из квартиры дочери, насупившись и сердито топая, а Кике при этом закурил сигарету и театрально закатил глаза.
Ряд могил тянется вдоль дорожки. К счастью для Биттори, плита на две пяди поднимается над землей, так что на нее удобно присесть. Конечно, если идет дождь, то особенно там не рассидишься. И в любом случае камень обычно бывает холодным (да еще лишайник и грязь, как и положено, накопившиеся за долгие годы). Она всегда приносит с собой в сумке квадратный кусок полиэтилена, вырезанный из пакета, полученного в супермаркете, а также платок, который можно положить на полиэтилен сверху. Садится и рассказывает Чато все, что наметила рассказать. Если поблизости есть люди, разговаривает с ним мысленно, если никого нет, что случается чаще, беседует вслух:
– Дочка уже в Лондоне. Так я, по крайней мере, полагаю, поскольку она даже позвонить мне не удосужилась. А тебе она звонила? Мне – нет. Ладно, раз по телевизору ничего ни про какие авиакатастрофы не сообщали, значит, оба они спокойно добрались до Лондона и там уж в который раз пытаются спасти свой брак.
Еще в самый первый год Биттори поставила на могильную плиту четыре горшка с цветами. И старательно ухаживала за ними. Красиво получилось. Потом она какое-то время не приезжала на кладбище. Цветы засохли. Следующие продержались до первых заморозков. Тогда она купила огромный глиняный вазон. Шавьер погрузил его на тележку. Вдвоем они посадили в него самшитовое деревце. Однажды утром Биттори нашла горшок опрокинутым и разбитым, так что часть земли просыпалась на плиту. С тех пор никаких растений у Чато на могиле не было.
– Что хочу, то и говорю, и никто мне этого запретить не может, а уж тем более ты. Шучу? Какие тут шутки. Просто я уже не такая, какой была при тебе. Я стала злой. Ну, не то чтобы злой, нет, конечно. Скорее холодной и равнодушной. Если ты вдруг воскреснешь, ни за что меня не узнаешь. И будь уверен, твоя драгоценная доченька, твоя любимица, много поспособствовала тому, чтобы я переменилась. Она ведь частенько доводит меня до белого каления. Как и раньше, впрочем, даже в детстве. С твоей потачки, само собой. Потому что ты всегда ее защищал. А вот мое слово никогда и ничего для нее не значило, она так и не научилась меня уважать.
Через три или четыре могилы от нашей, рядом с асфальтовой дорожкой, находился участок, покрытый песком. Биттори засмотрелась на пару только что прилетевших туда воробьев. Птички растопырили крылья и устроили себе песочную ванну.
– И второе, что я хотела сообщить тебе: банда решила прекратить убийства. Пока неизвестно, всерьез они об этом объявили или просто трюк какой-то задумали, чтобы выиграть время и перевооружиться. Хотя… Будут они убивать или нет, тебе уже все равно. Да и мне тоже, можешь не сомневаться. Зато я очень хочу узнать, как все это произошло в точности. Всегда хотела. Мне это необходимо. И никто меня не остановит. И дети наши не остановят. Даже если до них что-то дойдет про мои планы. Во всяком случае, сама-то я им ничего не скажу. Ты единственный, кто в курсе дела. И не перебивай меня. Только ты знаешь, что я собираюсь туда вернуться. Нет, в тюрьму я поехать не могу. Мне ведь неизвестно, в какой именно тюрьме сидит этот мерзавец. Но они-то по-прежнему живут в поселке, никуда не делись. Кроме того, мне страшно любопытно посмотреть, в каком состоянии находится наша квартира. Ты не беспокойся, Чато, Чатито, потому что Нерея сейчас за границей, а Шавьер думает, как всегда, только о своей работе. Они ни о чем и не догадаются.
Воробьи исчезли.
– Клянусь тебе, я ничуть не преувеличиваю. Мне очень и очень нужно примириться с самой собой, чтобы можно было сесть и сказать: ну вот, с этим покончено. С чем именно покончено? Не знаю, как лучше объяснить тебе, Чато, наверное, и это тоже мне еще предстоит для себя уяснить. А ответ, если, конечно, ответ существует, можно отыскать только в поселке, вот почему я и собираюсь туда поехать – сегодня же после обеда.
Она встала. Аккуратно сложила платок и кусок полиэтилена, убрала все в сумку.
– Ну вот, все тебе рассказала. С тем и оставайся.
4. В квартире у этих
Девять вечера. Окно на кухне распахнуто настежь, чтобы выветрился запах жареной рыбы. Новости по телевизору начались с того, о чем Мирен уже слышала накануне по радио. Полный отказ от вооруженной борьбы. Да, именно от вооруженной борьбы, а не от терроризма, как это теперь называют, потому что мой сын никаким террористом не был. Мирен повернулась к дочери:
– Слыхала? Вон, снова объявили о прекращении. Пусть их, еще посмотрим, надолго ли.
Аранча вроде бы не обращает на ее слова никакого внимания, но в действительности все отлично слышит. На перекошенном лице – или это только шея у нее перекошена? – появляется едва заметная гримаса, словно она таким образом выражает свое отношение к известию. С ней никогда и ни в чем нельзя быть уверенной, однако матери показалось, что та ее поняла.
Мирен вилкой разминает для дочери жаренного в сухарях хека. На совсем маленькие кусочки, чтобы Аранче было легче глотать. Так делать учила их врач-физиотерапевт, очень славная девушка. Правда, она не басконка, ну да ладно, бог с ней. Аранче надо очень стараться. Иначе не будет никакого прогресса. Ребро вилки то и дело с резким стуком ударяется о дно тарелки и, прорывая на рыбе зажаренную корочку, выпускает наружу маленькие облачка пара.
– Интересно, что они придумают теперь, чтобы не выпускать на волю нашего Хосе Мари?
Она села за стол рядом с дочкой и не сводила с нее глаз. Тут отвлекаться никак нельзя. Сколько уж раз Аранча давилась. В последний – летом. Пришлось вызывать “скорую”. Сирена переполошила весь поселок. Ну и страху мы тогда натерпелись. К тому времени, когда прибыли медики, Мирен сама вытащила у дочки из глотки кусок рыбы, и пребольшой.
Сорок пять лет. Старшая из троих ее детей. Потом родился Хосе Мари. Теперь он в тюрьме Пуэрто-де-Санта-Мария-I[5]. Вот в какую даль они нас заставляют ездить. Сволочи. Есть и еще один сын – самый младший. Этот занят своими делами. Его мы, почитай, и не видим.
Аранча взяла стакан с белым вином, которое налила ей мать. Подняла и неловко поднесла к губам той рукой, которая у нее действует нормально. Левая рука с безжизненно сжатым кулаком, как всегда, словно приросла к боку, у талии, она совсем не работает. Аранча сделала хороший глоток вина, чему, по мнению Хошиана, можно было только радоваться, если вспомнить, что еще до недавнего времени ее кормили через зонд.
Несколько капель потекло у нее по подбородку, но это ерунда. Мирен поспешно вытерла их салфеткой. А какая красивая была девка, какая здоровая, двоих детишек родила, только живи и радуйся – и вот вам, пожалуйста.
– Ну как тебе, нравится?
Аранча затрясла головой, словно желая сказать, что рыба нравится ей не слишком.
– Знаешь, а она, эта рыба, между прочим, не такая уж и дешевая. Так что не привередничай.
По телевизору тем временем пустили разные комментарии. Ба, вон и политики. Серьезный шаг к миру. Мы требуем распустить банду террористов. Начало перемен. Путь к надежде. Конец кошмара. Пусть сдадут оружие.
– Нет, ты мне скажи, что это значит: они, видите ли, прекращают борьбу? В обмен на что? А про свободу Страны басков уже забыли, что ли? И про узников, которые гниют в тюрьмах. Трусы. Нет уж, надо довести начатое до конца. А ты узнала голос, который зачитал заявление?
Аранча медленно жевала кусочек рыбы. Она отрицательно помотала головой. Но тотчас захотела что-то добавить и сделала знак рукой, прося, чтобы мать подала ей айпэд. Мирен вытянула шею, стараясь прочесть появившиеся на экране слова: “Мало соли”.
Хошиан вернулся уже после одиннадцати – со связкой лука-порея в руке. Весь вечер он провел на своем огороде. Такое вот увлечение у этого мужчины, теперь уже ставшего пенсионером. Огород расположен прямо у реки. И когда река разливается – в последний раз это случилось в начале года, – прощайте все посадки. Бог с ними, бывают вещи и похуже, говорит Хошиан. Рано или поздно вода все равно спадает. Тогда он сушит садовые инструменты, выметает грязь из сарая, покупает новых крольчат и повторно сажает овощи там, где старые спасти не удалось. Зато яблоня, инжир и орешник выдерживают любое наводнение. Вот и все. Все? Беда в том, что в реку попадают промышленные стоки и после наводнения от земли идет сильный запах. По словам Хошиана, от нее начинает пахнуть заводом. Мирен с ним не согласна:
– Ядом от нее пахнет, вот чем. Когда-нибудь нутро у нас не выдержит, и мы все перемрем.
Еще одно ежедневное занятие Хошиана – карты по вечерам. Четверо друзей играют в мус [6]на кувшин вина. в баре “Пагоэта” – в нижней части поселка, если идти по направлению к главной площади. Но чтобы им на четверых хватало одного кувшина – это, конечно, сказки.
По тому, как муж держал свой лук-порей, Мирен сразу поняла: явился он в хорошем подпитии. И не удержалась, съязвила, что скоро нос у него станет таким же красным, как у покойного папеньки. Была, кстати, верная примета, по которой легко было судить, что Хошиан позволил себе лишнего: в таких случаях он то и дело чесал себе правый бок в области печени, как будто его кто-то укусил. Тут уж никаких сомнений не оставалось. Но конечно, идя по улице, он кренделей никогда не выписывал, чего нет, того нет. Да и к жене не цеплялся. Вот только без конца чесал бок, как другие имеют привычку осенять себя крестным знамением или стучать по дереву.
Хошиан никому не умеет отказать. Вот в чем беда. И вино в баре лакает только потому, что другие тоже пьют. Если, допустим, кто-то из приятелей скажет ему: “Пошли кинемся головой в реку”, – побежит следом как ягненок. Короче, в тот раз домой он явился в съехавшем набок берете, с блестящими глазками и почесывая бок. И еще – сразу слишком расчувствовался. В столовой долгим нежным поцелуем приклеился ко лбу Аранчи. И при этом чуть на нее не завалился. Правда, Мирен его к себе не подпустила:
– Нет уж, охолонись, от тебя за версту кабаком несет.
– Да ладно, чего ты зря заводишься?
Она выставила вперед обе руки, чтобы удержать мужа на расстоянии:
– На кухне для тебя рыба. Небось уж остыла. Сам подогревай.
Полчаса спустя Мирен позвала его, чтобы он помог уложить в постель Аранчу. Они подняли ее с инвалидного кресла – он под одну руку, она – под другую.
– Держишь?
– А?
– Крепко держишь, спрашиваю. Да отвечай ты, горе луковое, прежде чем начнем вверх-то тянуть.
То, что не дает Аранче передвигаться, в медицине называется конской стопой. Иногда она все-таки делает несколько шагов. Но всего несколько и очень неловких. Опираясь на палку или при чьей-нибудь поддержке. Добиться, чтобы она снова научилась самостоятельно ходить, или есть, или чтобы у нее восстановилась речь, – это главные цели в семье на не самое ближайшее время. Что будет потом – поглядим. Физиотерапевт их обнадеживает. Очень она славная, эта врачиха. Совсем плохо говорит по-баскски, вернее, почти и не говорит вовсе, но в данном случае это не важно.
Общими усилиями отец и мать ставят Аранчу на ноги рядом с кроватью. В который уж раз они это проделывают! Поднаторели. Кроме того, сколько она весит теперь, их Аранча? Всего сорок с чем-то кило. Не больше. А ведь раньше всегда в теле была, особенно в лучшие свои времена.
Отец держал ее, пока Мирен откатывала к стене инвалидное кресло.
– Смотри не урони!
– Да как же я ее уроню, мою доченьку!
– С тебя станется.
– Глупости-то не говори.
Они обменялись злыми взглядами, и он покрепче стиснул зубы, чтобы не выругаться. Мирен откинула одеяло, и потом, уже вдвоем, очень осторожно, медленно – хорошо держишь? – мать с отцом уложили Аранчу в постель.
– Теперь можешь идти, я ее раздену.
Тут Хошиан наклонился, чтобы опять поцеловать дочку в лоб. И пожелал ей спокойной ночи. И еще сказал: “До завтра, polita”[7], и погладил ее щеку костяшкой пальца. После чего, все так же почесывая бок, двинулся к двери. И уже стоя почти на пороге, обернулся и сообщил:
– Да, когда я возвращался из бара, видел свет в квартире у этих.
Мирен как раз разувала Аранчу.
– Небось кто-нибудь пришел навести там порядок.
– В одиннадцать вечера?
– Меня эти люди не интересуют.
– Я тебе только сказал о том, что видел своими глазами. Они ведь могут и вернуться в поселок.
– Могут. А теперь, после того как наши решили сложить оружие, и совсем обнаглеют.
5. Переезд в темноте
Овдовев, Биттори уже через несколько недель переехала в Сан-Себастьян. Временно. В первую очередь, надо полагать, чтобы не видеть тротуара, где убили ее мужа, и чтобы избавиться от косых взглядов жителей поселка, которые столько лет были с ней дружелюбны и любезны, а теперь вдруг так разительно изменили свое отношение. И еще – чтобы не проходить каждый день мимо надписей на стенах домов и не видеть ту, что красуется на музыкальной эстраде на площади, одну из последних, с мишенью над именем убитого Чато. А ведь через два-три дня после ее появления все и произошло.
На самом деле в Сан-Себастьян ее обманом заманили дочь с сыном. Святые небеса, четвертый этаж! А ведь Биттори так привыкла жить на втором.
– Да ладно тебе, мама, там, между прочим, лифт есть.
Нерея и Шавьер договорились любой ценой вытащить Биттори из поселка, где она прожила всю жизнь, где родилась, где ее крестили и где она вышла замуж. И еще они договорились между собой любой ценой помешать ей возвратиться обратно, даже запретили, если называть вещи своими именами, возвращаться, хоть и сделали это в самой мягкой форме.
Они поселили мать в квартире с балконом, откуда было видно море. Их семья уже какое-то время пыталась продать это жилье. Они даже объявление в газете поместили. И несколько человек позвонили им, пожелав купить квартиру или, по крайней мере, узнать цену. Чато приобрел ее за несколько месяцев до того, как его убили, когда решил обеспечить близких пристанищем подальше от поселка.
В квартире уже имелись светильники, но мебели было мало. Сын с дочерью сказали Биттори, что она должна временно пожить здесь. Правда, когда они разговаривали с ней, мать их словно не слышала. Вообще была как будто не в себе. Безразличная ко всему. И это она-то, у которой обычно рот не закрывался ни на минуту. А теперь Биттори сидела как каменная. Казалось, даже моргать разучилась.
Шавьер с одним своим приятелем, работавшим в той же больнице, перевезли для нее кое-какие вещи. В поселок они отправлялись на пикапе ближе к вечеру, когда уже стемнеет, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Сделали больше десятка поездок, и всегда после захода солнца. Привозили одно, потом другое. В машину-то сразу много не помещалось.
Супружескую кровать оставили, потому что Биттори, потеряв мужа, отказывалась на ней спать. В конце концов они успели забрать достаточно всего: посуду, ковер из столовой, стиральную машину. Но однажды во время погрузки пакетов с вещами их окружила группа людей, которые кричали на них и оскорбляли. Все старые знакомые Шавьера, даже кое-кто из школьных товарищей. Один, задыхаясь от бешенства, процедил сквозь зубы, что отлично запомнил номер машины.
Когда они возвращались обратно в Сан-Себастьян, Шавьер заметил, что приятель сильно нервничает и в таком состоянии явно не может и дальше вести машину – запросто попадет в аварию. Шавьер попросил его съехать на обочину и остановиться.
Друг сказал:
– Больше я не смогу с тобой поехать. Прости.
– Все нормально.
– Поверь, мне очень жаль… И прости.
– А нам больше незачем туда возвращаться. С переездом покончено. Моей матери вполне хватит того, что мы успели ей доставить.
– Надеюсь, ты понимаешь меня, Шавьер?
– Да, разумеется. Не переживай.
Прошел год, прошел второй, прошли годы. Биттори тайком заказала себе копию ключа от оставленной в поселке квартиры, и хитрости тут большой не потребовалось. Зачем заказала? Сперва ее спросила Нерея, а через несколько дней и Шавьер: ama, где ключ? У тебя ведь был ключ. Словно сговорились. И дочери, и сыну она ответила, что не знает, куда его задевала. Голова-то совсем дурная стала! Обещала поискать и наконец через несколько дней сделала вид, что, как следует поискав, нашла-таки ключ, но, разумеется, к тому времени уже успела получить в мастерской копию. А старый ключ вручила Нерее, которая время от времени (один или два раза в год?) ездила взглянуть на их квартиру и вытереть там пыль. Ключ дочь ей не вернула, хотя Биттори вовсе этого и не ждала.
Как-то Нерея мимоходом бросила: пожалуй, неплохо было бы продать квартиру в поселке. А через несколько дней то же самое предложил матери Шавьер. Биттори нутром почуяла, что эти двое опять сговорились за ее спиной. Поэтому сама вернулась к назревшему вопросу, как только они собрались втроем:
– Пока я жива, мой дом продан не будет. А уж когда помру, делайте, что вам заблагорассудится.
Они спорить не стали. Биттори произнесла это с соответствующей случаю миной, и в глазах ее сверкнула непреклонная решимость. Брат с сестрой обменялись быстрыми взглядами. Больше на эту тему никто и никогда не заговаривал.
Между тем Биттори взяла в привычку ездить в поселок, но старалась делать это как можно незаметнее, чаще выбирая ненастные дни, дождливые и ветреные, когда вероятность встретить кого-то на улице была минимальной, а также когда ее дети были чем-нибудь заняты или куда-нибудь уезжали. Потом могло пройти семь или даже восемь месяцев, прежде чем она снова туда наведывалась. С автобуса она сходила, не доезжая до поселка. Чтобы не пришлось ни с кем разговаривать. Чтобы никто ее не видел. По самым безлюдным улицам поднималась до своего дома. Проводила там час или два, иногда чуть больше. Разглядывала фотографии, ждала, пока церковный колокол пробьет нужный час, и, убедившись, что внизу у подъезда никого нет, той же дорогой возвращалась в город.
На местное кладбище она не заходила никогда. Зачем? Чато похоронили в Сан-Себастьяне, а не в поселке, хотя там в семейном склепе покоились его бабушка с дедушкой по отцовской линии. Но похоронить Чато вместе с ними было нельзя, им это решительно отсоветовали: если ты сделаешь так, они осквернят могилу, такое уже не раз случалось.
На кладбище Польоэ во время погребения Биттори прошептала Шавьеру то, что он никогда в жизни не забудет. Что именно? Что ей кажется, будто Чато не столько хоронят, сколько прячут.
6. Чато, entzun[8]
Ох, до чего же медленно ползет этот автобус. Слишком много остановок. Ну вот, еще одна. Две женщины, на вид ничего особенного, сидят вместе, на соседних местах. Уже под самый вечер возвращаются откуда-то в поселок. Говорят одновременно и каждая о своем, но при этом прекрасно понимают друг друга. Внезапно та, что сидит у прохода, незаметно толкнула локтем ту, что сидела у окошка. Добившись таким образом ее внимания, она легким кивком указала на переднюю часть автобуса.
Шепотом:
– Вон, в темном пальто.
– Кто это?
– Неужто не узнаешь?
– Да я ее только со спины вижу.
– Жена Чато.
– Которого убили, что ли? Ух и постарела же она!
– А ты как думала? Годы-то даром не проходят.
Они помолчали. Автобус ехал своим маршрутом. Входили и выходили пассажиры, а две приятельницы молча глядели в пустоту. Затем одна из них тихо сказала: несчастная она женщина.
– Почему это?
– Настрадалась, вот почему.
– Все мы настрадались.
– Это да, но ей-то досталось по полной.
– Тяжелые времена, Пили, тяжелые времена.
– А я что, разве спорю?
И тотчас другая, та, что не Пили:
– Спорим, что она выйдет у промышленной зоны?
Как только Биттори встала, обе старательно отвели глаза. На этой остановке вышла только она одна.
– Ну, что я тебе говорила?
– А как ты угадала?
– Она всегда здесь выходит, чтобы никто ее не увидел, а потом – топ-топ, украдкой идет к своему дому.
Автобус снова тронулся, и Биттори – думают, я их не заметила? – зашагала следом в том же направлении по району, занятому предприятиями и мастерскими. На лице ее застыло выражение – нет, не облегчения, а скорее спокойствия: губы плотно сжаты, голова гордо поднята, – потому что я не собираюсь ни от кого прятаться.
Поселок, ее поселок. Уже совсем стемнело. Свет в окнах, запах зелени с соседних полей, редкие прохожие на улицах. Она шагнула на мост, подняла воротник пальто и увидела неторопливую реку, по берегам которой раскинулись сады и огороды. Но как только Биттори очутилась в окружении жилых домов, словно что-то случилось у нее с дыханием. Одышка? Да нет, не похоже. Невидимая рука сжимает ей горло всякий раз, когда она возвращается в поселок. Биттори поднимается по тротуару не быстро и не медленно, замечая всякие мелочи и что-то вспоминая: у этих ворот мне впервые объяснялся в любви один парень, а вот это что-то новенькое, этих фонарей на моей памяти здесь вроде бы не было.
Очень скоро она услыхала у себя за спиной шепот. Словно комар зудит в воздухе у окна или в темной прихожей. Так, легкий шумок, в конце которого прозвучало “Чато”. И этого ей вполне хватило, чтобы восстановить всю фразу. Наверное, нужно было приехать попозднее, когда люди окончательно разойдутся по домам. На самом последнем автобусе. Тоже придумала! А обратно как же? Как? Но я ведь все равно останусь ночевать здесь. У меня есть в поселке свой дом и есть своя кровать.
У дверей бара “Пагоэта” стояли курильщики. Биттори не хотелось проходить мимо. Как поступить? Можно повернуть назад и обогнуть церковь с другой стороны. Она замедлила шаг и тотчас пристыдила себя за трусость. И опять пошла по середине улицы, изо всех сил стараясь изобразить, что это для нее самое обычное дело. А сердце билось с такой силой, что на миг она даже испугалась, как бы мужчины не услышали его ударов.
Итак, Биттори прошла мимо, даже не посмотрев в их сторону. Курильщиков было четверо или пятеро – все со стаканом в одной руке и сигаретой в другой. Они наверняка узнали ее, едва она приблизилась, во всяком случае, внезапно все они дружно смолкли. Одна, две, три секунды. Но когда Биттори дошла до конца улицы, разговор возобновился.
А вот и наш дом, в их квартире опущены шторы. На фасаде внизу можно разглядеть афиши. Одна, сравнительно новая, извещала о каком-то концерте в Сан-Себастьяне, а вторая, выцветшая, разорванная, – о Большом мировом цирке. Афиша цирка висела как раз на том месте, где однажды утром появилась сделанная краской надпись, одна из многих и многих: TXATO ENTZUN PIM PAM PUM[9].
Биттори вошла в подъезд – и это было все равно что войти в свое прошлое. Та же лампа, те же старые скрипящие ступени, ровный ряд хлипких почтовых ящиков, где теперь не хватает их собственного. В свое время его снял со стены Шавьер. Сказал, что это избавит семью от лишних проблем. На стене остался квадратик того цвета, какими были стены когда-то давно, когда у нее еще не родилась Нерея, а у Мирен не родился сын, этот мерзавец. И если я хочу, чтобы существовал ад, то единственно для того, чтобы там обрекали на вечные муки убийц.
Она вдохнула запах старой древесины, запах свежего воздуха и запах плесени. И сразу почувствовала, как невидимая рука отпустила ее горло. Ключ, замочная скважина – Биттори вошла. Едва перешагнув порог, еще в прихожей, она будто снова столкнулась с Шавьером, только гораздо более молодым, и тот Шавьер говорил ей со слезами на глазах: ama, мы не должны допускать, чтобы ненависть портила жизнь нам же самим, это унизительно, – или что-то в том же духе, она уже не помнила в точности. Зато помнила, какую почувствовала досаду – тогда, много лет назад:
– Конечно, ничего же не случилось, так что давайте будем петь и плясать.
– Ради бога, мама, перестань, охота тебе без конца растравлять раны. Надо сделать усилие, постараться, чтобы все, что произошло…
Она перебила его:
– Извини, но будет вернее сказать: все, что они с нами сделали…
– Чтобы все это не озлобило нас.
Слова. Однако забыть их нет никакой возможности. Эти слова не дают ей остаться по-настоящему одной. Туча надоедливых насекомых, слышишь? Хорошо бы распахнуть настежь окна, чтобы выпустить на улицу слова, жалобы и невеселые разговоры, случившиеся между ними, – все, что поселилось в стенах старой необитаемой квартиры.
– Чато, Чатито, что тебе приготовить на ужин?
Чато усмехался с фотографии, висевшей на стене, и у него было лицо человека, которого непременно убьют. Стоило хотя бы мельком глянуть на него, чтобы понять: рано или поздно его убьют. А уши-то, уши какие! Биттори поцеловала кончики сложенных вместе среднего и указательного пальцев, а потом с нежностью поднесла их к черно-белой фотографии.
– Яичницу с хамоном. Я же тебя по-прежнему знаю, как если бы ты был жив.
Она открыла кран в ванной комнате. Ага, вода идет, и даже не такая мутная, как она себе воображала. Открыла ящики, сдула пыль с каких-то предметов, сделала то, сделала это, прошлась туда, прошлась сюда и где-то в половине одиннадцатого подняла жалюзи в соседней комнате, но свет там не зажгла. Потом принесла с кухни стул, села и стала смотреть в окно – в полной темноте, чтобы ее силуэт не вырисовывался на светлом фоне.
Какие-то парни. Редкие прохожие. Мальчик и девочка о чем-то спорили, он попытался поцеловать ее, а она даже для вида не уворачивалась. Старик с собакой. Биттори была уверена, что рано или поздно увидит перед своим домом одного из тех. Откуда, интересно, ты это знаешь? Не могу тебе объяснить, Чато. Женская интуиция.
Ну и как, предсказание исполнилось? Да, исполнилось, хотя ждать пришлось довольно долго. Церковный колокол пробил одиннадцать. Вот! Биттори сразу его узнала. Сдвинутый набок берет, свитер накинут на плечи, рукава завязаны на груди, несколько стеблей лука-порея под мышкой. Значит, до сих пор копается в своем саде-огороде? А поскольку он остановился так, что на него падал свет от фонаря, она увидела на его лице удивленную и недоверчивую гримасу. Секунда, не больше – и он быстро-быстро зашагал, словно ему иголку воткнули в задницу.
– Ну, что я тебе говорила? Теперь он расскажет жене, что видел здесь, у нас, свет. А та ему в ответ: пить надо меньше. Но любопытство пересилит, и она явится сама, чтобы проверить. Слышишь, Чато, давай поспорим, что непременно прибежит?
Пробило полночь. Не дергайся, наберись терпения. Руку даю на отсечение, что она явится. И явилась-таки, еще бы ей не явиться. Почти в половине первого. Буквально на миг остановилась под фонарем и поглядела на их окно, но ни удивления, ни недоверия ее лицо не выражало, только брови были сердито насуплены. И тотчас же повернула назад и решительно зашагала, исчезая в темноте.
– Что ж, надо признать, она не сильно изменилась.
7. Камни в рюкзаке
Хошиан занес велосипед на кухню. Он у него легкий, гоночный. Однажды Мирен, уставившись на гору грязной посуды, сказала:
– На такую роскошную железяку денег у тебя небось хватило, а?
Ответ Хошиана:
– Ну да, хватило, как не хватить. Я ведь не зря всю жизнь пахал как вол. Они там нас всех поимели по полной.
Занести велосипед из подвала в квартиру труда не составило, он даже стену ни разу не задел. Слава богу, что мы живем на первом этаже. Хошиан повесил велосипед на плечо, как делал в молодости, когда участвовал в велокроссах. Было только семь часов утра, и было воскресенье. Он мог бы поклясться, что совсем не шумел. И тем не менее вот она, Мирен, сидит за столом в ночной рубашке и поджидает его с недовольной миной.
– А можно спросить, что твой велосипед делает в квартире? Ты что, решил все полы мне изгваздать?
– Надо перед выездом подправить тормоз и протереть велосипед тряпкой.
– Ну да, конечно, ведь на улице ты его протереть никак не можешь?
– На улице холод собачий и темно еще, ни черта не видно. Ты-то чего вскочила в такую рань?
Две ночи подряд без сна – неужто и такие вещи нужно объяснять? Вон какие круги у нее под глазами. А все из-за чего? Из-за света, который пробивался сквозь неплотно задвинутые шторы в доме у тех. И не только в пятницу, но и вчера, а если хотите знать мое мнение, отныне он будет гореть там каждый божий день. Чтобы потом люди качали головой: ах, бедные несчастные жертвы, а мы-то как ни в чем не бывало с улыбочками проходили мимо. Свет, шторы, люди, которые видели Биттори на улице и сразу прибежали к ней, к Мирен, чтобы доложить об этом, – все это вернуло ее к старым мыслям, дурным мыслям, да, очень и очень дурным:
– Наш сынок испортил-таки нам жизнь.
– Испортил, но, если тебя услышат в поселке, жизнь у нас будет еще веселей.
– Я ведь это только тебе говорю. Если не с тобой, то с кем еще мне быть откровенной?
– Ты у нас заделалась настоящей abertzale[10]. Вечно идешь впереди всех, вечно кричишь громче всех, революционерка хренова. А если у меня, скажем, слезы на глаза наворачивались во время свиданий в тюрьме – тут же скандал. “Не будь слабаком, – передразнил он жену, – не плачь при сыне, он от этого падает духом”.
Много лет назад – сколько? двадцать? больше? – они начали что-то подозревать, о чем-то догадываться, делать какие-то выводы. Вот и Аранча сказала однажды на кухне:
– Вы что, и вправду ничего не видите? Не видите всех этих плакатов на стенах у него в комнате. А деревянная фигура на ночном столике? Змея, обвивающая топор?[11] Это что, по-вашему?
Как-то вечером Мирен вернулась домой в тревоге/гневе. Хосе Мари был среди тех, кто устроил уличные беспорядки в Сан-Себастьяне.
– Ах, кто это видел, спрашиваешь? Да мы с Биттори и видели собственными глазами. Или ты думаешь, я туда с мужиком гулять отправилась?
– Ну, будет тебе, утихни. Он молодой еще, кровь бурлит. Все это у него пройдет.
Мирен, глотая липовый чай, который спешно себе заварила, стала молиться святому Игнатию, прося у него защиты и совета. И потом, пока чистила чеснок, чтобы вставить дольки в тушку морского леща, то и дело осеняла себя крестным знамением, не выпуская при этом ножа из руки. За ужином она не переставала причитать под молчаливыми взглядами близких, предсказывала все мыслимые и немыслимые беды и объясняла подвиги Хосе Мари влиянием дурной компании. А виноваты во всем, по ее мнению, были сын мясника или сын Маноли и вся их шайка.
– В кого он только превратился? На кого стал похож? Да еще эта серьга в ухе… Глаза бы мои на него не глядели. А там, на улице, у него еще и рот платком был завязан.
В ту пору они с Биттори были – как это лучше назвать? – подругами? Больше чем подругами, все равно что сестрами. А еще раньше чуть в монастырь вместе не ушли, да тут появился Хошиан, появился Чато, оба вместе в баре в мус играли и ужинали вместе в гастрономическом обществе[12], в основном по субботам, а по воскресеньям занимались велотуризмом. Обе подруги, Биттори и Мирен, венчались в белом в местной церкви, где потом у дверей исполнялся аурреску[13]. Одна вышла замуж в июне, другая в июле того же, 1963-го, года. И в то, и в другое воскресенье небо, как по заказу, было голубым, без единого облачка. Друг дружку на свадьбы они, разумеется, пригласили. Мирен и Хошиан устроили свадьбу в сидрерии – очень приличном, надо сказать, заведении, расположенном за пределами поселка. Свадьба была небогатой, а пахло вокруг скошенной травой и навозом. Биттори и Чато праздновали свою в шикарном ресторане с официантами в костюмах, потому что Чато, который мальчишкой бегал по поселку в драных альпаргатах, теперь неплохо зарабатывал на им же самим основанной фирме грузоперевозок.
Мирен и Хошиан провели медовый месяц в Мадриде (четыре дня, дешевый пансион недалеко от Пласа-Майор). Биттори и Чато сперва отправились на неделю в Рим, где видели нового Папу, который приветствовал толпу, а потом совершили путешествие по разным итальянским городам. Мирен, слушая рассказ подруги об их поездке, заявила:
– Сразу видно, что ты вышла за богача.
– Знаешь, я об этом меньше всего думала. А вышла за него в первую очередь из-за больших ушей…
Подруги возвращались из кофейни в Старом городе, куда часто ходили есть чуррос. Именно в тот день в Сан-Себастьяне и случились уличные беспорядки. Женщины остановились в переулке у бульвара. Поперек дороги стоял горящий городской автобус. Черный дым растекался по фасаду здания, так что не было видно окон. Потом стало известно, что водителя избили. Он тоже находился там. Мужчина лет пятидесяти – пятидесяти пяти сидел на земле с залитым кровью лицом и широко открытым ртом, словно ему не хватало воздуха. Рядом с ним суетились двое прохожих, которые пытались оказать ему помощь и успокоить, а также полицейский. Тот, судя по жестам, давал понять, что посторонним оставаться здесь не следует.
Биттори:
– Ты только посмотри, что творится.
Мирен:
– Сворачивай на улицу Окендо, лучше сделаем круг, оттуда и выйдем к автобусной остановке.
Прежде чем свернуть за угол, они еще какое-то время поглазели на происходящее. Вдалеке, рядом с мэрией, выстроились в ряд фургоны полиции. Полицейские в красных касках, с лицами, закрытыми черными масками, начали действовать. Они стреляли резиновыми пулями по толпе молодежи, которая в ответ осыпала их обычными для такой ситуации ругательствами: продажная сволочь, убийцы, негодяи – то на испанском, то на баскском.
Между тем автобус так и продолжал гореть посреди уличной схватки. И черный дымище продолжал подниматься вверх. Запах горелой резины разносился по соседним улицам, от него щипало в носу и слезились глаза. Мирен и Биттори слышали, как некоторые прохожие жалуются, правда, больше шепотом: автобусы ведь на наши общие деньги покупаются, неужели это и называется защитой прав народа, возмутительно. Какая-то женщина шикнула на мужа:
– Тише, ты, не услышал бы кто.
И тут они его узнали, хотя, как и у многих других, капюшон закрывал лицо, а рот был завязан платком. Ой, Хосе Мари! А он-то что тут делает? Мирен еле удержалась, чтобы не окликнуть сына. Парни вышли из Старого города по тому же переулку, что и Биттори с Мирен несколькими минутами раньше. Шестеро или семеро остановились на углу рядом с лавкой морепродуктов. Среди них сын мясника и сын Маноли. Хосе Мари вместе с несколькими другими бежал, держа рюкзак в руках. Потом они выстроились вдоль тротуара и, приближаясь, запустили руки в рюкзаки, чтобы что-то оттуда достать, но что именно, Мирен не поняла. У Биттори зрение было хорошее, и она сказала подруге: камни. Да, там были камни. Парни со всей силы швыряли их в полицейских.
8. Случай из далекого прошлого
Внимание Мирен внезапно привлек отблеск на ободе велосипедного колеса. И хватило слабой вспышки утреннего света, чтобы она вспомнила тот случай из далекого прошлого. Где было дело? Да на их же кухне. Первое, что пришло на память, – как у нее дрожали руки, пока она готовила ужин. Даже сейчас, вспоминая тот день, она начинает чувствовать что-то вроде удушья, а тогда решила, что виной всему жара и чад от сковородки. Мирен распахнула окно, но воздуху ей все равно не хватало.
Половина десятого, десять. Наконец она услыхала, что он явился. Его шаги по лестнице в подъезде было трудно не узнать. К тому же он вечно поднимался бегом. Ну вот, сейчас войдет.
Вошел. Здоровенный, девятнадцатилетний, грива до плеч и серьга в ухе, будь она проклята. Хосе Мари, ее сынок, крепыш и обжора. Он рос и рос, пока не превратился в высокого и широкоплечего парня. Пока не стал заметно выше всех в семье, кроме младшего, который тоже вымахал дай боже, хотя по натуре был совсем другим, не знаю, как объяснить. Горка был тощим, хилым, но при этом, по словам Хошиана, поголовастей, чем Хосе Мари.
Мирен встретила сына с грозным видом и даже не позволила подойти и поцеловать ее:
– Откуда ты?
Как будто сама не знала. Как будто не видела его днем на бульваре в Сан-Себастьяне. Как будто не рисовала себе потом картины одна страшней другой: сын в обгоревшей одежде, или с раной на лбу, или в больнице.
Он поначалу отвечал уклончиво. Это вообще с некоторых пор вошло у него в привычку. Каждое слово приходилось вытягивать из него словно клещами. Ну ладно, коли сам ничего не пожелал рассказывать, она сама описала их встречу. Точное время, место, набитый камнями рюкзак.
– А не был ли ты, случайно, с теми, кто поджег автобус? Только этого нам и не хватало.
– Хватало вам – не хватало, меня это не волнует, – заорал он.
Ну а что Мирен? В первую очередь поспешила закрыть окно. Не то их ссору услышит весь поселок. А еще про оккупационные силы и свободу Страны басков. Она даже схватилась за ручку раскаленной сковороды, приготовившись от него защищаться, потому что я ведь раздумывать долго не стану, возьму и шарахну его как следует по башке. Потом, разумеется, поставила сковородку опять на плиту, заметив кипящее масло: нет, только не это. И Хошиан, как на грех, все не возвращался. Торчит в своей “Пагоэте”, а она тут одна разбирается со взбесившимся сыночком, который продолжает кричать про свободу, независимость и борьбу. Мало того, он вдруг сделался таким агрессивным, что Мирен поверила: этот запросто и ударить может. Но ведь он ее сын, ее Хосе Мари, она его родила, кормила грудью, а теперь вот, полюбуйтесь, посмел орать на родную мать.
Она развязала фартук, скрутила в комок и швырнула – в бешенстве? испуганно? – на пол, примерно туда, где сейчас стоит велосипед Хошиана. Тоже мне сообразил притащить в дом свою железяку. Чего она ни в коем случае не хотела, так это чтобы сын видел ее плачущей. Вот почему очень быстро вышла из кухни, зажмурившись и оттопырив губы, с лицом, искаженным в попытке сдержать рыдания. И с тем же выражением вошла/ворвалась в комнату Горки и сказала: быстро ступай за отцом. Горка, который сидел, склонившись над своими книгами и тетрадями, спросил, что случилось. Мать велела ему бежать со всех ног, и парень – шестнадцать лет – помчался в бар “Пагоэта”.
Очень скоро явился Хошиан, сильно разозленный из-за того, что пришлось прервать партию:
– Что ты сделал с матерью?
С сыном он вынужден был разговаривать, глядя снизу вверх – из-за разницы в росте. И сейчас, всматриваясь в блик на ободе велосипеда, Мирен как наяву наблюдала всю сцену, не напрягая памяти. Правда, все представало перед ней в уменьшенном размере: кафельная плитка до середины стены, трубки дневного света, льющие убогий свет – как и положено в доме у людей из рабочего класса – на покрытые пластиком кухонные полки, а еще запах горелого масла на непроветренной кухне.
Он чуть не ударил его. Кто кого? Сын здоровяк мямлю отца. Но тряханул как следует. Никогда еще Хосе Мари не позволял себе ничего подобного по отношению к Хошиану. Никаких счетов между ними никогда не было и быть не могло. И вообще, Хошиан руки на детей никогда не поднимал. Чтобы он бил детей? В лучшем случае мог отругать, не повышая голоса, и поскорее улизнуть в свой бар, если в воздухе начинало пахнуть ссорой. Да, муж всегда все переваливал на меня – воспитание детей, болезни, заботу о мире и покое в семье.
Когда сын в первый раз тряханул Хошиана, с того слетел берет, но упал не на пол, а на стул, как будто ему приказали сесть и тихонько посидеть. Отец отпрянул, грустный/пораженный, испуганный/опешивший, его редкие седые волосы растрепались. В этот миг он навсегда утратил положение альфа-самца в семье, которая считалась вполне благополучной, да благополучной она и была, по крайней мере до того момента.
Аранча однажды, придя к родителям в гости, сказала матери:
– Ama, знаешь, в чем состоит главная беда нашей семьи? В том, что мы всегда очень мало разговаривали между собой.
– Да ну тебя!
– Мне кажется, мы плохо друг друга знаем.
– Уж кто-кто, а я-то вас всех знаю как облупленных. Именно что как облупленных.
И этот их разговор тоже сохранился в блике на ободе колеса, в отблеске между двумя спицами, рядом с той давней сценой, которую, ох, мне не забыть до конца своих дней. Я смотрела, как бедный Хошиан, опустив голову, уходит с кухни. Он лег спать раньше обычного, не пожелав никому спокойной ночи, и потом Мирен не слышала его храпа. Он до утра не сомкнул глаз.
Хошиан несколько дней молчал. Вообще-то, он никогда не был особенно говорливым. Но сейчас и вовсе перестал разговаривать. Как и Хосе Мари, который тоже не проронил ни слова за те четыре или пять дней, что еще продолжал жить дома. Рот открывал, только чтобы поесть. А потом – дело было в субботу – собрал свои вещи и был таков. Но мы и вообразить не могли, что он ушел навсегда. Наверное, Хосе Мари и сам этого не мог вообразить. На кухонном столе он оставил нам листок бумаги: Barkatu[14]. Даже без подписи. Да, вот так: Barkatu – на листке, вырванном из тетрадки брата, и больше ничего. Ни mixus[15], ни куда отправился, ни прощайте.
Домой вернулся дней через десять с сумкой, полной грязного белья, – чтобы мать постирала, а еще с мешком, куда сложил очередную порцию своих вещей, еще оставшихся в их с Горкой общей комнате. Матери он подарил букет калл.
– Это что, мне?
– А кому же еще?
– Ну и где ты взял эти цветы?
– Где-где, в лавке. Где еще берут цветы? Не с неба же они свалились!
Мирен долго смотрела на него. Ее сын. Маленьким она купала его, одевала, кормила с ложки кашей. И что бы он теперь ни сделал, сказала я себе, это мой Хосе Мари, и я должна его любить.
Пока крутился барабан стиральной машины, он сел поесть. И съел почти целый батон. Прямо зверь. Тут вернулся со своего огорода отец:
– Kaixo[16].
– Kaixo.
Вот и весь разговор. Перекусив, Хосе Мари затолкал мокрую одежду в сумку. Сказал, что повесит сушиться у себя в квартире. В квартире?
– Сейчас я живу с друзьями на съемной квартире, это вон там, сразу как выедешь на шоссе, в сторону Гойсуэты.
Хосе Мари простился – сначала поцеловал мать, потом ласково похлопал по плечу отца. Схватил сумку, мешок и ушел – в тот мир, где были его друзья и бог знает кто еще, в мир, которого его родители не знали, хотя и находился он в том же поселке. Мать вспомнила, как выглянула в окно, чтобы проводить взглядом удаляющуюся фигуру сына, но на этот раз довести воспоминание до конца ей не удалось – Хошиан сдвинул велосипед с места, и блик на ободе погас.
9. Красное
Кошка снова принесла мертвую птичку. Воробья. Второго за три дня. Иногда она приносит хозяйке мышей. Известно, что таким образом кошки исполняют свой долг и делают вклад в семейный бюджет или демонстрируют благодарность за заботу. Уголек без малейшего труда взлетает по стволу конского каштана до той ветки, с которой можно допрыгнуть до одного из балконов четвертого этажа, а уже оттуда перебирается на балкон Биттори, где обычно и кладет принесенную в подарок добычу – прямо на пол или на землю в цветочный горшок. Если находит дверь открытой, то нередко оставляет свой дар и на ковре в гостиной.
– Ну сколько раз тебе повторять? Не смей таскать сюда эту дрянь!
Что, ей противно смотреть на мертвых птиц? Да, немного противно, но дело тут не в нелепых женских причудах. Хуже другое: подношения кошки наталкивают ее на мысли о насильственной смерти. Поначалу Биттори брала щетку и выметала их с балкона на улицу, но порой они падали на машины, оставленные у подъезда, и это, разумеется, никуда не годилось. Чтобы не ссориться с соседями, Биттори уже давно подхватывает мертвых животных на лопату и кидает в мусорное ведро, а потом несет за дом, где незаметно выбрасывает за кусты ежевики.
Как раз этим она и занималась, надев резиновые перчатки, когда раздался звонок в дверь. Шавьер взял за правило звонком предупреждать ее о своем приходе, прежде чем войти, чтобы не напугать мать внезапным появлением.
Увидев ее в перчатках, он спросил:
– Ты занята уборкой?
– Я тебя не ждала.
Высокий сын, низенькая мать – они слегка потерлись щеками, стоя в прихожей.
– Я встречался с адвокатом. Дело ерундовое и заняло всего несколько минут. Но поскольку был здесь поблизости, решил заглянуть, а заодно и взять у тебя кровь на анализ. Тогда тебе не придется тащиться завтра в больницу.
– Ладно, только постарайся сделать не так больно, как в прошлый раз.
Шавьер, человек по характеру скорее молчаливый, сейчас, чтобы отвлечь мать, говорил о всяких пустяках. О прекрасных сонных глазах кошки, которая вылизывала лапы, лежа на кресле. О прогнозе погоды. О том, как подорожали в этом году каштаны.
– А чего тебе думать о цене каштанов при твоей-то зарплате?
Биттори сидела в гостиной с закатанным рукавом, положив руку на обеденный стол. Сейчас ей хотелось поговорить самой, а не слушать чужую болтовню. Была и тема, занимавшая все ее мысли, – Нерея.
Нерея то, Нерея се. Жалобы, обиды, претензии. Нахмуренные брови.
– Я говорю об этом тебе, потому что ты мой сын и мы с тобой друг другу доверяем. Ума не приложу, что с ней делать. Впрочем, и прежде никогда не знала. Принято считать, будто первые роды – самые тяжелые и для следующих дорога уже проложена. Но мне родить ее было куда тяжелее, чем тебя. Уж поверь, куда как тяжелее. Потом? Натерпелась я горя с этой девчонкой. А уж когда она подросла – сладу с ней и вовсе не было. Сейчас и того хуже. Я-то рассчитывала, что после того, что случилось с отцом, она образумится. Но из-за ее фокусов мне было еще труднее перенести это несчастье.
– Ты не права. На свой манер она переживала не меньше, чем ты или я.
– Понятно, что она моя дочь и мне негоже так говорить про нее, но чего ради я должна молчать о том, что чувствую, если, промолчав, чувствовать буду то же самое? С каждым днем она бесит меня все больше, еще немного, и я ее просто возненавижу. Я уже не в том возрасте, чтобы терпеть кое-какие ее выходки, понимаешь ты или нет? Прошло уже четыре дня, с тех пор как она уехала в Лондон с этим разгильдяем, своим мужем.
– Хочу тебе напомнить, что у моего зятя имеется имя.
– Ненавижу я его.
– Так вот, его зовут Энрике.
– Для меня его имя – Ненавижу.
Иголка легко попала в вену. Тонкая трубочка быстро окрасилась в красный цвет.
Красное. Шавьер, Шавьер, ты должен срочно ехать домой, что-то случилось с твоим отцом. И было понятно, что случилось что-то плохое. Эти слова – “что-то случилось с твоим отцом” – так и продолжают звучать у него внутри в бесконечном настоящем, которое резко выделилось из временного потока. Больше ему ничего не сказали, а он не посмел спросить, хотя уже понял по лицу коллеги, пришедшей к нему с этой вестью, а также по выражению лиц тех, кто встречался ему в коридорах, что с отцом случилось что-то очень серьезное, что-то очень красное, самое плохое. И ни о каком несчастном случае речи, разумеется, идти не могло. По пути к выходу из больницы он видел сумрачные лица и ужас/сострадание на них, а еще Шавьер встретил старого приятеля, который резко повернул назад, чтобы не ехать с ним в одном лифте. Значит, ЭТА. Пересекая площадку перед парковкой, он взвешивал три варианта прогнозов, они зависели от степени тяжести того, что произошло с отцом: трудности в движениях, всю жизнь в инвалидном кресле или гроб.
Красное. У него так дрожала рука, что он никак не мог вставить куда следует ключ зажигания. Ключ упал на пол, и пришлось нагибаться и шарить под сиденьем. Наверное, было бы правильнее взять такси. Включить или не включать радио? Он так торопился, что даже забыл снять белый халат. Говорил сам с собой вслух, проклинал красный свет светофоров, матерился. Наконец при виде первых домов поселка все-таки решился радио включить. Музыка. Он нервно крутил колесико. Музыка, реклама, какая-то ерунда, шуточки.
Красное. Дальше его не пропустила полиция. Он оставил машину за церковью. Черт с ним, пусть штрафуют. Шел сильный дождь, и Шавьер как мог быстрее перебежал дорогу. К тому времени он уже услышал новость по радио, хотя комментатор не имел точных сведений о состоянии жертвы. И еще неправильно произнес фамилию. Между гаражом и родительским домом Шавьер увидел лужу крови, уже разбавленной дождевой водой, одна струйка добралась почти до бортика тротуара. Он так спешил, так нервничал, что чуть не наступил на кровь. Полиции Шавьер назвался сыном. Чьим сыном? Никто не стал уточнять. Белый халат открыл ему дорогу, к тому же по его виду было настолько очевидно, что он приходится родственником тому, в кого стреляли, что ни один полицейский и не подумал поинтересоваться, куда он идет.
– Так вот, представляешь, она до сих пор мне не позвонила.
– Может, звонила, да ты выходила из дому. Я вот звонил тебе и вчера, и позавчера. Никто не брал трубку. Отчасти поэтому я и забежал сегодня. Хотел убедиться, что с тобой все в порядке.
– Если ты так тревожился, то чего же не зашел раньше?
– А того, что я знал, где ты, то есть где ты провела последние ночи. Об этом, между прочим, знает весь поселок.
– И что еще они обо мне знают?
– Знают, что ты выходишь из автобуса на остановке у промышленной зоны и что потом идешь к дому, стараясь избегать случайных встреч. Мне об этом рассказал в больнице один человек, который тебя видел. Вот почему я, если честно, не очень беспокоился. Не исключено, что Нерея не раз пыталась с тобой связаться. Я не собираюсь спрашивать тебя, что ты задумала. Это твой поселок, твой дом. Но предположим, ты хочешь во что бы то ни стало вернуться к событиям прошлого, тогда я буду благодарен, если ты согласишься держать меня в курсе дела.
– Это касается только меня одной.
Шавьер убрал в чемоданчик инструменты и пробирку со взятой у матери кровью.
– Я тоже часть той истории.
Он подошел к кошке, которая милостиво позволила себя погладить. Потом сказал, что обедать не останется. Сказал еще что-то. На прощанье поцеловал мать, а так как знал, что она обязательно выглянет в окно, то, прежде чем сесть в машину, поднял глаза и махнул ей рукой.
10. Телефонные звонки
Зазвонил телефон. Наверняка она. Биттори не сняла трубки, хотя для этого ей достаточно было лишь протянуть руку. Пусть себе звонит, пусть звонит. И она вообразила, как дочь со все растущим нетерпением повторяет на другом конце провода: мама, ответь, мама, ну ответь же. Нет, отвечать Биттори и не подумала. Через десять минут телефон зазвонил снова. Мама, ответь. Встревоженная нескончаемыми звонками кошка воспользовалась тем, что балконная дверь стояла открытой, и выскользнула на улицу.
Биттори танцевальным шагом подошла к фотографии Чато:
– Ты танцуешь, Чатито?
Еще несколько секунд – и телефон смолк.
– Это была она, твоя любимица. Как это, откуда я знаю? Ой, милый ты мой, ты вон разбирался в грузовиках, а я разбираюсь в том, что касается меня.
Нерея не присутствовала ни на отпевании, ни на похоронах отца.
– Даже если у меня случится альцгеймер, даже если я забуду, что тебя убили, или забуду собственное имя, клянусь, пока в моей памяти будет продолжать гореть хоть одна лампочка, я буду помнить, что она отказалась быть с нами, когда нам это было больше всего нужно.
За год до того девочка перебралась в Сарагосу, чтобы там продолжать учебу на юридическом факультете. В ее студенческой квартире на улице Лопеса Альюэ, которую она делила с двумя соседками, телефона не было. Биттори, приехав как-то раз навестить дочь, записала телефон бара, расположенного в нижнем этаже того же дома. На всякий случай. Мобильник? Насколько она помнит, тогда мало кто ими пользовался. К тому же прежде у Биттори не возникало необходимости срочно разыскивать свою девочку. А сейчас другого выхода не было.
Шавьер по ее просьбе – сама она под воздействием транквилизаторов, из-за шока и душевной муки не была способна связать даже пары фраз – позвонил в бар, объяснил, кто он такой, сказал, стараясь держать себя в руках, то, что следовало сказать, и назвал хозяину адрес своей сестры. Тот был очень любезен:
– Сию минуту кого-нибудь туда пошлю.
Шавьер: пожалуйста, пусть скажут сестре, чтобы немедленно позвонила домой. Потом еще раз повторил, что дело срочное, очень срочное. Причину такой срочности он объяснять не стал, как и просила мать. К тому времени и телевидение, и бесчисленные радиоканалы сообщили о случившемся. Шавьер и Биттори решили, что Нерея уже и без них узнала о трагедии.
Но она не позвонила. Проходили часы. Появились первые комментарии: дикое убийство, грязное преступление, хороший человек, мы осуждаем, мы заявляем свой решительный протест – и так далее. Смеркалось. Шавьер еще раз набрал номер бара. Хозяин пообещал, что снова отправит своего сына к девушке. Звонка не последовало. До следующего утра Нерея так и не объявилась. А когда наконец позвонила, молча дождалась, пока мать перестанет плакать, и причитать, и изливать душу, и подробно рассказывать срывающимся голосом, как все произошло, и только потом мрачно, но решительно заявила, что пока останется в Сарагосе.
Что? У Биттори мгновенно высохли слезы.
– Ты сядешь на первый же автобус и приедешь домой. Слышишь? Убили твоего отца, а ты там гуляешь себе спокойно и в ус не дуешь.
– Я не гуляю спокойно, ama. Мне очень горько. Я не хочу видеть мертвого aita. Просто не выдержу этого. И еще не хочу, чтобы мои фотографии появились в газетах. Не хочу ни с кем встречаться в поселке. Ты сама знаешь, до чего они нас ненавидят. Прошу, постарайся понять меня, постарайся.
Она говорила очень быстро, чтобы мать не смогла ее перебить и чтобы из-за плача, который рвался у нее из самой груди, не сорвался голос.
Она продолжала говорить, едва сдерживая слезы:
– Здесь, в Сарагосе, никто не связывает меня с отцом. Даже мои преподаватели. И это позволит мне жить нормально. Не хочу, чтобы на факультете шептали: гляди, это дочка того, которого убили. А если сейчас я приеду в поселок, меня начнут показывать по телевизору, и в университете все до одного узнают, кто я такая. Поэтому я остаюсь в Сарагосе, и ради бога, не считай меня бесчувственной. У меня душа разрывается на части, как и у тебя. Ради всего святого, позволь мне самой решить, как лучше справиться с горем.
Биттори попыталась настоять на своем, но Нерея повесила трубку. И в поселке появилась только неделю спустя.
Она все рассчитала по-своему. Почти никто в Сарагосе (ни соседи, ни ребята из их компании, ни товарищи по факультету) не знал, что она дочь жертвы ЭТА – последней, а потом уже и предпоследней, а потом и предпредпоследней. Знали подружки по квартире – только они, если, конечно, не проболтаются. Фамилия у нее довольно распространенная и часто звучит в самых разных обстоятельствах. Если кто спросит, не родственница ли она того предпринимателя из Гипускоа, которого убила ЭТА, она скажет, что нет.
Правда, еще до соседок по квартире об этом узнал один парень, Хосе Карлос. Он тогда заехал за ней, и они вместе отправились в ближайший бар, где договорились встретиться с другими студентами. Все вместе они наметили ближе к вечеру поехать на нескольких машинах на ветеринарный факультет, где устраивали какую-то вечеринку. Пока они шутили и смеялись, на нее и свалилось это известие, и она попросила Хосе Карлоса не оставлять ее одну, поэтому он, никому не сказав ни слова, проводил Нерею домой. Они заперлись в ее комнате. Парень пытался найти какие-то слова утешения, но безрезультатно. Он долго клял на чем свет стоит и террористов, и нынешнее правительство, которое не принимает нужных мер, а потом по просьбе своей безутешной подруги остался у нее ночевать.
– А тебе и вправду этого хочется?
– Мне это очень нужно.
Но он заранее стал извиняться на случай, если у него ничего не получится. И все время повторял:
– Ведь убили твоего отца, черт побери, его убили.
Увлечься эротической игрой он просто не мог, только изрыгал ругательства, а она тем временем старалась закрыть ему рот поцелуями. Где-то к полуночи она легла на него, и они кое-как довершили дело. Хосе Карлос продолжал что-то цедить сквозь зубы, возмущаться, чертыхаться и материться, пока наконец, сраженный усталостью, не повернулся на бок и не умолк. Нерея провела рядом с ним остаток ночи, не сомкнув глаз. Сидела у изголовья кровати, курила сигарету за сигаретой и перебирала вспоминания об отце.
Снова зазвонил телефон. На сей раз Биттори сняла трубку.
– Ama, ну наконец. Я уже три дня тебе звоню.
– Как там Лондон?
– Фантастика. Нет слов. А ты сменила коврик у двери?
11. Наводнение
Три дня шли проливные дожди – просто библейский потоп, что называется. Ночью, лежа в постели, Хошиан с тревогой прислушивался к яростному стуку водяных струй по крыше и по асфальту. А оказавшись у себя в литейном цеху, в течение рабочего дня то и дело выглядывал наружу и только качал головой со все растущим отчаянием. Потоки воды как завесой закрывали ближние горы и сулили разлив реки. А огород? Что будет с его огородом, мать вашу так и разэдак? Хлещет и хлещет. Потом еще целых три дня лило без передышки.
На сам-то огород наплевать. Посажу все заново. Деревья? С ними ни черта не случится. Орешник? Тому все нипочем. Хошиана больше беспокоило, что будут испорчены садовые инструменты и что поднявшаяся вода снесет ограду и зальет клетки с кроликами. Он обсудил это с товарищем по работе.
– Забор надо было делать из цемента, тогда тебе ничего не было бы страшно.
Хошиан:
– Да черт бы с ним, с этим хреновым ограждением. Беда еще в том, что река наверняка унесла кучу земли. Как пить дать, там уже образовалась огромная яма. А то и целый овраг. И кролики, они точно утопли. А уж про виноградник лучше не говорить.
– Это из-за того, что ты устроил огород на самом берегу.
– Потому что там, мать твою, земля родит лучше.
После конца работы он прямо с завода отправился к себе на участок. А дождь? Лупил как бешеный. Пока Хошиан спускался вниз с холма – под зонтом, в сползшем набок берете, – увидел, что полиция перекрыла движение на мосту. Вода уже поднялась почти до парапета. Картинка что надо! А уж коли вода едва не залила мост, то что же она сотворила с его огородом? Он ведь расположен гораздо ниже. Хошиан пошел кружной дорогой. Одно дело, когда река разливается, и совсем другое, когда она не только разливается, но еще и вырывает все с корнем, утягивает за собой, разрушает. Хошиан надавил на кнопку звонка, потом сказал что-то, почти вплотную прижав рот к панели домофона, и ему открыли. И вот он уже в квартире своего друга, на балконе, выходящем на реку.
– Ты только погляди, туда-растуда! Ну и где он теперь, мой огород?
Стволы деревьев были похожи на тонущие лодки, их ветви то погружались в воду цвета кофе с молоком, то снова высовывались наружу. Проплыл, крутясь и подскакивая, ржавый бидон. Неслись с дикой скоростью пластиковые бутылки, а еще от взбесившегося потока поднимался жуткий запах – запах ила и взбаламученной гнили. И тогда друг, наверное, чтобы пригасить жалобы Хошиана, указал пальцем на противоположный берег:
– Вон, смотри, там мастерская братьев Аррисабалага. Эти теперь уж точно разорятся.
– Мои кролики, мать твою…
– Братьям это обойдется в копеечку.
– Сколько труда я туда угрохал. Ведь даже клетки сам делал. А сколько времени потратил!
Прошло еще несколько дней, ливни прекратились, вода спала. Хошиан шел по своему участку, и резиновые сапоги по середину голенища проваливались в раскисшую землю. Выдержали деревья, теперь покрытые грязью, и орешник тоже выдержал. И виноградник – благодаря чуду или своим крепким корням. Все остальное – хоть плачь. Забор, отделявший огород от реки, исчез вовсе, будто его и не было. Ничего не осталось ни от помидоров, ни от лука-порея. Ничего. С нижней части участка, примыкавшей к воде, унесло массу земли вместе со всем, что там росло, с кустами малины и красной смородины, погиб и уголок, засаженный каллами и розами. У сарая с одного бока не хватало досок, на крыше – шифера. Кролики так и лежали в своих клетках – облепленные тиной, раздувшиеся, мертвые. Куда подевались инструменты, один бог знает.
Теперь в свои свободные часы Хошиан сидел на диване, уперев локти в колени и опустив голову на руки. Статуя, воплощающая скорбь. Если его о чем-то спрашивали, он не отвечал.
– Дать тебе газету?
Молчание. Наконец Мирен не выдержала:
– Знаешь что, если ты так горюешь из-за своего огорода, пошел бы да и начал приводить его в порядок.
Хошиан послушно встал. Как будто не ожидал, что кто-нибудь велит ему сделать что-то подобное. Уже на следующий день он выглядел чуть более оживленным. Во всяком случае, снова пошел играть в карты со своими приятелями в бар “Пагоэта”. Из бара пришел довольный, почти в эйфории. Друзья присоветовали ему поставить между огородом и рекой бетонную стену.
– Слышь, это ведь и стоить тебе будет сущую ерунду, а?
За ужином – морской угорь в соусе и большой кувшин вина, разбавленного газировкой, – он рассказал Мирен, почесывая себе правый бок, как Чато сам предложил привезти ему грузовик земли, чтобы заменить ту, что унесло во время наводнения.
– И земля будет, надо полагать, хорошая, а? Из Наварры. Он использует свой грузовик и ничего с меня за это не возьмет.
Но прежде надо было возвести стену. А еще прежде – очистить участок. Слишком тяжело для него одного. А главное – когда? После работы?
Мирен:
– Ну, это уж ты сам соображай.
Потом посоветовала поговорить с сыновьями – может, они подсобят. Поэтому Хошиан не ложился спать, дожидаясь Горку, и сказал ему: Горка, воскресенье, сад, нужна помощь, ты с твоим братом – и так далее. Сын ничего не ответил. Очень уж он вялый, нерешительный. Отец, чтобы подбодрить его:
– А потом мы втроем отправимся в сидрерию и каждому закажем по чулетону. Ну что, договорились?
– Ладно.
И больше ни слова. Наступило воскресенье. Солнечное, но не жаркое, река опять спокойно текла в своем русле. Хошиан отказался от участия в очередном этапе соревнований по велотуризму, потому что если велосипед для него и много значит, то огород все-таки важнее. Огород – это религия. Именно такие слова он как-то раз произнес в “Пагоэте” в ответ на шутки друзей. Дескать, когда он помрет, пусть Господь не суется к нему со всякими там райскими кущами и прочей ерундой, пусть даст ему огород – такой, какой есть у него сейчас. И все засмеялись.
На улице:
– А ты сказал Хосе Мари, чтобы пришел к девяти?
– Нет, не сказал.
– А чего ж так?
И тогда сын ему сообщил, пришлось сообщить, другого выхода не было:
– Брат уже две недели как не живет в поселке.
Хошиан остановился, и вид у него был огорошенный.
– Так он же ничего нам не сказал. Мне, по крайне мере, нет, не сказал. Про мать не знаю. Или вы с ней были в курсе? А я один ни сном ни духом? И где же он теперь живет?
– Мы понятия не имеем, aita. Думаю, уехал во Францию. Меня уверяли, что, как только появится малейшая возможность, он нас известит.
– А кто это тебя, интересно, уверял?
– Друзья из поселка.
Остаток пути до огорода они прошли молча. Но как только добрались до места, Хошиан вдруг спросил:
– Нет, ты мне все-таки скажи, ежели он теперь во Франции, то как, черт возьми, на работу ходит?
– Он бросил работу.
– Но ведь еще и срок обучения не кончился…
– Вот так.
– А гандбол?
– И его бросил.
Короче, трудиться им пришлось вдвоем, каждому в своей части огорода. Ближе к одиннадцати Горка сказал, что ему пора уходить. И на прощанье даже обнял отца – вот уж удивил! Они никогда с ним не обнимались, и вот теперь – с чего бы это?
Хошиан остался на участке один и не расставался с лопатой до обеда, убирая грязь и мусор. Тут и там помыл что-то из шланга, положил добытые из грязи инструменты сушиться на солнце. Франция? И какого хрена этот дурень потерял во Франции, скажите на милость? А если он не работает, то чем кормится?
12. Стена
Стену они поставили. Кто они? Хошиан, Горка, который пообещал привести с собой друга, хотя тот так и не явился, и Гильермо (Гильермо!), быший в ту пору еще симпатичным и отзывчивым зятем Хошиана.
Несколькими годами раньше Аранча на кухне:
– Ama, у меня есть парень.
– Да? Кто-то из поселка?
– Он живет в Рентерие.
– И как его зовут?
– Гильермо.
– Гильермо? Это не тот ли из гвардии?
Однако без помощи Чато ничего бы у них со стеной не вышло. Да и как бы они без него обошлись? Ведь Чато не только обеспечил им опалубку, но и добыл автобетономешалку. Хошиан так никогда и не узнал, сколько она ему стоила, не узнал и того, взял что-то за свою работу мужик, который с ней управлялся, или не взял. Чато сказал: не твоя забота, просто у той строительной фирмы был передо мной должок. Короче, Хошиану пришлось заплатить только за бетон. Он еще не успел привести в приличный вид свой участок и починить сарай, а новенькая стена уже радовала глаз, готовая выдержать любое наводнение, во всяком случае такое, по словам Чато, какое было в прошлом месяце.
Но возникла еще одна проблема: перед стеной осталась огромная яма – хоть пруд устраивай и рыбу разводи. Про рыбу это сам Хошиан сказал и даже представил себе одну размером с тунца. На что друг ответил: ну, с этим мы справимся. Чато выполнил обещание, данное еще в “Пагоэте”. Не сразу, но выполнил. Когда? Недели через две. Как только понадобилось отправить транспорт в Андосилью, в Наварру. Чато велел шоферу по дороге обратно привезти хорошей земли. По всей видимости, людям из Наварры Чато тоже оказывал какие-то услуги. Он много кому оказывал услуги. И Хошиан, понятное дело, был ему очень благодарен. Но если надо заплатить, он заплатит.
Опять проблема: землю вывалили, а дальше что? И Чато сам сел за руль. Земля была рыжеватая, покрасней, чем здешняя, и, видать, очень даже подходящая для посадок, но тут же выяснилось, что для такой ямы ее маловато.
Хошиан:
– Тут небось не меньше трех грузовиком нужно.
Выход: устроить террасы.
– Разделишь участок на два уровня, соединишь их ступенями или пандусом для тачки. Тогда, если снова будет наводнение, вся вода останется в нижней части. И если немного повезет, пострадает только половина огорода, а не весь, как в прошлый раз.
Чато, он сообразительный был, вечно что-нибудь да придумает. Это все признавали. К нему очень подходила старинная поговорка: он, мол, хитрее голода. А вот Хошиана Бог смекалкой обделил. Ну ладно, какой есть, такой есть. Будь он побойчее, заделался бы партнером Чато на этой его транспортной фирме; только он тогда все сомневался, не хватило ему характера, да и Мирен разубедила. Бизнес – это для Чато. В поселке все жители так говорили, пока однажды ночью не появилось на стене: TXATO ENTZUN PIM PAM PUM, и тогда уж вообще перестали упоминать его в разговорах, словно никакого Чато здесь отродясь и не было.
Да, от недостатка идей Чато не страдал, но имелись у него и проблемы. Какие? А вот какие:
– Мне прислали еще одно письмо.
ЭТА, боевая организация, выступающая за баскскую революцию, обращается к вам с требованием внести двадцать пять миллионов песет в качестве взноса на поддержку вооруженных сил, необходимых для обеспечения революционного процесса в борьбе за независимость и социализм. Согласно собранной нашими службами информации…
и т. д.
Из-за этих писем он потерял сон.
Хошиан:
– Еще бы, кто бы на твоем месте не потерял. А семья?
– Они ничего не знают.
– Эх-х, так оно небось и лучше.
Чато не хотел их волновать, к тому же поначалу он думал – наивный человек, нет, до чего наивный! – что проблему можно решить быстро, как если бы речь шла о рядовой коммерческой сделке. Я плачу – и меня оставляют в покое. Письма, где вместо подписи стояли змея, обвившаяся вокруг топора, и символы ЭТА, приходили на фирму. Первое: миллион шестьсот тысяч песет. Никому ничего не говоря, он сел в машину и отправился во Францию, где ему назначили встречу с очередным сеньором Ошиа. Возвращался в поселок – словно груз с плеч скинул, всю дорогу слушал музыку. Идиотизм, конечно, но так оно все сложилось. Через несколько дней случился теракт, убили человека – безутешная вдова, сироты и заявления с протестами и проклятиями в адрес убийц. И Чато почувствовал укол вины: да пошли они все к растакой-то матери, ведь и его деньги могли быть потрачены на взрывчатку и пистолеты, а Хошиан ответил: да, он его понимает. Короче, Чато заплатил и решил, что на какое-то время – может, на несколько лет – его оставят в покое. Да, да. Но только не прошло и четырех месяцев, как ему прислали второе письмо.
– Теперь они просят двадцать пять миллионов. Это уж слишком, это уж черт знает что такое.
Хошиан:
– Такие штучки между своими, между басками, вытворять не годится.
– Вот скажи мне честно, неужели я похож на эксплуататора? Всю свою жизнь я и сам работал как проклятый, и людям давал работу. Сейчас, например, у меня числится четырнадцать человек. И что мне делать? Хорошо, я переведу свое дело в Логроньо, а их всех выгоню на улицу – без зарплаты, без страховки, пусть стоят с протянутой рукой?
– Может, они ошиблись и отправили тебе письмо, которое писали кому-то другому.
– Я человек не бедный, нет, не бедный. А расходы у меня какие? Налоги туда, пошлины сюда, не буду перечислять, а то у тебя голова кругом пойдет, но сам можешь вообразить: ремонт, бензин, невыплаченные кредиты и хрен знает что еще, так что не думай, что я купаюсь в золоте. Искупаешься тут, как же. Не знаю, что они себе думают. У меня вон машина та же самая, что и десять лет назад. Некоторые грузовики совсем уже никуда не годятся, а где взять денег на новые? Недавно попросил кредит, чтобы купить парочку. И вот ведь что мне обидней всего: кто-то из тех, кому я даю работу, пошел, видать, к террористам и доложил, что у этого, мол, денег куры не клюют. – Чато в отчаянии помотал головой, под глазами у него после бессонных ночей залегли темные круги. – И дело не во мне самом. Меня эта банда убийц не напугает. Пусть пристрелят – и готово дело. Мертвый, зато в мире и покое. Но они ведь упоминают в своем письме Нерею, место, где она учится, и прочие детали.
– Во черт!
– И это меня прямо сразило. А ты что бы сделал на моем месте?
Хошиан почесал в затылке, прежде чем ответить:
– Не знаю.
Они сидели в тени под смоковницей и курили, погода стояла хорошая, на камне замерла ящерица – грелась на солнце. Посреди участка стоял грузовик, увязший колесами в мягкой земле. С другого берега до них доносился непрерывный стук какой-то машины из мастерской братьев Аррисабалага.
– А как ты думаешь, те тоже платят?
– Кто?
– Аррисабалага.
Хошиан пожал плечами. Чато продолжил:
– Существует только три варианта. Либо ты платишь, либо перебираешься жить в другое место, либо пеняй на себя. Чего я никак не могу взять в толк, так это почему они привязались ко мне, если я уже заплатил, что просили, и заплатил без проволочек, сразу же.
– Я в таких вещах не разбираюсь, но, по мне, так тут произошла какая-то ошибка.
– Сказал же тебе, что они упомянули про Нерею.
– Ну, видно, послали тебе письмо, которое собирались послать на следующий год.
Стук-стук. Чато швырнул окурок на землю и придавил ногой:
– Мог бы я попросить тебя об одолжении?
– Все что угодно.
– Я вот о чем подумал. Хорошо бы мне потолковать с ними, с кем-нибудь из их самых главных или с тем, кто отвечает за финансы, чтобы объяснить им мое положение. Тот священник, с которым я в прошлый раз встречался, он только посредник. Может, уменьшат сумму или позволят заплатить частями. Понимаешь?
– Пожалуй, это хорошая мысль.
Стук-стук. Слышны были также птичий щебет и шум машин, проезжающих по близкому мосту.
– Мне нужно переговорить с Хосе Мари. Это и есть одолжение, о котором я тебя прошу.
Хошиан с удивлением на лице:
– А какое отношение имеет мой сын ко всему этому?
– Мне нужен кто-то, кто поможет мне выйти с ними на связь.
– Хосе Мари не член ЭТА. С чего ты взял? Кроме того, он уехал. Куда? А мы и сами не знаем. Хосе Мари у нас – балбес и лодырь. Он бросил работу, и Мирен говорит, что сын смылся отсюда, потому что решил помотаться по миру со своими приятелями. Может, он сейчас где-нибудь в Америке…
Стук-стук-стук.
13. Пандус, ванная, сиделка
Мирен сразу правильно оценила ситуацию. Если бы они жили не на первом этаже, пришлось бы менять квартиру и переезжать. Почему? Черт, да потому, что мы не смогли бы каждый день затаскивать и спускать Аранчу на инвалидной коляске по лестнице. Ты себе это только представь! А так всего три ступени отделяют площадку, куда выходит дверь их квартиры, от улицы и двери подъезда. Невысоко, конечно, но и с этими ступенями тоже проблема, долго им такого не выдержать.
– Тебя целыми днями нету дома, а у меня сил не хватает. Того и гляди грохнусь на улице с каким-нибудь приступом. Тогда что делать? Просить у прохожих помощи? Оставлять Аранчу у подъезда?
Короче, она велела мужу что-нибудь сообразить, и Хошиан, недолго думая, надел свой берет и отправился в “Пагоэту”, а оттуда, наслушавшись советов друзей, – в мастерскую к столярам, где и заказал пандус. Столяр, все хорошенько промерив, пандус изготовил, попробовал и установил. И в одно прекрасное утро соседи по подъезду обнаружили, что три четверти ширины их небольшой лестницы теперь заняты несуразным деревянным пандусом, который к тому же выдвигался еще примерно на полметра от нижней ступеньки вперед на покрытый плиткой пол подъезда, чтобы спуск был более плавным. Хошиан и Мирен попробовали поднимать и спускать по нему коляску, сперва пустую, без Аранчи, потом уже и с ней – и оказалось, что отныне можно будет без труда вывозить дочку на прогулку.
Для прочих жильцов на лестнице оставался узкий проход, если, конечно, они не станут подниматься и спускаться по пандусу, как это уже делала ребятня, а именно это посоветовала Мирен тому, кто пожаловался, что такие переделки надо согласовывать с соседями:
– Слушай, а ты ходи по пандусу. Какая тебе разница?
Двойная проблема. Для соседей – что кто-нибудь поскользнется и сломает себе хребет. Для нас – что каждый раз, когда кто-то идет по пандусу, шаги слышны в квартире и ночью бывает невозможно уснуть. Хошиану в баре опять дали совет: пусть прибьет сверху ковровое покрытие. И как нам самим такое не пришло в голову раньше? Ведь тогда и не поскользнется никто и шаги будут приглушаться. Они затянули пандус ковролином, вернее, затянул один их приятель – сперва прилепил ковролин столярным клеем, а потом еще и закрепил гвоздями для прочности.
Хошиан озабоченно:
– Только пусть ноги вытирают. Даже подумать боюсь, во что это все превратится, когда на улице дождь пойдет.
Соседи роптать не стали, а может, просто решили не ссориться с семьей, у которой сын связан с ЭТА, во всяком случае, свое недовольство они оставили при себе, все, кроме одного, по имени Аррондо, и жил он на третьем этаже с правой стороны. На самом деле это жена послала его, чтобы он потребовал немедленно убрать пандус. Лестница, мол, принадлежит всем; а ее мать, которой исполнилось восемьдесят восемь лет, не в состоянии там пройти – и так далее. Они с Мирен еще раньше поскандалили у церкви после мессы – прямо как две тигрицы: глаза злые, зубы стиснуты, губы выгнуты презрительной дугой. И в субботу Аррондо, человек неразговорчивый, но сильный, спустился к ним и сказал как припечатал: или они убирают пандус, или он сам его уберет, и пошли бы вы все на…
Дверь ему открыла Мирен. Хошиан спрятался на кухне.
– Ничего ты не уберешь.
– Не уберу, говоришь?
Между прочим, этот Аррондо, он хоть силой и не обделен, но не видит дальше своего носа. Не подумал, не прикинул последствий, послушался жены. Короче, снял он пандус и кинул в угол, где висели почтовые ящики. Ах ты так, Аррондо! Теперь пеняй на себя!
Потому что Мирен прямо в чем была, даже не сняв фартука, прямо в тапочках бросилась в таверну “Аррано”. Было еще утро, и люди там собраться не успели. Но хватило и двоих. Двадцати минут не прошло, как Аррондо вернул пандус на прежнее место. И больше никаких жалоб от него не было. Там пандус и стоит до сих пор, неказистый, зато удобный.
Хошиан: можно было бы все сделать и по-другому. А как по-другому? Как по-другому, он и сам толком не знал, ну, потолковать с ним по-хорошему.
– Так чего ж ты не вышел и не потолковал, раз такой умный?
Но пандус на лестнице стал не единственной переменой, на которую им пришлось пойти, чтобы сделать жилье удобным для Аранчи. Ванную с туалетом они переделали целиком. И, честно сказать, даже сравнить нельзя с тем, что было раньше. Взявшись за это дело, они пользовались инструкциями, которые нашли в брошюре, которую им вручили в Центре реабилитации. Часть денег дал Гильермо. Мирен: еще бы, он же мечтал избавиться от нее как можно быстрее. Ага, вот вам ваша инвалидка, возвращаю, а я уже нашел себе другую, которая будет меня ублажать. Детей он оставил у себя. Мирен в церкви: святой Игнатий, молю тебя, накажи ты его, а уж каким способом, это тебе виднее. И еще верни мне внуков и вызволи Хосе Мари из тюрьмы. Если сделаешь мне все это, никогда больше ни о чем тебя не попрошу. Клянусь, что не попрошу.
Короче, к тому дню, когда Аранча перебралась к ним, ванная у них была как в пятизвездочном санатории: душевая кабина без поддона и без ступеньки, чтобы туда легче было попасть. Что еще? Крепкие ручки, противоскользящий коврик, шаровой кран. Короче, все, как советовала директорша Центра реабилитации и как было прописано в брошюре.
Но, чтобы вымыть Аранчу должным образом, нужны были все-таки два человека. Одна Мирен с этим никак не могла справиться, ведь Аранча, поначалу такая тощая, теперь растолстела и весила порядочно. А ее надо раздеть, усадить на специальный стул для душа, намылить, вытереть и снова одеть.
– Да ладно, чего ты мне объясняешь, я и без тебя это знаю.
И Хошиан, который торопился поскорее улизнуть в бар, чтобы поиграть там в карты, охотно согласился с тем, что придется нанять помощницу, потому что Мирен ни в жизнь бы не согласилась с тем, чтобы Хошиан видел/трогал/держал голую Аранчу, хоть он ей и отец. Об этом даже речи быть не могло.
Наутро заходит Хошиан на кухню – и что он видит? Небольшого росточка женщина с узкими, какие бывают у индейцев, глазками и длинными черными гладкими волосами, сверкая при улыбке двумя рядами белых зубов, почтительно его встречает, называет сеньором – сеньором! – и говорит:
– Доброе утро, сеньор. Меня зовут Селесте, к вашим услугам.
Она из Эквадора. Очень славная, а? И вежливенькая.
Хошиан ночью в постели:
– Откуда ты ее вытащила?
– Ну, порасспрашивала там да сям. Видел, какая она чистоплотная и старательная?
– Я спрашиваю, откуда ты ее вытащила.
– А я отвечаю: порасспрашивала людей в мясной лавке. Хуани говорит: послушай, я знаю тут одних из Эквадора, женщина убирает квартиры совсем задешево. Живут они там, внизу, почти у самого моста. Муж что-то развозит на фургончике. Так мне сказала Хуани. А вчера, когда я гуляла с Аранчей, кое-что про эту женщину разузнала, и вот она здесь. Настоящее сокровище. Я рассказала ей, что один мой сын живет в Андалусии и что я езжу к нему раз в месяц. Селесте говорит, чтобы я не беспокоилась, что она присмотрит за Аранчей.
– И сколько ты ей собралась платить?
– Десять евро за каждый визит.
– Не много.
– Они бедные. Она и за это будет благодарна.
14. Последние посиделки
Биттори любила тосты с мармеладом и кофе без кофеина из аппарата, Мирен отдавала предпочтение шоколаду с чуррос. Хотя от них, от этих чуррос, только толстеешь! Ну и ладно. Все ли было между ними двумя хорошо? Даже очень хорошо, ближе подруг вообразить невозможно. Субботы они чередовали: в одну ходили в кафе на проспекте, а в следующую – в чуррерию[17] в Старом городе. И всегда только в Сан-Себастьяне. Называли они его то Сан-Себастьяном, то Доностией[18]. Доностия? Ну, пусть будет Доностия. Они начинали разговор на баскском, переходили на испанский, потом снова на баскский…
– Скажи, а ты можешь себе вообразить, как бы оно все сейчас обернулось, если бы мы с тобой тогда ушли в монастырь?
И они смеялись. Сестра Биттори, сестра Мирен. И все в таком духе. Специально ради этих субботних встреч обе делали прически в парикмахерской, а потом сидели вдвоем и перебирали местные сплетни, с полуслова понимая друг друга, хотя часто трещали в два голоса. Ругали падкого на женщин священника, перемывали косточки соседкам. Они всё между собой обсуждали – и домашние дела, и даже постельные. Волосатую спину Хошиана или не всегда пристойные ночные причуды Чато. Всё, оно и значит всё.
Но касались и другого:
– Мы знаем, что он во Франции, но где именно, непонятно. Наконец-то этот разгильдяй нам написал. Бедный Хошиан уже спать перестал от огорчения. Все спрашивает, за что на нас такая беда свалилась.
В ту субботу они угощались тостами с мармеладом. День выдался дождливый и ветреный. Кофейня была переполнена. У них имелось свое любимое место в углу, где можно было разговаривать без помех.
– Само письмо я тебе принести не смогла. Хосе Мари не велел никому показывать. Так и написал: чтобы мы сразу письмо порвали. Ну, я его – раз-раз, и все, – хотя мне письма было очень жалко, а как ты думала? Зато Хошиан прямо скандал закатил. Неужто, говорит, ты не понимаешь, что письмо можно восстановить, если соединить по кусочку. Ну, коли так, говорю, возьми и съешь его. А он схватил спички и сжег обрывки в кухонной раковине.
Письмо занесла вчера вечером подружка Хосе Мари – или как там их теперь называют. Потому что, по словам Мирен, эти нынешние молодые люди спариваются как кролики. Еще бы, сколько всяких средств появилось, чтобы не забеременеть. Она часто это повторяла. А Биттори ей поддакивала. Обе были уверены: не повезло им – родились лет на тридцать раньше, чем следовало. Франко, священники, боязнь пересудов – и вообще, они в те времена были слишком наивными. Так, во всяком случае, подруги думали сейчас и, пока сидели в кофейне, все поглядывали на соседние столики – а вдруг кто-то рядом держит ушки на макушке.
– Почему, спрашиваешь, он не послал нам письмо по почте? Какая почта, об этом не может быть и речи. Они используют только свои каналы. Адреса отправителя там, разумеется, тоже не было. Так мы и не узнали, где он пропадает. Навещать их запрещено. А ведь еще несколько лет тому назад запросто можно было пересечь границу и повидаться, отвезти одежду и все, что нужно. Сейчас приходится соблюдать осторожность, потому как фашисты их повсюду выслеживают.
– А ты не боишься за него?
– Хошиан – да, он боится. Хошиан порой даже в бар не идет, все телевизор смотрит: вдруг фотографию Хосе Мари покажут. А вот я совершенно спокойна. Я знаю своего сына. Он умный и сильный. Сумеет за себя постоять.
Жуя тосты и прихлебывая кофе с молоком, Мирен наизусть цитирует отрывки из письма. Мы, мол, не должны обращать внимания на слухи. Люди говорят то, чего не знают. Тем более – на вранье газетчиков. Для него борьба за свободу нашего народа – это священный долг. А если кто начнет говорить родителям, будто он спутался с бандой преступников, пусть не верят, он все готов отдать за Страну басков, а также за права тех людей, которые любят жаловаться, но сами ничего не делают. В наших рядах много gudaris[19], пишет он. И с каждым днем их становится все больше. Это цвет баскской молодежи. И под конец: “Я вас люблю. Часто вспоминаю брата и сестру. Крепко целую и надеюсь, что вы мной гордитесь”.
Кошка бесшумно приближается. Запрыгивает к Биттори на колени и терпеливо ждет, пока ее погладят. Пальцы хозяйки проверяют, не слишком ли тесен ошейник, играют кошачьими ушками, касаются век, которые остаются прикрытыми, так как кошке все это нравится. Биттори говорит, проводя ладонью по ее спинке и слушая, как кошка мурлычет: знаешь, я ведь тогда и взаправду сильно расстроилась, Уголек. В самом деле расстроилась. Из-за сына моей лучшей подруги, который бросил работу, ушел из команды по гандболу, оставил невесту – ну, или полуневесту, – чтобы присоединиться к банде головорезов, которая регулярно совершает убийства.
А что Мирен? Так вот, Уголек, раз уж ты сама меня об этом спросила, я тебе скажу, что думаю. В глубине души – и да простит меня Чато – я Мирен понимаю. Понимаю, почему она вдруг так переменилась, хоть и не одобряю. За время между двумя нашими встречами – в кафе на проспекте и следующей, в Старом городе, – моя подруга Мирен переменилась. Да, вот так сразу стала другим человеком. Если говорить коротко, она приняла сторону сына. И у меня нет ни малейших сомнений, что до такого вот безудержного фанатизма ее довел материнский инстинкт. На месте Мирен я, возможно, вела бы себя точно так же. Разве можно отвернуться от собственного сына, даже если знаешь, что он творит зло? До тех пор Мирен совершенно не интересовалась политикой. А меня политика и тогда не интересовала, и сейчас не интересует, а уж мужа моего тем более. Все мысли Чато были о семье, по воскресеньям – о велосипеде, в остальные дни недели – о его грузовиках.
Можно ли назвать их националистами? Да ни за что на свете. Ну, если только не считать того, что в день выборов они голосуют за здешних. Я, например, милый Уголек, никогда не слышала от них ни слова про политику. То же самое скажу про Аранчу, а может, и того не скажу. Младший? Ну, тот всегда был настоящим ангелом. Если честно, не верю я, чтобы они учили своих детей кого-то ненавидеть. Друзья, дурная компания – вот кто замутил мозги этому негодяю, вбил ему в башку идеи, из-за которых он разрушил жизнь многих и многих семей. И при этом наверняка считает себя героем. Говорят, он из самых упертых. Из самых упертых или из самых безмозглых. Он ведь понятия не имеет, с какого конца книгу начинают читать.
Ровно через неделю, в следующую субботу, я в первый раз заметила, как Мирен переменилась. После чуррос с шоколадом мы с ней, как всегда, пошли к автобусной остановке. И что мы увидели? Очередную демонстрацию на бульваре. Ничего нового: плакаты, независимость, амнистия, gora ETA[20] и так далее. Людей довольно много. Два или три лица – знакомые, из поселка, дождь, зонты. И вместо того, чтобы уйти подальше от этой толпы, Мирен говорит мне: ну-ка, пошли и мы. Схватила Биттори за руку, дернула, и они вдвоем оказались среди демонстрантов, именно что в самой середине. Мало того, Мирен вдруг начала во всю глотку выкрикивать те же лозунги, которые орали вокруг: “Это вы фашисты, это вы террористы!” А Биттори шла рядом с ней – слегка обескураженная, но все-таки шла рядом.
Тогда она еще ничего не знала. Чато ей ничего не рассказал. Вот так-то, Уголек. Эта упрямая башка, мой муж, решил все от меня скрыть. Чтобы защитить нас, как он потом объяснил. Хорошенькая защита! Нас ведь всех запросто могли взорвать, подложив бомбу.
Биттори впервые услышала о письмах от Мирен, а той рассказал Хошиан, узнавший о них от самого Чато, там, на огороде, в тот день, когда Чато привез ему грузовик земли из Андосильи. Мирен, конечно, и вообразить не могла, что ее подруга не в курсе дела.
– Встретиться с ним нет никакой возможности. Потому что, если бы мы могли с ним встретиться, давно бы уже сказали: слушай, поговорил бы ты со своими шефами, пусть оставят наконец Чато в покое.
Биттори насторожившись:
– Оставить в покое моего мужа?
– Ну, это из-за тех писем.
– Из-за писем? Из-за каких писем?
– Ой, а ты разве ничего не знаешь?
15. Встречи
На могильной плите два белых, уже засохших пятна от птичьего помета, а одно побольше натекло на имена, выбитые на камне. Она с ненавистью подумала о проклятых голубях. Птичка, казалось бы, ну как из нее может столько дряни вывалиться? Здесь ведь сотни, тысячи – бог весть сколько – могил, так нет же, этим сволочным голубям понадобилось сесть именно сюда, чтобы обгадить могилу Чато.
– Они тебе, что называется, удружили, дорогой. Это, наверное, принесет тебе удачу.
Вечно она со своими шуточками. А что еще ей остается делать? Изо дня в день растравлять собственные раны? Биттори, как смогла, с помощью сухих листьев и пучков травы, вырванной там и сям, очистила плиту. В остальном понадеялась на ближайший дождь. Это она прошептала, глянув на небо над городом, где маячило одно-единственное далекое облачко. Потом, как всегда, постелила на плиту кусок полиэтилена и платок.
– А я ведь теперь каждый день бываю в поселке. Иногда беру с собой еду, чтобы там разогреть. И знаешь, поставила на балкон герань. Да, ты не ослышался. Огромный красный куст – чтобы они знали, что я вернулась.
И еще она рассказала ему, что больше не сходит с автобуса у промышленной зоны. А позавчера – хочешь верь, хочешь нет – я собралась с духом и зашла в “Пагоэту”. Времени было одиннадцать утра. Посетителей мало. На первый взгляд никого из знакомых. За стойкой стоял сын хозяина. Биттори уже несколько дней мучило желание заглянуть наконец, спустя столько лет, в бар. Сейчас ей даже пить не хотелось. Ни пить, ни есть, а если подумать как следует, то и любопытства особого не осталось, было что-то более сильное, бушевавшее у нее глубоко внутри.
– Ну теперь-то я и сама понимаю, в чем было дело.
На улицу долетал из бара привычный гул голосов, порой прерываемый смехом. Войти или нет? Она вошла. И сразу наступила тишина. В баре находилось около дюжины посетителей. Она не считала. И все они вмиг смолкли и отвели глаза. Куда они их отвели? А туда, где не было ее. Парень, который водил тряпкой между тарелочками с пинчос[21], тоже не смотрел на Биттори. Ее окружало молчание. Агрессивное, враждебное? Нет, скорее в нем сквозили удивление и недоумение. Так ей, во всяком случае, показалось.
– Знаешь, Чато, такие вещи легко угадать.
Барная стойка имеет форму буквы L. Биттори села у самой короткой ее стороны, спиной к двери. Воспользовавшись тем, что на нее вроде бы не обращали внимания, она оглядела зал. Пол, покрытый двуцветной плиткой, вентилятор у потолка, полки с рядами бутылок. Если не считать каких-то мелких деталей, все было таким же, как всегда, как прежде. Таким же, как тогда, когда она заходила сюда, чтобы купить своим маленьким детям мороженое на палочке. Незабываемое апельсиновое и лимонное мороженое из “Пагоэты” – которое представляло собой всего лишь замороженные в специальной форме напитки, с торчащей наружу палочкой, чтобы удобно было держать.
– Там почти ничего не изменилось, клянусь тебе. Столы, за которыми вы, мужчины, играли в карты, стоят на прежних местах, придвинутые к обшитым деревом стенам. Обеденный зал – в глубине. Туалет – вниз по лестнице. Правда, нет больше ни настольного футбола, ни машины с шариками, которая так ужасно грохотала, зато есть игральный автомат. Больше ничего нового я там не обнаружила. Да, еще на барной стойке стоит кружка, куда кладут деньги для заключенных. На стенах – футбольные афиши и реклама круизов вместо прежних афиш боя быков, вот и все. У меня создалось впечатление, что баром сейчас управляет сын.
Наконец он подошел и к ней:
– Что желаете?
Ей хотелось встретиться с ним взглядом, но не тут-то было. Парню было лет тридцать с небольшим. Серьга в ухе, волосы на груди, торчащие из-под расстегнутой сверху рубашки. Он продолжал орудовать тряпкой, но теперь не там, где прежде, на расстоянии двух-трех метров от Биттори, а прямо у нее перед носом. Она спросила, только чтобы заставить его заговорить, есть ли у них кофе без кофеина из аппарата. Есть. Остальные посетители вернулись к своим разговорам. Биттори не узнавала их лиц. Хотя вон тот, с седыми волосами, это, случайно, не…
– У меня нет ни малейшего сомнения, что все они думали об одном и том же. Здесь жена Чато. Когда я выходила, мне страшно хотелось обернуться и спокойно сказать им с порога: да, я Биттори, ну и что тут особенного? Разве мне запрещено находиться в моем родном поселке?
Нельзя показывать свои переживания. Нельзя плакать на людях. Надо прямо смотреть им в глаза, как в объектив фотокамер. Она поклялась вести себя только так, еще когда стояла в танатории перед гробом Чато.
– Сколько я вам должна?
Бармен сказал, но так и не поднял на Биттори глаз. Чтобы не рыться в кошельке, она протянула ему бумажку в десять песет. Дожидаясь сдачи, переместилась ближе к углу буквы L. Там она и стояла. Что? Да кружка же! С приклеенной спереди надписью: “Dispersiorik ez”[22]. Биттори жгло изнутри безумное желание, которое опускалось сверху по левой руке до локтя, до кисти, до мизинца. Только бы они не увидели, только бы не увидели. Почти против собственной воли она вытянула палец и провела ногтем по нижнему краю кружки. Всего полсекунды – и Биттори отдернула палец, словно коснулась огня.
– Только не проси, чтобы я тебе объяснила, зачем это сделала. Я и сама не знаю. Как-то само собой получилось.
Она вышла на улицу. Синее небо, машины. И еще не дойдя до угла, увидела ее.
– И поначалу даже не узнала.
Но когда поняла, кто это… Господи! Я застыла как вкопанная, так это меня поразило. А еще я почувствовала что-то вроде боли в груди. Как говорится, не могла ни охнуть, ни вздохнуть.
Они продолжали свой путь, а Биттори так и стояла столбом. Словно вросла в землю. Но разве…
– Подожди, сейчас я тебе все расскажу.
Биттори шла по солнечной стороне улицы. По противоположной стороне спускались какие-то люди, среди них низкорослая женщина с узкими, какие бывают у андских индейцев, глазками. Из Перу, наверное, или откуда-то оттуда. Так вот, эта перуанка толкала перед собой инвалидную коляску, а в коляске сидела женщина – голова чуть склонена набок, одна рука прижата к телу, словно разжать руку ей было не под силу. А вот другой рукой она двигала вполне свободно.
– И только тут я сообразила, что она подает мне знаки. Женщина мотала рукой на уровне груди, словно здороваясь со мной. И смотрела на меня, но не прямо. Не знаю, как тебе лучше объяснить. Лицо повернуто, улыбка во весь рот, но перекошенная, так что в уголке губ даже появилась капля слюны, глаза прищурены. С первого взгляда узнать ее было никак невозможно, клянусь тебе. Казалось, все ее тело сотрясают судороги, понимаешь? Так вот, это была Аранча. Ее парализовало. Не спрашивай, как с ней такое случилось. Однако перейти улицу и спросить ее я, само собой, не решилась.
Биттори в точности не поняла, то ли Аранча таким образом здоровалась с ней, то ли звала подойти. Женщина, которая ее везла, ничего не заметила, занятая инвалидной коляской. Шли они под горку, не торопясь, а Биттори, искренне огорчившись, все продолжала стоять на том же месте, пока они не скрылись из виду.
– Вот, Чато, я рассказала тебе и об этом. Ну, что тут скажешь? Грустно. Аранчу я всегда считала самой лучшей в их семье. Испытывала к ней слабость, еще когда она была совсем маленькой. Самая разумная и нормальная среди них и единственная, как я тебе уже однажды сообщила, кто выразил сочувствие мне и моим детям.
Сложив и убрав в сумку кусок полиэтилена и платок, Биттори пошла к кладбищенским воротам. По дороге она не раз сворачивала то туда, то сюда, правда, так, чтобы ни с кем ненароком не столкнуться. Почти в самом конце пути она увидела в промежутке между двумя могилами голубку с голубем, который, раздувшись, ее обхаживал. Кыш! Биттори спугнула птиц, сильно топнув ногой.
16. Воскресная месса
Колокол у них один, но ранним утром по воскресеньям он звучит не так, как в обычные дни. Воскресные удары сменяют друг друга немного устало, а не сварливо и понукающее и словно задают особый, ленивый ритм: люди – бум! – уже восемь – бум! – если желаете – бум! – можете оставаться в постели – бум! – мне все равно.
К этому времени Хошиан уже три четверти часа крутил педали по местным дорогам. Куда он направился, что сказал жене? Да какая разница. В самую глубину провинции Гипускоа, в какой-нибудь бар, где подают яичницу с хамоном, это уж к гадалке не ходи. Каждый этап в их клубе велотуризма заканчивается тарелкой яичницы с хамоном, а потом можно и домой поворачивать.
Итак, восемь. Звонок в дверь совпал с одним из последних ударов колокола, и Мирен, еще не причесанная, в ночной рубашке, впустила свою помощницу Селесте, которая со свойственной ей любезностью (и не в первый раз) купила им к завтраку половину свежего батона.
– Ох, милая, да зачем же ты себя утруждала!
Вдвоем им легче посадить Аранчу в инвалидную коляску. На Мирен приходятся голова и верхняя часть тела. Но сперва – и это уж непременно – она поднимает жалюзи и говорит дочери всякие ласковые слова на баскском: egun on, polita[23], – и так далее. Селесте вторит ей, но уже со своим андским акцентом: egun on, – и готовится взять Аранчу за ноги.
Как только они подступают к больной, Мирен то и дело дает распоряжения: хватайся, подтягивай, поднимай, подхватывай, опускай, – но вовсе не для того, чтобы показать, кто тут главный. А зачем же тогда? А затем, что она страшно боится, как бы они не уронили Аранчу, и хотя ничего подобного до сих пор не случалось, она таращит глаза, суетится, и нередко сиделке приходится успокаивать хозяйку:
– Тише, тише, Мирен. Вот сейчас, вот так мы ее аккуратненько и поднимем.
Наконец они посадили Аранчу на коляску. Как обычно. Потом Селесте идет впереди, открывая перед коляской двери. При поддержке двух женщин Аранча встает на ноги. Ноги у нее достаточно сильные. В чем же тогда проблема? В конской стопе. Доктор Уласиа уверенно обещала, что какое-то время спустя Аранча, опираясь на палку или при посторонней помощи, сможет сделать несколько шагов, и вовсе не исключалось, что когда-нибудь больная будет способна самостоятельно передвигаться по дому.
Аранчу посадили на унитаз. Затем – на специальный стул в душевой кабинке. Селесте взялась намыливать ее, а под конец вытерла полотенцем, потому что у нее это получается лучше, потому что у нее больше терпения и еще – как бы лучше объяснить? – потому что она мягче, о чем Мирен вроде как и не догадывалась, пока однажды Аранча не написала ей на своем айпэде: “Хочу, чтобы меня всегда мыла под душем Селесте”.
– Почему это?
И снова текст на экране: “Ты это делаешь очень грубо”.
Голоса у Аранчи нет. Иногда можно по губам угадать какое-то беззвучное слово, которое лицевые мускулы изо всех сил стараются вытолкнуть наружу, можно уловить какие-то попытки связной речи, только вот дистанцию между этими попытками и произнесением внятных звуков Аранча никак не может одолеть. Тем не менее ее надо непременно подбадривать и поощрять похвалами. Так советует физиотерапевт, так советуют невролог и директор Центра реабилитации, а также логопед:
– Хвалите ее, Мирен. Все время хвалите. Хвалите Аранчу за любую попытку говорить или самостоятельно передвигаться.
Вдвоем они – Мирен (держи лучше, встань туда, осторожней) и Селесте – вытерли и одели Аранчу. Потом Селесте причесала ее, а мать тем временем взялась готовить завтрак. Причесывать Аранчу легко, так как волосы у нее коротко подстрижены. Подстригли их в больнице, ни у кого не спрашивая разрешения. А как больная могла воспротивиться этому в те дни, когда веки были единственной частью ее тела, способной двигаться? Потом Селесте ушла домой, потом пробило десять, потом – одиннадцать.
– Ладно, нам с тобой пора идти к мессе.
Аранча поспешно вынула из чехла айпэд.
Мать:
– Уймись, я и так знаю, что ты хочешь мне сказать.
Аранча и на самом деле пишет то, что матери давно известно: “Я не верю в Бога”.
– Давай не будем начинать все сначала. Не желаешь – не молись. Сама прекрасно знаешь, что одну тебя я тут не оставлю, но и лишать себя воскресной мессы из-за твоих капризов не собираюсь. А тебе вечные муки в любом случае обеспечены, хоть в церкви сиди, хоть дома.
И отняла у нее айпэд. Потому что они могут опоздать, сказала Мирен. Вот так – сердитая мать, сердитая дочь – они и двинулись в путь. Причина спешить у Мирен имелась. Ведь если не прийти в церковь вовремя, кто-то может занять ее место – на самом конце скамьи рядом с колонной. Перед колонной, сбоку от себя, Мирен ставит инвалидную коляску. Тогда коляска не перегораживает проход и никому не мешает, к тому же и от сквозняков Аранча закрыта, а сама Мирен может сколько угодно, не вытягивая шеи, беседовать со статуей святого Игнатия Лойолы, которая стоит там же. Где именно? В середине стены на подставке. Если признаться честно, Мирен, как правило, не особенно прислушивается к тому, что говорит священник, кроме того, мессу она и так знает наизусть. А вот разговаривать со святым Игнатием, давать ему обещания, предлагать что-то в обмен на помощь, молить о чем-то и за что-то упрекать (случается, она даже устраивает святому нешуточные разносы) – это для нее очень важно. Святому Игнатию она доверяет вдвое больше, чем Хошиану.
Мирен ни за что не согласилась бы сесть с Аранчей в передние ряды. Вот уж это никогда. И до сих пор краснеет, вспоминая то давнее воскресенье. Ужас, до чего стыдно. В первый раз она никак не могла сообразить, куда лучше поставить инвалидную коляску. В главном проходе? Людям будет не пройти. Тогда Мирен и села впереди, решив, что, раз там нет прохода, значит, коляска никому не помешает. Господи, знала бы она! Аранча тогда только-только выписалась из больницы, и мать еще надеялась на чудо. Ведь взял же Иисус за руку дочь Иаира и сказал: “девица, тебе говорю, встань”[24]. Надеялась, что случится нечто в том же роде, только не с мертвой девицей, а с парализованной Аранчей. Ради этого можно было стерпеть, что дон Серапио поприветствовал их прямо в микрофон, перед тем как начать служить мессу, да, в микрофон, а потом, уже во время проповеди, сослался на историю Аранчи как на пример бесконечной доброты Господа Нашего. Но и в этих словах Мирен не увидела ничего дурного. В церкви было довольно много народу, все знакомые, так что, если они с дочерью найдут здесь немного утешения или поддержки и почувствуют себя в центре внимания, что тут плохого, а? Еще поглядим, вдруг эта наша неверующая вновь уверует?
Между тем подошло время причащения, и как вы думаете, что сделал дон Серапио? Вот уж настырный тип! Он торжественно спустился по трем ступеням, которые отделяют алтарь от скамей для прихожан, подошел к Аранче и очень ласково, очень серьезно и даже с волнением дал ей причаститься (вложил хлеб в рот). Иисус, Мария и Иосиф! Да она ведь даже не исповедалась! Да она и в Бога-то не верует! Того и гляди эта упрямая девка возьмет и выплюнет облатку, с нее станется. А если облатка застрянет в горле? Тогда что делать? Короче, уже после мессы по дороге домой Аранча вдруг открыла рот – там облатка и была, прилипшая к языку, размякшая, – святой хлеб, вот счастье-то. Ну и как теперь прикажете поступить с телом Христовым? А вот как: Мирен осторожными пальцами подцепила влажную облатку и сунула в рот себе. Застыв посреди тротуара, закрыла глаза и сбивчиво пробормотала молитву – это стало ее вторым причащением за тот день. А что еще ей оставалось делать?
Сегодня их обычное место занято не было. Игнатий, сделай то, Игнатий, сделай это. Мой бедный-несчастный Хосе Мари так далеко, а ведь все его преступление состоит в том, что он боролся за Страну басков, ты-то это знаешь, Игнатий. И вот еще дочка – сам можешь на нее полюбоваться, хороша, правда? А младший сын носу в родительский дом не кажет и не звонит.
Тем временем Аранча спала в своем кресле рядом с матерью или делала вид, что спит, – в знак протеста. Злится небось на меня. А так как крикнуть она не может… Ну, увидят ее здесь, и что с того? Благословение Господа нашего, Отца, Сына и Святого Духа снисходит на вас. Месса для Мирен пролетела будто в одно мгновение. Она подождала, пока люди выйдут из церкви. До чего же нерасторопные, черт их побери. Когда церковь опустела, подошла к ризнице. А как же Аранча? Да ладно, никакой трагедии не случится, если и посидит пять минут одна.
Мирен сразу взяла быка за рога:
– Я из-за нее вся извелась, падре. Ночами спать перестала. И чует мое сердце, доведет она нас до беды, как пить дать доведет. Мы ведь сами жертвы этого государства, а теперь стали еще и жертвами жертв. Со всех сторон нам достается.
Наконец Мирен изложила священнику свою просьбу. Пусть падре сходит к той и поговорит; пусть выяснит, чего ради она каждый божий день приезжает в поселок; пусть убедит ее сидеть в своем Сан-Себастьяне и к нам сюда носа не совать.
Священник, любивший, что называется, распускать руки, приобнял Мирен и обдал своим нечистым дыханием:
– Не беспокойся, Мирен. Я этим непременно займусь.
17. Прогулка
Очень славно – а разве нет? – иметь сына, который, несмотря на кучу дел, и очень важных дел, готов посвятить матери утро рабочего дня. Вот он, явился – тщательно одетый, хотя ботинки, конечно, к этому костюму никак не подходят. Вкуса у него, то есть того, что называется вкусом в одежде, нет и в помине. У кого-то сыновья становятся террористами. А у меня сын стал врачом. И я имею право об этом говорить, потому что это правда. Сорок восемь лет, хорошее положение, собственный дом… Правда, ни жены, ни детей до сих пор не завел. Один, вечно один. И даже путешествиями, как его сестра, не увлекается. Вот я и спрашиваю себя: а счастлив ли он, радует ли его хоть чем-нибудь жизнь?
Мать и сын обменялись поцелуями под часами у пляжа Ла-Конча, где заранее условились встретиться. Он предложил ей заглянуть в кафе гостиницы “Лондон”. Она: ни за что. Такая дивная погода, а он собрался сидеть в закрытом помещении? Шавьер покрутил головой по сторонам, словно желая убедиться, что мать права. Действительно легкие облачка на горизонте, мягкий ветерок и приятная осенняя температура так и манили прогуляться.
– А куда тебе хочется?
– Пойдем вон туда.
И Биттори мотнула подбородком в сторону бульвара Мираконча. Она не стала ждать согласия сына, а сразу двинулась в том направлении, и Шавьер покорно пошел рядом.
– Интересно, как оно так получилось, что ты до сих пор не нашел себе женщину? Никак не могу этого понять. Внешне ты мужчина вполне привлекательный, у тебя престижная работа. Что еще надо? Денег достаточно. Да бабы должны толпами за тобой бегать!
– А я не оборачиваюсь.
– Послушай, не прими за обиду, но, может, тебя мужчины интересуют, а?
– Меня интересует моя работа, в первую очередь работа. Помогать пациентам, лечить больных и так далее.
– Не увиливай.
– Не гожусь я для семейной жизни, ama. Вот и все. Как не гожусь для занятий скульптурой или для регби, но о моем отношении к этим видам деятельности ты почему-то не спрашиваешь.
Она взяла его за руку повыше локтя. Мать, которая, прогуливаясь по бульвару, с гордостью показывает окружающим своего сына. Слева – поток машин, а еще – едущие в двух направлениях велосипедисты, и пешеходы, и люди в спортивных костюмах, увлеченные бегом. Справа – залив, море, привычная водная роскошь в сине-зеленых тонах, которая так радует взор: барашки, волны, лодки, бескрайний морской горизонт.
Накануне они разговаривали по телефону, поэтому Биттори известно, что Шавьер уже навел справки у знакомых врачей и может поделиться с ней результатами своих расспросов, она только не знает какими. Ну, давай, говори же, больше она терпеть такую неопределенность не могла.
– Прежде всего должен тебя предупредить, что делаю это в последний раз. Разглашение информации, касающейся пациентов, то есть врачебной тайны, может стоить мне работы. В данном случае я обратился к одной своей коллеге, человеку надежному, она-то мне и помогла, навела справки. Но в таких вопросах надо действовать с большой оглядкой.
Мать: ну хватит крутить, пусть наконец скажет, что ему удалось по ее просьбе разузнать. Они продолжают идти (море, белые перила, гора Игуэльдо вдали), и тут он говорит, что:
– Два года назад у Аранчи случился удар. Не спрашивай, при каких обстоятельствах, потому что такую информацию мне получить не удалось. В бумагах написано, что ее поместили в отделение интенсивной терапии больницы в Пальма-де-Майорка, из чего можно сделать очевидный вывод: она отправилась на остров в отпуск, и там с ней это произошло. Ситуация, поверь мне, была крайней тяжелой. У Аранчи было то, что мы называем синдромом “запертого человека” – из-за закупорки или сдавливания ветвей базилярной артерии.
– Сразу видно, что ты врач и по-человечески говорить разучился.
– Подожди, не дергайся, сейчас я все тебе объясню. Эта артерия образована в результате слияния позвоночных артерий, и от нее зависит снабжение кровью задней части головного мозга. Поражение этой зоны способно лишить все тело подвижности. Что с Аранчей и случилось, понятно? Мозг становится пленником парализованного тела. И человек, хоть все слышит и понимает, теряет способность реагировать. Может лишь двигать глазами и поднимать или опускать веки.
Это надо же! Из всей их семьи Биттори в последнюю очередь пожелала бы чего-нибудь плохого Аранче. Однажды Биттори шла по улице. Аранча к тому времени уже вроде бы вышла замуж за парня из Рентерии. Или нет? Да, вышла, но детей у них еще не было. И Чато к тому времени уже перестал участвовать в соревнованиях по велотуризму и не ходил в “Пагоэту” играть с друзьями в карты, а это сильно расстраивало беднягу, хотя он потом и говорил: ладно, бывают вещи и похуже. Уже появились надписи на стенах. Одна из них: TXATO TXIBATO. Это надо же: “Чато стукач”. Думаю, они это для рифмы придумали, но главное – чтобы очернить его и запугать. Так оно все и складывается: кто-то один делает сущую мелочь, другой добавляет еще немного, и когда случается несчастье, к которому привели их общие усилия, никто не чувствует себя виноватым, потому что: я только надписи на стенах делал, а я только сообщил, где он живет, а я только сказал ему несколько обидных слов, но, имейте в виду, это были всего лишь слова – промелькнули в воздухе и испарились. А ведь тогда как-то вдруг и сразу многие жители поселка перестали с ними здороваться. Только здороваться? Если бы! В их сторону и смотреть-то перестали. Даже те, с кем они дружили всю жизнь, даже соседи, даже некоторые дети. А эти невинные души, скажите на милость, что могли знать? Ну, они, само собой, слышали дома разговоры родителей. Итак, с Аранчей Биттори столкнулась на улице. Но девушка не стала понижать голоса. Очень громко с ней заговорила. И любой, кто находился поблизости, мог бы ее услышать:
– То, как с вами здесь обходятся, подлость. Я с этим не согласна.
Ничего больше она не сказала. И не стала ждать ответа. Правда, не поцеловала Биттори в щеку, как всегда делала в былые времена. Зато в знак поддержки похлопала по плечу, прежде чем пойти дальше своей дорогой. Да, она выразилась приблизительно так. Может, чуть иначе, ведь память порой нас подводит. Но в любом случае лицо у нее было самое дружелюбное, и Биттори никогда этого не забудет. Чтобы я забыла? Нет, скорее умру, чем забуду.
– Аранчу доставили в больницу Пальмы в очень тяжелом состоянии, потребовалось провести трахеотомию, применить аппарат искусственного дыхания и прочее, хотя сейчас нет никакой необходимости все это перечислять, потому что вряд ли тебе так уж хочется знать такие подробности. Достаточно сказать, что в то время Аранча не могла сама ни дышать, ни говорить, ни, разумеется, принимать пищу. Короче, ее жизнь целиком и полностью зависела от посторонней помощи.
Чато убили дождливым днем всего в нескольких метрах от подъезда их дома. И священник, хитрая бестия, настойчиво советовал Биттори отпевать его в Сан-Себастьяне. Как это? Туда, мол, придет больше народу. На что она ответила: об этом не может быть и речи, мы местные, нас крестили в поселке, венчали в поселке, и здесь, в поселке, моего мужа убили. Священник сдался. Он отслужил заупокойную мессу, и колокол отзвонил по новопреставленному. Местных жителей в церкви было совсем немного. Несколько политиков из числа конституционалистов, несколько родственников, специально приехавших по этому случаю, и мало кто еще. Люди с его фирмы? Ни одного. В проповеди не прозвучало даже намека на убийство. Трагическое событие, всех нас потрясшее… Аранчу Биттори в церкви не видела, но Шавьер говорил, что она сидела вместе с мужем в задних рядах. Выразить свои соболезнования они не подошли, но на отпевании присутствовали, не то что другие. И это Биттори тоже не забывает.
Между тем мать с сыном дошли до туннеля в районе Антигуо – и что дальше? Решили возвращаться. Шавьер продолжал рассказывать о болезни Аранчи, правда сильно все упрощая, чтобы было понятнее. Биттори с задумчивым видом куда-то смотрела – взгляд ее улетел за пределы города, за горы и за далекие и редкие облака. Она наблюдала там картины, которых не видела никогда раньше и которые сейчас возникли перед ней в первый раз: Аранча, утыканная трубками, Аранча, говорящая да или нет с помощью одних только век. Что ж, они это заслужили. Хотя нет, не так: Аранча этого не заслужила, уж она-то ни в коем случае этого не заслужила.
– Ama, кажется, ты меня не слушаешь.
– Ты зайдешь ко мне пообедать?
– Нет, не смогу.
– У тебя свидание? И как же зовут эту счастливицу?
– Ее зовут медицина.
В лучшем случае, по словам Шавьера, Аранча сможет когда-нибудь передвигаться по дому, но с чьей-либо помощью или опираясь на палку. Но ест она сейчас самостоятельно, хотя нельзя оставлять ее при этом без присмотра. Нельзя исключать в будущем и фонацию.
– Исключать что?
– Что она сможет пользоваться голосом.
Однако, как бы Аранча ни старалась восстановить здоровье (а она, как говорят, действительно старается), Шавьер не верит, что больная когда-нибудь вернется к тому, что называют нормальной жизнью.
Они уже собирались разойтись, так как дошли до часов Ла-Кончи. И тут Биттори спросила:
– А ты ничего не хочешь сказать мне про результаты моего анализа крови?
– Да, кстати… Очень хорошо, что ты напомнила. Чуть не забыл. Кое-какие показатели мне там не слишком нравятся, и я попросил Арруабарену всерьез тебя обследовать. А в остальном ты у нас крепкая как дуб.
Они поцеловались на прощанье. Мимо проезжали велосипеды, коляски с младенцами, вокруг прыгали городские воробьи.
– А этот Арруабаррена, он кто?
– Мой друг и один из лучших наших специалистов.
Она смотрела, как сын уходит. Но знала, чувствовала, что через несколько шагов он обернется. Из любопытства, по привычке, чтобы проверить, как она. Так и случилось. Биттори, которая продолжала стоять на том же месте, строгим голосом спросила:
– Он онколог, правда?
Шавьер кивнул. И постарался изобразить лицом, что ничего страшного это не означает. Он шел между двумя рядами тамарисков, слегка сгорбившись, наверное, потому что из-за своего высокого роста привык смотреть вниз, разговаривая с людьми. Кто бы мог поверить, что такой мужчина до сих пор остается холостяком. Неужели причина в том, что он не умеет одеваться со вкусом?
18. Отпуск на острове
Что ж, такие вещи происходят потому, что должны произойти, или, как говорила ее мать, потому что так захотел Господь Бог или так захотел святой Игнатий во исполнение Божьей воли. Какая злая судьба, и почему это случилось именно со мной… И так далее. В голове у нее накопился уже целый набор похожих жалоб на павшие на ее голову беды и невзгоды (ха-ха-ха, не будь циничной, девушка). Однажды она написала на айпэде своему невеселому братцу Горке – или просто напуганному? – что, раз он стал писателем, пусть расскажет также и ее историю. У Горки в глазах сразу вспыхнула тревога, и он поспешно ответил, что нет, что он сочиняет только книги для детей. Аранча снова показала ему экран: “Когда-нибудь я сама напишу об этом и все расскажу”. Она не в первый раз обещала – в виде угрозы? – сделать это.
Мирен обычно выходила из себя:
– Да, напишешь ты, как же, тоже мне писательница нашлась! Сначала зубы научись сама чистить. А главное – для чего? Чтобы рассказать всем и всякому, какие несчастья свалились на наш дом?
Аранча смотрела из своей инвалидной коляски на родителей (кухня, воскресенье, жареная курица) и понимала все лучше (не много ли ты на себя берешь, девушка?), чем мать с отцом, вместе взятые. Вот уж семейка так семейка! Варвары, одно слово варвары. Отец, сильно постаревший, лицо от переживаний покрыто морщинами, на рубашке спереди капля масла. Он уже лет двадцать как перестал ориентироваться в том, что происходит вокруг. Брат Горка живет – или прячется? – в Бильбао и подолгу не появляется и даже не звонит. Второго брата с ними нет, но впечатление такое, будто он всегда здесь, потому что любой разговор неизбежно сворачивает на него. Их богатырь гниет в тюрьме – сколько уж лет? – даже припомнить в точности не могу. Мать почти такая же бесчувственная, такая же равнодушная, как выхлопная труба у мотоцикла, хотя готовит она хорошо, надо отдать ей должное.
Аранча смотрела на мать с отцом, смотрела, как они молча, сосредоточенно жуют, наклонив лица над своими тарелками, и чувствовала волну горечи – или злобы? – поднимавшуюся у нее из груди к горлу (держи себя в руках, девушка). Аранча закрывала глаза и снова ехала на взятой напрокат машине по тому же отрезку шоссе между сосен, когда до Пальмы оставалось всего несколько километров. Аранча с дочерью. Две недели в августе в недорогой гостинице – без вида на море, но и не далеко от пляжа. Эндика, ему тогда было семнадцать, не захотел ехать с ними. Наотрез отказался. Да и младшей дочери не очень хотелось, но Аранча уговорила ее, наобещав кучу развлечений, слегка надавив на чувства и сказав, что купит ей фотоаппарат, несмотря на плохие оценки в школе. Для самой Аранчи главным было хотя бы какое-то время не видеть Гильермо. Она бы одна отправилась куда угодно, но совесть не позволяла оставить детей на попечение отца. Их брак? Да ладно, разве это можно было назвать браком? Скандал за скандалом. Они могли по многу дней не обмениваться ни словом, зато обменивались взглядами, полными презрения, ненависти, отвращения, если уж без взглядов было не обойтись. А дети… А финансовые проблемы… А квартира, купленная общими усилиями… А родственники, что скажут они? Аранча решила терпеть – хотя в глубине души и чувствовала большие сомнения в правильности такого решения, да, чувствовала, к тому же он завел себе подружку и не скрывал этого.
– Раз ты отказываешь мне в постели, надо же мне куда-то его совать.
И все в том же духе. При детях. А если и не прямо при детях, то когда они находились поблизости и, разумеется, слышали его язвительные упреки, его злобные крики.
Айноа, тринадцать лет:
– Знаешь, ama, я бы лучше осталась здесь, с подругами.
– Ну пожалуйста, я тебя очень прошу.
И они отправились в отпуск вдвоем. Гильермо отвез их в аэропорт на своей машине. Девочке захотелось музыки, и он включил ее на полную громкость. Думаю, чтобы избежать разговоров. И под конец выгрузил наши чемоданы на асфальт, быстро поцеловал дочку, пожелал счастливого пути, непонятно, правда, кому – им или облакам, потому что говорил, глядя поверх их голов, как святой на образке, и поскорее помчался обратно. Даже не подумал проводить их с багажом до стойки регистрации.
А я? Я прямиком неслась к своей сволочной беде, которая ждала меня среди сосен Майорки именно тогда, когда можно было расслабиться хотя бы на несколько дней, и провести их без слез, без злобы, без ссор. Порадоваться солнцу, морской воде, тому, что дочка рядом со мной, и развлечь себя интрижкой с каким-нибудь иностранцем из той же гостиницы. Только чтобы почувствовать прежний зуд и отплатить Гильермо за унижения, а то вздумал корчить из себя быка-производителя и Казанову, хотя на самом деле был жалким поросенком и едва шевелился в постели.
Они проехали Манакор, оставили позади еще какие-то городки. Неужели она не чувствовала никаких симптомов? Нет, не чувствовала. Машина, взятая напрокат, теперь, в воспоминаниях, пока она вяло жует куриную грудку, которую мать порезала для нее на мелкие кусочки, – та машина кажется ей пузырьком счастья. Сама Аранча – за рулем, Айноа в солнечных очках сидит рядом, обменивается посланиями с мальчишкой немцем, с которым познакомилась на пляже и в которого отчаянно влюбилась. Как красива любовь в их возрасте. А вокруг сосны – под утренним синим небом сосны, уже готовые вспороть этот ее пузырек счастья.
Вдруг она перестала чувствовать ноги. Но ей все же удалось каким-то образом остановить машину посреди шоссе, если, конечно, машина не остановилась сама, благодаря тому что дорога на этом отрезке пошла немного вверх, и Аранча, как могла, нажала на ручной тормоз, поскольку руками она действовать могла, как могла думать, и говорить, и видеть, и дышать. На самом деле у нее вообще ничего не болело.
– Ama, что ты делаешь, почему ты остановилась?
– Выходи и попроси помощи. Со мной что-то не так.
Пятница. Какая злая судьба, дети мои, ну почему такое должно было случиться именно со мной? Она повторяла это про себя в машине “скорой помощи”. Врач задавал ей вопросы. Чтобы поддерживать в сознании? Она рассеянно отвечала. Мысли были заняты главным образом детьми, ее работой продавщицы, ее будущим, но в первую очередь детьми, еще такими молодыми, – что с ними будет без меня? Суббота, воскресенье. Аранча постепенно успокаивается, убеждает себя: она отделалась легким испугом. Айноа устраивает ей сцены, ведет себя несносно. Чего она хочет? Во-первых, не желает ни селиться в гостиницу в Пальме, ни возвращаться в Кала-Мильор. Во-вторых, остров теперь кажется девочке тюрьмой, и она мечтает первым же самолетом улететь в Сан-Себастьян. Ей позволили спать в больнице, в кресле рядом с матерью. Отыскать Гильермо не удавалось. Куда делся Эндика, поди узнай. Дома его, во всяком случае, не было. Остается надеяться, что никаких сюрпризов он мне не готовит. Наконец в понедельник врач сообщил, что выпишет ее на следующий день, и самоуверенным тоном дал несколько советов, сказал, что Аранча в своем городе должна пройти тщательное обследование. Поэтому она по телефону сообщила матери, а потом и Гильермо, что им нет надобности прилетать за ней на Майорку, что она вернется вместе с Айноа, как и планировалось. Мало того, она решила провести оставшиеся пять дней в Кала-Мильор.
Айноа:
– А мне здесь скучно.
– А твой немец? Разве ты не хочешь попрощаться с ним?
Но немец вдруг стал девчонке по барабану, пусть катится к чертовой матери.
– Не говори так, еще кто-нибудь услышит.
Через полтора часа, ближе к вечеру, Аранча лежала вся увешанная трубками в отделении интенсивной терапии. У нее случился второй удар, сильный, сопровождавшийся не-вы-но-си-мы-ми болями. Она все слышала. Врача, медсестер. Но не могла ответить и была раздавлена страшной тоской. Господи, вот ведь беда какая! И еще ужас от мысли, что ее, сочтя мертвой, могут положить в гроб и похоронить заживо.
– Послушай, милая, можно узнать, почему ты не ешь?
Она открыла глаза. Ее вроде бы удивило и даже поразило, что напротив сидит мать, а слева отец с блестящими от жира губами, который жадно расправляется с куриной ножкой.
19. Ссора
Но до чего же жарко в этих местах. Мирен полагала, что благодаря морю на острове будет посвежее.
– Нет, amona[25].
– Такая же жара, как и там, куда я езжу навещать osaba[26]Хосе Мари.
Как она добралась? Ужас. Приземлилась в Пальме с опозданием на пять с половиной часов после нескончаемого ожидания – просто кошмарного и так далее ожидания – в аэропорту Бильбао. Она страдала от жажды и терпела, терпела, сколько могла, но под конец ей пришлось-таки пойти на непредвиденный расход. Мирен купила бутылочку минеральной воды без газа, потому что ничего более дорогого позволить себе не могла, но и пить воду из-под крана в туалете как-то не хотелось. У меня после этого желудок наверняка бы расстроился. Сначала Мирен очень надеялась, что им что-нибудь предложат в самолете и она утолит жажду, но время шло (час, второй…), и ей казалось, что в горле у нее застряла горсть песку. Так и пришлось идти в бар и просить – резко, словно с обидой – жалкую бутылку воды.
В чем было дело? Улетали все самолеты, кроме нужного ей. По радио только и делали, что объявляли начало посадки на другие рейсы (в Мюнхен, Париж, Малагу – из выхода номер…) и в промежутках предупреждали, что надо внимательно следить за своими вещами.
Она обращалась то к одним, то к другим пассажирам, которые, как и она, ожидали посадки у назначенного выхода. Послушайте, простите… Но одни оказывались иностранцами, а другие знали не больше, чем она сама, так что ей никак не удавалось получить объяснение, почему им не разрешают пройти в самолет, если он уже стоит у рукава и чемоданы туда погружены.
А моя дочка там, далеко, в больнице. Теперь Мирен смотрела на часы не с раздражением, как прежде, а покорно и с вялой злобой и решила (жара, пот) подняться на верхний этаж и утолить наконец жажду. Так она и сделала, потом вытащила из стакана кружок лимона и пососала его, а под конец даже куснула белый слой у самой кожицы, потому что мучил ее еще и голод.
Выходя из бара, она увидела идущих навстречу двух гвардейцев. Мирен смотрела на их форму, а не на лица. Неожиданное препятствие и необоримое отвращение заставили ее шарахнуться к перилам и там остановиться. Когда они подошли ближе, она разглядела, что гвардейцы – еще совсем молодые люди, парень и девушка. А так как они были заняты беседой, она не таясь на них уставилась. Что делать? Эти txakurras[27] наверняка в курсе дела. Они подошли еще ближе, и ее поразила естественность/улыбка/рыжеватые волосы девушки, у которой к тому же сзади из-под фуражки торчала коса. Мирен оглянулась по сторонам. Нет ли рядом кого-нибудь из поселка? Не дай-то бог. И все-таки решилась.
– Послушайте! – Мирен обратилась к девушке.
Совсем не похоже, чтобы та была способна кого-то пытать. И девушка в форме очень любезно, что тоже поразило Мирен, ответила: аэропорт в Пальма-де-Майорка закрыт.
– Как это закрыт?
Объяснил уже парень:
– Да, сеньора, закрыт. Было совершено покушение на наших товарищей. Но вы не беспокойтесь. Возможно, это всего лишь предупредительные меры и вы сможете улететь.
– А, хорошо, хорошо.
И она все-таки добралась до Пальмы. Город там, внизу, казался скопищем сияющих точек, а какое черное море, и вдали – последняя лиловая полоса сумерек. Слишком поздно, чтобы ехать в больницу к Аранче. Айноа ждала ее в аэропорту, как они и договорились.
– Ну как?
– С мамой все очень плохо, со всех сторон трубки.
– Мог бы приехать вместо меня и твой папаша. Эта история встанет мне в копеечку.
– Он сказал, что приедет в понедельник и на другой же день увезет меня домой.
– Остаться он, значит, не намерен? Совсем обнаглел. Все заботы и все расходы на меня переваливает.
– Amona, я не хочу, чтобы ты плохо говорила о моем папе.
Одна из медсестер по имени Карме, очень приятная на вид, заботилась об Айноа с первых дней и до приезда Мирен. Сразу сказала девочке, желая утешить, очень ласково сказала, чтобы та не тревожилась, что она ей поможет. Карме свозила ее на машине в гостиницу в Кала-Мильор за вещами. По дороге объяснила кое-что про состояние матери и снова постаралась утешить:
– Ты, наверное, сильно ее любишь.
Карме поселила девочку у себя дома в Пальманове, где жила с мужем и двумя маленькими детьми. Муж был таким толстым, что весил, кажется, не меньше ста пятидесяти кило. Хотя не исключено, что до того как растолстеть, был голубоглазым красавцем. Он приехал из Германии, и лицо у него было чуть красноватое (ну, может, даже и не чуть), а при разговоре был заметен акцент. С детьми общался по-немецки, а с Карме на том баскском языке, который был в ходу на Майорке.
Когда стала известна дата приезда Мирен, Карме нашла для бабушки с внучкой комнату с двумя кроватями в пансионе – подальше от туристических мест, хотя далеко и от больницы, но тут уж ничего не поделаешь. Она выполняла инструкции, полученные по телефону от Мирен:
– Только пусть будет подешевле, мы люди небогатые.
– Постараюсь.
Постаралась? Более чем. Комната без завтрака, без вида на море, у шумного шоссе, далеко от центра, зато дешево, как Мирен и пожелала, предвидя, что прожить ей здесь придется долго. Она очень волновалась, прикидывая, в какую сумму все это обойдется. И как мы повезем отсюда Аранчу, если от дома нас отделяет море? Святой Игнатий, помоги мне справиться, очень тебя прошу. А Гильермо? Почему всем этим не занимается Гильермо, он ведь ей муж? Нет, ему, видите ли, надо работать. Нет, его начальник, видите ли… Нет, только через несколько дней, не раньше… Короче, сплошные отговорки.
Айноа рассказала бабушке, что теракт случился совсем близко от дома Карме – аж все задрожало. В гостиной со стены свалилась картина. На картине разбилось стекло, а еще разбилась стоявшая под ней лампа, и толстый муж Карме начал жутко ругаться на своем языке, а дети испугались и плакали. Айноа подумала, что плакали они не только из-за грохота, но еще из-за отцовских криков. Карме и Айноа только что вернулись из больницы. Они как раз договаривались вместе приготовить еду, когда грохнул взрыв. За несколько улиц от них. Где? Как сообщили по радио, перед казармой гражданской гвардии[28]. И тотчас истошно завыли сирены, а в воздухе появился какой-то странный запах.
– Знаешь, бабушка, вчера в то самое время мы ехали с Карме по той самой улице. А ведь бомба могла подорвать и нас с ней.
– Не говори так громко, вокруг люди.
Айноа, широко распахнув глаза, возбужденно продолжала:
– Так вот, одна соседка рассказала, что пожарным пришлось снимать куски тел аж с дерева.
– Ладно, хватит тебе, мы ведь за столом сидим.
Они вдвоем зашли в бар неподалеку от пансиона и заказали несколько бутербродов.
– Заруби себе на носу, что все эти дела с твоей матерью будут стоить мне кучу денег. Поэтому я должна тратить их с оглядкой. Завтра купим еду в каком-нибудь супермаркете и за милую душу поедим у себя в комнате, пусть и всухомятку. В любом случае с голоду не умрем, поняла?
Айноа опять о своем:
– Мне не нравится, когда убивают. Это ведь очень далеко от Страны басков. Разве виноваты те, кто живет здесь, в том, что происходит там?
– Послушай, мы пришли сюда ужинать или болтать?
– Но ведь бомба могла убить и нас с Карме.
– Нет, еще до взрыва они все хорошо проверяют. Или ты что, думаешь, они бомбы-то всем подряд подкладывают? Ты когда-нибудь видела, чтобы бомба взорвалась в школе или на футбольном поле, когда на стадионе полно народу? Бомбы, они нужны, чтобы защитить права басков, их используют против наших врагов. Против тех, кто пытал твоего дядю Хосе Мари и кто до сих пор пытает его в тюрьме. Если ты даже этого не понимаешь, уж не знаю, на что тебе вообще голова дана.
Мирен строго смотрела на внучку. А внучка старалась смотреть вправо, влево, куда угодно, только не в глаза своей бабушке. Они сидели за столиком в углу, и девочка без всякой охоты обкусывала бутерброд.
– А моему папе тоже не нравится, когда убивают.
– Твой папа, видно, и вбил тебе в голову такие идеи.
– Я ничего не понимаю про идеи, бабушка. Я только говорю, что мне не нравится, когда убивают.
– Они убивают, да, а их разве не убивают? Так всегда бывает на войне. Мне тоже не нравятся войны, но ты что, хочешь, чтобы баскский народ гнобили из века в век?
– Хорошие люди не убивают.
– Это, конечно, тебе тоже сказал Гильермо.
– Это говорю я.
– Когда подрастешь, сама все поймешь. Ладно, доедай свой бутерброд и пошли, я за сегодняшний день достаточно набегалась, чтобы теперь выслушивать твои глупости.
И тогда Айноа, словно разговаривая сама с собой, сказала/пробормотала дрожащим от слез голосом, что она не хочет есть, и положила недоеденный бутерброд – больше половины – на тарелку. Мирен, нахмурившись, тоже не стала доедать свой.
20. Преждевременный траур
Утром в субботу Айноа пережила большое разочарование. Нет, даже не большое, а просто огромное. И оно было не первым после приезда бабушки, с которой они никак не могли поладить. Как говорил Гильермо: “А кто, интересно знать, способен поладить с этой железобетонной женщиной?”
Субботнюю обиду Айноа восприняла как пощечину. Перед поездкой в больницу девочка спросила бабушку, не купит ли та ей карточку для мобильника. Как только Мирен услышала слово “купить”, она нахмурилась. Потом: мы, мол, и так опаздываем, где, мол, их покупают, эти карточки, и сколько они стоят. И едва внучка самым сахарным голоском сообщила цену, Мирен отрезала: нет и нет. А по дороге стала перечислять свои нынешние расходы.
– Все никак с подружками не наболтаешься? Можно и подождать, ты ведь во вторник уже домой вернешься. Видишь, как тебе везет! А я останусь здесь ухаживать за твоей матерью.
– А вот мама наверняка купила бы мне карточку.
– Так я же не твоя мама.
Мирен продолжала говорить и все жаловалась и жаловалась, в то время как Айноа, разозлившись, смотрела куда угодно – на других пассажиров автобуса, на дома и уличных прохожих, только не в лицо бабушке, всем своим видом показывая, что разговаривать с ней не желает.
В больнице, оставшись одна, она все рассказала по телефону отцу. Вот почему, папа, я не смогу тебе больше позвонить – и так далее.
Он:
– Дочка, потерпи до понедельника.
И они договорились встретиться в понедельник в холле гостиницы, где Гильермо забронировал себе номер. Задолго до условленного часа Айноа уже ждала его, тщательно наряженная, с чемоданом, куда уложила все свои вещи, поскольку решила ни за что на свете не возвращаться в пансион.
Ну а Мирен, что сказала она? А что она могла сказать? Что отец с дочкой сыграли с ней злую шутку. Вернувшись к себе около восьми вечера и увидев, что в шкафу нет внучкиных вещей, Мирен сразу все поняла. Ну и ладно, так даже лучше. Больше будет места для меня и меньше расходов.
Гильермо вышел из такси у дверей гостиницы. Айноа, сияя от счастья, выбежала на улицу, чтобы обнять его. Вопросы, ответы, быстрые реплики и наконец объятие, как будто он говорил ей: спокойно, теперь я с тобой, теперь все будет хорошо. Она: это была просто жуть кошмарная, как здорово, что ты приехал. Про Аранчу они почти не упоминали. Каждый день Гильермо по телефону узнавал новости о состоянии жены – вопреки убеждению Мирен, что он человек бездушный и до Аранчи ему нет никакого дела. Сейчас он только спросил у дочери, нет ли чего нового, и Айноа ответила, что нет, мама по-прежнему лежит вся в трубках, и:
– Знаешь, мне кажется, она больше никогда не сможет двигаться.
Они поднялись в номер, Гильермо принял душ, а потом отец с дочкой отправились погулять по центру Пальмы, завернули в универмаг, и Айноа купила себе карточку для мобильника, а прежде чем вернуться в гостиницу, они поужинали на террасе ресторана, откуда открывался вид на порт.
– До чего же мне надоели ее бананы и бутерброды!
В сумеречном свете вырисовывались мачты кораблей. Дул легкий ветер, поэтому сидеть на террасе было особенно приятно. Вокруг улыбки, загорелые лица, элегантные дамы. По земле прыгали воробьи в ожидании вкусных подачек. Айноа попросила официанта принести ей второй, а вскоре и третий стакан кока-колы, чтобы восполнить, как она объяснила, то, в чем отказывала ей все последние дни Мирен.
– Aita, я бы лучше не ходила завтра в больницу. Понимаешь, не хочу видеть бабушку. Иди ты один, я подожду тебя в гостинице, а после обеда мы спокойно сядем в самолет. Все равно ведь мама ничего не понимает.
Нет, ни на какой самолет они завтра не сядут. Почему? Планы переменились. Девочка сначала не поняла. Гильермо впервые попал на Майорку и, разумеется, захотел воспользоваться случаем. Начальник отпустил его до четверга.
– Вот это да!
Он замахал руками, призывая ее успокоиться:
– Завтра в больницу пойду я один. Надеюсь, кто-нибудь из врачей объяснит, какое будущее ожидает твою маму. И мне без разницы, встречу я там бабушку или нет. Но если мы встретимся и можно будет трезво обсудить с ней ситуацию, в чем я сомневаюсь, сообщу ей о своем решении и о том, о чем вы с Эндикой уже знаете. Потом заеду за тобой, и у нас будет два дня в нашем полном распоряжении. Мы сможем объехать весь остров, сможем прокатиться по морю. Короче, что тебе захочется. Одни только развлечения, обещаю. Да, бабушка не должна ничего об этом знать, не хочу, чтобы она отравляла нам жизнь.
Трубки, дыхательный аппарат, зонды, провода, а на кровати неподвижное тело, открытые глаза. Гильермо в белом халате, в бахилах, вытянул шею, чтобы его лицо попало в поле зрения Аранчи. Реакция? Никакой. Как и после поцелуя в щеку. Только легкий взмах ресниц. Веки до конца не сомкнулись. Тихим голосом (его проинструктировали, как надо себя вести) он сказал ей, что приехал, чтобы позаботиться об Айноа, но обращался все равно что к статуе. А еще он сказал, что очень огорчен тем, что с ней случилось. Кто знает, может, жена его и услышит, она ведь точно не спит.
– Ты меня слышишь?
В ответ ничего. В качестве проверки он медленно отодвинул свое лицо, и она чуть-чуть скосила следом глаза, чуть-чуть. Тогда Гильермо, надеясь, что Аранча его слушает, поблагодарил ее за те годы, что они прожили вместе, за их общих детей и за разного рода хорошие мгновения; а за плохие попросил прощения и уже начал шептать ласковые и сочувственные слова, когда в палату вошла, враждебно хмуря брови, теща. Правила, естественно, гласили, что навещать больных можно только по одному и в течение весьма ограниченного времени, но медсестры, судя по всему, прихода Мирен не заметили.
Та с ходу начала осыпать зятя упреками. Во-первых, из-за черной рубашки. Рановато он облачился в траур. На нем действительно были черная рубашка, серые брюки и черные мокасины, но он решил одеться в темное, после того как дочка сказала по телефону, что священник причастил Аранчу. И Гильермо, честно говоря, подумал, что жена может вот-вот отойти в мир иной, и только поэтому, а вовсе не со зла положил в чемодан черную рубашку. Кроме того, он в таких вещах плохо разбирался, поскольку заботы о них всегда взваливал на Аранчу: она сама покупала ему одежду и каждый день говорила, что следует надеть.
И вообще, этот вопрос так мало волновал Гильермо, что он даже не подумал оправдываться в ответ на упреки тещи. Боже, до чего у нее мерзкая рожа. Хотя сейчас он особенно на нее не смотрел. Однако старуха не унималась, словно позабыв о том, что у постели больной следует говорить тихо. И вскоре совсем разбушевалась, перейдя на денежные/человеческие отношения, но тут уж Гильермо решил дать ей отпор. Припомнил это, сослался на то – очень спокойно, не повышая голоса, предельно вежливо. А еще, чтобы поставить точку, сказал:
– Да, я твердо решил развестись с Аранчей, но это ни в коем случае не связано с ее болезнью. Мы с ней давным-давно все обсудили. Наши дети знают о нашем решении и его принимают. Так что нечего все валить на меня и придумывать, будто весь воз одной тебе приходится тянуть. Пора бы научиться хоть немного уважать людей – уж если не меня, то хотя бы свою дочь, которую я, кстати, никогда не назвал бы возом. А ты называешь.
Он швырнул ей несколько купюр по пятьдесят евро:
– Вот, бери, это за то, что ты потратила на мою дочь.
И ушел.
21. Она лучшая из всех этих
Он помнил свое обещание: если узнает что-то еще, сразу сообщит матери. И обещание решил исполнить. Как только выпала передышка в работе, он заперся у себя в кабинете и позвонил.
На письменном столе компьютер, бумаги, то да се, а еще – фотография в серебряной рамке. Отец. Взгляд прямой, открытый, мягкий, но брови приподняты так, словно он хочет сказать: я запрещаю тебе быть несправедливым. Лицо человека трудолюбивого и энергичного, наделенного не столько глубоким умом, сколько трезвым пониманием жизни – и безошибочным деловым чутьем.
Биттори трубку не брала. Вряд ли она опять укатила в поселок. Шавьер долго слушал длинные гудки. Четырнадцать, пятнадцать… Если понадобится, он будет слушать их целый день. Пока мать не поймет, что звонят ей не по ошибке и не потому, что телефонная компания проводит опрос среди своих клиентов, и не потому, что очередной ловкач решил впарить ей рай земной в виде выгодного (для кого?) контракта, а что звонит он – я ведь отлично знаю, что ты там, дома. Шестнадцать гудков. Он считал их, одновременно отбивая ритм кончиком шариковой ручки по блокноту. И тут мать взяла трубку.
Голос едва слышный, настороженный:
– Слушаю.
– Это я.
– Что случилось?
Он спросил, помнит ли она Рамона.
– Какого Рамона?
– Рамона Ласу.
– Который был водителем “скорой”?
– Он и сейчас там работает.
Так вот, этот самый Рамон Ласа – человек спокойный, по взглядам националист, но ни в какие их свары не лезет, – уже не живет в поселке, однако часто туда наведывается, у него там родители. К тому же он продолжает состоять в тамошнем гастрономическом обществе. Шавьер столкнулся с ним недавно в больничном кафетерии. Ага, вот уж кто точно должен что-нибудь знать. Ну а не знает, так не знает. Попытка не пытка. Шавьер подошел к нему вроде как поболтать, вроде как любопытство вдруг разобрало, когда он увидел старого знакомого, который стоял у стойки и помешивал ложечкой кофе.
– Ты помнишь Аранчу?
– Еще бы, бедная она несчастная. Приезжает, кстати, регулярно сюда к нам на физиотерапию, обычно после обеда. Я и сам ее как-то раз привозил.
Шавьер матери по телефону:
– Чтобы он не подумал, будто у меня какой-то особый интерес к этому делу, я сказал, что только недавно узнал про Аранчу, про ее болезнь. А потом упомянул кое-какие детали: Майорка, лето две тысячи девятого, ну, сама понимаешь. Оказалось, он в курсе всего. Ужасно жаль ее. По-настоящему жаль, искренне, потому что она лучшая из всех этих.
– Лучшая? Нет, только она одна и была в той семье хорошей.
– Я постарался выжать из Рамона какие-нибудь подробности, но исподволь.
– Ладно, давай короче. Что ты узнал?
Несколько деталей, которые в поселке ни для кого не секрет. Первое: как только с ней это случилось, муж ее бросил. Общее мнение в передаче Рамона такое: мерзавец, настоящий мерзавец, без смягчающих обстоятельств.
– Ну, про смягчающие обстоятельства – это, разумеется, я от себя добавляю. Но можешь быть уверена, что слово “мерзавец” он произнес, так что все было понятно. А еще он сообщил, что заботу о детях этот тип все-таки взял на себя. Вернее, заботу о дочери, потому что их парню уже за двадцать.
– А живет он с отцом?
– Этого я не спросил.
– Напрасно.
Альберто (на самом деле он Гильермо, но я нарочно так его назвал, чтобы не показать, что в действительности знаю больше, чем говорю) сошелся с другой женщиной. Женился он на ней или нет, этого Рамон достоверно не знает, как и того, развелся ли он с Аранчей. Во всяком случае, в поселке муж не бывает. Дети – да, появляются, приезжают навестить мать.
Потом Рамон спросил меня:
– А тебе что, и вправду интересно, развелись они или нет? Моя мать наверняка знает все в точности. Если надо, я ей позвоню. Она к этому часу уже наверняка проснулась.
– Нет, зачем же. Просто я только что услышал о том, что случилось с бедной Аранчей, и это для меня было как гром среди ясного неба.
Но было еще кое-что. Этот самый Альберто (ну, Гильермо, черт бы его побрал) продал квартиру в Рентерии и отдал Аранче ее часть. А еще в поселке собрали деньги: поставили кружки в барах и магазинах, устроили лотерею, провели благотворительный футбольный матч и прочее, и прочее. Рамону не все известно, но якобы очень многие люди поучаствовали, помогая набрать нужную сумму, чтобы перевезти Аранчу из больницы на Майорке домой и оплатить лечение в специальной клинике в Каталонии.
В этот миг Шавьер словно посмотрел матери в глаза. Будь справедливым, будь честным, будь верным себе, что бы ни случилось и что бы кто ни говорил. Мать молчала.
– Ты меня слушаешь?
– Продолжай.
– Рамон не сообщил мне названия клиники, а я не спросил, чтобы он не догадался о моих детективных ухищрениях. Да и незачем было спрашивать. Я и так без труда выяснил, что Аранча восемь месяцев провела в Институте Гуттмана. Сейчас вкратце объясню. Клиника находится в Бадалоне, и там занимаются лечением и реабилитацией больных с повреждением спинного и головного мозга. Это лучший из вариантов. Но стоит такое лечение, естественно, дорого, их семье не по карману.
– Сколько я их знаю, с деньгами у них всегда было туго. И твой отец иногда втихаря им помогал, не надеясь на отдачу. Сам знаешь, как они нам отплатили.
– Так вот, Аранчу лечили в этом Институте Гуттмана, потом она смогла вернуться в поселок, а сейчас проходит нейрореабилитацию здесь, у нас в больнице.
– А что еще?
– Больше ничего. Теперь скажи, ты вчера ходила на консультацию к Арруабаррене? Что он сказал?
– Ох, совсем забыла. И где у меня только голова?
– Пойми, это важно, он должен тебя посмотреть.
– Важно или срочно?
– Важно.
Они, две истерзанных души, простились со сдержанной любовью и с любовной сдержанностью. И Шавьер уставился на чернильные точки, оставленные им на верхнем листке блокнота. Потом посмотрел в глаза отцу – не позволяй себе быть несправедливым, береги вместо меня мать, – потом перевел взгляд на белую дверь кабинета, расположенную позади стола. Когда-то давно, много лет назад – сколько? двенадцать, тринадцать? – эта самая дверь вдруг распахнулась, и там, на пороге, стояла со скорбным лицом она:
– Я пришла сказать тебе, что я сестра убийцы.
Он пригласил ее войти, но Аранча и так уже вошла. Предложил сесть, она отказалась.
– Я представляю, как вашей семье сейчас тяжело. И от всей души вам сочувствую, Шавьер. Прости.
Она всхлипнула, и нижняя губа у нее поползла вниз. Может, именно поэтому она говорила так быстро – чтобы от слез не сорвался голос.
Аранча, заметно нервничая, сказала какие-то слова про общую ответственность, про мучительные переживания, про стыд, а потом очень решительно положила на стол что-то зеленое и золотистое, и Шавьер не сразу понял, что это такое. Он был ошеломлен, смущен и, возможно, чуть ли не испуган. Даже слегка отпрянул назад, решив/опасаясь, что ее жест таит в себе некую угрозу. Нет, на стол она положила простой дешевый браслет, детскую безделушку.
– Мне его подарил твой отец, когда я была совсем маленькой, во время какого-то нашего местного праздника. Мы шли все вместе по улице, хотя ты, скорее всего, этого не помнишь, и Чато купил браслет Нерее. А я, конечно, позавидовала. Мне захотелось такой же. Но моя мама: нет, и все тут. И тогда Чато, не говоря ни слова, повел меня к негру, который продавал безделушки, и купил браслетик. Я пришла, чтобы вернуть тебе его. Нашла дома и поняла, что недостойна хранить браслет у себя. Я бы возвратила его Биттори, но мне не хватит духу посмотреть ей в глаза.
Шавьер, человек замкнутый, закрывшийся в своей скорлупе, только кивнул в ответ. И ни слова больше. Только кивнул, словно говоря: хорошо. Или: я понимаю, успокойся, я ничего не имею против тебя лично.
Несколькими днями раньше Высокий суд приговорил Хосе Мари к 126 годам тюремного заключения. Шавьер узнал об этом от Нереи, которая услышала новость по радио. Они никак не могли решить, стоит ли рассказывать о приговоре матери. Шавьер счел, что скрывать было бы нечестно, и позвонил, но Биттори уже была в курсе дела.
Прошли годы. Считать их Шавьеру лень, и он по-прежнему сидит тут, в своем кабинете. Он только что поговорил с матерью, потом посмотрел на дверь, потом открыл один из боковых ящиков письменного стола, где хранил, бог знает зачем, пластмассовый браслет Аранчи рядом с початой бутылкой коньяку.
22. Воспоминания в паутине
Этого не знает никто, кроме меня. А она? Ну, пожалуй, тот поцелуй помнит еще и она, если поражение мозга не опустошило ее память. Хотя, возможно, в ту пору она раздавала столько поцелуев и стольким парням, что сама потеряла им счет, или в тот вечер выпила лишнего и не сознавала, что делает и с кем.
По правде сказать, те девчонки – сейчас сорокалетние женщины – не знали удержу, стоило им положить на кого-то глаз, зато тогдашние мальчишки были в вопросах любви и секса полными профанами, по крайней мере я точно был профаном. И чего наверняка не знает Аранча, так это что она стала первой девушкой, которая поцеловала меня в губы.
После окончания рабочего дня Шавьер, как всегда, заперся у себя в кабинете. На столе – фотография отца и бутылка коньяку. А сам он с унылой обреченностью шарит глазами по окружающим предметам, по потолку и стенам в поиске воспоминаний.
Он мог бы уже уйти, но сама мысль о том, чтобы провести дома вечер рабочего дня, приводит его в ужас. Даже если он зажжет все лампы, это не избавит от неотвязного и непонятного полумрака, намертво въевшегося во все вокруг подобно слою цепкой плесени, и от этого полумрака веки наливаются безотрадной тяжестью. Каждый взмах ресниц – дин-дон – удар колокола из погребального звона, и так будет продолжаться, пока не окажет свое действие снотворное. Часто Шавьер сражается с одиночеством, участвуя в социальных сетях, всегда под вымышленными именами. Обменивается непристойными шутками. С кем? А кто его знает. С Паулой, например, или с Паломитой, но за этими никами вполне могли скрываться как похотливый старик из провинции Сория, так и девушка-подросток из Мадрида, которая еще не легла спать, несмотря на поздний час. Он заходит на форумы, чтобы спорить и отстаивать – с намеренным обилием орфографических ошибок – отвратительные для него самого политические позиции. А еще он выкладывает язвительные тексты в качестве комментария к статьям в электронных версиях той или другой газеты, исключительно ради удовольствия кого-то позлить или оскорбить, а также чтобы порезвиться под защитой придуманной маски. Таким образом он пытается побороть свою неизлечимую робость и чувствует себя кем-то другим, а не одиноким мужчиной сорока восьми лет, каким на самом деле является.
Вот почему очень часто после окончания рабочего дня Шавьер на час или два задерживается в своем кабинете – а вдруг кто-нибудь из медперсонала или какой-нибудь сотрудник администрации, проходя по коридору, заметит свет из-под двери и зайдет, чтобы немного с ним поболтать. И еще потому, что у него есть суеверное чувство, будто здесь, в кабинете, воспоминания получаются более приятными, чем те, что память обычно подкидывает дома. Заодно он читает специальные журналы, пролистывает отчеты или раздумывает над старыми и желательно греющими душу историями из прошлого, пока под влиянием коньяка не начинает терять власть над ходом мыслей. Дойдя до той точки, когда опьянение становится очевидным для него самого, он уходит из больницы до следующего утра.
Но сейчас такой момент еще не наступил, и Шавьер медленно, смакуя, пьет коньяк и внимательно, неторопливо осматривает стену в поисках той или иной картины из минувшего. В углу под потолком уборщицы не заметили крошечную паутину, но обнаружить ее способен лишь опытный взгляд. Это был лишь остаток серой вуали, уже покинутой тем, кто ее сплел. Однако в едва заметную сеть попало-таки воспоминание о поцелуе Аранчи. Сколько же лет мне тогда было? Двадцать или двадцать один. А ей? На два года меньше.
Таким вещам обычно не придают никакого значения, они нередко случаются на праздниках в небольших поселках, где все друг друга знают. Там танцуют, выпивают, потеют, и если ты молод и тебе под руку подвернулась девичья грудь, ты начинаешь ее тискать, а если совсем близко оказываются чьи-то губы, ты впиваешься в них поцелуем. Мелочи и пустяки, поглощенные забвением, и тем не менее порой, когда Шавьер глядит на паутину, его память ни с того ни с сего вдруг снова извлекает их на поверхность.
Это случилось еще до призыва на военную службу, он изучал тогда медицину в Памплоне. У него была репутация скучного, правильного, замкнутого парня, репутация человека, которого считают чересчур уж серьезным, если выразиться точнее. Друзья? Обычная компания, пока она не распалась из-за последовавших одна за другой женитьб. Он не пил, не курил, не чревоугодничал, не увлекался спортом или, скажем, альпинизмом; но при всем при том относились к нему хорошо, так как он составлял часть человеческого пейзажа, характерного именно для этого поселка. Он вместе с остальными ходил в школу, и вообще, он, Шавьер, был своим, такой же принадлежностью здешней жизни, как балкон мэрии или липы на площади. Можно было бы сказать, что будущее ожидает его с распростертыми объятиями. Высокий, видный собой, хотя у девушек почему-то успехом не пользовался. Слишком рассудительный, слишком робкий? По мнению знакомых, чем-то таким это и объяснялось.
Он делает еще один глоток коньяку, не спуская глаз с маленькой паутины. Почему он улыбается? Да просто ему приятно вспомнить один случай. На краю площади пылает костер святого Хуана[29]. На улицах толпы людей. Носятся дети, сияют счастливые лица, все едят мороженое, жители поселка ведут себя раскованно и перекрикиваются через улицу. Жарко. А он, разве он тогда не жил в Памплоне? Жил, но приехал провести несколько дней со своей семьей (и чтобы мать постирала ему кое-что), порадоваться празднику и пошататься с приятелями по барам. Уже под самый конец, когда они шли по улице, к ним присоединились Аранча с подругами. Смех, новые бары, она что-то говорит ему. Что? Он почти не слышит ее, такой гам стоит вокруг. Но она что-то говорит ему, это он отлично понимает, она говорит, приблизив лицо к его лицу. Он видит подведенные глаза, помаду на губах, но для Шавьера Аранча прежде всего – старшая дочь лучших друзей его родителей, почти что двоюродная сестра, которая столько раз играла при нем с Нереей.
Поэтому, когда в красноватой полутьме паба она вдруг, вроде бы ненароком, кладет руку ему на ширинку, Шавьер не сразу понимает, что, собственно, происходит. Ему это кажется шуткой, рискованной выходкой, которой он не находит объяснения. И вот сейчас он словно во сне смотрит на крошечный кусочек паутины и видит, как его целует та, кого он считал почти что своей кровной родственницей. Ее жадный язык ищет его язык, но тот не отзывается. Шавьер как будто одеревенел от изумления, а еще – от растущего ужаса, ибо понимает, что поцелуй длится слишком долго, и дело вроде бы идет всерьез, и кто-нибудь из родственников, из знакомых, из друзей или Нерея, наконец, которая находится в глубине зала, в любой момент могут обратить на них внимание. Аранча – пот и духи – прижимается к боку Шавьера. Она шепчет ему на ухо: слушай, я уже совсем готова, – и спрашивает, разве ему не хочется пойти с ней в такое место, где их никто не увидит. Но для Шавьера – даже еще и сегодня – это предложение граничит с инцестом.
Сейчас, когда он сидит у себя в кабинете, его разбирает смех. Надо же упустить такую возможность! Девушка хочет его, он хочет ее, она уже на все готова. Но – Памплона, но – дело… Его тогда одолел стыд, да и смелости не хватало, ведь он жил в своем убежище, в одинокой студенческой комнате, руководствуясь законами онанистов, которые точно так же приводят к семяизвержению – зато никаких заморочек с девицами и со всякими там ухаживаниями. Он смотрит на паутину – и смеется. Смотрит на спокойные брови отца – и смеется. Наливает себе еще порцию коньку из бутылки – и смеется. Смеется, сам не зная чему, потому что чувствует себя запачканным, заляпанным и покрытым печалью как плесенью. Будь справедливым, будь честным. Да, aita. Он чувствует, что дошел до критической точки, после которой еще одна капля спиртного – и придется оставлять машину на больничной парковке и брать такси. Поэтому он убирает бутылку обратно в ящик, видит там золотисто-зеленый браслет и говорит себе: завтра верну браслет ей. Но, черт побери, почему я тогда ее не трахнул? Ответ: потому что ты был/есть му-ди-ла. Отец с фотографии кивает, и Шавьер взрывается: а ты-то уж молчал бы там. Нет, все-таки лучше будет вызвать такси.
23. Невидимая веревка
Он думал, что это займет у него не больше пяти минут. Спущусь и тотчас вернусь обратно. И заранее уточнил время, когда она приезжает. Но, уже дойдя до коридора, который ведет в отделение физиотерапии, услышал, что сзади его зовет Ициар Уласиа. Доктор пыталась догнать Шавьера и возбужденно размахивала руками, чтобы привлечь его внимание. Они были хорошо знакомы и обращались друг к другу на “ты”.
– Хочу тебя предупредить, что сегодня она приехала не с сиделкой, а с матерью. Имей в виду.
Шавьер поблагодарил Ициар и повернул назад.
На следующий день примерно в тот же час доктор Уласиа позвонила ему на мобильник. Если он хочет увидеться с Аранчей, может спокойно спускаться, сегодня при ней Селесте.
– Кто?
– Эквадорка, которая за ней ухаживает.
На сей раз Шавьер не был настроен так решительно, как накануне. Идти или нет? С одной стороны, его матушка каждый день ездит в поселок, выходит из автобуса на одной из центральных улиц, посещает лавки – то есть всячески демонстрирует свое присутствие. А теперь вот и я вздумал воспользоваться случаем, чтобы встретиться с их дочерью. Потом Аранча расскажет об этом дома. Она ведь без проблем общается с кем угодно при помощи айпэда. И что подумают ее родители? Они, видно, и так уже решили, что мы разработали специальный план и преследуем их, вознамерившись отомстить.
Но Шавьера на встречу с Аранчей тянуло сострадание – словно невидимая веревка, обмотанная у него вокруг шеи. И не вздумай этого отрицать. Ты чувствуешь к Аранче такую жалость только потому, что она составляет очень личную часть твоего прошлого. А может, это и вообще хитрая уловка, то есть обходной способ пожалеть себя самого, а? Он рассуждал вслух, не замечая, что привлекает к себе внимание. Двое в белых халатах, встретившись с ним в коридоре, остановили его, не скрывая удивления. Шавьер, с тобой все в порядке? Да, все нормально. И он опять вернулся к себе в кабинет, хотя намеченное дело не терпело отлагательств. Однако ему требовалось хоть немного побыть одному.
Жарко. Шавьер расстегнул верхние пуговицы на рубашке, словно пытаясь ослабить узел веревки, которая с каждым разом все туже сдавливала шею, но это не помогло. Веревка продолжала тянуть – то сильно, то исподволь, и в конце концов ему пришлось подчиниться – другого выхода у него не было.
Кто бы поверил: целые дни он проводит среди искалеченных, нередко уже агонизирующих тел, среди тел, у которых не осталось никакой надежды, среди тел, которым жить осталось считанные часы, он видит матерей, которых дома ждут двое-трое детей и которые не доживут до ближайшего Рождества. Он видит молодых ребят (в большинстве своем мотоциклистов), на которых смерть остановила свой выбор. Он видит тела людей, чьи имена и фамилии очень скоро можно будет прочесть в газетах в траурной рамке. Неужели все это происходит с ним, человеком, неуязвимым для сострадания, всегда спокойным, умеющим сухо и профессионально выражать соболезнования безутешным родственникам, человеком, который с полной отдачей выполняет свою работу (будь справедливым, будь честным, будь верным себе)? И тем не менее сейчас он чувствовал нечто иное, и это при том, что как врач не нес за Аранчу никакой ответственности. А может, именно поэтому? Потому что у него не было спасительной возможности установить с ней такие же отношения, как с любым другим пациентом? И поэтому ее история так сильно подействовала на него? Вопрос повис в воздухе, в блеклом свете ламп дневного освещения. Но на поиск ответа у Шавьера не было времени, так как он уже вышел из лифта и быстрым шагом, какого требовала от него туго натянутая веревка, двинулся в отделение реабилитации.
В глубине коридора он увидел эквадорку, она сидела на скамейке у стены. Женщина маленького росточка, с внешностью, типичной для уроженцев Андских стран. Рядом с ней стояла инвалидная коляска. Заметив проходившего мимо доктора, она быстро вскочила и сделала легкий поклон. Шавьер ответил – сдержанно, даже церемонно, однако стараясь не глядеть ей в лицо.
Потом он вошел в кабинет. Два молодых физиотерапевта шутили с мальчиком лет десяти – двенадцати. Его пристегнули ремнями к кушетке, поднятой в вертикальное положение. Шавьер опытным взглядом сразу определил: цитомегаловирус. Он поздоровался, ему ответили, мальчик глянул на него своими большими глазами через увеличивающие очки, а чуть дальше, на другой кушетке, Шавьер увидел Аранчу, прежде чем она заметила его самого. Девушка, которая ею занималась, сделала весьма красноречивый жест, подтвердив, что о его визите была предупреждена. Она осторожно выполняла с пациенткой упражнение – то сгибала, то выпрямляла ее ногу в колене. И Шавьер, подходя, отметил про себя: гипертония, лишний вес. Он рассматривал Аранчу в профиль – и не узнавал. Потом-то, разумеется, узнал, но только когда оказался у кушетки и мог вблизи разглядеть черты ее лица. Наверное, чтобы снизить эффект неожиданности, физиотерапевт сочла за лучшее небрежным тоном предупредить Аранчу:
– А вот к тебе и высокое начальство пожаловало.
Шавьер подождал реакции Аранчи, прежде чем протянуть ей руку. Первая секунда – изумление, а может, даже и страх. Потом она одарила его улыбкой, если можно так назвать результат спастического сокращения мышц лица. Правая половина ее тела сохранила относительную подвижность. И Аранча пожала ему руку правой рукой. Потом на лице ее появилась гримаса, которую Шавьер не смог расшифровать.
– Как у тебя дела?
Аранча, по-прежнему лежа на кушетке, помотала головой, и в то же время губы ее изобразили слово, которое физиотерапевт озвучила:
– Песец.
Он, смущаясь, сбивчиво сказал, что очень сочувствует ей, что доктор Уласиа описала ему ситуацию. Аранча слушала Шавьера с радостью, даже словно зачарованная, как будто все никак не могла поверить, что этот вежливый мужчина в белом халате – действительно Шавьер.
– К тебе здесь хорошо относятся?
Она кивнула.
Шавьер задал физиотерапевту какой-то подходящий к случаю вопрос об упражнении, которое они с пациенткой сейчас делали, и пока врач давала нужные объяснения, Аранча пыталась что-то сказать и трясла здоровой рукой. Поначалу они ее не понимали, но тут другая врач, та, что занималась с мальчиком в нескольких метрах от них, сообразила, что Аранча просит свой айпэд, и, выйдя в коридор, взяла его у эквадорки. Аранча приподнялась на кушетке, сняла чехол и написал ловким пальцем: “Ты всегда мне нравился, козлина”.
И всеми силами заставила лицевые мускулы изобразить улыбку. В уголке губ у нее появилась капля слюны. Она выглядела совершенно счастливой, просто сияла. И вот тут-то – сейчас или никогда! – Шавьер вынул из кармана халата тот самый дешевый браслетик, взял Аранчу за правую руку, как если бы решил посчитать ей пульс, и надел браслет:
– Я берег его для тебя все эти годы. И пожалуйста, не вздумай мне его возвращать.
Она какое-то время серьезно смотрела на Шавьера, потом написала: “Ну и чего ты ждешь? Поцелуй меня”. Он поцеловал ее в щеку. Потом сказал, что ему пора, что он желает ей всего самого лучшего, потом произнес еще какие-то вежливые слова. Аранча знаками попросила, чтобы он подождал еще минутку. И, отстучав по клавишам пальцем, повернула к нему экран: “Если и у тебя случится удар, мы с тобой поженимся”.
24. Игрушечный браслет
Настроение ей испортила обычная герань, а теперь прибавилось еще и это. Но это куда хуже герани, хотя на самом деле (что они о себе возомнили? что я дам слабину?) составляет лишь часть все того же хитрого замысла. Если бы я сама обнаружила проклятый горшок с геранью, особо волноваться не стала бы. Ну и что – горшок и горшок, подумаешь, невидаль какая. Так нет же, то одна ко мне прибежит, то другая – новость на хвосте несут.
Сначала Хуани:
– Видала? Она поставила на балкон герань.
Мирен в ответ промолчала и смотреть на герань не пошла. Вскоре на улице к ней подскочила другая знакомая:
– Слушай, ты уже видала?
Но и тогда у нее не появилось ни малейшей охоты пойти и лично удостовериться, хотя от ее дома до дома этих всего-то пара шагов, не больше.
По-настоящему она взбесилась вечером, когда Хошиан вернулся из бара и не только сообщил про герань, но еще и передал, будто кто-то сказал: что, интересно, подумает Мирен, когда ее увидит. Вот почему на следующий день она отправилась глянуть на чертову герань. Да, разумеется, там она и стояла. Самая обычная герань с двумя красными цветками и словно говорила голосом той: я вернулась, я водрузила здесь свое знамя, и теперь вам придется со мной считаться.
Мирен Хошиану:
– Ну герань, ну и что с того? Вот наступят холода, и если та ее не уберет, никакой герани больше не будет.
– Дом ее. Пусть выставляет на свой балкон все, что хочет.
Но едва Мирен убедила себя, что лучше всего будет забыть историю с геранью и думать о своих делах, от которых у нее и без того голова идет кругом, – а что мне сделает та, если весь поселок в любом случае на моей стороне? – как в дверь позвонили, и, прежде чем Селесте закатила инвалидную коляску в квартиру, Мирен узнала браслет. Только этого мне и не хватало! Сперва герань, теперь браслет. Мирен нагнулась, чтобы поцеловать дочь, а заодно и получше рассмотреть безделушку. Никаких сомнений. В памяти у нее всплыли картинки из далекого прошлого: лето, конец дня, жарко, в поселке праздник. Франко умер год назад – это она тоже помнит. Два их семейства прогуливаются по улицам вместе со всем своим выводком. Они посмеялись, слушая bertsolari[30]. Хотя Мирен было не до смеха, потому что Хосе Мари уже успел довести ее до белого каления. Трудный ребенок, непоседливый, вечная головная боль для матери. Он несколько раз пытался вскарабкаться на деревянную сцену, так что один из bertsolari даже отругал его. Потом решил на ходу соскочить с карусели. Непонятно когда умудрился посадить жирное пятно на рубашку… А вот Хошиан, тот вроде бы даже гордился, что сынок у него вертлявый как обезьяна.
– Какая еще обезьяна? Что ты придумываешь? Обычный здоровый мальчик.
В довершение всех бед у этого сорванца с одного бока распоролись по шву брюки, и мне хотелось прямо там, прямо посреди улицы, отлупить его. Конечно, шить и стирать на всю семью – это моя забота. Мирен процедила сквозь зубы:
– Погоди, вот вернемся домой, тогда ты у меня получишь.
Хошиан купил всем детям по пирожному с кремом. Обжора Хосе Мари проглотил свое в два приема. Потом кусанул пирожное Нереи, после чего та, разумеется, есть его отказалась. И Хошиан купил девочке другое пирожное – хотя мы не такие уж богачи. Потом Хосе Мари попытался отнять пирожное у Горки, которому тогда было годков пять, не больше, но бедняга ни за что свое пирожное отдавать не хотел или чем-то там еще разозлил братца, во всяком случае, тот взял и размазал весь крем Горке по лицу, так что нам пришлось попросить в баре салфеток и вытирать его.
Как раз тогда Чато с Биттори собирались поехать в отпуск на остров Лансароте, вскоре они туда и отправились вместе с детьми и привезли нам сувенир – одногорбого верблюда, страшного как смертный грех, но мы в конце концов, чтобы не обижать их, поставили верблюда на телевизор, а то придут как-нибудь в гости и, не дай бог, спросят про него. От Биттори только и слышно было: ах, Лансароте, ах, гостиница, – хвалилась, а может, и посмеивалась над ними, ведь ни Хошиан, ни Мирен и знать не знали, где это такое – Лансароте.
Так вот, дело шло к вечеру, и оба семейства решили вернуться домой, чтобы накормить малышей ужином и уложить спать. А после этого можно будет выйти снова, уже без детей, и поразвлечься в свое удовольствие, хотя на самом деле Мирен мечтала только об одном – как бы поскорее оказаться в постели и отдохнуть.
По дороге домой они прошли мимо выстроившихся в ряд уличных торговцев. Продавали здесь все: фигурки из глины, альпаргаты, сумки – то есть буквально все. Чато, который с такой же готовностью выхватывал кошелек из кармана, как гангстер выхватывает свой пистолет, остановился перед негром, продававшим бижутерию, и купил Нерее браслетик. И тем самым они, понятное дело, поставили нас в дурацкое положение, потому что конечно же Аранча немедленно захотела такой же, а у нас трое детей, а не двое, как у них, и Хошиан зарабатывал в своем литейном цеху гроши. Это Чато хватало денег и на то, чтобы съездить на Лансароте, и на всякую другую роскошь. Поэтому я сказала: нет и нет. Аранча чуть не в слезы: купи да купи. Короче, такое устроила, что Чато схватил ее за руку и, не спросивши нас, ни Хошиана, ни меня, вернулся к негру и купил ей браслет. И вот теперь, больше тридцати лет спустя, Аранча вдруг является домой в том самом чертовом браслете, а браслет точно тот самый – из зеленых бусин и словно бы с золотом. Тот самый и есть. Сколько заплатил за него Чато? Пять дуро? Мирен тогда, кстати сказать, страшно разозлилась, хотя виду не подала. Они ведь, получалось, преподали нам с Хошианом урок, как надо радовать своих детей.
Или я все-таки обозналась? Мирен буквально поедала глазами браслет. Аранча с увлечением смотрела телевизор, Селесте уже простилась, произнеся обычные свои милые и любезные слова, которые здесь, в нашей семье, если честно, не в ходу, но звучат очень даже приятно. Аранча ответила сиделке на свой манер – улыбнулась и помахала здоровой рукой, а Мирен – на свой, то есть немного сухо. Зато проводила Селесте до дверей и, вместо того чтобы закрыть дверь, вышла с ней на лестничную площадку.
– Послушай, ты, случайно, не знаешь, где моя дочь взяла браслет, который теперь у нее на руке.
– Его подарил ей сегодня один доктор. Браслет красивый, правда?
– Да, очень красивый. Если я правильно тебя поняла, браслет подарил какой-то мужчина, который работает в отделении?
– Нет, нет. Пришел доктор, как звать, не знаю. Никогда раньше я его не видала. И еще подумала, что он какой-то ваш родич, потому как пришел специально повидаться с Аранчей, а через несколько минут поцеловал ее так нежненько в щечку, а она все время, что провела с ним, была довольна и счастлива. Они разговаривали. Вернее, доктор, тот говорил, а Аранча отвечала ему на своем айпэде, и под конец он подарил ей этот детский браслет.
– А имени доктора ты, случайно, не запомнила?
– Ой, нет, к несчастью, нет, не запомнила, сеньора Мирен, знаю только, что физиотерапевты называли его доктором. Но если вам хочется, я завтра же могу узнать. Он высокий такой, волосы с боков уже седые, а еще – очки. Нет, никогда раньше я его не встречала. А что, что-то не так?
– Все в порядке. Просто любопытно.
Хошиан вернулся домой в свое обычное время, с обычным блеском в пьяных глазках и, как обычно, почесывал бок в области печени. На сковородке скворчали обваленные в сухарях анчоусы, окно было распахнуто настежь, чтобы чад выходил на улицу. Аранча словно загипнотизированная смотрела на пар, который поднимался от стоявшей перед ней тарелки с супом. Хошиан поцеловал ее в лоб. Потом, усаживаясь за стол, устало вздохнул:
– Только вот есть что-то ни хрена не хочется.
Мирен с суровым видом:
– А руки мыть ты разве не пойдешь?
Он потер ладони одна о другую, словно держа под струей воды:
– Они у меня и так чистые.
– Не будь свиньей…
И Хошиан отправился в ванную мыть руки, ворча, но не смея ослушаться. Когда он вернулся на кухню, Мирен за спиной Аранчи энергично делала ему какие-то знаки, которых он не понимал.
– Ну, чего тебе?
Она, поджав губы, бросила на него гневный взгляд, чтобы он ее не выдавал. И одновременно качала головой, словно говоря: Господи, да что же за терпение надо иметь с этим мужчиной.
Наконец Хошиан заметил браслет. Но притворяться он не умел, и Мирен готова была разбить ему голову сковородкой.
– Какой красивый! – И обращаясь к дочери: – Купила, что ли?
Аранча энергично замотала головой, несколько раз ткнув указательным пальцем себя в грудь, а потом изобразила губами два слова: он мой. Хошиан поискал объяснения в угрюмом взгляде жены. Напрасно. А потом, до самого конца этой сцены, предпочел помалкивать, чтобы не попасть впросак.
Позднее, уже в постели и при погашенном свете, супруги перешептывались:
– Да ладно тебе, быть такого не может.
– Провалиться мне на этом месте! Этот самый браслет ей купил Чато во время праздника, много лет назад, когда дети были маленькими и мы с теми еще дружили.
– Ну и черт с ним, с браслетом, какая теперь разница. Аранча, видать, отыскала его в каком-то ящике и нацепила.
– Ну и дурак же ты! Ничего она не отыскивала. Браслет ей подарил какой-то доктор.
– Нет, с тобой просто спятить можно. То говорила, что браслет ей Чато купил…
– Ш-ш-ш, не ори так.
Хошиан опять шепотом:
– Чато купил браслет Аранче, когда она была маленькой. Тут я все понял. И теперь, через много лет, какой-то доктор подарил нашей дочке браслет нашей дочки. Хоть режь меня, ничего не понимаю.
– Зато я с точностью знаю только то, что есть один-единственный доктор, который мог сделать что-то в таком роде. А еще он поцеловал Аранчу в щеку.
– Кто?
– Их старший сын. И еще он почему-то – почему, не спрашивай – хранил у себя этот браслет.
– Ты, мать, сериалов по телевизору насмотрелась.
– Нет, что-то они замышляют. Неужели до тебя не доходит? Они взяли и влезли в нашу жизнь, они уже здесь, в нашем доме, у нас в спальне, даже, считай, в этой вот постели, ведь мы с тобой без конца о них говорим. Подумай сам, зачем эта вернулась в поселок, и герань на балкон выставила, и по здешним лавкам ходит? А затем, что они хотят сжить нас со свету. Надо что-то делать, Хошиан.
– Ага, надо поспать.
– Я ведь серьезно говорю.
– И я тоже.
И он тут же захрапел. Мирен лежала, повернувшись на бок, но не спала, мрак для нее наполнился лицами, огнями, звуками. Перед глазами мелькали то герань, то браслет. Была тут и одиннадцатилетняя Аранча, которая устроила сцену, потому что хотела такой же браслет, как у Нереи. Был и Хосе Мари – он размазывал по лицу Горки крем от пирожного. И был Чато с его манерой выхватывать кошелек из кармана, как ковбои в фильмах выхватывают пистолет из кобуры. А еще Мирен видела ту, чье имя давно не произносит, потому что оно обжигает ей губы. Ту, что вернулась в поселок с дурными намерениями, но если та думает, что я испугаюсь… Пусть не надеется. Заснуть Мирен не могла. Еще одна ночь без сна. Голова забита всякими мыслями, мрак населен призраками. Она пошла на кухню, когда уже перевалило за полночь, и написала на листке бумаги: Alde hemendik[31]. Пойду суну ей записку под дверь, и тогда мы еще посмотрим, кто кого сильнее напугает. Мирен уже собралась выйти на улицу… А вдруг та узнает ее почерк? Мирен взяла новый листок. Повторила прежнюю фразу, но теперь печатными буквами. Вышла на лестничную площадку, держа тапочки в руках, чтобы спящие не услышали ее шагов, обулась на коврике, спустилась к выходу из подъезда и открыла дверь. Сделала шаг через порог и остановилась. Почему? Потому что шел дождь. Дождь с ветром. Настоящий ливень. Да еще косой. Вот уж ночка выдалась. И она сказала себе:
– Ну и ладно.
Потом разорвала лист бумаги, сунула обрывки в карман и вернулась в постель.
25. Не приезжай
Позвонили в дверь. Короткий, резкий звонок застал Биттори врасплох, когда она сидела в гостиной в кресле и просматривала обложки своей коллекции старых виниловых пластинок. С тех пор как ей вздумалось вернуться в поселок, этот пронзительный звонок, так хорошо знакомый по прошлым временам, раздался впервые.
Биттори не удивилась. Ждала кого-то? И да, и нет, во всяком случае, допускала, что рано или поздно один из них, а скорее одна из них, явится полюбопытствовать, поразнюхать, порасспрашивать ее о намерениях.
Кстати сказать, несколькими днями раньше она столкнулась на улице со старой знакомой, но последовавшая за этим сцена выглядела до того фальшивой, что не осталось никаких сомнений: встреча не была случайной.
– Господи, Биттори, сколько же лет мы не виделись! Я страшно рада! А ты все такая же красивая, какой была всегда.
У Биттори на языке вертелись самые язвительные ответы: да, знаешь ли, любой из нас только на пользу идет, когда убивают твоего мужа, а ты остаешься одна, становишься вдовой. Но Биттори сдержалась. Эту женщину она заметила издали, когда та еще стояла на углу. Наверняка меня поджидает, сейчас начнет задавать вопросы, какие ей велено задать. И женщина их действительно задала, притворяясь, будто они только что пришли ей в голову. Это была одна из тех знакомых, что не явились на отпевание, из тех, что не выразили ей свои соболезнования, из тех, что перестали здороваться с нами, когда на стенах поселка появились надписи. Ты не должна никого ненавидеть, Биттори, ты не должна никого ненавидеть. Поэтому сейчас она отвечала уклончиво и неопределенно и улыбалась неискренней улыбкой, от которой у самой во рту оставалось ощущение чего-то студенистого, словно там сдохла медуза.
Биттори пошла открывать дверь. Дон Серапио. Сколько приторности во взгляде, сколько кротости в чуть приподнятых бровях. Бледные изнеженные руки то соединяются, то расцепляются. Брыжи, лосьон после бритья. А вот у Биттори лицо – каменная маска, и на нем при виде священника не дрогнул ни один мускул. Удивилась ли она? Ни капли. Как если бы, распахнув дверь, вообще никого не обнаружила на пороге.
Священник сделал было шаг вперед, явно вознамерившись обнять ее, приложиться щекой к щеке. Этот человек всегда любил выражать свою приязнь с помощью прикосновений. Биттори отпрянула, лицо ее напряглось еще больше, словно предупреждая, что лучше ему держаться от нее на расстоянии. Священник объяснил на баскском языке, что решил навестить ее. Она пристально смотрела на него, уперев руку в дверной косяк и красноречиво давая понять, что, если он вздумает лезть не в свое дело, она захлопнет дверь у него перед носом. Потом, обращаясь на “ты”, ответила/пригласила войти. По-испански.
В доме Господа пусть командует священник, а у себя дома командовать буду я. И дон Серапио, которому уже перевалило за семьдесят, зашел в квартиру, по пути разглядывая пол и стены, мебель и украшения, и казалось, будто вместо глаз у него фотокамера. Нос священника тут же учуял – было два часа дня – запах морсильи[32] с фасолью, которую Биттори поставила разогреваться на кухне.
– Ты живешь здесь?
– Конечно, ведь это мой дом.
Биттори уступила ему кресло, где до этого сидела сама, перебирая свою коллекцию пластинок. А уступила она кресло нарочно, чтобы каждый раз, поднимая глаза, он утыкался взглядом в фотографию Чато, висевшую на стене. Себе она принесла с кухни стул. Священник завел подходящий к случаю разговор. Расточал ей похвалы и не скупился на лесть, каждым своим жестом выражая добрый настрой и пуская в ход выражения, исполненные преувеличенного смирения, но старался при этом направлять беседу в нужное русло. А вот Биттори, если изредка и включалась в разговор, то демонстративно переводила его на испанский язык, так что дону Серапио, который ни в коем случае не хотел накалять обстановку, пришлось, в свою очередь, отказаться от баскского.
Их разговор как непоседливая лягушка перескакивал с какой-нибудь самой ничтожной темы – или полутемы, или подтемы – на другую, не менее случайную, чуть задерживаясь на погоде, здоровье и семье, пока Биттори, которая так и не успела пообедать и имела весьма скудный запас терпения, не спросила его в лоб:
– Почему ты не говоришь о том, о чем явился поговорить со мной?
Дон Серапио невольно направил взгляд поверх головы своей угрюмой собеседницы на фотографию Чато:
– Хорошо, Биттори. Я не знаю, поняла ты или нет, что твое присутствие в поселке создает своего рода напряжение. Хотя “напряжение” – не совсем точное слово.
– Лучше сказать переполох?
– Я неудачно выразился. Прости меня. Лучше сказать так: люди видят, что ты каждый день сюда приезжаешь, они удивляются и задаются разными вопросами.
– А ты-то откуда знаешь, какими вопросами они задаются? Неужто специально идут в церковь, чтобы поделиться с тобой?
– Новости по поселку разносятся быстро. И конечно, с тех пор как ты стала сюда наведываться, слухи не утихают. Ты приезжаешь в свой поселок, и никто не станет тебе этого запрещать. Я бы даже сказал: добро пожаловать. Однако ситуация складывается гораздо более сложная, чем может показаться на первый взгляд, и то, что ты имеешь законное право вернуться в свой дом, не означает, что и у других жителей поселка не должно быть своих прав.
– Например?
– Например, права начать устраивать собственную жизнь по-новому – чтобы и у нас здесь наконец воцарился мир. Вооруженная борьба нанесла жестокий удар по нашему народу, как, впрочем, не будем забывать об этом, и некоторые действия государственных сил безопасности. К несчастью, были погибшие – среди них твой муж, царствие ему небесное, и те двое гвардейцев, которых убили на заводском полигоне. Это ужасные трагедии, и мы скорбим всем сердцем, вспоминая о них, но мы не должны отвращать наши взоры и от страданий других людей. Имели место репрессии, в наших домах без всякого повода проводились обыски, аресту подвергали невинных, с ними плохо обращались или, если выражаться точнее, их пытали в полицейских участках. Вот и сейчас девять сыновей из нашего поселка отбывают многолетние сроки в тюрьмах. Не берусь судить, заслужили они или нет такое наказание. Я не юрист и уж тем более не политик, я простой священник, который хочет помочь здешним людям жить в мире.
– Не желаешь ли ты сказать, что этому миру что-то угрожает из-за того, что вдова убитого приезжает на несколько часов в свой собственный дом?
– Нет, ничего подобного у меня и в мыслях не было. Я пришел лишь просить тебя об одолжении от лица жителей поселка. Если ты это одолжение сделаешь, буду тебе очень благодарен, если нет, смиренно приму твой отказ. Я знаю, как ты страдала, Биттори. Я никогда не усомнюсь в искренности твоих чувств и никогда не осмелюсь в чем-то тебя упрекнуть. Вы, ты и твои дети, всегда присутствовали в моих молитвах. И поверь, если твой муж сейчас не пребывает рядом с Господом, то не потому, что я сто и тысячу раз не молил о том Всевышнего. Но как Бог печется о душах умерших, так я должен печься о душах тех, кто обитает в моем приходе. Хорошо я с этим справляюсь или плохо? Разумеется, мне случается совершать ошибки. Разумеется, я не всегда нахожу нужные слова и не раз говорил не то, что хотел сказать. Или же говорил, когда следовало промолчать. Или промолчал, когда следовало высказать свое мнение. Я далек от совершенства, как и любой другой человек, и тем не менее обязан до конца дней своих выполнять возложенную на меня миссию. Из последних сил и не позволяя себе падать духом. Пойми, я не могу явиться в одну из тех несчастных семей и сказать: сожалею, но ваш сынок был членом ЭТА, так что теперь мне нет до вас никакого дела. Разве ты поступила бы так, окажись на моем месте?
– На твоем месте я говорила бы прямо. Что ты от меня хочешь?
На сей раз священник, вместо того чтобы поднять глаза на Чато, уставился на некую точку на полу, где-то между своими ногами и ногами Биттори.
– Чтобы ты не приезжала.
– Чтобы я не приезжала в собственный дом?
– Хотя бы какое-то время, пока воды не войдут в прежнее русло и не наступит мир. Бог милостив. За то, что тебе довелось вытерпеть здесь, на земле, Он вознаградит тебя в другой жизни. Не позволяй злым чувствам воцариться в твоей душе.
На следующее утро, все еще задыхаясь от ярости, Биттори отправилась на кладбище Польоэ, чтобы рассказать обо всем Чато. Говорить пришлось стоя, так как лил сильный дождь, и она не решилась сесть на край мокрой плиты.
– Да, так он мне и сказал. Чтобы я не приезжала в поселок и не мешала процессу установления мира. Сам видишь, жертвы, они мешают. Эти люди хотят взять метлу и замести нас под ковер. Чтобы нас не было видно, и если мы исчезнем из публичной жизни, а они тем временем вытащат своих узников из тюрем, это и будет называться миром. Тогда все останутся довольны: здесь, у нас, ничего не произошло. Он сказал, что настала пора нам всем простить друг друга. И когда я спросила, у кого же должна просить прощения лично я, ответил, что ни у кого, но, к несчастью, я была частью конфликта, в который оказалось вовлеченным все общество, а не только отдельная группа граждан, и нельзя исключать, что те, кто должен был бы попросить прощения у меня, в свою очередь ждут, что кто-то попросит прощения и у них самих. А так как все это очень сложно, священник считает, что лучше было бы сейчас, когда прекратились теракты, дать обстановке успокоиться – пусть напряжение спадет, пусть время поможет утихнуть боли и обидам. Что ты на это скажешь, Чато? Я держала себя в руках, но и промолчать не смогла. И кое-что ему высказала.
Биттори посмотрела священнику прямо в глаза:
– Послушай, Серапио. Если кто-то не желает видеть меня в поселке, пусть меня пристрелят, как пристрелили Чато, потому что я собираюсь приезжать сюда столько раз, сколько захочу. И вообще, единственное, что я могла бы потерять, это жизнь, а мне ее разрушили уже много лет назад. Я не жду, что кто-то попросит у меня прощения, хотя, если честно, вот сейчас подумала об этом и решила, что такой поступок выглядел бы очень по-человечески. На этом я ставлю точку, потому что мне уже давно пора обедать. Скажи тому, кто послал тебя сюда, что я не успокоюсь, пока не узнаю всех подробностей гибели моего мужа.
– Биттори, ради бога, зачем растравлять раны?
И тогда я ответила ему:
– Чтобы выпустить весь гной, который там накопился. Иначе рана никогда не затянется.
Больше мы не сказали друг другу ни слова. Он ушел от меня с унылым видом, но еще как будто и обиженный. А мне плевать. Как только я глянула сквозь щелку в жалюзи и убедилась, что он шагает прочь от моего дома, я бегом кинулась на кухню и съела большую тарелку фасоли, потому что просто умирала от голода. Ну и что ты об этом думаешь, Чато? Правильно я поступила? Ты ведь знаешь, что характера мне не занимать.
26. С кем ты, с теми или с нами?
Дождь, падая на могильные плиты, звучал по-осеннему – свежо и приглушенно, и это нравилось Биттори. Да, нравилось, потому что дождь не только немного промыл все вокруг, он, как ей воображалось, донес до покойных что-то живое… Во всяком случае, мне хочется так себе это воображать.
Раздумывая над подобными вещами, она шла, обходя лужи, и вдруг заметила улиток на могильных плитах, и ее кольнуло желание (и не в первый раз) собрать их и унести домой себе на обед. Биттори старалась спасти под зонтом сделанную дома прическу. Дождь не прекращался. Едва она вышла за ворота, как увидела подъезжающий автобус и села на него. Что теперь? Биттори перебирала в голове варианты и взвешивала свои возможности. У меня еще осталась вчерашняя фасоль, миску для кошки я кормом наполнила, дома меня никто не ждет. Больше всего ее бесила мысль, что дон Серапио может решить, будто она согласилась на его просьбу некоторое время не появляться в поселке. Поэтому Биттори сошла у бульвара, купила в ближайшей лавке две булки и – нет, не будет по-вашему, не дождетесь! – на первом же автобусе поехала в поселок.
У себя дома она снова подогрела остатки вчерашнего обеда и поела. Сделала одно, сделала другое. Потом взялась соединять какие-то провода, восстанавливать контакты, все то, чем прежде обычно занимался Чато. В результате проигрыватель все же заработал. И в промежутке между двумя старыми песнями до нее донесся звон колокола. Была суббота, она схватила зонтик и пошла. Куда? Понятно куда. К семичасовой мессе. Войдя в церковь, хотела было сесть в первом ряду, как в тот далекий день, когда отпевали ее мужа, но тотчас передумала, решив, что это будет выглядеть слишком уж вызывающе. Поэтому она выбрала крайнее место на скамье в последнем ряду справа – оттуда была хорошо видна вся церковь и можно было без опаски наблюдать за молящимися.
К началу мессы народу было уже довольно много, хотя и не столько, сколько собиралось в прежние времена. Никто не сел поблизости от Биттори, из чего она сделала вывод, что ее присутствие не осталось незамеченным, – а мне плевать, я и не ожидала, что меня встретят аплодисментами в этом Божьем доме, где якобы проповедуют любовь к ближним.
Из-за этой пустоты вокруг Биттори сразу привлекала к себе внимание, и как только из двери ризницы вышел священник в зеленой ризе, она, стараясь двигаться как можно незаметнее, перебралась на одну из скамей левой половины. И выбрала себе место за спинами людей, которых не знала. Ненароком метнув взгляд в сторону, Биттори увидела перед колонной инвалидную коляску.
Мирен, еще не заметив Биттори, почувствовала, что та находится в церкви. Мирен вошла, толкая перед собой коляску, за несколько минут до семи. Кто-то предупредительно придержал перед ними дверь. Кто именно? Какая разница, это мог сделать кто угодно. И Мирен заняла свое обычное место – коляска Аранчи рядом, статуя Игнатия Лойолы чуть впереди, у боковой стены, окутанная полумраком. И тут она будто услышала, как чей-то голос зашептал ей на ухо. Мирен незаметно тряхнула головой в знак того, что все поняла, но вправо ни разу не глянула – ни тогда, ни в течение всей мессы.
Эта ведет себя с каждым днем все наглее. Мирен была возмущена святым Игнатием и бросила в его сторону сердитый взгляд – между колонной и затылком Аранчи. С кем ты, в конце-то концов, – с теми или с нами? Хотя месса только началась, ей очень захотелось уйти. Нет, ну кто же мог такое вообразить – чтобы эта еще и в церковь явилась! Сами же мира требовали – и на своих демонстрациях, и в газетах, а когда мир вроде бы наступил, сразу же принялись делать все, чтобы его к чертям собачьим разрушить. Мирен уже приготовилась встать, но успела еще раз хорошенько подумать. Чтобы я ушла? Нет уж, пусть уходит эта. А потом повернулась к святому Игнатию: если ты встал на ее сторону, тогда вдвоем отсюда и убирайтесь.
Проповедь. Две женщины сидят на разных концах одной и той же скамьи, между ними еще три-четыре человека. Дон Серапио сразу увидел обеих с амвона. Он не назвал их по именам, чего не было, того не было, зато внезапно свернул с накатанной темы и принялся импровизировать, сперва, правда, слегка спотыкаясь, но потом из уст его потоком полились фразы про мир и примирение, про прощение и добрососедство, и были они обращены – тут уж вы со мной не спорьте! – в первую очередь, если не исключительно, к двум этим женщинам.
Он рассказал какую-то историю, или случай, или притчу – называйте как угодно – о двух людях, связанных крепкими узами дружбы, которая делала их счастливыми; но как-то раз они поссорились и стали несчастными, однако Господь возжелал, чтобы они примирились, и хотя это было непросто, время спустя примирение состоялось, и таким образом к ним вернулось прежнее счастье. Потому что, как говорил Иисус, возлюби… И так далее. Священник разошелся не на шутку, и у него получилась пылкая проповедь на целых двадцать минут – хотя обычно он говорил наставительно и взвешенно.
Мирен между тем уже прекратила свою беседу с Игнатием де Лойолой. Ты никогда не даешь мне того, о чем я прошу. И теперь сидела насупившись. Занятая своими обидами и раздумьями, она не сразу заметила, что Аранча здоровой рукой посылает приветы той женщине. Только этого нам и не хватало! У Аранчи даже голова стала покачиваться под тяжестью улыбки. Она улыбалась глазами, улыбалась губами, лбом, ушами. Срам один, а не улыбка. Или у нее опять удар случился? Хотя, если подумать как следует, может, Аранча и не приветы посылала, а показывала свой чепуховый браслет, который дома с нее никакими силами невозможно было снять. Слышь, дочка, это ведь всего лишь игрушка. Мирен незаметно подняла тормоз на коляске. И, надавив ногой, развернула ее так, что Аранча оказалась лицом к алтарю, но и теперь эта дурища – Господи, дай Ты мне побольше терпения! – все силилась оглянуться, и мать еще немного подтолкнула коляску, потом еще чуть-чуть – ближе к стене, так что Аранча больше уж никак не могла обмениваться знаками с той.
Биттори то и дело поглядывала влево, после того как заметила, что Аранча подает ей знаки. Вытянув шею, за профилями трех или четырех разделяющих их прихожан она могла увидеть частично мать и всю целиком дочь. Пока вдруг не обнаружила – вот странно! – что коляска уже не стоит в прежнем положении и что нет никакой возможности ответить Аранче улыбкой на ее улыбку.
Скрестив руки над грудью, Мирен пошла причащаться. А ведь та наверняка сейчас смотрит на меня, прямо кожей чувствую, как впиваются иголки ее взглядов. И Биттори действительно не отводила от нее глаз: это надо же, какое благочестие, надеется небось прямиком в рай попасть. Интересно, что ей там скажут, когда увидят, что рубашка у нее залита кровью моего мужа. К священнику уже образовалась небольшая очередь. И Биттори вдруг захотелось тоже присоединиться к цепочке причащающихся. Что с того, что она не верит в Бога и не соблюдает никаких обрядов? Зато когда та, другая, с гостией на языке будет возвращаться по центральному проходу на свое место, возможно, их взгляды хотя бы на миг пересекутся. Биттори представила себе эту сцену. И сразу же почувствовала всплеск эйфории. Даже дернулась было, чтобы встать. Но ей помешал острый укол в живот, третий или четвертый за последние дни. Она пережила пять мучительных минут, боясь потерять сознание, так ей было плохо. Закрыв глаза, она сделала несколько медленных вдохов и постепенно пришла в себя – как раз к тому мигу, когда месса закончилась и прихожане двинулись к выходу. Биттори смогла подняться на ноги и сразу увидела, что инвалидной коляски на прежнем месте уже нет.
Биттори покинула церковь в числе последних. Когда она оказалась на площади, шел дождь, и, скорее всего, именно из-за дождя люди так быстро разбежались по домам. Не прошла Биттори и пяти шагов, как перед ней выросли две расплывчатые фигуры.
– Ты нас узнаешь?
Голос показался ей незнакомым, лица были видны плохо, но она все-таки узнала их, хотя и не сразу, однако очень быстро – да, конечно, узнала: такой-то и такая-то, пожилая супружеская пара, жители поселка. Говорили они шепотом:
– Мы увидели тебя в церкви и страшно обрадовались. И тогда я ему сказала: давай подождем ее. Мы очень хорошо к тебе относимся. И всегда хорошо относились.
Следом заговорил он, но так тихо, что колотящий по зонтику дождь заглушал его голос, и Биттори пришлось напрягать слух.
– Мы сами никогда не были националистами. Но, как ты сама понимаешь, лучше, чтобы здесь об этом не знали.
Биттори поблагодарила их. Потом извинилась, сославшись на то, что спешит.
– Разумеется. Мы тебя не хотим задерживать.
Спешит? Никуда она не спешила. Она растворилась во мраке, спряталась в первом попавшемся подъезде и какое-то время стояла, прислонившись к стене, и дожидалась, пока отпустит боль.
27. Семейный обед
Воскресенье. Паэлья. Первой явилась Нерея. Туфли без каблуков, губы без помады, сама без мужа. Мать с дочерью быстро потерлись щекой о щеку в прихожей.
– Ну как Лондон?
Нерея привезла ей в подарок придверный коврик. Купила его там-то и там-то. Все названия она произносила, сильно напрягая губы, наверное, по инерции, ведь целых две недели ей пришлось говорить на чужом языке.
– Посмотри, правда красивый?
На коврике был изображен красный двухэтажный автобус. Биттори с притворным восторгом подтвердила, что он просто чудесный, но зачем было тратить на меня деньги, дочка? Нерея вышла за дверь, чтобы заменить старый коврик на новый. Старый поставила к стенке, решив позднее вынести его к мусорному контейнеру.
– А где Кике? Он что, не любит паэлью?
– Никакого Кике больше нет. Потом все расскажу.
Кошка дремала на диване. Она позволила себя погладить, едва приоткрыв при этом глаза. День снаружи был серый. В дверь позвонили. Шавьер поцеловал/обнял мать, поцеловал/обнял Нерею. Кошку он словно не заметил, как не обратил внимания и на новый коврик, о который только что вытер ноги. Шавьер принес бутылку вина и цветы. Незачем тебе было тратить столько денег. Они редко обедают вместе, втроем. Рождество, день рождения Биттори… А сегодня? Ну, решили собраться без всякого особого повода, вернее, только потому, что Нерея вернулась из Лондона, или потому, что они уже давно не сидели своей семьей за одним столом. Шавьер рассказал печальную историю одного из пациентов их больницы, потом вторую, но уже довольно смешную, хотя после первой смеяться никому не захотелось.
Они принялись за закуски. Нерея взахлеб рассказывала о путешествии (мы вошли в… отправились в… побывали в…), а ее брат, откупоривая бутылку, сразу заметил в описаниях сестры важное упущение:
– А что поделывает Кике?
– Думаю, он все еще в Лондоне.
Любопытство и недоумение помешали Шавьеру довести дело с пробкой до конца.
Биттори быстро вмешалась:
– Они снова рассорились.
– То есть, надо понимать, разошлись.
– Это не одно и то же.
– Хотя вы ведь с ним и так всегда жили каждый в своей квартире. Или я ошибаюсь?
– Нет, не ошибаешься.
Что ж, мать с братом в любом случае вскоре обо всем узнают, поэтому Нерея объяснила, описала, добавила подробности.
– Ну вот, теперь вам все известно. Мы расстались по взаимному соглашению. Окончательно или нет, покажет время. Кике готов ежемесячно переводить мне определенную сумму. Я, само собой, сказала, что об этом не может быть и речи.
У матери брови взлетели вверх:
– А почему об этом не может быть и речи?
– Потому что я предпочитаю ничем не быть ему обязанной.
Шавьер собрался было налить вина матери, но та отказалась; потом Нерее, сестра последовала ее примеру. Он решил было наполнить свой бокал, однако передумал и отставил непочатую бутылку на край стола. Биттори пошла на кухню за паэльей. Нерея: тебе нужна помощь? Биттори: нет.
Пока мать отсутствовала, брат с сестрой немного пошептались.
Шавьер:
– Только прошу тебя, не затрагивай этой темы.
Возвращаясь с кухни, Биттори на лету поймала последние слова.
– Какой еще “этой темы”?
Плетеную подставку под горячее с черными подпалинами их семейство использовало еще там, в поселке, когда дети были маленькими, когда был жив отец, да и сковороду для паэльи с облупившейся по краю эмалью – тоже. Нерея уже устала повторять матери, что пора выбросить на помойку это старье и купить взамен что-нибудь новое. А салфетками, годными для музея, если не для лавки старьевщика, еще Чато двадцать лет назад вытирал испачканные жиром пальцы.
От риса поднимаются последние ниточки пара. Биттори наполняет тарелку Шавьера. Любимый сын? Любимый, потому что не приспособлен к практической жизни? Вот Нерея, та сделана совсем из другого теста. Она решительно хватает шумовку и сама накладывает себе еду, перечисляя/вспоминая при этом лондонские завтраки, обеды и ужины среднего/сомнительного качества. Когда все уже принялись за паэлью, ей вдруг захотелось поделиться собственными планами на ближайшее, и не только ближайшее, будущее. Вот такими:
– В конце концов я решила, что как только представится возможность, непременно съезжу в тюрьму на свидание по “программе перевоспитания”.
Молчание. Это и была упомянутая Шавьером тема. А так как спорить с ней никто не стал, Нерея продолжила:
– Я уже поговорила по телефону с кураторшей программы. Очень симпатичная женщина. У меня она вызывает доверие. Правда, поначалу, если честно, не слишком вызывала, но постепенно я узнала ее лучше. Сейчас я сообщила ей, что вернулась из Лондона и готова снова присоединиться к подготовительным занятиям. Что еще? А рассказываю я вам об этом, потому что не люблю что-то делать втихаря. Хотя и думаю, что вы будете против моей затеи.
Мать с братом разом посмотрели на нее – строго, а скорее даже равнодушно, и так же разом отвели взгляды. Они что, не воспринимают ее всерьез? Было слышно, как старательно работают их челюсти. Взгляды были опять прикованы к тарелкам, которые постепенно пустели. Потом Биттори медленно сделала глоток из стакана с водой, провела ветхой салфеткой по губам и спросила как-то безучастно, как-то механически:
– И чего ты надеешься добиться?
– Сама не знаю. А еще пока не знаю и того, с кем в результате встречусь. Зато одну вещь знаю четко. Я хочу, чтобы хотя бы один из них понял, что они нам сделали и как мы с этим жили.
– Скажи лучше, как жила с этим ты.
– Да.
Шавьер молча ел.
– А потом?
– Послушаю, что он скажет в ответ.
– Надеешься, что попросит прощения?
– Честно признаться, я об этом даже не думала. Если верить кураторше, все, кто до сих пор участвовал в подобных встречах, испытали настоящее счастье. По ее мнению, никто не пожалел о том, что приехал на свидание. Мало того, среди жертв есть и такие, кто посчитал, что в человеческом плане стал лучше. Хорошо, ну даже если кто-то всего лишь почувствовал облегчение, и это, по-моему, не так уж и мало. Потому что ты уже будешь открыт для всего позитивного. Например, как если бы рана перестала гноиться. Да, шрам останется навсегда. Но шрам – это уже признак выздоровления. Не знаю, как вам, а мне хотелось бы дожить до такого дня, когда, взглянув в зеркало, я перестану видеть там только лицо человека, обреченного быть жертвой. Еще мне пообещали, что будет соблюдаться полная секретность. Во всяком случае, пресса ничего о встрече не узнает.
Шавьер хмуро молчал. Все последнее время он старательно уговаривал Нерею скрыть свою затею от матери. Почему? Чтобы не волновать ее. Но оказалось, что Биттори восприняла новость совершенно спокойно.
– Знаешь, дочка, поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл. Некий человек – а он как раз и представлял Ассоциацию помощи жертвам терроризма – не так давно рассказал мне о таких встречах, и теперь я более или менее в курсе дела и понимаю, о чем речь и как это организовано. Лично меня не привлекает мысль поехать и побеседовать с одним из убийц – с любым, без разбора. Напрасная трата времени, по-моему. Они причинили мне столько зла, что от пустых разговоров рана не затянется. У меня все тело – одна сплошная рана. Вряд ли я должна тебе это объяснять. И если в результате останется, как ты говоришь, шрам, то я стану одним сплошным шрамом. Словно обгорела с ног до головы. В крайнем случае я еще пошла бы на такое свидание, чтобы взглянуть в глаза тому, кто убил вашего отца. Вот ему я бы нашла что сказать. – Биттори повернулась к Шавьеру: – А ты как считаешь? Ты что, язык проглотил?
Шавьер по-прежнему не поднимал глаз от тарелки:
– Это дело сугубо личное. И я не хочу никому навязывать свое мнение.
– Я тебя о другом спрашиваю: ты сам-то не собираешься ехать на такую встречу?
– Нет.
Ответ прозвучал резко, даже агрессивно. И Нерея, отодвигая свою тарелку, в которой еще что-то оставалось, к центру стола в знак того, что для нее обед закончился, сказала, что:
– После встречи в тюрьме я, вполне возможно, перееду жить в другой город. Пока не знаю, куда именно. А может, уеду и вовсе за границу.
Они приняли новость без комментариев и не задали ни одного вопроса. Потом серьезно, сдержанно перешли к обсуждению каких-то повседневных дел. Первым, не дождавшись десерта и кофе, распрощался Шавьер, так как в то воскресенье игрался футбольный матч, а он с самого детства был членом “Реал Сосьедад”, хотя и редко бывал на стадионе. Нерея помогла матери собрать посуду. Когда они остались одни, дочь спросила, что Биттори думает о ее планах на будущее.
– Ты уже взрослая, сама должна знать, что делаешь.
– Неужели тебе хочется, чтобы я кончила так же, как брат?
– А разве с твоим братом что-нибудь не в порядке?
– Я никогда не видела человека безрадостнее, печальнее.
– Много ты понимаешь в печалях… как, впрочем, и во всем остальном.
– У меня тоже достаточно причин, чтобы считать себя несчастной. Но знаешь, в Лондоне в тот самый вечер, когда мы с Кике договорились пожить какое-то время врозь, я пошла прогуляться по берегу реки. И, гуляя, вдруг подумала: Господи, ну что мне делать? Прыгнуть в воду и разом со всем покончить или все-таки поискать выход из лабиринта, по которому уже давно, слишком давно, блуждаю? Я увидела мутную воду, и городские огни, отраженные в реке, и людей вокруг, и услышала музыку где-то совсем близко, и ветер дул мне прямо в лицо, и я решила: да пропадите вы все пропадом, а ты, Нерея, держи голову выше, не сдавайся, живи – вот именно, живи, девочка, даже если тебя довели до ручки, не сдавайся, борись, ищи. Я ведь, само собой, знала, что ты каждый божий день ездишь в поселок, и мне это очень нравится. Значит, ты тоже что-то ищешь.
– Я? Ищу? Ничего я не ищу. Просто езжу к себе домой. А что, разве нельзя? Или тебя это раздражает?
И в ее глазах, и в сжатых губах была ярость. Больше они ни о чем не говорили. И очень скоро, выходя из материнской квартиры, Нерея обратила внимание, что старого коврика у двери уже нет.
28. Между братом и сестрой
Ноябрьская серость. Когда Нерея вышла из подъезда, накрапывал дождь. Ей надо было спуститься под горку, но там, внизу, стоял мужчина, лицо которого закрывал черный зонт. У Нереи екнуло сердце. Такого не может быть, ведь с терроризмом уже покончено. И тем не менее ей внушал страх этот одинокий человек, да и вид у него был подозрительный, будто… На всякий случай она перешла на другую сторону улицы. И тут мужчина обернулся. Шавьер.
– Ты ведь сказал, что торопишься на футбол.
– Я передумал.
Почему? Счел, что сейчас им важнее кое-что обсудить. Нерея: не пугай меня. Он: а ты не паникуй. Просто мы с тобой слишком редко видимся, поэтому у нас давно не было случая поговорить с глазу на глаз. Они решили спуститься на улицу Сан-Мартин. По дороге Нерея велела ему закрыть зонт, ведь дождь уже кончился, и Шавьер зонт закрыл. Вскоре они сели за столик в кафе отеля “Европа”.
– Вот уж не знала, что ты любишь коньяк.
– Надо же что-то заказать. Мы не можем рассиживать здесь просто так.
Она попросила принести ей отвар ромашки. После паэльи во рту чувствовался привкус масла, а в желудке – тяжесть.
Шавьер пропустил жалобы сестры мимо ушей. Он сразу взял быка за рога:
– Нам с тобой, конечно, следовало встретиться до того, как мы пришли к матери, где, должен честно признаться, я чувствую себя не в своей тарелке. Встретиться и выработать общую линию поведения по некоторым вопросам, чтобы избавить мать от лишних переживаний. Кроме того, ты вела себя опрометчиво, хотя я готов признать часть вины и за собой, так как вовремя не вмешался.
– То есть не заставил меня заткнуться?
– Нет, просто ты не должна была так откровенно говорить о своих планах на будущее. А должна была проявить осмотрительность или, иначе говоря, деликатность, если, конечно, тебе известно такое слово.
– Ты, надо полагать, имеешь в виду ту деликатность, какую проявляешь сейчас сам, да?
– Вполне бы хватило истории о твоем очередном, бог весть котором, разрыве с мужем. А остальное могла бы приберечь для следующего случая. Кроме того, тебе ведь показалось, будто мама на все реагировала спокойно, да? Так вот, хочу тебя заверить, что спокойствие это было чисто внешним. Маской, если угодно, которую она носит с тех пор, как овдовела. Она ведь только притворяется сильной. Но если бы ты присмотрелась так же внимательно, как я, вместо того чтобы болтать без умолку, – а у тебя случилось что-то вроде приступа эйфории, что, кстати сказать, я отметил не без тревоги, – то ты бы увидела в глазах у мамы или даже прямо у нее на лбу, что каждое твое слово она воспринимала как удар камнем.
– Правда? Странно только, что сам ты умудрился что-то заметить, хотя, насколько помнится, ни разу не поднял глаз от тарелки.
– Есть вещи, которые видишь не глядя. Послушай, Нерея, вероятно, разрыв с Кике подействовал на тебя сильнее, чем ты хочешь признаться. Тебе лучше знать. Пока мы обедали, у меня создалось впечатление, что ты ведешь себя как женщина, которой вдруг захотелось сделать сразу и то и се – при этом любой ценой, не думая о последствиях, которые твои поступки будут иметь для близких. И вообще, если говорить начистоту, ты выглядела какой-то взбудораженной.
– А если и так, что с того? Или я должна непременно перенять твой образ жизни?
– Перед поездкой в Лондон ты заверила нас, что отказалась от мысли участвовать в этой самой встрече в тюрьме. А теперь мы узнаем, что “программа перевоспитания” тебя по-прежнему живо интересует. И все ради чего? Ради того, чтобы обрести психологический комфорт, прежде чем уехать отсюда? Спасайся, кто может, так? Неужели ты и вправду могла бы чувствовать себя счастливой, зная, в каком состоянии находится мать? Я бы не смог. Вернее, смог бы почувствовать себя чуть лучше, но на краткий миг, пока сидел бы перед раскаявшимся убийцей. А вот потом, вернувшись в Сан-Себастьян, быстро убедился бы, что испытанное мною облегчение ничем не поможет дорогим мне людям, и даже наоборот, и тогда я опять почувствовал бы себя, как раньше, или еще хуже.
– Ты обвиняешь меня в эгоизме?
– Скажем лучше, в наивности.
– Шавьер, я уже давно не твоя восьмилетняя сестренка. Со времен нашего детства прошло много лет. Мне не нужен воспитатель. Я научилась жить своим умом.
– Не отрицаю. Поэтому и решил поговорить с тобой, ведь предполагается, что ты человек, способный самостоятельно принимать решения, но это не исключает ошибок. Ошибок, которые могут больно задеть других людей, как в данном случае.
– Ты преувеличиваешь.
– То, что случилось с отцом, ты толкуешь так, словно это касается только тебя одной. То есть ищешь выход, подходящий именно тебе, или соответствующий твоим планам, или называй это как угодно. В итоге ты начнешь новую жизнь в Касакристо-де-ла-Фронтера, будешь любоваться пальмами на берегу, и тебе в голову не придет, что, возможно, своим решением ты усугубляешь страдания тех, кто остался здесь.
– То, чем страдаете вы с матерью, называется эмоциональной блокировкой. Вы сами загнали себя в яму, где все пропитано горем, обидой и печалью, и не можете оттуда выбраться, а на мой взгляд, и вряд ли хотите, пожалуй. А я уже дошла до ручки. И с меня хватит. Что-то в моей душе должно перемениться. Поэтому, побеседовав с нужными людьми, я задумала отправиться туда, где держат этих убийц, и сказать одному из них: вот что ты со мной сделал, вот они, последствия, забирай их себе, дарю. А потом я уеду куда-нибудь подальше, и не важно, попросит он у меня прощения или нет, – уеду в такое место, где никто меня не узнает, где никто не станет перешептываться за моей спиной. Где я смогу заняться чем-то полезным, сделать что-то для других – ну, не знаю, буду, скажем, помогать пострадавшим от насилия женщинам или сиротам. Так что никакого эгоизма тут нет. Мало того, эгоизмом, по-моему, было бы как раз остаться в Сан-Себастьяне и зализывать раны до конца своих дней. Да оторви ты глаза от этой чертовой рюмки с коньяком. Посмотри на меня. Я разведенная женщина без детей, у меня вот-вот начнется климакс. А ты сидишь и мотаешь мне нервы. Знаешь, я бы с удовольствием выплеснула тебе в лицо вот этот отвар ромашки.
Ни один мускул не дрогнул на его лице. Он так и не посмотрел на сестру. Не оторвал глаз от рюмки, даже когда сказал:
– Есть вещь, которой ты не знаешь. И я напрасно не сообщил тебе о ней раньше. Еще и по этой причине мы с тобой должны были действовать сообща. Насколько я понимаю, мама больна. Чем именно, пока не знаю. Результаты последних анализов не обещают ничего хорошего. Пока ты была в Лондоне, я договорился с одним из лучших здесь онкологов о консультации для нее. Но в назначенный день мать к нему не пришла. Говорит, что забыла. В чем я сильно сомневаюсь. Однако пытаюсь не слишком пугать ее. Говорю, что речь идет о самом обычном и дежурном обследовании. Она, разумеется, не дура и, чувствуя определенные симптомы, способна их более или менее правильно истолковать. Я очень прошу тебя повременить с твоими планами. Лучше всего будет, на мой взгляд, если ты вообще откажешься от них, по крайней мере, пока жива наша мама. Прояви великодушие и не делай ничего, что могло бы ухудшить ее состояние.
– Рак?
– Почти наверняка.
Шавьер подошел к стойке и попросил счет: два коньяка и отвар ромашки. А еще он воспользовался случаем и поинтересовался у официанта, как там дела на стадионе. К середине первого тайма ничья, ноль – ноль. Шавьер вернулся к сестре, но садиться уже не стал.
– Подумай и, когда у тебя будет готов ответ, сообщи его мне, пожалуйста.
– А тут и думать не о чем. Завтра же позвоню той женщине и поставлю ее в известность, что выхожу из игры. Сеньор доктор в очередной раз добился своего. Но поверь мне: в один прекрасный день, не знаю, когда именно, я уеду из этих богом проклятых краев.
Шавьер наклонился, чтобы по-братски поцеловать ее в щеку:
– Трудные времена.
– Кто бы спорил.
Они простились довольно сдержанно, без бурных проявлений чувств, без улыбок. Он вышел. Дождь к тому часу уже прекратился. Она еще какое-то время посидела за своим столиком в углу и словно загипнотизированная смотрела сквозь стекло на уличную серость.
29. Двуцветные листья
Только для того, чтобы оправдать свое затянувшееся пребывание в кафе, Нерея заказала минеральную воду. Снаружи начало темнеть. Мимо проезжали машины с зажженными фарами. Посетители? Почти никого. И Нерея пересела за другой столик. Он стоял ближе к стеклянной двери, и оттуда было удобнее наблюдать за движением на дороге. Ее обволакивало приятное чувство уюта и защищенности. Оставшись в одиночестве, немного сонная, она не могла придумать, куда бы теперь отправиться.
Машины ехали не сплошным потоком, а порциями – по воле светофора, расположенного в начале улицы Сан-Мартин. Это обстоятельство почему-то доставляло Нерее смутное удовольствие и делало чуть более сносной грусть – ее сегодняшнюю грусть с привкусом паэльи.
И вдруг по дороге с мягким шелестом проехал автобус, но не городской, не местный. И в нем ехала Нерея. В нем едем мы, моя юность и я, в сторону Сарагосы, чтобы я закончила там четвертый курс юридического факультета по желанию/просьбе/требованию отца, который хотел любой ценой защитить свою дочь, и было это уже бог весть сколько лет назад.
Автобус компании “Ронкалеса” отходил в Памплону рано утром. А слез-то, слез сколько было пролито. В том далеком октябре Нерея прощалась со своими подружками, их традиционными ужинами по четвергам, прогулками на мотоцикле, дискотеками… Слово “Сарагоса” мало о чем ей говорило. Город без пляжа, без залива, без гор – это ведь ужас. Ну как можно жить так далеко от моря? Но отец настоял: у нас нет другого выхода, поверь мне. И чем раньше она уедет из Страны басков, тем лучше. В Барселону, в Мадрид, куда сама решит. О деньгах пусть не беспокоится. Главное – оказаться в безопасном месте и спокойно закончить учебу. А так как ее приняли в университет Сарагосы, в Сарагосу она и отправилась – и проревела в автобусе до самой Памплоны, где надо было делать пересадку. Ко второй половине пути настроение у нее немного улучшилось. С чего бы это? Да просто в Памплоне в кафетерии на автостанции она выпила кофе с молоком и съела кусок тортильи, а на сытый желудок жизнь, черт побери, всегда кажется веселей. Какой-то парень, ехавший в Логроньо – или куда-то в другое место? теперь уже не вспомнить, – начал к ней клеиться и говорил разные приятные вещи, явно на что-то надеясь. Она, чтобы развеяться, но и не теряя из вида часы на стене, немного ему подыграла, дала придуманный тут же номер телефона и даже поцеловала в губы. Короче, тортилья и парень, вместе взятые, помогли сделать то утро куда более сносным. Она проспала до Туделы и приехала в Сарагосу полумертвой от голода, но в отличном настроении.
Раньше ей только раз случилось побывать в этом городе. Два дня по-настоящему адской жары, две ночи в каком-то пансионе, все равно что в пекле. Теперь она отметилась в университете и стала искать себе студенческое пристанище. В киоске на площади Сан-Франциско купила “Эральдо де Арагон”. Но вскоре выбросила газету в урну, оставив лишь страницы с объявлениями о сдаче жилья. Квартира в Делисиасе, квартира в Лас-Фуэнтесе, квартира там, квартира сям. Названия районов ни о чем ей не говорили. И еще жара. И в два часа дня ни души на улице. Ни даже птиц или мух. Она нырнула в телефонную будку. Трубка обжигала руку, так что пришлось держать ее через бумажную салфетку. Нерея набрала наугад один из многих телефонов. Ей назвали настолько низкую цену, что она почувствовала сомнение и даже спросила, а в самой ли Сарагосе находится квартира. Что? Это в черте города, а не в деревне где-нибудь в провинции? Она уловила нотки растерянности в голосе на другом конце провода. Разумеется, в черте города. И тогда Нерея подумала: черт, куда я попала? Но все-таки взяла такси, чтобы глянуть на квартиру, потому что хотела как можно скорее вернуться домой, а для этого нужно было обязательно решить проблему с жильем. Ей показалось хорошим знаком, что таксист сразу понял, куда ей надо. Значит, улица известная, значит, там имеется то, что и должно иметься на улицах цивилизованного города. Что именно? Фонари, тротуары, магазины. В какой-то миг ей захотелось спросить у таксиста, далеко ли находится нужное место, но она прикусила язык. Во-первых, стало стыдно, потому что ясно же: если у человека есть хотя бы пара извилин в голове, он прежде всего обзаведется планом города, а во-вторых, потому что, если этот тип поймет, что я здесь не ориентируюсь, может нарочно накрутить побольше километров, чтобы содрать с пассажирки лишнего. Они доехали до кладбища “Тореро”. За каналом, уже почти перед самым кладбищем, таксист сказал: это тут. Она заплатила ему и вышла из машины. Квартира? Нормальная. Чистая, обставленная просто, но ничуть не мрачная. Вид из окон чудовищный, но ведь не на каникулы она сюда приехала. По правде сказать, Нерея решила снять эту квартиру, еще не переступив порога, еще когда только вошла в подъезд и поднималась по лестнице. Потому что не забывала совета, полученного от матери. Главное, дочка, чтобы у тебя была крыша над головой к тому дню, когда начнутся занятия, потом спокойно подыщешь себе что-нибудь получше. И еще она сказала, чтобы, войдя в подъезд, Нерея обратила внимание на почтовые ящики. Всякая голь и нищета не имеет привычки следить за ними, а вот люди порядочные стараются держать их в чистоте и порядке, так что самой Биттори, по ее словам, достаточно увидеть почтовые ящики, чтобы составить представление о жильцах любого дома. Почтовые ящики произвели на Нерею самое благоприятное впечатление, как и чистота на лестницах, а также чистота стен. И когда ей открыли дверь и она пожала руку своей будущей соседке по квартире, была уже более чем уверена, что жилье себе в Сарагосе нашла.
За прожитые в той квартире месяцы свою соседку, девушку из Уэски, Нерея видела очень редко. По правде сказать, она так толком и не узнала, чем та занимается. Студенткой, во всяком случае, точно не была. Главный недостаток квартиры – страшно далеко от факультета, как и от баров и прочих развлечений. А когда вместе с северными ветрами и туманами на город накатила зима, в квартире стало по-настоящему холодно. Матушки мои! Они с соседкой купили электрический обогреватель. Но толку от него было мало. Стоило отойти на несколько метров, как возникало такое чувство, будто в тело тебе вонзают ледяные ножи. Так что в начале следующего года Нерея перебралась в квартиру на улице Лопеса Альюэ, которая лучше обогревалась и была удобнее расположена, хотя и оказалась дороже. Кроме нее самой там жили две девушки из Теруэля. Одна была моложе Нереи и училась тоже на юридическом, вторая – на филологическом. С первого же момента они отлично поладили.
Сарагоса. Знал бы брат, знала бы мать… Если не считать того времени в самом начале, когда Нерея дрожала от холода в квартире рядом с кладбищем “Тореро” и чувствовала себя одинокой и словно покрытой слоем липкой тоски, она была в Сарагосе почти что счастлива. Только вот сама этого тогда не понимала. Просто выжимала из своей юности все что возможно до последней капли. Вскоре у нее завелись друзья. Таких открытых, таких чистых душой и покладистых ребят она больше нигде не встречала. И Нерея, не забрасывая учебы (не провалив ни одного экзамена), гуляла ночи напролет, узнала физическую любовь, алкоголь, в меньшей степени кокаин и марихуану. Научилась обходиться без моря и без мотоцикла и забыла о тех опасных и страшных вещах, о которых забывать, пожалуй, не стоило. Хотя неправильно было бы сказать, что она совсем о них забыла. Сведения о каких-то тамошних событиях доходили до нее или в смягченном из-за удаленности виде или не доходили вообще, отчасти потому, что их семья, и прежде всего отец, всегда оберегавший ее, изо всех сил старались, чтобы они не доходили.
В то серое воскресенье, когда Нерея сидела в кафе отеля “Европа” перед стаканом и бутылкой минералки и глядела на проезжающие мимо машины, она вспоминала какие-то лица, какие-то места в Сарагосе, какие-то забавные истории, вечеринки и разные приключения, обычные для студенческой жизни. И снова, как много раз прежде, вдруг испытала жгучую боль, а все хорошие воспоминания представились ей в виде листьев неведомых деревьев. Каких именно? Какая разница. В виде листьев, у которых верхняя сторона одного цвета, а нижняя – другого, верх глянцево-зеленый, приятный для глаза, а низ – бледно-зеленый, цвета вины и угрызений совести. Она смотрела на свои руки и раскаивалась в том, что когда-то была молодой, хуже того – в том, что была счастливой.
Мать по телефону упрекала Нерею за то, что та редко их навещает. Ведь родители стали чувствовать себя особенно одинокими, когда многие в поселке перестали с ними разговаривать. Но буквально через минуту трубку брал отец и, понизив голос, говорил: не приезжай, дочка, не вздумай приезжать, мы сами тебя навестим, а если тебе что-нибудь нужно, только скажи. Черт, до чего же он ее любил. Мой aita, мой старик. И она у себя в Сарагосе думала, что он отослал ее учиться подальше от дома, чтобы уберечь от травли, которую уже испытал на себе. Потому что про угрозы и про надписи на стенах она конечно же знала, как и о том, что отец уже ведет переговоры и предпринимает какие-то шаги для перевода своей фирмы в более спокойное место. Не знала она другого, о чем Биттори рассказала ей уже после похорон Чато. В письме, где от него требовали денег, перечислялись некоторые подробности, связанные с Нереей. И все до одной весьма точные: и место, где она тогда училась, и ужины по четвергам, которые их компания регулярно устраивала в старой части Сан-Себастьяна. Авторы писем отлично знали даже то, какого цвета у нее мотоцикл и где она его оставляет.
30. Очистить память
Воду Нерея уже допила. Где-то в четверть восьмого она решила расплатиться с официантом и уйти из кафе, но… Но что? Внутренний голос сказал ей: Нерея, не будь дурой, не вздумай запереться у себя в квартире, когда голова у тебя набита воспоминаниями; выброси все лишнее из памяти прямо здесь и прямо сейчас, очисти ее, и тогда воспоминания впредь перестанут терзать тебя. Ты только вообрази: ночь долгая, а ноябрь – месяц сырой и мрачный, сволочной месяц.
В тот же миг она почувствовала какую-то тоскливую-тоскливую тяжесть, которая мешала ей встать со стула. Она указала официанту на бутылочку минералки, давая понять, что просит еще одну, хотя на самом деле пить ей совсем не хотелось. Просто неудобно было сидеть здесь и дальше, ничего не заказывая.
И она сама, и мать, и брат, все трое, превратились в спутники убитого человека. Волей-неволей жизнь каждого из них вот уже много лет вращалась вокруг давнего преступления, вокруг все того же неиссякаемого источника. Источника чего, черт возьми? Горя, боли? Но с этим пора покончить, хоть я и не знаю как. И ведь появилась у меня одна идея, так они тотчас разгромили ее, не оставив камня на камне.
Официант принес бутылочку воды, а также стакан со льдом и кружком лимона. И Нерея, устав следить за движением машин, съежившись от тоски и печали, даже не сообразила сказать спасибо. Она между тем думала все о том же: воображала, как сидит в тюремной комнате для свиданий и видит перед собой раскаявшегося террориста. А ведь мать с братом и понятия не имеют, где и когда я узнала о гибели отца. Они всегда считали, что о беде ей сообщили соседки по квартире, которых известил сын хозяина бара. Но, с другой стороны, какая разница. Матери она объяснила, что гуляла с друзьями и поздно вернулась домой, совсем поздно, и поэтому новость дошла до нее не сразу.
Вранье. Около пяти часов дня, выйдя из библиотеки, Нерея услышала, что случился очередной теракт. Кто-то у нее за спиной спросил: где? Но Нерея торопилась домой, чтобы бросить вещи и приготовиться к вечеринке на ветеринарном факультете, и поэтому на чужой разговор внимания не обратила. Ну да, еще один теракт. Она не почувствовала даже намека на любопытство. Подумаешь, завтра прочитает подробности в газете. В их квартире свет не горел, там никого не было. Она приняла душ, стараясь не намочить волосы, так как на улице было холодно и шел дождь. И тут пришла одна из соседок. Привет, привет. Но ни слова про теракт. К тому времени Шавьер еще не успел позвонить хозяину бара, а может, кто-то оттуда приходил и звонил в дверь, но ни одной из трех девушек не застал дома. К шести Нерея уже была готова. Хотя нельзя сказать, чтобы она слишком наряжалась и красилась. В ту пору она не увлекалась макияжем, во всяком случае, не как сейчас. Несколько капель духов – вот, пожалуй, и все. Один из приятелей – как его звали? ах да, Хосе Карлос – заглянул за ней, и они вышли из дому.
Собралась компания из десяти-двенадцати студентов, парней и девушек, хотя с некоторыми из них Нерея даже не была знакома. Но это никакого значения не имело. Они все вместе отправились в бар на улице Томаса Бретона, чтобы немного там разогреться и в нужный час – точно она не знала, когда именно, – отправиться на ветеринарный факультет на нескольких машинах. Как ей сказали, он находится у черта на куличках. Она удивилась и спросила, неужели это так далеко, что туда нельзя дойти пешком, а в ответ услышала хохот. Нерея нахмурилась. Более того, напряглась. Один из ребят, решив, что она обиделась, извинился. Какая-то девушка спросила: что с тобой? Нерея ответила уклончиво: ничего, просто… А вторая спросила: ты не заболела? Нерея опять ответила: нет. А что она могла сказать?
Потому что совершенно случайно она увидела на экране телевизора, укрепленного высоко на стене над барной полкой, фотографию своего отца. И сразу все поняла? Или только заподозрила? Нет, сразу поняла, и никаких сомнений у нее не было. Тотчас появилась надпись в нижней части экрана, которая подтвердила то, что она и без того уже знала: В ГИПУСКОА УБИТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ.
Нерея, окруженная смехом, пустой и беспечной болтовней, ничем не выдала того, что с ней в тот миг происходило. Только сердце билось до того сильно, что у нее по-настоящему заболела грудь. Как только от нее отвязались, она снова уставилась на экран. И увидела там людей, которые что-то говорили в камеру, но Нерея не могла их слышать из-за царившего в баре шума. Увидела мужчину в белом халате, потом лендакари[33] Ардансу с суровым лицом. И под конец показали улицу и фасад дома, который ей не составило труда узнать.
Нерея вдруг почувствовала, как джинсы стали мокрыми. Слава богу, что они у нее черные. Между тем она старалась вести себя как ни в чем не бывало. И вот сейчас совсем в другом баре, в кафе “Европа”, она шепотом описывает все это воображаемому террористу, который сидит перед ней во время воображаемого свидания по “программе перевоспитания”.
А тогда в Сарагосе она еще минут пять не вставала из-за столика. Даже изобразила улыбку в ответ на шутку кого-то из парней и с вымученным спокойствием допила свое пиво. Но еще и теперь, по прошествии многих лет, стоит ей вспомнить подробности, как внутри словно оживают раскаленные угли. Нет никого, кому можно было бы об этом рассказать. Даже родственникам? Немыслимо. Они не поняли бы ее, хотя беда у них общая. Мужу Кике? Он всегда был слишком занят своим бизнесом, чтобы проявлять интерес к тому, что случилось в моей жизни еще до нашего знакомства.
Она незаметно сделала знак парню, с которым пришла в бар, Хосе Карлосу, хотя любовь с ним и не крутила, но, в конце-то концов, ни с кем из собравшихся более доверительных отношений у нее не было. И он понял, что она хочет что-то сказать ему наедине, или понял что-то другое, или вообще ничего не понял. В любом случае этот Хосе Карлос вышел за Нереей на улицу, а потом шел следом и дальше, почти до угла. Уже стемнело. Только там она обернулась. И обняла Хосе Карлоса, и разрыдалась. Господи, как она рыдала. Он опешил. Что ты, да что с тобой такое? Тебя кто-то обидел? Она: мой aita. Больше она не могла произнести ни слова: мой aita. Парень твердил свое: о чем ты, что случилось? Пока наконец Нерея, чуть успокоившись, не смогла объяснить. И она попросила приятеля, чтобы он – пожалуйста! – проводил ее домой.
А еще она попросила, чтобы он не бросал ее одну, чтобы остался рядом с ней на всю ночь. Да, разумеется, само собой. Они поднялись в квартиру. Нерея перво-наперво пошла в ванную мыться. Тут же одна из соседок сообщила ей, что из бара внизу передали: она должна немедленно позвонить домой, и дело срочное. Нерея: да, я знаю, ЭТА убила моего отца. Девушка, еще не слышавшая новости, схватилась за голову и зарыдала. Другая, испуганная, тоже вышла в прихожую:
– Что, что случилось? – И в простоте душевной ляпнула: – Твой отец, он из гражданской гвардии? – А потом тоже заплакала.
Нерея попросила/приказала Хосе Карлосу пойти с ней в ее комнату. А разве ты не будешь им звонить? Она: останься со мной, никуда не уходи. И они легли в постель. Он: убили твоего отца, черт бы их всех побрал, его ведь убили. У Хосе Карлоса в тот раз ничего не получалось со мной. Он молол всякий вздор, ругался, а потом заснул. И Нерея, лежа в постели, в темноте курила одну сигарету за другой, пока не выкурила целую пачку, а затем еще и пачку Хосе Карлоса. Она выкурила бы тогда все сигареты, какие только есть на свете.
Наконец стало светать. Сквозь щели в ставнях пробивался новый день. Нерея почувствовала себя лучше, словно нашла прибежище в каком-то другом времени, отличном от предыдущего дня, забыть который, как она знала, уже никогда не сможет. Как после землетрясения, пожара, опустошительного урагана, когда человек видит себя среди развалин и медленно начинает осознавать, что все-таки выжил. Именно так я это ощущала. Который был час – семь, восемь утра? В комнате дымно, хоть топор вешай. Нерея без церемоний растолкала Хосе Карлоса, который сном младенца спал рядом. Можешь идти домой, сказала она. И парень – тощие волосатые ноги – поспешно оделся и пулей вылетел вон. Ему так не терпелось убраться, что он забыл сказать мне хоть одно ласковое слово и поцеловать на прощанье.
А потом, когда она осталась одна, случилась очень странная вещь: все было как обычно. Как и каждое утро. Воздух заполнился дорожными звуками, шел такой же, как всегда, дождь, по тротуарам шагали люди, спрятавшись под зонтами. Что еще? Все спешили по своим делам, словно накануне не было никакого теракта. Голая Нерея выглянула в окно и убедилась, что мир сплел против нее заговор. И сразу возненавидела и утро, и дождь, и дом напротив, и женщину, которая прошла мимо с собакой. Все вокруг вроде бы говорило ей: да, убили твоего отца, ну и что? Вон куры и жуки, они тоже умирают. Эта мысль причинила ей жгучую боль. Как будто она проснулась после кошмарного сна и увидела другой сон, еще страшнее прежнего. И тогда Нерея вынула из сумки зеркальце, чтобы увидеть свои глаза, свой нос, свой лоб – и теперь, впервые, это уже были глаза, нос и лоб жертвы терроризма. От проникавшей в открытое окно утренней свежести она замерзла и вдруг поняла, что случившееся вчера было правдой, но при этом самое худшее еще ждет ее впереди, и оно придет, как бы она ни старалась оттягивать время. Нерею бросило в дрожь при мысли, что надо позвонить матери.
Никто не знает, никто не узнает. Не позавтракав, не умывшись, она добрела до телефонной будки на проспекте Гойи. Было около половины девятого утра. Но и в десять с хвостиком она еще не позвонила. Шла вперед, потом возвращалась или бездумно шагала по улице Фердинанда Католика и по Гран-виа – и снова поворачивала назад, но всякий раз, дойдя до телефонной будки, проходила мимо, и опять мокла под дождем, и опять тряслась от страха, представляя себе, как скажет матери, что пока не приедет в поселок, хотя сейчас у нее не было ни экзаменов, ни каких-то неотложных дел. Тогда почему? Просто я не хочу видеть ни тело отца, ни гроб, ни могилу – это для меня непереносимо, и еще не хочу, чтобы меня как-то связывали с этим убийством, чтобы газетчики задавали мне вопросы и фотографировали, чтобы вся Сарагоса узнала, какая беда случилась в нашей семье.
Она снова и снова репетировала предстоящий телефонный разговор с матерью. Я скажу ей так, нет, лучше скажу по-другому. В газетном киоске на Гран-виа она увидела лицо отца на первой полосе какой-то газеты, и рука уже потянулась, чтобы купить ее, но Нерея не решилась. Почему? Ей было очень стыдно.
В поселок она отправилась только через неделю, когда отца уже похоронили и он перестал быть самой последней жертвой ЭТА. Мама мне этого не простила. Я точно знаю. Все было понятно и без слов. На протяжении всех прошедших лет Нерея читала обиду в каждом ее движении, в тоне некоторых реплик, в упреках, вызванных самыми ничтожными поводами. Наверное, все это Нерея и хотела рассказать раскаявшемуся террористу, освободиться от терзающих ее изнутри старых, но до сих пор не погасших углей. Что ж, сделать этого не удастся, потому что сеньор доктор сказал “нет”, а она не желает ссориться с родными. Ладно, так тому и быть.
– Счет, пожалуйста.
31. Диалог в темноте
Вечером на кухне она устроила мужу нагоняй. Не дала времени даже переобуться. Как же так? Люди из ЭТА шлют ему письма, а он не сказал ей об этом ни слова.
– Я-то ведь всегда считала, что мы с тобой все друг другу рассказываем, по крайней мере самое важное.
Чато сидел на стуле, медленно развязывал шнурки на ботинках и не поднимал глаз на Биттори, которая стояла перед ним с пылающим от гнева лицом и никак не могла угомониться. Все ему припомнила. А он, отработавший долгий день, лишь тяжело вздохнул, словно говоря: когда же, черт возьми, заткнется этот фонтан.
– А ты откуда узнала?
– От Мирен.
– Просто я хотел сам это дело разрулить, чтобы вас зря не волновать.
Но Биттори снова накинулась на него с упреками. Выждав еще немного, он перебил жену. Что у нас сегодня на ужин?
– Жаба под соусом. Почему ты спрашиваешь?
– Потому что мне есть совсем не хочется.
За ужином они почти не разговаривали, каждый думал о своем. Чато свел все объяснения к трем пунктам: во-первых, она своими попреками и руганью только осложняет для него решение вопроса; во-вторых, такие проблемы решаются по-тихому; и в-третьих, безмозглому Хошиану надо язык отрезать за то, что он проболтался жене, да и не только ему одному, как видно.
Из кухни Чато отправился прямиком в постель. Чтобы немного утрамбоваться, по его выражению. А Биттори осталась мыть посуду. Напрасно Нерея время от времени напоминала ей, что их семья вполне может позволить себе посудомоечную машину. Мать в ответ только нет да нет, если, мол, у кого имеется пара рук, дурацкая машина – напрасная трата денег, к тому же изводит прорву воды и прорву электричества, и когда, мол, ты выйдешь замуж, делай в своем доме, что тебе заблагорассудится, а мне в моем уж позволь распоряжаться по-своему.
Чато обычно не вмешивался в домашние ссоры. Есть у них посудомоечная машина, нет у них посудомоечной машины – ему без разницы. Он всегда был ранней пташкой, а потому и спать ложился тоже рано. В рабочие дни в шесть утра, а то и раньше уже сидел у себя в конторе и занимался делами. Да и в выходные, поскольку участвовал в соревнованиях по велотуризму, тоже поднимался еще до восхода солнца. Бывало, конечно, что, увлеченный особенно горячей партией в мус, Чато забывал глянуть на часы, но, если не считать таких исключительных случаев, день обычно заканчивался для него в десять вечера.
Единственное, что могло заставить Чато засидеться перед телевизором, это трансляции матчей по пелоте. Он готов был смотреть их сколько угодно – пока не прогоняла от экрана жена, потому что при телевизоре главной была Биттори, а Биттори любила наслаждаться своими передачами в одиночестве.
Так вот, поужинав, Чато лег в постель – и, как всегда, сначала на сторону Биттори. С первых дней супружеской жизни он согревал ей место. Даже летом. Эта привычка возникла не из какого-то специального договора между ними, нет, но Чато не пренебрегал ею даже после ссор с женой. Та приходила в спальню позднее, в одиннадцать или двенадцать, и он, не просыпаясь, перебирался на свой край.
Наконец явилась Биттори, которая любила перед сном еще и полистать в кровати какой-нибудь женский журнал, но на сей раз с ходу погасила лампу у себя на тумбочке. Какое-то время посидела в темноте, скрестив руки на груди и прислонившись спиной к изголовью кровати. А он, обычно храпевший во сне, сейчас дышал тихо, из чего Биттори вывела, что муж не спит.
– Ну так что, расскажешь ты мне все или нет?
Чато ничего не ответил, но она знала/чувствовала, что он прекрасно ее слышал, и потому не стала повторять вопроса. Прошло несколько секунд, он раздраженно щелкнул языком и с явной неохотой ввел жену в курс дела, описав главные детали неприятной ситуации, в которую попал, не скрыл при этом ни указанных в письмах сумм, ни подробностей своей поездки во Францию. Зато ни словом не обмолвился о том, что в последнем письме упоминалась Нерея.
– И что ты намерен делать?
– Ждать.
– Ждать чего?
Биттори почувствовала в темноте, как он повернулся к ней.
– За нынешний год я им уже заплатил, и больше они из меня ничего не вытянут. Эти сволочи требуют бог знает какие деньги, и как раз сейчас, когда я взял кредиты, кое-что купил, а некоторые нерадивые клиенты тянут с платежами. Не забывай также, что мы еще должны выплатить оставшуюся часть за квартиру в Сан-Себастьяне. И вообще, кто знает, может, у них там случилась ошибка. Какой-нибудь болван, который занимается бухгалтерией, не записал мой взнос или записал не туда, куда надо. А вдруг тот тип, получивший от меня конверт, взял да и заныкал деньги, чтобы потратить на собственные прихоти? А может, прав Хошиан и второе требование поначалу предназначалось вовсе не мне, а кому-то другому. Поэтому мне кажется, что пока лучше ничего не предпринимать и подождать, чтобы время расставило все по своим местам. А если я ошибаюсь, ну, тогда они свое в любом случае потребуют.
– Знаешь, если честно, я немного побаиваюсь.
– Только от твоего страха толку никакого.
– Это плохие люди, и в поселке у них полно друзей.
– В поселке меня знают. Я здесь родился, говорю по-баскски, не суюсь в политику, даю людям работу. Каждый раз, когда собирают деньги на праздник, или для нашей футбольной команды, или еще для чего-то, Чато первым раскошеливается. Скажи, разве кто-нибудь другой дает столько? Если какой чужак сюда к нам и явится, чтобы расправиться со мной, его наверняка приструнят. Эй, ты, поосторожней, это ведь наш человек! Кроме того, со мной всегда можно договориться, а?
– Слишком уж ты легковерный.
– Не думай только, что я сижу и жду их сложа руки. Кое-какие меры я уже предпринял. Кроме того, у себя на фирме я в безопасности. Во всяком случае, смогу защититься.
– Правда? И каким же это образом, интересно знать? Держишь пистолет в ящике?
– Ну, что я держу у себя в ящике, касается только меня одного, но еще раз повторяю тебе: там я в безопасности. Допустим, ситуация осложнится. Ладно, тогда я переведу свои грузовики из нашего поселка в другое место. В Ла-Риоху или куда-нибудь еще в тех же краях. В молодости я с меньшего начинал, и вот суди сама, добился чего или нет.
– Знаешь, хоть ты и здешний, я бы не удивилась, если бы сведения для ЭТА поставлял кто-то из твоих же работников.
– Не исключено.
– А ты не обсуждал свою историю с другими здешними предпринимателями?
– Зачем? Наверняка платят все. Я как-то забросил удочку на эту тему в разговоре со старшим из братьев Аррисабалага. И понял, что откровенности от него ждать нечего. Из таких дел, как я уже сказал, каждый сам должен выпутываться, своими силами.
Биттори плавно скользнула под простыню и одеяло. До них доносились приглушенные звуки из соседних квартир, редкие голоса с улицы, грохот мусорного грузовика. Муж с женой уже повернулись друг к другу спинами, задница к заднице, и только тогда Чато не выдержал и сказал, не мог не сказать, то, что тяжким грузом лежало у него на душе:
– Я хочу, чтобы Нерея уехала учиться в другой город. Куда угодно, только подальше отсюда. Сразу после летних каникул.
– Чего это ты выдумал?
– Того и выдумал: я хочу, чтобы дочка училась в другом городе.
– А с ней самой ты говорил?
– Нет. При случае начни ее к этому готовить.
Они замолчали. Под их балконом прошла развеселая компания. Потом наступила тишина, которую нарушил церковный колокол, отбивавший очередной час. Чато, вопреки обыкновению, за всю ночь ни разу не захрапел.
32. Бумаги и вещи
Пока его накрывали плитой, Биттори – глаза сухие, потому что никогда больше я не стану плакать, даже если мне натрут их луком, – подумала, что в следующий раз свет в эту яму попадет, когда хоронить станут ее саму. А еще ее преследовала мысль, что Чато наверняка унес с собой в могилу прорву всяких тайн.
Она часто так и называла его – обманщиком, особенно во время первых своих посещений кладбища:
– По твоей милости я витала в облаках. Думаю, ты не говорил мне и половины того, что вокруг тебя творилось, и того, как они с тобой поступали. Чато, дорогой, в тот день, когда меня положат рядом с тобой, тебе придется мно-о-о-гое мне рассказать.
Перед тем как уйти, она прощала ему все. Всегда. Да и как его было не простить? Бедный Чато, он был такой добрый, а как о нас заботился. И еще очень упрямый, добавляла Биттори уже совсем другим тоном, чтобы свыкнуться с мыслью, что не она одна считала его таким.
– Тебя убили ЭТА и твое упрямство.
После гибели хозяина фирма прекратила свое существование. Четырнадцать уволенных. Сколько раз Биттори и Нерея слышали из уст Шавьера, что это еще один пример того, как террористы пекутся об интересах рабочего класса. Сын Чато ликвидировал фирму – а что еще ему оставалось делать? Правда, сперва спросил мать, не желает ли она взять дело в свои руки. Я? Тот же вопрос Шавьер задал Нерее, когда сестра наконец соизволила приехать в поселок. Я? Сам он тоже не хотел взваливать на себя эту обузу. В итоге они продали при помощи консультационной фирмы все, что можно было продать, а остальное отправили на металлолом.
Шавьер повесил на ворота объявление: “Закрыто в связи с похоронами хозяина”. Его мать, вынырнув на миг из состояния апатии, прошептала, что надо бы написать: “Закрыто в связи с убийством хозяина”. Но он этого не сделал. А рабочие? Ни один не явился на отпевание. На похоронах в Сан-Себастьяне присутствовали двое.
Несколько дней спустя кто-то один подошел к Шавьеру и от лица всех прочих спросил, когда им можно будет выйти на работу. Но даже в такой ситуации этот человек не сообразил, что следовало бы выразить сыну погибшего соболезнования. Шавьер посмотрел на него со смесью жалости и отвращения. Неужели они думают, что после убийства владельца фирмы ничего не изменится? Шавьер с профессиональной невозмутимостью попытался отвязаться от него, правда, разговаривал все-таки довольно резко. А так как тот все никак не желал его понять и опять и опять спрашивал, когда они должны снова приступить к работе, Шавьер, теряя терпение, сказал, что он простой врач и не имеет ни нужных знаний, ни опыта, чтобы управлять транспортной фирмой.
У него и так голова шла кругом: он проверял документы в конторе отца, вел переговоры с банками, аннулировал заказы (некоторые поступили из-за границы), продавал принадлежавшее фирме имущество, демонтировал строения, сталкивался с тысячью и одной бюрократической заморочкой. И в конце концов по совету коллеги из больницы решил воспользоваться помощью специалистов.
Тот же коллега предложил/посоветовал некий вариант, который помог бы сохранить рабочие места. Какой? Передать фирму на выгодных для себя условиях в руки тех, кто там трудится. Шавьер рассказал об этом матери.
– Ни за что.
Биттори словно сразу забыла о своем горе. И как только Шавьеру в голову пришло обсуждать с кем-то подобную глупость! Они ведь сколько раз устраивали забастовки, случалось, даже стекла в конторе били, ставили пикеты у входа, угрожали. Был у них там и один запевала, очень прыткий, вечно в бой рвался, некий Андони, носивший на рабочем комбинезоне наклейку профсоюза LAB[34]. Скольких бессонных ночей стоил хозяину этот Андони. И Чато в конце концов уволил его, но уже через пару часов тот явился с двумя громилами из профсоюза и буквально заставил хозяина взять его обратно. А что сказать о других работниках? Есть там, конечно, и хорошие люди, но разве посочувствовали они нам, встали на нашу сторону после убийства? Ведь могли бы послать хотя бы жалкую карточку с соболезнованиями. Нет, ничего подобного. Только двое из них явились на кладбище Польоэ, но не подошли к нам и ни слова не сказали. Так что Биттори без колебаний решила:
– Я скорее все на свалку выкину.
Шавьер погрузил в машину несколько коробок с бланками, накладными, счетами и всякого рода документами – некоторые содержались в идеальном порядке и были собраны в папках на кольцах, другие лежали вразброс. Увезти все это он решил на всякий случай. На какой случай? Ну, например, если кто-нибудь, воспользовавшись тем, что на месте нет ни хозяина, ни работников, проникнет в контору, чтобы что-то оттуда забрать, а что-то и уничтожить. Например, должники, мечтающие ликвидировать доказательства своих долгов. Или националисты, чья ненависть не ослабла после расправы с Чато.
Нерея:
– Мы скоро превратимся в параноиков.
– Не исключено.
На все эти горы бумаг Биттори смотрела с полным равнодушием. Пусть ей скажут, где ей надо поставить подпись, – и точка. Она ничего не желала знать про фирму. Фирма, говорила она, была частью Чато, так же как и его большие уши, как и его любовь к велосипеду. Шавьер внимательно посмотрел на мать, не понимая, шутит она или нет. Нет, она не шутила. А еще Биттори мрачно предрекла, что, если ее дети вздумают взвалить дела фирмы на свои плечи, их будет ждать судьба отца.
Зато она очень трепетно отнеслась к личным вещам мужа, которые тот держал в конторе. Шавьер сложил их в картонные коробки и отвез на квартиру в Сан-Себастьян. Время спустя они перевезли все к Нерее, которая до сих пор хранит это у себя дома.
Биттори сказала сыну, что он может уезжать, так как она хочет в одиночестве разобрать то, что принадлежало Чато.
– Позволь мне сперва кое-что сказать о содержимом этих коробок.
– Нет.
– Ты знала, что aita…
– Я сказала тебе: нет.
Нет значит нет. Она проводила его до двери. Поцеловала – и agur[35]. Оставшись одна, Биттори прогнала кошку с дивана – брысь отсюда! – села и стала одну за другой открывать коробки. Чато никогда не говорил ей, что хранит на работе пистолет. Неожиданность? Ни в коем случае. Я всегда что-то такое подозревала. Разве он не утверждал, будто чувствует себя там в безопасности? Она подержала черный предмет в руке. Заряжен? Черт, ну и тяжелый же! Холодный металл, пальцы лучше держать подальше от спускового крючка, на всякий случай. Но соблазн был слишком велик, и она прицелилась в лампу под потолком. Что, интересно, чувствует стреляющий, когда жертва падает и когда кровь начинает вытекать через отверстия, проделанные в теле пулями?
Биттори достала полдюжины маленьких коробочек, двадцать упаковок патронов 9х19, все запечатанные, кроме одной. Чатито, гангстер ты мой, бандит ты мой, в кого же ты собирался стрелять, если в жизни и мухи не обидел? Послушай, но тогда почему ты шел без пистолета в тот день, когда?.. Не знаю, не знаю, а ведь мог бы дать им отпор.
Она опустила эти смертоносные предметы на пол и извлекла из коробки фотографии в рамках – муж держал их у себя в конторе на полке, на видном месте: вот сам Чато вместе с Биттори, оба молодые, улыбающиеся, рядом с Пизанской башней, а еще по одной фотографии сына и дочери по отдельности. Шавьер в возрасте двенадцати-тринадцати лет. Нерея, очень красивая, в платье для первого причастия. А вот они вчетвером, нарядные, у дверей церкви в Аспейтии, куда всей семьей ездили на свадьбу к родственнику, и еще две фотографии самого Чато – с каждым из детей.
Биттори достала еще какие-то вещи, но они заинтересовали ее меньше. Шариковые ручки, авторучка, кубки, полученные в клубе велотуризма, и трофеи с чемпионатов по игре в мус, свеча в форме кактуса, которую когда-то подарила ему Нерея, его принцесса, его любимица, которая даже не явилась на похороны. Короче, всякие мелочи, связанные с какими-то воспоминаниями, безделушки, сувениры. Ну а где же письма с требованиями заплатить “революционный налог”? Их нет. Надо полагать, Чато письма уничтожил. А может, Шавьер сунул куда-нибудь вместе с другими бумагами.
33. Надписи на стенах
Контора Чато располагалась на некоторой высоте. Для нее было сооружено что-то вроде помоста на стальных столбах, и в самом помещении одна стена была стеклянной, что позволяло хозяину обозревать территорию полностью. Имелось также окно, выходившее на эспланаду. Чато, по его собственным словам, распорядился устроить свой командный пункт именно таким образом, чтобы контролировать также и внутренний двор. Он вообще обожал все контролировать. И рад был бы сам делать все на своей фирме: отдавать распоряжения, заключать контракты, вести проверку при погрузке и разгрузке, смазывать двигатели, измерять давление в шинах, мыть грузовики и даже водить их. Он наблюдал за прибытием и отъездом машин и сразу замечал, если появлялся клиент или кто-то неожиданно шел к нему по делу. Едва заслышав шум мотора, он высовывался в окно.
Их территория была обнесена цементной стеной в два метра высотой с пущенной поверху колючей проволокой. На ночь откатные ворота запирались. В рабочие дни вход оставался открытым. Когда Нерея была еще девчонкой, местные парни спрашивали, не тюрьму ли построил ее отец. И она, подхватывая шутку, отвечала, что да, тюрьму, а рабочие там – заключенные.
Как-то ранним утром Чато стоял у окна и следил, как к грузовику присоединяют прицеп. Он им не доверял. Никогда не доверял. Даже самым опытным своим водителям. Операция завершилась, и грузовик тронулся с места. И тогда ему стала видна та часть стены, которая прежде была скрыта от глаз. Чато прочитал надпись, выведенную большими кривыми буквами с помощью краски из баллончика: ЧАТО УГНЕТАТЕЛЬ.
Это была первая из надписей, направленных против него. Поначалу он решил: хулиганская выходка. Но больше, чем нелепое обвинение, которое его, конечно, разозлило, больше, чем неприличный сам по себе и чернивший его поступок, который разозлил его еще сильнее, больше, чем испанизированное написание его прозвища, что просто взбесило его, Чато возмутило/насторожило то, что надпись была сделана с внутренней стороны стены. Это означало, что на территорию проник кто-то чужой. Ночью? Биттори, вытирая руки о фартук, заявила, что не исключает вины кого-то из работников.
Чато спустился сверху по узкой и крутой металлической лестнице, на которой, по словам Биттори, в один прекрасный день он сломает себе шею. Но сейчас хозяин изо всех сил старался не показать своего гнева и не смотрел, куда ступает. Чато зашел в помещение, приспособленное под ремонтную мастерскую. Попросил краскопульт. Он мог бы, конечно, отдать распоряжение рабочему: закрась, пожалуйста, эту дурацкую надпись. Но Чато был человеком взрывным, порывистым и нередко делал что-то прежде, чем успевал подумать, а еще брал на себя массу самых разных дел, и не важно, касались они работы руками или работы чисто бумажной. Короче, никого ни о чем он просить не стал, а взял и в мгновение ока сам закрасил оскорбительную надпись.
Дома за обедом Чато рассказал об этом жене. Вместе они перебрали имена всех работников (она называла их рабочими), прикидывая, который из них мог такое сотворить. Допустим, кто-то почувствовал себя обиженным или кто-то посчитал, что хозяин несправедливо с ним обошелся. Но раз нет свидетелей и нет доказательств, сделать ничего невозможно. Обычная история. Ни самому Чато, ни Биттори не пришло в голову связать надпись с письмами о “революционном налоге”. Прошло несколько недель, они забыли тот случай и продолжали жить, как жили всегда.
До одной субботы в середине марта – после нее все решительно переменилось в жизни Чато и его семьи. Который был час? Где-то около одиннадцати вечера, чуть больше или чуть меньше. Чато с Хошианом шли по улице, споря о том о сем, потому что, как и положено добрым друзьям, не любили ни в чем друг другу уступать. Они составляли пару в игре в мус, при этом оба играли очень прилично, хотя иногда, как всем известно, карты вдруг начинают помогать соперникам. И тогда по дороге домой приятели частенько ссорились, взваливая вину за проигрыш друг на друга.
Поужинали они в гастрономическом обществе. Каждый свое – то, что приготовила дома жена. А поскольку оба собирались назавтра встать пораньше, то играли в карты до ужина, а не после, как обычно. На следующий день их ожидал довольно длинный этап по программе велотуризма, конечным пунктом которого был бар в центре Сумаи.
Короче, возвращались они домой не трезвые и не пьяные, увлеченные одним из обычных своих споров, и не стеснялись в крепких выражениях, потому что между друзьями такое позволительно. Вот и вышло, что в пылу перепалки, а также из-за скудного фонарного света они не обратили внимания на свежие надписи на стене, которые появились среди старых привычных, а также среди разного рода афиш и объявлений, в большом количестве покрывавших нижнюю часть фасадов. Не сразу увидели и ту, где краска еще не успела высохнуть, ту, что была теперь рядом с подъездом Чато. Как раз там приятели и остановились, чтобы довести спор до конца. И уже собрались разойтись, уже сказали – один: только бы завтра не было дождя, и другой: ладно, растяпа, в половине восьмого встретимся на площади, – но тут внимание Хошиана привлекло имя друга на стене.
– Господи помилуй.
– Что там еще?
TXATO TXIBATO[36]. Святые небеса. Хошиан: закрась надпись, прежде чем ляжешь спать, с такими вещами шутить нельзя. Они распрощались, и Чато, кипя от ярости – туда их и растуда, – даже не стал подниматься к себе домой, а направился в гараж, где у него хранилось несколько старых банок с краской. Это я-то стукач? Понятно, что они это для чертовой рифмы придумали. Да я за всю свою жизнь ни разу ни с одним полицейским словом не обмолвился! Сразу возникла проблема: у него не было кисти. А может, и была, но он так разнервничался, так раскипятился, что не сумел ее найти. Ну и черт с ней, обойдемся тонкой кисточкой и газетной бумагой. А краска? С комками, конечно, но еще не совсем высохла. Кое-как он замазал два слова на стене, сделав их нечитаемыми. Перемазал краской брюки. Сейчас Биттори ему устроит. Ну и пусть устраивает. Стукач. В таком поселке, как их, хуже оскорбления не придумаешь. Не лучше того, что несколькими неделями раньше появилось на стене его фирмы.
Он твердо решил на следующий же день купить новой краски, когда будет возвращаться на велосипеде домой. Жене он сообщил о случившемся, уже лежа в постели.
Биттори:
– Насколько я понимаю, ты уверен, что надписи будут появляться и дальше.
– Что-то мне подсказывает: это не простое хулиганство. Надо быть ко всему готовым.
– Но тогда какой смысл их замазывать? За теми, кто их пишет, тебе в любом случае не угнаться. Скажи, а ты проверил, других-то надписей на улице не было?
– Мы шли вместе с Хошианом и других вроде не видели.
– Точно?
– Ну, нет, наверняка я бы не сказал. Но сейчас уже поздно, к тому же я в пижаме.
Стукач, угнетатель-кровопийца, предатель. В надписях его обзывали по-всякому – и на баскском языке, и на испанском. Они появились и на его улице, и на близлежащих, и на площади. Настоящая травля по всем правилам. Не меньше двадцати надписей только в старой части поселка. Столько не сделать зараз ни одному хулигану. А еще поди узнай, что там понаписано на окраинах. Тут явно просматривались четкий план и работа многих рук. Рано утром он вышел из дому с велосипедом и в велосипедном снаряжении и не поверил собственным глазам. Чато такой, Чато сякой. Herriak ez du barkatuko[37]. И все в том же духе. Придя на площадь и присоединившись к группе велосипедистов, он тотчас заметил – что? – будто здоровались с ним холоднее обычного. И еще были глаза, которые избегали его глаз. Чато без труда угадал причину, хотя могло быть и такое, что это сам он вдруг сделался слишком мнительным и стал жертвой собственного воображения и собственной подозрительности.
Они тронулись в путь. Человек четырнадцать-пятнадцать – те же, что и всегда. Другие члены клуба выехали раньше или выедут чуть позже. И единственным, кто крутил педали рядом с Чато, был Хошиан, который тоже казался более молчаливым, чем обычно. Прежде чем они оставили позади последние дома поселка, из окна послышался голос какого-то парня:
– Чато – суки-и-ин сын!
Никто из ехавших в группе даже не подумал вступиться за него. Никто не высказал своего мнения и не выругался в ответ на оскорбление. Постепенно группа начала рассеиваться. Такое бывало и раньше. Одни ехали быстрее, другие медленнее. И Чато остался вдвоем с Хошианом, который все время отставал от него на два-три метра и по-прежнему не произносил ни слова. А когда они поднимались в горку к порту Орио, отстал еще больше, хотя обычно одолевал подъемы куда легче, чем Чато.
Наконец впереди показалась Сумая. Нужный им бар они хорошо знали по прошлым годам. В баре им приклеят марки на карточку, где в разных клеточках отмечались пройденные этапы нынешнего сезона. А потом – награда за труд: яичница с хамоном. На улицу из окон доносились голоса и смех. Вошел Чато. И в баре вдруг повисла гробовая тишина. Этого Чато уже не выдержал. Просто не мог выдержать. Даже не стал ждать, пока наклеят марку на его карточку. Ни с кем не попрощавшись, в том числе и с Хошианом, он сел на велосипед и в одиночку поехал обратно в поселок.
34. Перелистывая в уме страницы
Когда Хосе Мари арестовали, у него была грива до плеч. Что стало с этими буйными кудрями? Что стало с чуть щекочущей лоб густой челкой? Лучше об этом не думать. Глядя на себя в зеркало, он говорит: это не я.
И прошел год, и прошли два, четыре, шесть, каждый со своим Рождеством, каждый со своими праздниками и с особыми местными праздниками, которые отмечались только в их поселке, а вот теперь отмечаются без него. На самом деле теперь уже все происходит без него. Он не видит, как мелеет река, не слышит, как звонит церковный колокол, и не раздумывая отдал бы миллионы (которых у него, впрочем, и нет) за несколько инжирин из отцовского сада. Чтобы не портить себе кровь, он предпочитает не вести счет годам, которые ему предстоит провести в тюрьме, хотя где-то там, в глубине души, продолжает лелеять призрачные надежды, то есть не исключает разных возможностей: а вдруг организация, или, скажем, правительство страны, или, скажем, международные протесты и так далее… Иногда по ночам, лежа в темноте, он пытается восстановить во рту вкус чаколи[38]. Или сидра, все равно. И порой ему кажется, черт возьми, что это ему даже вроде бы удалось.
На шестом году у него наметились залысины. Да ладно бы залысины. Как-то раз он уперся головой в прутья изголовья кровати и кожей почувствовал холод, чего никогда раньше не случалось. И вот теперь он совершенно лысый. Как коленка. Если он когда-нибудь отсюда выйдет, в поселке его не узнают. С некоторых пор он ходит бритый почти под ноль, чтобы казалось, будто волос на голове у него нет, потому что так ему самому захотелось.
Матери не нравится его голая голова. Ладно, если уж на то пошло, в свое время ей не нравились ни его шевелюра – с такой гривой ты похож на нищего с церковной паперти, – ни серьга в ухе – знак причастности к организации, хотя мнение матери по поводу ЭТА потом как-то сразу, в один миг, переменилось. Из-за него? Да, можно не сомневаться. Мать у него – кремень. А если вобьет себе что-то в голову, никогда не отступится. Старик, он из другого теста, как и Горка. Спокойные, уступчивые. Я-то в мать пошел, потому со мной все оно так и вышло, потому и сижу здесь и буду сидеть еще невесть сколько. Где здесь? В камере. В гребаной камере этой гребаной тюрьмы – до следующего перевода или пока меня не выпустят.
Сегодня он txapeo[39], но просто так, понятно? Он этим никому ничего не доказывает и не выражает никакого протеста. Ему захотелось побыть одному, а еще – не видеть во дворе и в коридорах все те же морды. Как и много раз прежде, он лежит на кровати и перебирает воспоминания, словно листая альбом с фотографиями. Иногда он по два-три часа восстанавливает в уме старые истории, и хотя, с одной стороны, его при этом грызет тоска, с другой – часы бегут почти незаметно. А что тут еще надо? Сократить хотя бы на несколько часов ту прорву лет, тот тюремный срок, к которому его приговорили. В таких случаях ему больше всего нравится вспомнить что-нибудь неожиданное. Потому что вот он лежит себе такой спокойный, глядит в потолок, и вдруг на память приходит та или другая сцена из давних лет, когда он был свободен, и у него были волосы, и он играл в гандбол, и пил столько чаколи, сколько в него влезало. Или сидра, или пива, да хоть чего.
Им тогда было – сколько же им было? – наверное, лет по десять или двенадцать. Что-то вроде того. И ходили они вечно вдвоем – Хокин и он, Хосе Мари, неразлучные, – в горы за поселком охотиться на птиц, и у каждого была своя собственная рогатка. Для рогатки нужны были раздвоенная ветка орешника, резиновые полоски, вырезанные из камер, и кусочки кожи. Как-то в воскресенье, вспоминает Хосе Мари, они решили воспользоваться тем, что в выходные на фирме у Чато никого не бывает, и перелезли через ворота, чтобы добраться до склада старых колес, и там ножом нарезали полос из какой-то камеры. Добытая тогда резина оказалась самой лучшей. Честно. Можно было дострельнуть с одного берега реки до другого и даже дальше. Снарядами служили либо вынутые из подшипников шарики, либо камешки. С их помощью они пытались сбивать птиц, но, насколько он помнит, таким способом ни разу ни одной не заполучили. Зато не было ничего лучше рогаток, чтобы стрелять по бутылкам или по дорожному знаку, который стоял у границы промышленной зоны, пока под градом каменных снарядов с него полностью не слезла краска, так что сам Господь Бог не разобрал бы, что там прежде было. А Хокину однажды взбрело в голову пострелять еще и по окнам. Дзынь – взвизгнуло разбитое стекло. Дзынь. И они со всех ног кинулись прочь, а кто-то высунулся в окно и заорал: бесстыдники. Что ж, попробуй поймай, ну-ка побегай за нами. Они хохотали как сумасшедшие. Одиннадцать-двенадцать лет. Молокососы. Примерно тогда же началась вооруженная борьба. Она у нас в генах. Он улыбается, глядя в потолок. За каким чертом я тут лежу и хохочу, за каким чертом пудрю себе мозги? Он сразу посерьезнел. И перевернул в уме еще одну страницу.
Уже став постарше, мы с Хокином ходили на охоту с манком, иногда брали с собой еще и Колдо. Теперь, обращаясь к потолку своей камеры, Хосе Мари рассказывает, что для охоты с манком нужны скорее мозги, чем грубая сила. Колдо не был ни особо умным, ни дураком, зато у него имелся щегол, такой певучий, что другого такого редко встретишь. Я, во всяком случае, не встречал. Колдо ставил клетку в кусты. И этот сволочной щегол заводил свою песню, прямо заливался. Трое друзей ждали, затаившись метрах в двадцати, молчали и курили. И чтоб ни слова, ни шороха. Вдруг по условленному знаку они выскакивали как угорелые из своего укрытия. Птицы испуганно шарахались и приклеивались к прутикам, смазанным клеем из белой омелы, который называют еще и птичьим. Хотя можно их было и не пугать – в этом я твердо уверен. Птицы пытались улететь, но не тут-то было: чем больше они хлопали крыльями, тем крепче приклеивались к прутьям. Бывали дни, когда мы ловили без преувеличения по семь, а то и по восемь щеглов. Правда, приходилось все время поглядывать по сторонам – как бы нас за этим делом не застукали копы. А вечером наши мамаши жарили нам щеглов на ужин. Вот житуха была, и как жаль, что люди взрослеют. Колдо потом и сам превратился в щегла. Что называется, запел, едва попав в руки гвардии. Только никто его в этом не упрекнет. Ему как следует досталось в казарме в Инчауррондо[40]. Голову в воду окунали и там держали. И он конечно же какие-то имена назвал. Хосе Мари с Хокином решили: ну и черт с ним, рано или поздно за нами все равно придут. Тогда они сбежали во Францию и через пару месяцев в Бретани столкнулись с Колдо в случайном баре.
– Вы уж меня простите. Я ведь не чаял оттуда живым выбраться.
– Да ладно, будь спок. Мы их еще полечим их же лекарством.
С дробовиком Хокина птиц удавалось наловить поменьше, не столько, сколько с манком, но дробовик был классной игрушкой, мы стреляли по очереди и проводили время просто офигительно. Потом, уже вступив в организацию, когда мы обучались приемам и способам ведения огня, инструктор просто рот разинул от удивления. Ну, ребята, вы даете! Откуда вы, мать вашу, взялись такие меткие? Вообще-то мы стреляли лучше некоторых ветеранов, которые много болтали, а когда доходило до дела, только пуделяли, ну прямо как слепые. Хокин во время местного праздника у нас в поселке стрелял в тире – пиф-паф, пиф-паф – и ни разу не промахнулся, хотя мушку, по его словам, кто-то специально скособочил. Старик из тира сказал: ну все, хватит с тебя, – и отобрал у него ружье. А потом начал крутиться как уж на сковородке, лишь бы не дать Хокину выигранный приз. И тогда мы, вся наша ватага, собрались перед его навесом. Так что дедку пришлось-таки вручить Хокину какую-то плюшевую ерундовину.
Где-то в то же время Хосе Мари впервые узнал, что чувствует человек, стреляющий в другого человека. Раньше они, случалось, пускали пулю в кошку. Но человек – совсем другое дело. И Хосе Мари прошептал приятелю на ухо: а ты можешь себе такое хотя бы представить? Но Хокину ничего подобного и в голову никогда не приходило. Ружье – это для забавы, говорил он. А еще Хокин мечтал поохотиться по-настоящему – чтобы не на птичек и кошек, а на кабанов и оленей или других каких крупных зверей. А еще он мечтал поехать в Африку на сафари.
И пока они об всем этом болтали, спрятавшись в кустарнике, Хосе Мари прицелился в мужчину, который на ближайшем склоне косил траву, надев на голову мешок, чтобы укрыться от дождя. Хосе Мари поставил палец на спусковой крючок и вообразил, как мужчина резко сгибается вперед и, смертельно раненный, катится под горку. Хокин шепотом предупредил, что с оружием играть нельзя. Сколько же им тогда было лет? По шестнадцать? Не больше. Ночью ему приснилось, что за ним с сиреной примчалась патрульная машина, потому что он убил полицейского. И теперь, много лет спустя, лежа в тюремной камере и уставившись в потолок, Хосе Мари вспомнил ту сцену с человеком, косившим траву.
35. Пылающая коробка
На стойке бара выстроились в ряд кружки разного цвета для сбора пожертвований, но был и еще один ряд – фотографии членов организации, сидящих в тюрьме, а также стопка билетов лотереи, по которой можно было выиграть паэлью марискада. Рядом у стены место, где продают брелки для ключей, зажигалки, флажки, платочки и прочее. Два друга сидели в баре на улице Хуана де Бильбао в глубине зала, почти в темноте, и не позволяли себе ни капли спиртного. Хокину хотелось пить, и он попросил девушку за стойкой налить ему воды из-под крана. Девушка покачивала головой в такт музыке, у нее была короткая прямая челка. Воды она ему дала.
Хосе Мари то и дело поглядывал на часы. А Колдо все не появлялся. Хокин листал “Эгин”. Ни в баре, ни на улице считай что никого не было. А ведь шел уже девятый час вечера – самое время, чтобы поболтать и пошляться по питейным заведениям. Мимо прошли парни, скандируя лозунги против недавнего ареста одной из боевых групп. К ним примкнули ребята из поселка, которые приехали в Сан-Себастьян словно на войну, потому что, с какого бока ни посмотри, это и была настоящая война. Или конфликт, или что-то в том же роде – называй как хочешь. С теми, кто прибыл из поселка, шел и Колдо. Ему было приказано зайти в бар и присоединиться к двум своим друзьям, как только голова колонны окажется у бульвара, где дальше все и будет происходить по привычному сценарию. Член Национального бюро “Батасуны”[41] зачитал с помоста заявление, и, пока он произносил свою речь, два человека с закрытыми лицами поднялись туда же, чтобы сжечь испанский флаг. Тем временем шестеро парней из поселка в другой точке города, неподалеку от бульвара, занимались своим делом, к которому начали готовиться еще накануне.
Итак, они нервно ждали Колдо, не позволяя себе ни капли спиртного. Другие пьют для храбрости, они – нет, потому что у них имеются свои принципы и они подчиняются дисциплине, а еще потому что им нравится, по их словам, все делать как следует. Халтура – это не для басков (Хосе Мари). Боится тот, кто хочет бояться (Хокин).
Колдо, Колдито, да приходи же ты скорей, не подведи. А куда им так спешить? Куда спешить? Они не хотят, чтобы их опередили другие ребята, jarraitxus[42] из Рентерии. Однажды те уже показали себя более проворными, и вся слава досталась им. Ну и что? Да ничего, подожгли большой новый грузовик марки “Мерседес” стоимостью двадцать миллионов песет, что было отнюдь не мелочью для муниципального кошелька, а им достался старый раздолбанный “Пегасус”, который к тому же горит куда хуже и не стоил мэрии и половины. Мало того, получилось, что мы еще и сэкономили казне деньги на его утилизацию.
Входит Колдо (рубаха в клетку, мощная челюсть). Просит маленькую кружку пива. А вот это – нет.
– Да пошли вы, ребята, у меня во рту пересохло, мы там наорались вусмерть.
Но сейчас им не до споров. Колдо остановился у стойки. Девушка, очень даже симпатичная, принялась их подзуживать:
– Ну что, чемпионы, может, закажете все-таки хотя бы по канье[43]?
Хосе Мари несет рюкзак, крепко прижимая к груди, чтобы бутылки не звякали, ударяясь друг о друга. Они с Хокином быстрым шагом идут по улице Наррика. Колдо бегом догоняет приятелей:
– Подождите меня, сволочи.
Где-то там, подальше, слышен хор голосов, скандирующих лозунги. И Колдо, на шаг отстав от своих друзей и борясь с одышкой, дает им отчет: людей прорва, автобусы изменили маршруты. Двое других не глядят на него и ничего не отвечают. Но потом Хосе Мари все же на миг замедляет ход у витрины шляпного магазина:
– А полицейских там много?
– Да нет. Несколько beltzas[44].
Прохожие к митингующим не присоединяются, ведут себя настороженно, боязливо и стараются поскорее убраться подальше. Синее небо, приятный день, то тут, то там можно увидеть детские коляски. В воздухе чувствуется напряжение и странная прозрачность, предвестие настоящих беспорядков.
Хокину не терпится узнать, видел Колдо или нет парней из Рентерии.
– Нет.
– Вот это здорово, пошли.
И они идут втроем, друг за другом. Хосе Мари, самый высокий и мощный, посередине, он несет рюкзак, полный бутылок с коктейлем Молотова. Приятели неторопливо, но и не слишком медленно присоединяются к молодежи, выкрикивающей: “Presoak kalera, amnistia osoa”[45]. Но эти трое помалкивают. Митингующие дают им проход, они что-то такое видят, что-то такое замечают, что-то означающее: лучше не стоять у них на пути.
Как и было условлено, с остальными они соединяются на скамье у площади Гипускоа. Перед ними мирная картина: голуби и воробьи, детки с бабушками и дедушками, женщины с собачками, парни с девушками и, разумеется, гуляющая публика, которая фланирует под деревьями по покрытым гравием дорожкам.
Они обходятся без приветствий. Шесть человек направляются в сторону проспекта, трое по одной стороне улицы, трое – по другой. Немного не дойдя до цели, снова соединяются у строительных лесов, которые закрывают здание до самого верха. Там все шестеро завязывают рты платками и опускают капюшоны на лица. Хокин предпочитает черную маску. Хосе Мари не хочет ни на миг выпускать из рук рюкзак, поэтому платок ему завязывает Колдо.
Теперь, понятное дело, люди на них смотрят, теперь их вид – гляди-ка, гляди! – привлекает к себе внимание. Некоторые прохожие, заметив эту группу, переходят на другую сторону улицы, стоят там и перешептываются, но никто не пытается им помешать. Никто не отчитывает их и не вызывает полицию. Хотя все конечно же понимают, что именно задумали устроить парни.
Вскоре появляется городской автобус. Он едет от улицы Эчайде и уже повернул на проспект, где и стоят те шестеро. Если бы автобус следовал своим обычным маршрутом, он бы вырулил прямиком на бульвар, который сейчас перекрыт митингующими. Парни видят, что это автобус номер пять и что в салоне есть люди, немного, но есть. Автобус не из новых – не повезло, мать твою. Но раз уж они закрыли себе лица, отступать поздно, надо действовать. Не о чем тут рассуждать. Хокин говорит: давай. Что ж, давай так давай.
Они пропустили несколько легковушек, но остановили ту, что ехала перед самым автобусом. Кто-то из них шарахнул кулаком по капоту, другой распахнул дверцу со стороны сидевшей за рулем женщины – лет тридцати с небольшим – и велел ей выходить, и тут же вчетвером – раз-два! – развернули машину поперек дороги. Женщина в истерике кричала:
– Дочка, у меня там ребенок!
Колдо с силой отпихнул ее в сторону:
– Заткнись, дура!
Он едва не сшиб женщину с ног. Та потеряла одну туфлю и все рвалась обратно в машину. С другой стороны улицы какой-то мужчина крикнул:
– Оставь ее, бандюга.
Автобус, путь которому был перекрыт, вынужден был остановиться. Как только парни потеряли интерес к машине, женщина бросилась туда и выхватила с заднего сиденья девочку двух или трех лет.
Только вот шофер автобуса вел себя как-то не так. С чего бы это? Может, провоцировал их? Или его парализовало от страха? Хокин орал, чтобы он открывал двери, а дядька словно не слышал или не понимал, чего от него хотят. В него из рогатки послали стальную пулю. Выстрел оставил на ветровом стекле отметину, но не пробил его. Если бы пуля попала в лицо водителю… Наконец тот вроде бы сообразил, что требует от него парень в черной маске, и открыл двери. Дюжина пассажиров, дрожа от страха, выскочила на улицу. И сразу же в салоне взорвалась первая бутылка с горючей смесью. Хосе Мари отдавал распоряжения:
– Цельтесь в сиденья, в сиденья.
Водитель выпрыгнул на улицу. Он не сразу заметил, что у него горит один башмак. И быстро-быстро стащил его с ноги. Потом, не теряя ни секунды, перебежал на другую сторону улицы, околачивая кулаками штанины своих дымящихся брюк. К тому времени автобус уже превратился в огромную пылающую коробку. Густой дым поднимался вверх, скользя по фасаду ближайшего здания. Любопытные сбились кучками на приличном расстоянии. Один из нападавших достал из кармана фотоаппарат и сделал несколько снимков. Хосе Мари поднял вверх сжатый кулак и крикнул, глядя на горящий автобус:
– Gora Euscadi askatuta![46]
Его товарищи, тоже подняв кулаки, отозвались:
– Gora!
– Gora ETA!
– Gora!
Шесть парней бросились врассыпную, часть по одной улице, часть – по параллельной, направляясь к бульвару. Они условились снова встретиться на площади Гипускоа. Но остаток пути проделали уже с открытыми лицами, спокойно переговариваясь между собой:
– Дело сделано. Теперь можно и по барам пройтись.
В тот же миг нежно заиграли часы на здании городского совета, разливая свой мелодичный звон по лиловому воздуху.
36. Из пункта А в пункт Б
Чьи-то руки то и дело хлопали Хосе Мари по спине. По широкой, крепкой спине, похожей на стену из мускулов, обтянутую полосатой футболкой. Стоило войти в бар тому-то или тому-то, сестре такого-то, двоюродному брату такого-то, как – хлоп! – шлепок по спине. Дело в том, что Хосе Мари – ему тогда было девятнадцать – сидел за первым же столом от входа в таверне “Аррано”. В их компании все разговаривали очень громко, стараясь перекричать музыку (радикальный баскский рок), запущенную на полную катушку. Не самое подходящее место для заговорщиков, по мнению Хокина:
– Нас даже с улицы слышно.
Никто из входивших или выходивших просто не мог миновать спину Хосе Мари. В ответ на поздравления на лице его вспыхивало выражение гордого достоинства, без лишних кривляний и ломаний. Ведь на самом-то деле он не совершил никакого подвига, объяснял он, чуть ли не извиняясь, а только сделал то, что обязан был сделать. Утром команда поселка по гандболу выиграла со счетом 25:24 у команды Эльгойбара. И семь голов забил Хосе Мари. Теперь он слышал:
– Тебя наверняка возьмут в профессионалы.
– Ну, об этом пока говорить рано.
На другом конце стола Хокин рисовал райскую картину: социализм и независимость, семь территорий Страны басков, объединенные вместе, никаких классовых различий, и там даже трава – спорю на что угодно – будет говорить на эускера. А потом – так бы ему, по крайней мере, хотелось – надо будет наладить добрые отношения с испанцами и французами, понятно? Но только пусть они сидят у себя дома, а мы – у себя. Следом он объяснял, какие предстоит сделать стратегические шаги в соответствии с линией, выработанной “Альтернативой КАС”[47]. Его приятели пили, кто калимочо, кто пиво, и единодушно выражали ему свое одобрение.
Единственный, кто время от времени отвлекался, поглядывая куда-то в другую сторону и поднимая глаза на экран телевизора, был Хосе Мари. Каждый из вновь явившихся или из тех, кто собрался уходить, что-то ему говорил.
Хокин ударил кулаком по столу:
– Любому, кто встанет на нашем пути, мешая нам как народу добиться поставленной цели, не поздоровится. Даже если это будет мой отец, черт побери. Только так можно дойти из пункта А в пункт Б. Мы сейчас находимся в пункте А, – он ткнул пальцем в стол, – а пункт Б вот тут, где стоит стакан. И мы дойдем до пункта Б любой ценой.
Сидевшие вокруг парни вторили любому его жесту и любому слову.
Один:
– Да, день за днем, каждый в своем поселке или в своем городе, и только так мы чего-нибудь добьемся.
Второй:
– Но чего это будет стоить, а? С государством шутки плохи.
– Государство – дерьмо собачье.
Тут Хокин резко взмахнул рукой, словно требуя вернуть ему право главенства в этом разговоре:
– И не такие империи рушились. Вон Наполеон. Сегодня убивают одного его солдата, завтра – второго, и в результате он остается без армии.
Дружно, весело они снова выпили, на сей раз за принципы “Альтернативы КАС”. Только Хосе Мари не поддержал тоста и вроде бы даже не услышал его, потому что болтал с парнем, с которым они вместе работали и который сейчас остановился рядом с ним. Но приятели потребовали, чтобы Хосе Мари тоже высказал свое мнение.
– Сами знаете, что политика – это не для меня. И мне без разницы, кто стоит у руля – тот или другой. Я просто борюсь за свободу Страны басков, за свободу нашего народа. А остальное – хоть шоколадом обмажьте и съешьте сами. Как сказал вот он, – Хосе Мари кивнул на Хокина, – мы идем из пункта А в пункт Б, и когда мы доберемся до этого самого пункта Б, пусть меня оставят в покое. Я отправлюсь в лес, посажу несколько яблонь, заведу курятник – и пошли вы все куда подальше.
Раздались возмущенные голоса:
– Надо подумать и о рабочем классе.
– И выгнать отсюда испанские оккупационные силы. А это не так просто, как ты думаешь.
Хосе Мари сделал глоток калимочо, с дерзким пренебрежением обвел взором собравшихся, а потом заявил:
– Вы все слишком усложняете. Ведь как только мы добьемся независимости, остальное сразу урегулируем по-своему. Надо сделать лучше жизнь тех, кто работает? Отлично. Сделаем ее лучше. Кто нам помешает, если чужаки потеряют над нами власть? Что касается эускера… И с нашим языком то же самое. Здесь, у нас, учить эускера будут все до одного, это вроде как само собой разумеется. Испанская полиция, испанские солдаты? И это тоже не будет проблемой: раз мы добились независимости, значит, они уже получили под зад коленкой. У нас будут наша собственная полиция и наша собственная армия, а я займусь своим курятником и своими яблонями.
– А как быть с Наваррой?
Он досадливо фыркнул, прежде чем ответить:
– Да ведь если нет Наварры, значит, мы не добрались до пункта Б и никакой свободной Страны басков нет и в помине. То же самое происходит с территориями Ипарральде[48]. Непонятно, зачем так все усложнять.
Больше он ничего сказать не успел, так как увидел, что ему подают знаки с улицы. Хошуне (короткая челка, волосы собраны в длинный прямой хвост, свисающий вдоль спины, на запястье из-под закатанного рукава видны кожаные браслеты). Хосе Мари решил было сразу ее поцеловать. Но Хошуне, сделав злые глаза, отпрянула. Не хочет она, чтобы он целовал ее на улице, сколько раз можно повторять.
– Ладно, что случилось?
– А то, что я видела на площади твою сестрицу с каким-то типом. Небось ухажер ее, во всяком случае, очень уж они обжимались, пока танцевали. Аранча разрешает целовать себя на людях. А вот со мной такой номер не пройдет.
– Ты что, пришла ко мне посплетничать?
– Я нарочно сунулась им на глаза, чтобы она меня с ним познакомила. Он не местный, не из нашего поселка.
– Послушай, neska[49], моя сестра, она старше меня. И сама знает, с кем ей гулять. Я в такие дела не лезу.
– А не хочешь узнать, как его зовут? – Ему это было без разницы. – Гильермо.
Нормальное имя. Не плохое и не хорошее. Совсем другое дело – фамилии[50].
– А как у него с фамилиями?
– Этого я не спросила.
– Если он с нами породнится, мы тут же придумаем ему прозвище, это уж как пить дать.
Хосе Мари никогда не лишился бы сна из-за того, что его сестра завела себе парня и привезла его в поселок, чтобы показать знакомым, а может, и родственникам.
– Он макето[51]. Достаточно на рожу посмотреть. И не говорит на эускера.
– Откуда ты знаешь?
– Оттуда, что, когда Аранча меня с ним знакомила, я нарочно заговорила по-нашему, а он ни черта не понял, и нам пришлось продолжать на испанском. Вот будет потеха, если в вашу семейку затешется испанец. К тому же он, может, из полиции и под тем предлогом, что ухаживает за твоей сестрой, шпионит тут за всеми, начиная с тебя самого.
– Если он не говорит на эускера, это не значит, что…
– Что?
Из таверны “Аррано” до них доносились музыка и гул голосов. Хосе Мари почесал голову и прикинул: там, всего в двух шагах, веселая, подвыпившая компания, а тут перед ним Хошуне со злой миной.
– Ладно, при случае я ее порасспрашиваю. Ты хоть в бар-то заглянешь?
– Нет, меня дома ждут.
– А когда можно будет тебя поцеловать?
– Только не тут.
– Тогда пошли вон в тот подъезд.
И они пошли туда и минут пять обнимались в полумраке между входной дверью и рядом почтовых ящиков, пока не услышали чьи-то шаги на лестнице сверху, и быстренько выскочили на улицу.
37. Торт раздора
У Горки немного (а если честно, то довольно сильно) приплюснут нос и есть щербинка между зубами, но это имеет свое объяснение. В девять лет его сбила машина, пикап. Чуть не насмерть. Случай в поселке не первый. Выздоравливая, Горка спросил родителей своим нежным, певучим голосом, который позднее переменился, хотя что-то такое еще и во взрослом голосе иногда проскальзывало: если бы он умер, поставили бы они крест на краю шоссе, какой поставили Исидоро Отаменди, разбившемуся насмерть, когда он ехал на своем мотоцикле на работу?
Теперь, когда самое страшное было позади, Хошиан позволил себе пошутить:
– Как не поставить. Только еще побольше, чем у того. Из железа, чтобы простоял много лет.
А вот матери их разговор совсем не понравился:
– Хватит чепуху-то молоть. За такие слова Господь и наказать может.
Худенький, слабый мальчишка. Потом, начав взрослеть, он здорово вытянулся и ходил всегда сгорбившись, словно стеснялся своего роста или прыщей, усыпавших лицо. Мирен на улице доводилось слышать, что, если так пойдет и дальше, ее Горка совсем горбатым сделается. Ее это страшно задевало:
– И что мне теперь прикажете делать? Наказывать его, чтобы больше не рос?
Когда ему исполнилось шестнадцать, он уже стал самым высоким в семье. Старший сын был здоровее, мощнее, не такой гибкий, и про него говорили: вот он ни за что не выжил бы, попав под машину. Кто говорил? Отец, мать, да и вообще все. Горка научился улыбаться, не показывая щербатого зуба. А вот сломанный нос скрыть не удавалось. Да ладно тебе, совсем немного сломанный, не преувеличивай, одергивала его мать.
– Разве лучше было бы, если бы ты погиб?
Сам он считал, что нос у него кривой, ужасно кривой, ama. Так же считал и Хосе Мари, который подпитывал комплексы брата, называя его боксером и вызывая на бой. Шутя, он вставал перед Горкой в стойку и притворялся, что дрожит от страха:
– Не бей меня, только не бей.
В первые недели после аварии мальчик очень плохо спал. Перед глазами часто всплывали картины случившегося – то в кошмарных снах, то во время тревожной полудремы. Всегда одни и те же картины. На него мчалась машина и сбивала с ног. Машина мчалась, а у Горки для защиты не было ничего, кроме подушки. Хосе Мари, с которым Горка делил комнату, возмущался на кухне:
– Этот всю ночь напролет вопит и не дает мне спать.
И тут же начинал передразнивать брата. Издевался он над Горкой безбожно. Хошиан обычно вступался за младшего сына, стараясь разрядить обстановку – ну ладно тебе, ладно, хватит, – и сочувственно смотрел на Горку.
А Мирен, наоборот, канитель не разводила:
– Пора уже научиться вести себя как положено, твой брат ночью спать должен.
В кошмарных снах Горка слышал визг колес, поворачивал голову в ту сторону и успевал увидеть фары/глаза железного зверя. Они с бешеной скоростью неслись прямо на него. А он стоял – в трех метрах, в двух, в метре. Спастись невозможно. Сон добавлял и какие-то реальные детали, которые прежде в памяти никогда не всплывали: мокрое после дождя шоссе, разреженный серый свет предвечерних сумерек, бампер, показавшийся ему пастью с ржавыми зубами, да, пастью, готовой его проглотить.
И сразу к нему бегут чьи-то ноги. Кто-то – водитель? – матерится по-испански. Как именно он выругался? Горка не помнит. Он только знает, что ругательство относилось не к нему. Человек выругался скорее просто от досады. Из-за злосчастного поворота судьбы. Пахнет бензином, влажным асфальтом. Мальчик был в сознании, когда его вытаскивали из-под пикапа, но ему чудилось, что его вытаскивают из темного ящика. Кто его вытащил, он не знает. Надо полагать, водитель, кто же еще? Носом и горлом шла кровь, но ничего не болело. Ничего? Он мотал головой, подтверждая, что ничего. Не болела и сломанная рука, по крайней мере на первых порах. Она у него как будто онемела. Горка упал на землю ничком. Мог ведь и погибнуть. Но ему было так стыдно, что он не плакал. Хосе Мари несколько дней спустя ехидничал:
– Наверняка ведь ревел.
– Не ревел.
– Врешь. Тебя весь поселок слышал!
И так без конца, пока не доводил младшего брата до слез. Но это было уже дома, когда Горка выздоравливал – с огромным синяком на лице и с рукой в гипсе. А там, на дороге, он не пролил ни единой слезинки. Ему было стыдно. На тротуаре собралась толпа любопытных, люди высовывались из окон:
– Кто это там? Уж не младший ли сын Хошиана?
Горка запачкал себе одежду. Собственной кровью и дорожной грязью. Вот мать задаст ему, когда увидит. Куда-то делся один ботинок. Водитель сам на своем пикапе отвез Горку в больницу.
Руку ему привели в порядок. Нос – нет. Но надо сказать, что, пока он был мальчишкой, это вроде бы не было заметно. А вот потом, уже в подростковом возрасте, по мере того как изменялись черты лица, стало видно, что нос остался кривым. Перегородка ушла вбок, но была ли сломана кость или нос деформировался от сильного удара, никто как следует не разобрался. Зато зуб со щербинкой видели все. Мать утешала его довольно безжалостно и на свой манер:
– Дышать можешь?
– Да.
– Кусать можешь?
– Да.
– Вот и хорошо. Чего тебе еще надо?
Мужчина, сбивший Горку, был из Андоайна, лет пятидесяти, он занимался доставкой продукции от большой кондитерской фирмы. Через пару недель после несчастного случая он приехал к ним домой навестить мальчика. Будучи человеком отзывчивым, не раз интересовался по телефону, как идет выздоровление, хорошо ли пострадавший себя чувствует, вернулся ли к нормальной жизни. Видно было, что беспокоится. Короче, однажды утром он позвонил в их дверь, Мирен открыла, но оказалось, что Горка, хотя рука все еще была в гипсе, отправился в икастолу[52]. Гость оставил ему в подарок торт:
– Но, само собой, это и для всей вашей семьи.
Торт с бисквитной основой, поверх бисквита толстый слой шоколада и взбитых сливок, украшенный вишенками из марципана.
Скандал разгорелся незадолго до ужина. Бушевала главным образом Мирен. Она прекрасно помнила, что накануне вечером, перед тем как лечь спать, видела торт в холодильнике – совершенно целым. А когда встала утром, уже не хватало больше четверти. Ее первая же, если не единственная, мысль: виноват Хосе Мари, этот треклятый обжора. Вряд ли отец. Или все-таки он? Хосе Мари вместе с местной гандбольной командной уехал в какой-то другой поселок их же провинции, Хошиан укатил на своем велосипеде. Вот пусть только вернутся, кому-то из них достанется по первое число. Аранча услыхала, что мать ворчит себе под нос.
– Что случилось, ama?
– Ничего не случилось.
На этом разговор и закончился. Приехал отец, приехал сын – с разницей всего в несколько минут. Сколько было времени? Час дня? Примерно так. Голодные, усталые, Хошиан в велосипедном снаряжении. Оба сразу, почти в один голос, спросили, что будет на обед. Упреки, обвинения, скандал – вот что они получили.
Хосе Мари сразу сознался. Но имейте в виду, торт уже был начат, когда я отрезал себе кусок на завтрак. Потому и решил, что он оставлен в холодильнике для всех.
– Как это начат?
– Да вот так, и не хватало большого куска, куда больше того, что взял я. Богом клянусь.
Мирен, сверкая глазами, повернулась к мужу и принялась кричать на него, не давая и рта раскрыть. А Хошиан только мотал головой в знак того, что ни в чем не виноват.
Мирен:
– И кто же тогда, если не ты?
Он признался, что незадолго до выхода из дому не удержался и съел три марципановых вишенки – вот и все. Больше ничего не трогал. Хосе Мари ему не поверил:
– Да ладно тебе, aita, не может быть.
– Как это не может быть?
– Когда я встал, там уже не хватало приличного куска, а ты ушел из дому раньше меня.
– Да разрази меня гром! Сколько раз надо повторять, что съел я только три вишенки? И торт уже был начат, когда я открыл холодильник.
Все посмотрели на Горку.
– Это не я.
Мирен встала на защиту младшего сына:
– Не трогайте мальчика. Торт и вообще ему привезли. Если желает, пусть один весь его съест.
Горка: только не ссорьтесь, пожалуйста, торт ведь для всех. Сказанные очень мягко слова, призванные их помирить, только подлили масла в огонь. Мирен в порыве гнева сняла фартук и заявила:
– Можете обедать без меня.
И вышла из кухни, злобно топая, но уже через минуту вернулась со вполне мирным видом, потому что Аранча, с которой она столкнулась в коридоре – что там у вас происходит? чего вы так раскричались? – сразу ей призналась:
– Ну да, вчера вечером я вернулась домой голодная как черт и отрезала себе кусок торта.
– Так это ты начала торт?
– А что, нельзя было?
Все пятеро обедали молча. Потом, когда уже убрали грязную посуду, Хосе Мари поставил торт на стол и достал из ящика большой нож:
– Ну, больше никаких глупостей. Кому?
Аранча отказалась, покачав головой. Мирен вообще ничего не ответила. Она принялась мыть тарелки. Хошиан:
– Раздели с братом.
Горка попросил дать ему небольшой кусок. Хошиану порция показалась слишком маленькой:
– Дай ему еще немного.
Но Горка заявил, что уже и так сыт. Хосе Мари поставил блюдо перед собой с явным намерением расправиться с тем, что осталось. Отец смотрел на него, не веря своим глазам. После закусок, после горохового супа, после жареной курицы с картошкой… А ведь сын один съел столько, сколько остальные члены семьи, вместе взятые, неужели у него в желудке еще осталось место для такого десерта? Под столом он легонько ткнул сына ногой. А когда тот глянул на него, знаками попросил дать и ему кусок. Хосе Мари молча за спиной у матери протянул отцу порцию торта. Хошиан мгновенно его проглотил. Потом и Аранча, давясь от смеха, незаметно обратилась к брату с той же просьбой.
38. Книги
В те годы, когда Горка стал быстро вытягиваться вверх, он полюбил одиночество. Брата и сестру редко можно было застать дома, а сам он выходил, только чтобы отправиться в икастолу. Почему? Из-за книг или, как говаривал его отец, задумчиво нахмурив лоб, из-за этих чертовых книг. Парень заразился лихорадкой чтения.
Родители беспокоились все сильнее. И нельзя сказать, что только из-за книг. Тогда? Из-за того, что сын часами сидел, запершись в своей комнате, в том числе по субботам и воскресеньям, часто до самого возвращения Хосе Мари, который сразу требовал, чтобы брат погасил лампу. Странный сын, перешептывались они. Хошиан:
– На беду, у него в голове нет окошка, чтобы мы могли заглянуть внутрь.
Ночью, уже в постели, муж с женой едва слышно беседовали:
– Выходил куда-нибудь?
– Прям! Весь день напролет читал.
– Небось к какому-нибудь экзамену готовился.
– Вот и я его о том же спросила, говорит: нет.
– Чертовы книги.
Однажды утром на кухне мать встала прямо перед Горкой и наблюдала, как он завтракает. Тот сидел, нагнувшись над большой чашкой. Немытые волосы, тощие руки, прыщи на лице. Мирен изо всех сил сдерживалась, но все-таки рискнула спросить:
– Послушай, а может, у тебя какие проблемы с этой, с психологией?
Четырнадцать лет. Друзья, бывало, наведывались к нему, а он даже не выходил с ними поздороваться. А если с ним что-то не так? А если болеет чем или сердится за что-то на ребят? Со временем, правда, они и заходить перестали. Хошиан сильно расстраивался:
– Во черт! Что за парень!
Он подходил к сыну, по-дружески клал руку ему на плечо. Предлагал двести, а то и триста песет:
– Поди поразвлекись.
– Aita, я не могу.
– А кто тебе запрещает?
– Не видишь, что ли? Я читаю.
– Хочешь, дам тебе покурить?
– Нет. Не приставай.
Иногда Хошиан, чувствуя то ли любопытство, то ли желание поближе сойтись с сыном, спрашивал:
– И что же ты читаешь?
– Это роман одного русского. Там рассказывается про студента, который зарубил топором двух женщин.
Хошиан выходил из комнаты растерянный и встревоженный. Четырнадцать лет, а весь день как монах сидит дома. Разве это нормально? С такими мыслями отец вдруг останавливался посреди коридора и не отрываясь смотрел на какой-нибудь предмет, не важно на какой, – на образ Игнатия Лойолы, на встроенный шкаф, на дверную ручку, на что угодно, что было ему понятно с первого взгляда, и какое-то время пытался отыскать в этом предмете невесть что – порядок, ответ, объяснение того, чего он никак не понимал. И потом, пока не доходил до “Пагоэты”, не мог избавиться от застрявшей в голове картины: Горка, склонившийся над книгой.
Ночью в кровати он говорил Мирен:
– Или он у нас очень уж умный, или совсем дурак.
– Если дурак, то это в тебя.
– Я же серьезно говорю.
– Я тоже.
Дело в том, что в школе Горка получал весьма средние отметки. Разумеется, не такие низкие, как Хосе Мари в свои школьные годы. Хосе Мари и спорт – это да, Хосе Мари и работа руками – да, но Хосе Мари и учеба (то же самое получилось позднее с теоретическими занятиями на металлургическом заводе, куда он поступил учеником) – это были вещи несовместимые, как вода и масло, что не мешало брату издеваться над Горкой:
– Не смеши меня. Была нужда столько книг проглотить, чтобы потом так дерьмово сдать математику с английским?
Увлечение чтением передала младшему брату Аранча. Каким образом? Без особых затей. Поначалу время от времени – на день рождения, на день ангела, на Рождество или вовсе без всякого повода – дарила ему комиксы; позднее – то одну, то другую книгу. Надо признать, что так же она поступала и с Хосе Мари, но толку из этого не вышло. Здесь, по словам Аранчи, была очень кстати известная библейская притча про зерно, которое может упасть на каменистые места, а может – на добрую землю. Хосе Мари был в интеллектуальном смысле каменистой почвой. А в случае Горки именно добрая земля помогла развить у него страсть к чтению.
Но это еще не все. Когда Горка был маленький, Аранча, которой уже исполнилось лет девять-десять, любила читать ему вслух. Оба усаживались на пол, или он лежал в постели, а она садилась рядом и читала сказки либо библейские истории из книги с картинками, адаптированной для детского понимания.
В те дни, когда Горка выздоравливал после несчастного случая, Аранча взяла себе за привычку ходить в муниципальную библиотеку и подбирала там для него книги. К той поре Горка читал уже сам, бормоча вслух слова, и у него стали появляться любимые писатели: Жюль Верн, Сальгари, вскоре – романы про войну Свена Хасселя и другие – про шпионов и сыщиков, все книги в дешевых карманных изданиях.
Позднее, ничего не говоря родителям – зачем? – Аранча стала давать ему свои собственные книги, а их у нее собралось штук тридцать в картонной коробке на шкафу. Главным образом романы про любовь, кроме того, сокращенный вариант “Войны и мира”, “Фортуната и Хасинта” и шесть или семь романов Альваро де Лаиглесиа[53], которые Горке нравились куда меньше, чем ей, но все равно он прочел их все с удовольствием.
Когда же родители стали зудеть, что он сидит дома, уткнув нос в книги, вместо того чтобы выйти на улицу и погулять с приятелями, Аранча сказала ему с глазу на глаз, да еще таинственным голосом:
– Не обращай ты на них внимания. Читай сколько влезет. Знаний наберешься. И чем больше, тем лучше, чтобы не провалиться в яму, в которую сейчас попадают многие в этой стране.
Думал Горка об этой яме или нет, но он отдавался чтению со всей страстью, на какую был способен, и Хосе Мари, видя его с книгой в руках, язвил:
– Слышь, ты, может, еще и судьбу мне по руке прочитаешь?
Однажды вечером, когда оба уже лежали в постели, Хосе Мари вдруг заговорил весьма резким тоном:
– Бросал бы ты эти свои романы, пора и тебе включаться в борьбу за свободу Страны басков. Завтра в семь мы устраиваем демонстрацию. Надеюсь, ты об этом не забудешь. Кое-кто из моих друзей уже спрашивал, куда ты запропастился. Вон твои дружки, с ними все понятно – с кем они и за кого, а тебя вроде как и нет вовсе. Что я должен на это отвечать? Да что вы, он у нас нежное растение, он днями напролет книжечки почитывает? Так вот, чтобы завтра в семь как штык был на площади.
И Горка пошел на площадь, а что еще ему оставалось делать? Надо было там засветиться. Поздоровался с тем, кивнул тому, и Хосе Мари, который был среди тех, кто нес плакат во главе колонны, подмигнул ему. Горка, затесавшись в толпу молодежи, тоже скандировал лозунги, но, правда, без особого энтузиазма. Потом вместе с остальными, подняв сжатый кулак вверх, спел Eusko Gudariar[54]. А в восемь вечера уже сидел дома с книгой.
39. Я топор, ты змея
Между тем они росли – Горка вверх, Хосе Мари вширь. Общими у них были только фамилии – и ничего больше. Друзья подшучивали над Хошианом. Он, мол, одного сына, видать, кормил, а второго нет. Но дома Хошиан остерегался повторять эти шутки. Потому что Мирен такого рода насмешки страшно бесили. Ох, какой скандал она устроила соседке, которая предположила, что у Горки завелся солитер.
Пока Хосе Мари жил в семье, братья спали в одной комнате: кровать одного стояла с левой стороны, кровать другого – с правой, и каждая изголовьем упиралась в свою стену, а на полу между ними лежала циновка.
Кроме того, кровать Хосе Мари стояла еще и у окна, поэтому ему решительно не хватало места ни для плакатов, ни для всякого рода спортивной и патриотической мишуры – то есть для всего того, чем он обожал украшать их общую с братом комнату. И получалось так, что сегодня какой-нибудь постер, а завтра картинка переползали в “зону” Горки, и прямо над его письменным столом появлялся плакат с топором, змеей и лозунгом Bietan jarrai[55].
У самого Горки имелся один-единственный постер – сильно увеличенная копия знаменитой фотографии поэта Антонио Мачадо в “Кафе де лас Салесас”.
– А это еще кто такой? Что за хрен?
– Да ладно тебе, не придуривайся, сам прекрасно знаешь.
– Нет, правда не знаю. Дедушка Тарзана?
– Поэт.
Шутка была заезженной: именно такого ответа и ожидал Хосе Мари, чтобы вылезти с популярным стишком:
О, поэт, Какие прекрасные стихи ты пишешь. Зато у меня яйца побольше, слышишь?Пока Горки не было дома, Хосе Мари фломастером пририсовал Антонио Мачадо усы и черные очки, как у слепца, а рядом со ртом – облачко с текстом: Gora ETA. И потом издевался, утверждая, что старик в шляпе знает, что говорит. Горка смирился и даже как-то равнодушно терпел унижения. Что возмущало Аранчу, которая часто выговаривала ему:
– Почему ты не даешь отпора? Неужели ничего не можешь сказать ему в ответ?
– Лучше его не злить.
– Ты его боишься?
– Есть такое.
Что касалось умственных вопросов, то тут Горка был во много раз сильнее брата. И часто старший, лежа в кровати, уже в темноте, продолжал споры, которые незадолго до того вел со своими приятелями в таверне “Аррано”. Уставившись в потолок и нервно докуривая последнюю за день сигарету, он с пафосом рассуждал о вооруженной борьбе и независимости – и готов был с пеной у рта отстаивать свои убеждения. Мелочные копания некоторых приятелей в теоретических проблемах его просто бесили. Он признавал только конкретные цели: присоединить Наварру, выгнать вон гражданскую гвардию – а такие вещи, мать вашу, понятны и без всяких философских выкрутасов. Выплеснув наконец свое диалектическое раздражение, он обращался к Горке вполне дружелюбно и мирно, по-братски: спишь? – и вдруг о чем-то спрашивал:
– Вот объясни ты мне, что такое марксизм-ленинизм, но только попроще, чтобы понятно было, и коротко, а то завтра вставать рано.
Вдобавок младший брат гораздо лучше, чем Хосе Мари, владел баскским языком. Он постоянно читал произведения баскских писателей, пишущих на родном языке, и начиная с шестнадцати лет сам тоже писал на эускера стихи, которые показывал одной только Аранче. Без преувеличения можно сказать, что в этом смысле он давал сто очков вперед и Хосе Мари, и его дружкам, говорившим на эускера как придется, то есть на домашнем и уличном языке, слегка подшлифованном в школе. Обычно они собирались у кого-то дома и от руки писали плакаты, которые потом развешивали в поселке по стенам домов. Иногда Хосе Мари приводил друзей к себе, и тогда Горка указывал им на грамматические и орфографические ошибки, иногда довольно грубые.
Брата это задевало за живое, но спорить он не решался и только с подозрением спрашивал:
– А ты уверен?
– На все сто.
– Ну, смотри у меня.
В конце концов они слушались его и ошибки исправляли, а нередко еще до начала работы приходили и прямо спрашивали, как пишется то или иное слово. С тех самых пор Хосе Мари постепенно стал признавать за братом определенные достоинства и проникся к нему уважением. Достаточно сказать, что однажды вечером, едва вернувшись из “Аррано”, он вдруг ни с того ни с сего заявил Горке, когда оба уже лежали в постели:
– Ты это, давай поддай жару с нашим эускера, это ведь тоже часть нашей борьбы.
Иначе говоря, bietan jarrai. Ты же меня понял, да? Аргументы у него были простые, грубые и незамысловатые: его самого, то есть Хосе Мари, можно считать топором, а Горку – змеей. Отличная пара. Видать, кто-то из их компании помог ему разобраться в ситуации. И что с того? А то, что он как-то вдруг перестал издеваться над младшим братом, над его пристрастием к чтению, над тем, что тот не шляется по улицам, и так далее.
И попросил (а не как раньше, когда он всегда от Горки что-то требовал, что-то ему приказывал) об одолжении. Каком? Через три дня, в субботу, на площадке с фронтоном[56] будет проводиться митинг в честь прибытия в поселок Карбуро.
– Но ты же сам говорил, что он подонок?
– Кто? Карбуро? Подонок и есть. Большей сволочи я в жизни не встречал. Но ведь он семь лет отсидел в тюрьме за то, что боролся за наше дело, и поэтому заслуживает ongi etorri[57]. Одно не исключает другого. Мы уже все подготовили.
– А я тут при чем?
– За тобой фотографии.
– Карбуро?
– И Карбуро, и всех кого угодно, будто ты фотограф на свадьбе. Столько, сколько только сможешь, понятно? Из того снимка, что выйдет лучше всех, мы наделаем плакатов – они пойдут по триста песет за штуку. Это Хокин придумал. А я ему сказал, что у тебя есть классная камера. Остальные фотографии я помещу в альбом. Уже и название придумал: “Альбом борца”. Все расходы мы берем на себя. Об этом можешь не беспокоиться.
И наступила суббота, и дело шло к вечеру, и Горка, повесив фотоаппарат на шею, без малейшего энтузиазма двинулся к фронтону. Когда он еще только собирался выйти из дому, в коридоре Аранча – в глазах упрек – спросила, зачем тебя туда несет, если сразу видно, что ты не хочешь.
Мирен подала голос из кухни:
– Оставь его в покое, пусть идет. Хоть раз куда-нибудь из дому вылезет!
Где-то посреди фронтона, прилепленная к боковой стенке, стояла трибуна. Над ней плакат: KARBURO ONGI ETORRI[58]. Рядом с плакатом с одной стороны висела черно-белая фотография того, кого здесь собирались чествовать, но на ней он выглядел моложе, волос у него было побольше, пузо поменьше, как и двойной подбородок. С другой стороны, на фоне красной звезды, слова: Zure borroka gure eredu[59]. Полиция? Ни намека на полицию, если только кто-то из агентов не затесался в толпу, переодевшись в гражданское, хотя при этом рисковал бы собственной шкурой, ведь на площади все друг друга знали. Море баскских флагов, плотная масса молодежи. Не обошлось и без мужичков за сорок в традиционных баскских беретах, встречались также старики. У самой трибуны парень с девушкой размахивали палочками от чалапарты[60] – тлан-тлон, тлан-тлон. Собравшиеся рассаживались по трибунам, как во время матча по пелоте. Кто-то крикнул Горке:
– Привет, фотограф.
Это напоминало своего рода перекличку – тебе показывали, что ты замечен: мы тебя видели и знаем, какое задание ты получил, ты правильно сделал, что пришел. Горка без остановки щелкал аппаратом. Он снимал чалапарту, публику и пока еще пустую трибуну. В кармане куртки у него было припасено несколько кассет с пленкой. Нерея, в ту пору тоже примыкавшая к борцам-патриотам, улыбнулась ему, проходя мимо. Горка нацелил на нее объектив, она застыла, посылая ему воздушный поцелуй, и не шевелилась, пока он не нажал на кнопку. Только не забудь сделать копию и для меня, ладно? Горка кивнул. Каждую минуту то один, то другой просил у него копии.
Через несколько метров он столкнулся с Хошуне. Спросил про Хосе Мари.
– Не так давно он еще сидел в “Аррано”.
Минуту спустя раздались аплодисменты. Карбуро появился на площадке, показывая знак победы, составленный из двух пальцев. Его сопровождала пара руководителей “Эрри Батасуна” и несколько членов совета из того же идеологического крыла. Горка мельтешился перед ними и щелкал своим аппаратом. На самом деле именно он первым поднялся на трибуну. С камерой в руке сначала поднялся, потом спустился, отошел подальше, вернулся поближе, и никто не обращал на него, человека-невидимку, никакого внимания. Он заснял всех, кто выступал перед микрофоном. А также алькальда, который не выступал, но на митинге присутствовал. И того типа, который танцевал аурреску, и чистулари, который что-то сыграл на своем инструменте. И конечно же Карбуро, взволнованного, благодарного, толстого, в клетчатой рубашке, с поднятым вверх кулаком. Со слезами на глазах он вспоминал товарищей, которые все еще томились в тюрьмах или, как он выразился, в тюрьмах уничтожения, устроенных государством. Опять аплодисменты, gora ETA и цветы, которые вручила ему девочка в национальном платье.
Потом все встали и запели Eusko Gudariak, подняв вверх кулаки. Когда кончилась песня, кто-то вдруг побежал. Кто? Два парня в черных масках. Они запрыгнули на трибуну. Один из них развернул испанский флаг. Раздался дружный свист, вопли протеста. Второй поднес зажигалку к ткани, заранее смоченной бензином. А Горка, стоя всего в нескольких метрах от них, продолжал снимать.
Около сотни ребят проводили Карбуро до таверны “Аррано”. Под аплодисменты и крики Gora ETA тот снял со стены свою тюремную фотографию. Потом перешел в зал, где ему торжественно поднесли блюдо с улитками. Горка истратил там последнюю кассету и отправился домой.
– А ты что, ужинать не останешься?
– Меня ждут.
Он долго читал. А когда колокол пробил полночь, погасил свет. Вскоре пришел Хосе Мари:
– Ну что, видел меня?
– Не пойму только, какого хрена вы закрывали лица, если вас все равно все узнали.
– А ты нас снял?
– Да, один раз, когда вы только явились, но, скорее всего, вышло тогда неважно, потому что вы слишком быстро бежали. Десять, а то и двенадцать раз – пока жгли флаг, и еще несколько, когда уходили.
– Надо как можно скорее проявить пленки.
– Остается надеяться, что тип из фотолаборатории не донесет на нас в полицию.
Хосе Мари несколько секунд молчал. В темноте сверкнул огонек его сигареты.
– Тогда я его убью.
40. Два года без лица
Она не помнила, когда в последний раз видела себя в зеркале. Кажется, это было в гостинице в Кала-Мильор. А где же еще, если не там? Она попробовала восстановить в памяти гостиничный номер. Две кровати, сдвинутые вместе, самая необходимая мебель, стены, оклеенные обоями. Все как и должно быть в недорогом отеле. Место для того, чтобы переночевать, и мало для чего еще. Даже без вида на море. Зато там имелась маленькая комнатка с туалетом и душем, где над раковиной висело зеркало без рамы. Когда она посмотрелась в него? Перед тем как они с Айноа отправились в Пальму? Иного варианта быть просто не могло. Аранча с детства привыкла тщательно следить за собой. Не потому, что к этому приучала ее мать – хотя и потому тоже, – просто ей самой нравилось нравиться и знать/чувствовать себя привлекательной. Аранча была по-настоящему красивой девушкой. Как считала Мирен, самой красивой в поселке. Как считал отец, самой красивой на свете. С таким лицом и такими волосами она не могла не быть кокетливой.
Двадцать с лишним лет назад, когда Гильермо еще только начал ухаживать за ней, он сказал:
– Какая же ты красивая! Ну как можно жить с таким красивым лицом?
– И это лицо, и все остальное достанутся тому, кто меня полюбит.
– Значит, они достанутся мне, потому что так любить тебя, как люблю я, вряд ли сумеет кто-нибудь другой.
– Это мы еще посмотрим.
Ни в больнице в Пальма-де-Майорке, где ей обрили голову, ни в Институте Гуттмана за много месяцев лечения Аранча ни разу не видела себя в зеркале. Но об этом никто не знал – ни врачи, ни медсестры, ни санитарки, только я одна. Проезжая в своей коляске мимо стеклянной двери, она спешно зажмуривала глаза, потому что ни за что не желала узнать, как сейчас выглядит. Почему? Она поставила перед собой цель – изо всех сил постараться выздороветь, и была уверена, что, увидев себя в зеркале, совсем раскиснет.
Поначалу ее слушались только веки. Аранча все слышала, все понимала и все помнила, и ей хотелось говорить/отвечать/протестовать/просить, но она не могла. Не могла даже чуть раздвинуть губы. Питание она получала через отверстие вот тут, в животе. Аранча, Аранча, ты вся превратилась в мозг, заключенный в бесполезное тело. Вот чем я была. И в снах она видела себя закованной в средневековые доспехи, которые не позволяли ей разговаривать и двигаться, однако забрало было поднято, чтобы не закрывало обзора. Кошмар. Видела она хорошо, но себя видеть отказывалась. Наверняка я сейчас ужасно некрасивая: слюни пускаю, лицо перекошено, но тогда, как она часто думала, лучше уж умереть.
– Почему ты закрываешь глаза?
Пока они делали ремонт в квартире, Мирен купила зеркало в полный рост для ванной комнаты. Купила специально, чтобы дочка могла посмотреть на себя. И тут она поняла:
– Вот ведь паскудство какое. Да ты, оказывается, просто не желаешь себя видеть. – И тут же позвала Хошиана, чтобы он пришел и затянул зеркало старыми газетами. – Пусть лучше будет так, пока ты не передумаешь. Хотя, надо тебе сказать, мы на него угрохали прорву денег и, как сама понимаешь, выбрасывать зеркало на помойку не станем.
Хошиан огорченно:
– Не беспокойся, дочка. Мы его закроем, закроем – и все дела.
Остальные зеркала, имевшиеся в квартире, либо висели слишком высоко для нее, как, например, в прихожей или то, что украшало столовую, либо находились там, куда она никогда не добиралась, как зеркало в шкафу в спальне родителей или зеркальце на ручке, которое наверняка хранилось в каком-нибудь ящике. Когда ее вывозили на прогулку, она намеренно отворачивалась от зеркальных витрин. Правда, дважды не смогла избежать того, что ее сфотографировали в окружении группы физиотерапевтов – но мне это безразлично, ведь этих снимков я так и не увидела.
Люди в поселке не упускали случая расхвалить ее. В том числе и священник. Священник хвалил даже чаще других. Ты просто красавица. До свидания, красавица. Короче, она то и дело слышала подобного рода неискренние и жалостливые восклицания, которые почти всегда включали слово “красавица”. Аранча их ненавидела. И написала матери на своем айпэде: “Скажи им, чтобы не называли меня красавицей”.
– Да ладно тебе, не цепляйся к людям. Если они тебя так называют, значит, зачем-то им это нужно.
Аранча выразила желание посмотреть на свое отражение в зеркале, висевшем в ванной, на следующий день после того, как сумела в первый раз встать на ноги при поддержке двух физиотерапевтов. К тому времени она уже сама ела и пила, хотя никогда не делала этого без присмотра, нет, никогда, потому что близкие боялись, как бы она не подавилась. Кроме того, у нее восстановилась подвижность правой руки (левая так и оставалась скрюченной, правда, не так безнадежно, как в самом начале), а еще медленно, очень медленно у нее стало что-то получаться с речью.
Аранча крепко надеялась, что сможет ходить хотя бы по квартире, что сможет в один прекрасный день самостоятельно подойти к окну, доковылять до кухни, сможет брать какие-то предметы, сейчас для нее совершенно недоступные: ведь если я сделаю что-то самое обычное, с точки зрения всех прочих людей, для меня это будет верхом счастья. А как бурно все отреагировали, когда она вернулась от физиотерапевтов с новостью, что несколько секунд простояла на ногах. Селесте, которая видела все собственными глазами, плакала, описывая это хозяйке.
– Слушай, а чего ты ревешь-то?
– Простите меня, сеньора Мирен, но ведь я столько молилась, чтобы когда-нибудь настал такой миг. Не могу сладить с радостью.
На следующий день они, как всегда, вдвоем мыли Аранчу. Осторожно, держи крепче, смотри не отпусти. Все как всегда. Теперь вытирать ее было гораздо легче, чем прежде, ведь при поддержке сильных материнских рук Аранча могла стоять.
– Мирен, вы плачете?
– Я? Нет, просто вода попала в глаза.
И она отвернулась под тем предлогом, что надо все внимание отдать этому делу – вытереть дочку получше. Между тем Аранча издала несколько звуков – цепочку из “а”. Она хотела заговорить, хотела что-то сказать. Из ее “а” образовалась едва слышная звуковая лента – это была отчаянная попытка произнести целую фразу. Селесте догадалась/поняла:
– Зеркало?
Аранча кивнула.
Мать:
– Хочешь посмотреть на себя?
Еще один кивок. И тогда Мирен попросила Селесте снять газеты, и Селесте – раз, раз – торопливо сорвала закрепленную скотчем бумагу, и наконец, впервые за два эти года, Аранча, поддерживаемая матерью, голая, отважилась глянуть на свое тело, отраженное в зеркале.
Она рассматривала себя придирчиво, стоя на одной ноге и опираясь на пальцы другой. Растолстела. Да, да, даже очень. Бедра. И все остальное – грудь, живот, они как будто сползли на несколько сантиметров вниз. А какая бледная кожа. Скрюченная левая рука прижата к боку. Плечи мне тоже не нравятся. У меня никогда не было таких опущенных плечей.
Еще меньше ей понравилось собственное лицо. Это я, но это не я. В глазах нет прежней живости, теперь они какие-то глуповатые. Один уголок губ чуть ниже другого, а черты вообще потеряли всякую выразительность. И седина, господи, сколько седых волос. Морщины на лбу. Много печали, и много боли, и много бессонных ночей вобрали в себя эти морщины, все те проблемы и огорчения, которые она испытала еще до удара, – но об этом знаю только я одна.
Мирен, стоявшая у дочери за спиной, спросила, довольна ли она. Та ответила, не отводя глаз от зеркала, что нет. Значит, огорчилась? Тоже нет.
– Так что же тогда, дьявол тебя возьми?
У Аранчи с уст сорвалась новая цепочка бессвязных и совершенно непонятных звуков – все тех же “а”.
41. Ее жизнь в зеркале
Шел дождь. Что будем делать? По воскресеньям Селесте у них не появлялась, за исключением тех случаев, когда Мирен уезжала в Андалусию на свидание с Хосе Мари.
– Куда уж тут идти!
Четыре часа дня. Утром они отменили обычную прогулку из-за ненастной погоды. На улице мало того что лил дождь. Еще и дул сумасшедший ветер. Можно, конечно, накрыть Аранчу вместе с ее коляской чем-то вроде чехла с отверстием для головы и с капюшоном, купленного специально для таких случаев, и вывезти ее хотя бы на самое короткое время, чтобы подышала воздухом, но то, что творилось сегодня за окном, было похоже на ураган.
Мирен:
– Как хорошо, что вчера мы сходили к мессе.
Сидевшая в своем кресле перед балконной дверью Аранча смотрела на улицу. Горсти злых капель обрушивались на стекло. Серый день, завывающий ветер, и Аранча тоже заскучала/рассердилась. Она написала на айпэде: “Отвези меня в ванную”.
И уже в ванной, оказавшись перед зеркалом, знаками попросила мать уйти.
– Раньше-то отказывалась глядеть на себя, а теперь готова день-деньской перед зеркалом сидеть.
Аранча сердитым пальцем отстучала: “Я не обязана перед тобой отчитываться”.
Мирен вышла из ванной, бросив в досаде:
– А я вроде бы у тебя отчетов и не просила.
И захлопнула за собой дверь. Аранча осталась взаперти. Но ей было все равно. До чего несносная у них мать. Только напрасно она полагает, что наказала меня таким образом. Желание Аранчи называлось “одиночество”. Да, ее самым большим желанием было побыть наконец одной, вне поля зрения тех, кто дает ей советы, толкает вперед ее коляску, кормит, заботится о ней, тех людей, в общем и целом услужливых, которые всякий миг демонстрируют перед ней свой чудесный (ой, сейчас умру от смеха) дар – а именно терпение в самых разных, даже мельчайших, его гранях: терпение-любовь, терпение-сострадание, терпение – плохо скрываемое раздражение, терпение – упрек за то, что она не сделала им такое одолжение и не умерла. Да пошли они все! С того дня, как с ней случилось это несчастье, она перестала быть хозяйкой собственной жизни. И теперь хотела побыть одна, черт возьми, наконец-то одна. Чтобы наглядеться на себя в зеркало? Ну а если и так, то что, нельзя?
Она смотрела в свои же глаза – напряженно, с вызовом, дожидаясь, пока начнет прокручиватьтся лента воспоминаний, рассказ о ее разбитой жизни в отдельных картинах. Да, разбитой, разбитой вдребезги, как если бы это была бутылка, выскользнувшая у нее из рук. И в каждом осколке – отдельное воспоминание, отдельный эпизод, тени и лики минувшего.
Зеркальце, зеркальце, скажи мне когда, скажи мне где, скажи мне кто. Аранча вспомнила один субботний вечер 1985 года. И не в первый раз вспомнила.
Парень не был ни красавцем, ни уродом, ни высоким, ни низким. Он, как и она, часто приходил на дискотеку KU в Игуэльдо, и они волей-неволей стали узнавать друг друга. Он обычно появлялся там с друзьями, она – с подругами. Но, по правде сказать, этот тип ее мало интересовал. Может, из-за манеры одеваться, не знаю, может, из-за манеры танцевать. Слегка похож на гориллу, неловкий, неуклюжий. Ни намека на то, что называется элегантностью. И еще это дерганье головой – господи, можно подумать, он гвозди лбом заколачивает. Короче, один из многих в танцующей толпе молодежи.
Как-то раз она заметила, что он на нее смотрит. Другие на нее тоже смотрели, и ей даже случалось потанцевать с кем-нибудь в паре. В таких случаях, особенно когда кавалер из кожи вон лез, чтобы ее рассмешить, она раздражалась. Хотя любой из них, по крайней мере поначалу, пытался покривляться и повалять дурака. Но в глазах того парня была железная решимость, взгляд как у хищного зверя, что ей понравилось. Едва переменилось освещение, свет стал фиолетовым и зазвучала медленная музыка, как он быстро направился к ней, а она, стоя у стойки, сказала ему нет.
Парень (ему двадцать три года, Аранче девятнадцать) не настаивал. И не было даже заметно, чтобы отказ его огорчил. Вообще ничего не было заметно, но пахло от него хорошо. Правда, он продолжал неотрывно смотреть на нее в фиолетовом полумраке, и взгляд его был невозмутимым и уверенным, в нем как будто таилось ожидание, что Аранча переменит решение. Она повернулась к парню спиной. Минуту спустя, оглянувшись, увидела, как он удаляется вдоль танцплощадки, спокойный и гордый, в сторону дивана, где сидели его дружки. В воздухе за ним остался приятный запах. Снова Аранча увидела его примерно через час, когда стояла с подругами в очереди в гардероб. Она глянула через плечо, ища источник аромата, и обнаружила, что рядом, прямо за ее спиной, стоит он.
– Остается надеяться, что в следующий раз ты будешь любезнее.
И вдруг на нее накатило. Да как он смеет, этот шут гороховый? Да еще при людях, при ее подругах? Она даже не глянула на него и ничего не ответила. А он все продолжал говорить где-то прямо у нее над затылком. С одной стороны, это звучало лестно, с другой – довольно бесцеремонно, как будто они были знакомы всю жизнь. Наконец Аранча получила свое пальто. И только тогда в бешенстве повернулась к парню и заявила, презрительно скривив губы, что он должен оставить ее в покое, потому что у нее есть жених.
– Неправда.
– А тебе откуда знать?
– Неправда, а знаю я это от Нереи.
Такого она не ожидала:
– Ты что, шпионишь за мной?
Он с наигранной вялостью ответил, что да, и добавил: хотя она и делает его задачу нелегкой, сдаваться он не намерен. Вот так-то. То есть это надо было понимать как своего рода вызов? Кем он, интересно, себя воображал? У Аранчи прямо руки зачесались – так хотелось влепить ему пощечину.
Теперь, по прошествии стольких лет, она улыбается, вспоминая перед зеркалом ту давнюю сцену. Подруги собрались на площадке у парковки. Ну что, все? Как всегда, не было Нереи, которая стояла у дверей дискотеки и невесть с кем целовалась. Наконец они веселой гурьбой, громко болтая, двинулись к автобусной остановке. Аранча села рядом с Нереей. Спросила, и подруга ответила, что:
– Его зовут Гильермо. Живет в Рентерие. Он немного чересчур серьезный, но ухаживать умеет получше, чем другие прочие. И знаешь, есть в нем какой-то поэтический заскок. Когда с ним танцуешь, он говорит очень красивые вещи, словно по писаному читает. Да, он меня спрашивал, как тебя зовут и есть ли у тебя парень. Небось глаз на тебя положил.
– Послушай, если он такой завидный кавалер, почему ты сама его при себе не оставила?
– Это не мой тип. К тому же его семья приехала сюда откуда-то из-под Саламанки.
– А при чем тут Саламанка?
– Ни при чем, но, как я тебе уже сказала, для танцев он вполне себе ничего. А для чего-то большего – нет.
Уж если у кого и были заскоки, так это у Нереи, но не поэтические, конечно, а совсем другого плана – расистские и националистические. Хотя потом события часто развиваются вовсе не так, как тебе хочется, мало того, порой они развиваются в том направлении, в каком ни в коем случае не должны были развиваться. Правда, зеркальце?
Наступила следующая суббота. Фиолетовый свет, медленная музыка. Она заметила, что он пришел. Не пойму, чего он пыжится, если я все равно дам ему от ворот поворот. И она собиралась дать ему этот самый поворот, дорогое зеркало, и в ту субботу, и в следующую, каждый раз, как он подойдет, чтобы пригласить ее на танец. Она вообразила себе его вопрос, ожидание во взгляде, а может, и упрек или гримасу разочарования как заключительный аккорд в этой сцене, и наконец – удаляющуюся спину, спину потерпевшего поражение красавца. Чего Аранча не предвидела, так этого того, что, немного опережая самого парня, до нее долетел его запах.
– Ну что, будешь танцевать?
Семь месяцев спустя она познакомила его со своими родителями.
42. Лондонская история
Перед зеркалом в ванной – в тот же день? или в другой? – она сидела и беззвучно рассказывала: помню, еще бы не помнить. Такие вещи не забываются. После лондонской истории они договорились, что сперва Аранча познакомится с родителями Гильермо – он у них был единственным сыном, – а уж потом и она представит его своей семье. Гильермо этого боялся/опасался, но главное – не мог понять стратегических расчетов Аранчи.
– Я умываюсь и бреюсь каждый божий день, уважаю тебя, работаю. Почему ты вообразила, что я могу им не понравиться?
– Наш поселок куда меньше Рентерии. У нас все друг друга знают. Новичков следует вводить сюда постепенно.
– А как это связано с твоей семьей? Вы что, не в ладах между собой?
– В ладах.
– Нет, чего-то я все равно не улавливаю.
– Сразу уловишь, когда войдешь в комнату моих братьев и глянешь на стену.
Минутку, минутку. А разве так уж необходимо было знакомиться с теми и другими родителями, а еще с братьями, дядьями и прочими родственниками? Да нет, конечно. Тогда? Это была идея/желание Аранчи, чтобы подвести формальную базу под их отношения. После лондонской истории.
В общем и целом Гильермо повел себя как надо. Хотя Аранчу и огорчило, что он не поехал вместе с ней. Да, признаюсь, меня это огорчило, но ему, в конце-то концов, нужно было еще и на работу ходить. Если не считать этой детали, во всем остальном он вел себя как порядочный человек. Жаль. Почему? Ну, есть у меня такая идея. Окажись он негодяем, я тогда же послала бы его куда подальше, и не было бы потом двадцати лет нашего брака. Не было бы самых последних злосчастных лет. Да, но тогда не родились бы Эндика и Айноа. Ладно, в любом случае теперь уже поздно об этом рассуждать, ничего не исправишь.
Гильермо догадался, какой ужас испытывала Аранча, и вызвался поискать надежного человека, который смог бы поехать с ней в Лондон.
– Да, только надежным он должен быть с моей точки зрения, а не с твоей. И главное, кто будет за него платить? Представляешь, какую кучу денег это будет нам стоить?
Она откровенно рассказала обо всем Нерее. Вот что со мной случилось. Подруга сразу загорелась мыслью провести выходные в Лондоне. My name is, I come from. И уж конечно ей не стоило большого труда вытянуть из своего обожаемого папочки – в конце концов, он ведь был предпринимателем – money на авиабилет, гостиницу и прочие расходы. Она была в эйфории, ей не терпелось поскорее оказаться в самолете. Аранче это не очень понравилось, и, нахмурившись, она попросила ее поостыть и сказала, что:
– Послушай, мы же не на экскурсию едем.
– Знаю, знаю. Не бойся. Я ведь еду с тобой и не оставлю тебя ни на минуту. – И сложила руки на груди одна поверх другой – как у святой на открытке. – Hello, Лондон. Я всегда мечтала посетить тебя.
– Времени на прогулки у нас не будет.
– Какая разница. Главное – получить право похвалиться, что ты побывала в Англии.
Ну и сумасбродка эта Нерея, совсем безбашенная. Однако Аранча посчитала, что было бы несправедливо обижаться на нее, ведь, в конце-то концов, она оказала ей неоценимую услугу, согласившись поехать в Лондон и оплатив из своего кармана (или из кармана Чато, пусть земля ему будет пухом) расходы на дорогу и пребывание за границей.
А все расходы Аранчи? Их оплатил Гильермо. Все? До последнего пенса. И к чести парня надо сказать: уговаривать его не пришлось. Он без колебаний потратил на это часть своих сбережений. Потому что недостатков у Гильермо, как ты, зеркало, знаешь, хоть отбавляй, но скупердяем он никогда не был, нет, никогда, ни со мной, ни с нашими детьми. Врать не буду.
В ту пору он работал по хозяйственной части на бумажной фабрике. Жалованье получал, само собой, скромное. Зато был молод, не связан семейными обязанностями и мог что-то откладывать, поскольку жил с родителями, которые продолжали кормить его, как и тогда, когда он был ребенком, если только он когда-нибудь перестал им быть.
Отец Гильермо, который как раз в тот год ушел на пенсию, работал на той же фабрике простым рабочим с начала пятидесятых. Он помнил, как Франко, низенький, в костюме и шляпе, посетил фабрику в 1965-м, чтобы открыть новые линии. Отец приехал в эти края из провинции Саламанка, уже будучи женатым, устроился на работу и трудился при одной и той же машине до пенсии. Пользовался хорошей репутацией, что, добавим кстати, помогло ему в дальнейшем подыскать там же место и для сына.
Был еще и третий человек, кроме Гильермо и Нереи, который знал о лондонской истории. Ее мать? Нет. Хошиан? Ну, этот никогда и ни о чем не узнавал. Тогда кто? Брат Нереи. Аранча прибежала к нему полумертвая от страха с просьбой о срочной помощи. И еще попросила, чтобы сохранил ее беду в тайне. Он сохранил, разумеется. В 1985-м Шавьер еще учился на медицинском в Памплоне. Именно он с кем-то переговорил, что-то предпринял и нашел людей, которые устроили беременной подружке его сестры поездку в лондонскую клинику.
Больше никто об этом даже не догадывался. Ни родители Гильермо, ни другие подружки Аранчи. Как позднее и ее собственные дети. Она никогда никому не хотела рассказывать об этом. Зачем? И уж тем более своей матери. Ни за что на свете. Она ведь такая набожная.
Нерея вылетела на день раньше обычным рейсом. У нее было несколько часов, чтобы побродить по Лондону, увидеть знаменитые места, забежать в магазины, пощелкать фотоаппаратом и так далее. Иными словами, воспользоваться теми преимуществами, которые дают человеку свободное время и наличие денег. Аранча прилетела на следующий день чартерным рейсом вместе с тридцатью или сорока женщинами со всей Испании, которые стремились в Лондон с той же целью, что и она сама. Некоторые были не такими уж молодыми (за тридцать, по ее впечатлению), некоторые совсем юными. В том числе и девчушка лет пятнадцати в сопровождении мужчины со строгим лицом, который вполне мог приходиться ей отцом.
Неприятности начались для Аранчи в зале выдачи багажа. Поплыли чемоданы. Один, второй, третий. Тот, что нужно, все никак не появлялся. Ай, мамочки! Пассажиры, летевшие вместе с ней, уже начали расходиться, лента транспортера двигалась с шумом, казавшимся все более зловещим, а ее чемодана так и не было. Неужели потеряли? Или чемодан схватил другой пассажир, а она ничего не заметила? Когда он наконец показался, Аранча вздохнула с облегчением, но к этому времени она осталась в зале одна. И не сразу сообразила, что ей делать дальше. Результат: она слишком долго искала выход из аэропорта. И снова почувствовала себя одинокой. Хуже того – потерявшейся. Как быть? Задыхаясь от волнения, решила взять такси. У нее дрожали руки, когда она показала таксисту вырванный из тетради листок, где были записаны название и адрес гостиницы. По дороге таксист несколько раз пытался с ней заговорить, но она в ответ только нет и нет, с английским у нее было совсем худо.
Они так долго ехали, что Аранча подумала: черт, а вдруг этот негр меня похитил? Зато другой голос, где-то внутри, говорил ей, что, скорее всего, водитель делает круг, чтобы намотать побольше километров. Но вот наконец и гостиница. Перед входом стоял автобус, из которого как раз выходили девушки, прилетевшие на одном с ней самолете. Вот ведь! Будь она посообразительней, могла бы не тратить лишних денег на такси.
У стойки администратора ее дожидалась Нерея, которая тут же затрещала, описывая свои прогулки по городу и походы в магазины.
– Нерея, не оставляй меня одну.
Они договорились, что ночью будут спать в одной кровати.
– Боишься?
Нашла о чем спрашивать! Боится ли она? В постели Аранча без конца вертелась, потом ей пришлось встать – ее тошнило. Босые ноги на старом потертом ковровом покрытии. Причитания в ванной комнате. Аранча по-настоящему запаниковала. И не только из-за операции, потому что Шавьер по телефону постарался ее успокоить, объяснив какие-то вещи, и она в общем и целом представляла, что ее ожидает. Дело осложнялось полным незнанием английского языка. Ей казалось, что она совершенно не способна передвигаться по Лондону, находить нужные места и не сумеет в случае чего попросить о помощи. Ее постоянно угнетало пронзительное – и невыносимое – чувство собственной беззащитности. И теперь, сидя в инвалидном кресле перед зеркалом, она вспоминает свои тогдашние мысли: а если я заблужусь, а если меня собьет машина, а если я подхвачу какую-нибудь заразу в клинике из-за плохого соблюдения там правил гигиены или еще что-то такое, сама не знаю что, например, подверну ногу, спускаясь по лестнице, и не смогу вовремя вернуться домой, и в итоге родители тем или иным путем обо всем прознают, и дон Серапио тоже, да и весь поселок. ВОТ УЖАС!
На самом деле, как ей стало известно позднее, их с Нереей матери, которые в те времена еще были близкими подругами, в субботу, как обычно, отправились полдничать в Сан-Себастьян и обменялись новостями о своих дочерях. Оказалось – вот ведь какое совпадение, – что обе девушки одновременно отправились в путешествия.
– Знаешь, Нерея в четверг улетела в Лондон с подругой по университету.
– Правда? А моя Аранча сейчас в Бильбао. Поехала туда вчера на концерт каких-то певцов, только не спрашивай меня, каких именно, я в этой их музыке ни черта не смыслю.
Проснулись девушки рано. Нерея спустилась на завтрак. Аранча, которая смотреть не могла на еду, обошлась несколькими глотками воды. Господи, когда же все это закончится! В условленный час они отправились – одна решительно, весело болтая, вторая, умирая от страха, – на улицу, где находилось то заведение, которое занималось нужными им делами. Новые на вид здания вперемежку со старыми, у некоторых, если говорить честно, фасады выглядели довольно грязными. Дом, который они искали, был из числа последних. Нерея первой заметила его с противоположного тротуара:
– Вон там, где синяя дверь.
Войдя, они сразу же скривились, а потом уж и по-настоящему испугались. Правда испугались. Почему? Потому что узкая лестница, которая вела на второй этаж, была завалена мусором. Стоял здесь даже перевернутый унитаз. Какого черта делает унитаз на лестнице? То же самое можно было спросить и про пластиковые пакеты, бумаги, бутылку, пролитое молоко. Какая гадость.
– Я возвращаюсь назад, Нерея. Лучше, наверное, мне родить.
– Спокойно. Раз уж мы сюда добрались, поглядим, что там и как, а потом будешь решать.
Она погладила подругу по голове, поцеловала в щеку, стараясь утешить и подбодрить. Короче, уговорила. И они, взявшись за руки, поднялись и сели ждать своей очереди в приемной, где стояли несколько стульев и диван, обтянутый потрескавшейся кожей, а по стенам висели плакаты. Аранча узнала девушку, которая накануне летела вместе с ней на самолете. Вскоре пришла и пятнадцатилетняя девчонка в сопровождении строгого дядьки, годившегося ей в отцы. Были и другие люди. В том числе грязный мужчина, все время клевавший носом и похожий на наркомана. Девушка из того же самолета прислушалась к их с Нереей разговору и спросила, не испанки ли они. Нерея сказала, что они из Страны басков, и тогда та, хоть ее никто и не просил, рассказала свою историю.
Наконец их вызвали. Нерея как могла переводила. Аранча расписалась там, где ей велели расписаться. Потом ей вручили бланк, чтобы она отдала его доктору, который час спустя осматривал ее в клинике в центре Лондона. Они спустились по засыпанной мусором лестнице.
Аранча тихим голосом:
– А теперь объясни мне, чему вы смеялись, та женщина в кабинете и ты?
– Просто она подумала, что это я… Ну, сама понимаешь.
На улице их ждал автобус организации, которая все это устраивала. Заполненный молодыми женщинами и теми, кто их сопровождал. Автобус поехал сначала в клинику, а оттуда, когда самые необходимые обследования были пройдены, повез тех же пассажиров за город. Они попали в жилой район с низкими домиками, террасами, печными трубами и садами. Вдоль чистых улиц росли деревья. Иными словами, ничего похожего на грязный пригород. Ух, слава богу.
Что еще? Очень уж ты, зеркало, любопытное. Двух подруг встретила улыбающаяся медсестра, кое-как говорившая по-испански. Аранча ждала в комнате, обставленной современной мебелью, где было много растений. Она запомнила девушку с азиатскими чертами, еще одну – вроде как из Индии, и нескольких испанок – всё из того же самолета.
После ожидания, длившегося три четверти часа, ей вручили пластмассовый браслет с ее именем и одноразовую бумажную рубашку, потом велели раздеться. Пришел доктор, мужчина с приятным лицом, пепельно-серыми усами и очень вежливый. Он внушал доверие. Доктор Финк, так его звали. А. Финк. Он выполнил свою работу, выполнил хорошо – вот и все, что я могу тебе сказать, дорогое зеркало. Да, еще одно: когда я очнулась от наркоза, у меня начались страшные позывы к рвоте; но так как в желудке было пусто, до рвоты дело все-таки не дошло. В воскресенье после обеда в самолете царило совсем другое настроение. Все женщины выглядели более раскованными и уж конечно были куда более разговорчивыми, чем по дороге туда.
43. Официальное сватовство
Та история с Лондоном их соединила. После нее они вели себя как жених и невеста в старом понимании этих слов, когда парню и девушке, прежде чем пожениться, нравится ходить по улице, взявшись за руки. Он приехал в аэропорт с букетом цветов, чтобы встретить ее и утешить/обнять, и был ласков/вежлив, говорил не совсем обычные слова и сыпал звонкими фразами, пропитанными искренней нежностью, а она уткнулась лбом ему в грудь в знак того, что прощала ему свою несвоевременную и досадную беременность. Она подарила Гильермо открывалку, купленную в последнюю минуту в аэропорту Хитроу в сувенирной лавке. Ручка была сделана в виде миниатюрной красной телефонной будки. Годы спустя эта открывалка вдруг всплыла в каком-то ящике в их совместном жилище. Аранча не раздумывая выкинула ее в помойное ведро. Безделушка будила дурные воспоминания, да и у Гильермо, пожалуй, тоже, так как он ни разу потом этой открывалки не хватился (или хватился, но предпочел ни о чем жену не спрашивать).
Они дружно хранили тайну, словно заключив молчаливое соглашение никогда не упоминать про историю с абортом. Но история всегда была с ними, подспудно присутствовала в их разговорах, в их взглядах и – что было для Аранчи куда хуже – стала чем-то вроде тени, неотлучной от их детей.
За два десятилетия, прожитых в браке, Аранча и Гильермо несколько раз побывали за границей. В Париже с детьми – два раза, а еще в Венеции, и в Марокко, и в Португалии. В Лондоне – никогда. Ни она, ни он ни разу этого не предложили, ни ей, ни ему такое даже в голову не пришло бы. И порой, но довольно редко, например, в беседе со старой подругой, случайно встреченной на улице, или когда Аранча, выполняла какие-то бюрократические формальности или если ее спрашивали, сколько у нее детей, она на миг задумывалась. Правда, только на миг, и этого мига хватало, чтобы не сбиться со счету. Трое? Двое.
С годами лондонская история (каким был бы сейчас тот нерожденный ребенок?) отодвинулась в ее мыслях куда-то на самый край, но полностью не забылась. И вдруг из-за болезни вновь всплыла в воспоминаниях. Может, Бог ее наказал, если только Бог существует? Или это мазохистские причуды мозга, который, будучи заключен в непослушное тело, развлекается, терзая ее сценами из прошлого? Впервые такое случилось еще в больнице в Пальме. Неподвижная, утыканная трубками, как-то раз она целую ночь не могла выкинуть из головы горькую лондонскую историю, которая и теперь, когда Аранча сидит в инвалидном кресле перед зеркалом в родительском доме, вновь против ее воли приходит на память.
Та история их соединила. После нее они каждый день виделись в Сан-Себастьяне. Вечерами в хорошую погоду сидели на скамейке, делили на двоих кулек жареных каштанов, или арахиса, или коробку печенья, или коробку конфет. Они были отчаянно влюблены друг в друга. В дождливые дни приходилось искать убежища в каком-нибудь кафе или кинотеатре. Гильермо, у которого был хорошо подвешен язык, шептал ей на ухо всякие милые глупости. Когда било девять, каждый садился в свой автобус, и так проходили день за днем.
– Счастье мое, пора бы мне познакомиться с твоей семьей, а тебе – с моей.
– Начнем с твоей.
– Ты говоришь это так, будто меня могут ожидать у тебя дома какие-то проблемы.
– Да нет, вряд ли. Просто ваша семья, она меньше, а значит, все должно получиться проще. А я тем временем подготовлю своих.
И вот как-то в субботу Гильермо (или Гилье, как она его называла) повел ее обедать к себе домой. Пятый этаж. Открылась дверь. Анхелита – низенькая, толстенькая, шестьдесят лет. В знак приветствия влепила невесте сына в щеку два поцелуя, похожие на шлепок тортом, – звучные, маслянистые, искренние. Моя мать никогда меня так не целовала. Короче, с первой же минуты от страха Аранчи не осталось и следа.
Отец – более сдержанный, но тоже открытый и сердечный. Рафаэль Эрнандес, человек простой, застенчивый, в клетчатых тапках и шерстяном жакете. Аранча поначалу на всякий случай стала называть их на “вы”. Нет, ради бога! Они сразу же попросили ее перейти на “ты”. Анхелита, стараясь как можно радушнее обойтись с гостьей, показала ей квартиру:
– А вот тут мы с мужем спим.
Аранча еще несколько раз побывала у них, прежде чем познакомить Гильермо со своими. Если признаться честно, то она с удовольствием оставалась бы у Гильермо ночевать. Почему же не оставалась? Родители у Гильермо были очень хорошие и добрые, но в некоторых вопросах придерживались немного (достаточно) старомодных взглядов. Аранча пыталась переубедить его: Гилье, дорогой, но раз уж мы с тобой… раз уж был Лондон… Он: да, да, но ты должна и их тоже понять. Так что время от времени ближе к вечеру они поднимались на гору Ургуль и торопливо занимались своим делом, не забывая про презервативы и боясь, что кто-нибудь на них наткнется, – беззвучное соитие в кустах, приносящее короткое удовольствие ему и покорно принимаемое ею, хотя именно ей приходилось чувствовать ягодицами острые камешки, а также колкую и сырую траву.
Зеркало в ванной комнате спрашивает, любила ли она его. Как я люблю своих детей – нет. Это невозможно. Но в какой-то мере да, любила, особенно поначалу. Иначе она и не подумала бы знакомить его со своей семьей. До тех пор Аранча еще ни разу не приводила никого из парней к себе домой. Гильермо стал первым. И последним. К делу она подошла издалека. Как-то раз упомянула о нем на кухне в разговоре с матерью. И сразу же поспешила добавить, что живет он в Рентерии и зовут его Гильермо. Мирен, слушавшая дочь вполуха и вроде бы без большого интереса, сразу насторожилась, на лбу ее образовались многозначительные морщины, и она с подозрением спросила, не служит ли парень в гвардии. Нет, он работает по хозяйственной части на бумажной фабрике. Мать поинтересовалась, хорошо ли он зарабатывает, и на этом разговор закончился. Ни слова больше – ни радости, ни вопроса, когда же мы с ним познакомимся, ничего.
Через несколько часов Аранча завела тот же разговор с отцом. Наверное, она выбрала не слишком удачный момент. Хошиан как раз собирался пойти в “Пагоэту”. Во всяком случае, не скрывал, что торопится. Возможно, просто хотел улизнуть, прежде чем Мирен вернется из магазина. К тому же Хошиана все эти дела с девочками и мальчиками, с любовью и сватовством совершенно не волновали. И тем не менее он уделил дочери минутку. Узнав кое-какие детали, сказал, что рад. И сразу же:
– А мать знает?
– Разумеется.
– А почему бы тебе как-нибудь не привести его сюда? Я бы взял парня с собой в гастрономическое общество. Он, кстати, велосипед уважает?
– Нет, aita, велосипедом он не увлекается.
Хошиан, вроде бы огорченный этим фактом, больше не нашелся что сказать. Он похлопал дочку по спине, словно выражая свое одобрение, натянул берет и был таков.
Аранча больше надеялась на младшего брата. Тогда ему было пятнадцать лет. В любом случае Аранча нуждалась в поддержке, и Горка был единственным членом их семьи, с которым она позволяла себе иногда быть откровенной. Аранче сразу показалось, что Горка повел себя более трезво, чем родители.
В первую очередь он спросил, как зовут парня.
– Гильермо.
– Гильермо, а дальше?
– Гильермо Эрнандес Каррисо.
Брат сразу же приподнялся в кровати, где читал книгу:
– Он, конечно, не из левых патриотов?
– Нет, его политика не интересует.
– Но он хотя бы говорит на эускера, а?
– Ни слова.
– Знаешь, тогда нашему Хосе Мари твой Гильермо точно не понравится.
Аранча обвела взглядом стены, увешанные плакатами: амнистия, независимость, ЭТА, фотографии сидящих в тюрьме борцов за свободу из их поселка, предвыборные листовки “Эрри Батасуна”.
– А почему, позволь спросить, он ему не понравится?
– Сама не хуже меня знаешь.
И тогда Горка – это в пятнадцать-то лет – подал ей мысль: пусть сестра сперва погуляет с Гильермо по поселку. Пусть покажется с ним, пусть потанцуют в воскресенье на площади, а потом сама увидит, что и как.
Так Аранча и поступила. Они с Гильермо заглянули в один бар, в другой. “Привет” здесь, “привет” там. Прошлись, взявшись за руки, по центру поселка. А потом на площади с густыми липами танцевали под песни, которые пела на помосте какая-то музыкальная группа. Тут Аранча и заметила Хошуне, которая разглядывала их с некоторого расстояния. Аранча тотчас прошептала Гильермо на ухо, что:
– Там, напротив, стоит одна девица, она гуляет с моим братом. Не оборачивайся. Сейчас сам посмотришь, как она начнет ловчить, чтобы узнать, кто ты такой и говоришь ли на эускера.
Дома за ужином Хосе Мари рассказывал про свой матч по гандболу. Ни он, ни родители, ни уж тем более Горка ни словом не обмолвились про ухажера Аранчи, а ведь его присутствие в тот день на танцах, вне всякого сомнения, к той поре уже обсуждалось всем поселком.
И только по прошествии двух дней Хосе Мари сунул свою лохматую голову в дверь сестриной комнаты и сказал:
– Мне принесла на хвосте одна птичка, что у тебя появился жених.
На лице его играла улыбка. Аранча пристально посмотрела на него, словно стараясь уловить хоть малейший признак враждебности. Но нет, ничего подобного. А он добавил все тем же веселым тоном:
– Выходит, скоро можешь сделать меня дядей.
Через неделю Хосе Мари ушел из дому и стал жить с приятелями на съемной квартире, но пока еще тут же в поселке. И только тогда Аранча рискнула познакомить Гильермо с родителями.
44. Меры предосторожности
Чато был таким, каким был, все держал в себе, работал, как никто другой, и еще он был упрямым. Именно это упрямство, из-за которого – уф! – жить с ним было так непросто (перечить ему? упаси господь!), помогло Чато наладить с нуля свое дело, притом что поначалу у него было больше настырности, чем денег. Сперва он арендовал, а потом и купил заросший ежевикой участок земли в нижней части поселка рядом с рекой. Упрямство помогло ему сначала удержаться на плаву, а потом и двинуть фирму вперед, да, черт побери, и двинуть весьма успешно. Но это же упрямство, по словам Биттори, его и погубило.
Она часто упрекала Чато, придя на кладбище:
– Мог бы ведь сегодня и живым быть, но нет, тебе хотелось непременно на своем настоять. Мог бы заплатить им. Ну, или перевести свои чертовы грузовики куда-нибудь в другое место. Сам ведь сколько об этом талдычил, но так ничего и не сделал, хотя знал, что я за тобой куда угодно поеду.
Он приходил домой и ни слова не говорил про работу. Если Биттори спрашивала, как прошел день, сухо и уклончиво отвечал, что хорошо. Всегда одно и то же. А она никогда не могла в точности понять, что на самом деле значит это “хорошо”: “плохо”, или “нормально”, или действительно “хорошо”. Чтобы докопаться до его настроения, Биттори смотрела мужу в лицо, отыскивая какие-нибудь верные приметы. Чато морщился:
– Ну, и что ты смотришь?
А Биттори по выражению его лица, по блеску в глазах или по морщинам на лбу старалась угадать, спокоен муж или чем-то озабочен.
– Скажи, они давно перестали тебе угрожать?
– Довольно давно.
– Думаешь, забыли про тебя?
– Не знаю и не хочу знать.
Когда Нерея уехала в Сарагосу, Чато как будто бы стряхнул с себя часть своих страхов. Хотя кто знает, что он чувствовал на самом деле. Этого человека, говорила Биттори, даже похоронили, вместо савана завернув в его секреты. Но после того как дочка уехала учиться подальше отсюда, он точно выглядел куда менее озабоченным. А Шавьер? Шавьер в поселке не жил, поэтому отец считал, что тому ничего не угрожает.
Дома Чато перестал даже мельком упоминать про историю с письмами. И надо добавить, что его бесило, когда Биттори снова заводила про них разговор.
– Да уймись ты, черт тебя побери! Если я тебе ничего не говорю, так только потому, что нет ничего нового.
Чато, Чатито. Биттори напоминала мужу об этом кстати и некстати, и скорее с горечью, чем с любовью. Вот ведь какое дело: он остался совершенно один. Друзья-приятели? С ними Чато больше не знался, и они не знались с ним. Они отвернулись от него в тот же миг, как сам он ото всех отвернулся. Теперь Чато не ходил ни играть в карты в “Пагоэту”, ни ужинать в гастрономическое общество. Как-то раз по чистой случайности нос к носу столкнулся на улице с Хошианом. Они посмотрели друг другу в глаза, Хошиан быстро и пугливо, Чато пристально, выжидательно, хотя и сам не знал, чего ждет – наверное, какого-нибудь знака, жеста. А Хошиан, проходя мимо, просто поднял брови вместо приветствия, словно говорил: знаешь, я бы остановился поболтать с тобой, но беда в том, что…
Чато убрал свой велосипед. Убрал навсегда. В один прекрасный день отнес в гараж, где велосипед до сих пор и висит под потолком на двух крюках с двумя цепями. Чато перестал платить взносы в клуб велотуризма. И никто ему об этом не напоминал. Не послали ему в конце сезона и приглашение, как прочим членам клуба, с датой и повесткой дня ежегодного собрания. Сертификат, диплом или как это еще назвать, где отмечались пройденные этапы и заработанные очки, ему сунули в почтовый ящик, согнув пополам. Тот, кто сертификат принес, не удосужился даже нажать на кнопку звонка. Никто не пожелал вспомнить, что еще не так давно, и на протяжении пяти лет, Чато был президентом клуба. Ну и хрен с ними со всеми! По воскресеньям Биттори, которая прежде жаловалась, что в единственный день недели, который они могли бы провести вместе, муж уезжает с приятелями на велосипеде, теперь должна была с утра и до вечера терпеть его дурное настроение.
Всю свою жизнь Чато любил ходить на работу пешком, даже в дождь. В целом дорога занимала у него не больше четверти часа. На велосипеде и того меньше. Но начиная с воскресенья, когда появилась первая надпись на стене, он передвигался только на своем стареньком “рено-21”. Как сам объяснял: чтобы никого не вынуждать отводить глаза или поспешно перебегать на другую сторону улицы. По субботам после обеда – что было делом для него совершенно новым – он сопровождал Биттори в Сан-Себастьян. Они ходили к мессе, потом полдничали в том же кафе на проспекте Свободы, куда прежде Биттори частенько наведывалась с Мирен, когда они еще были подругами. И выяснилось, что некоторые знакомые, которые перестали здороваться с ними в поселке, здесь от этого не уклонялись и даже останавливались на минутку перекинуться с Чато и его женой парой слов: хороший выдался денек, а?
Чато не забывал про меры предосторожности. Уж дураком-то он не был. Во-первых, никогда не парковал машину на улице.
Биттори:
– Не вздумай!
У него имелся собственный гараж. И все равно он каждый раз наклонялся и заглядывал под машину, прежде чем сесть за руль. Позднее ему пришло в голову огораживать “рено” деревянными щитами, связывая их между собой веревками: если кто-нибудь и проникнет в гараж, что трудно, и сдвинет щиты с места хотя бы на считанные миллиметры, хозяин сразу это заметит. У себя на фирме Чато застолбил за собой место на площадке для грузовиков, за которым мог наблюдать из окна.
У гаража было только одно неудобство. Он находился за углом, в соседнем доме. И надо было пройти шагов сорок – пятьдесят от гаража до подъезда. На этом коротком отрезке его и убили в тот дождливый день; но, как говорила ему Биттори, усевшись на край могильной плиты:
– Да, убили они тебя там, но запросто могли убить где угодно. Потому что эти, если уж наметят кого в жертву, не уймутся, пока не подловят.
Поначалу он замазывал большой кистью надписи, которые появлялись на воротах его гаража, – специально купил банку белой краски, но это не помогло. На следующий день надпись снова там красовалась. “Чато – фашист, угнетатель, ЭТА – убей его”. И все в том же духе. Он перестал обращать на надписи внимание. А еще на его дверь справляли нужду, и дверь сильно воняла мочой.
Как-то раз он прочел в газете, что самая легкая добыча для террористов – люди с устоявшимися привычками. Легкая добыча. И в течение нескольких месяцев он не выходил из дому в одно и то же время два дня подряд. Кроме того, менял маршрут. Возвращался домой обедать в час или в половине второго, иногда обедал в конторе тем, что приготовила ему с собой Биттори. Вечером заканчивал работу в девять – половине десятого, а то и в десять, как получалось. Такой нечеткий распорядок дня выводил Чато из себя, ведь он любил хвалиться, что все у него расписано по минутам и по нему самому можно часы проверять. Но потом он отправил дочку подальше от поселка, в Сарагосу, и тогда же негодяи, старавшиеся сделать ему жизнь невыносимой, почему-то вдруг ослабили нажим, а Чато вернулся к всегдашним своим привычкам, и только когда ЭТА кого-то убивала и Биттори начинала зудеть над ухом, он опять на какое-то время ужесточал меры безопасности.
А еще он частенько делал следующее: отодвигал чуть-чуть жалюзи на кухонном окне или штору на балконной двери, чтобы незаметно изучить улицу. Бросал наружу внимательный взгляд, но старался, чтобы Биттори этого не заметила. Потому что она сердилась. На что именно? Ей казалось, будто своими пальцами он пачкает ей штору и жалюзи.
Годы спустя на кладбище:
– Эти люди ведь не торчали перед нашим подъездом. Разве тебе не приходило в голову, что следить за тобой мог и кто-то из соседей – кто-то тоже отодвигал штору у себя в квартире, чтобы запомнить, когда ты уходишь из дому и когда возвращаешься, а потом передавал сведения террористам? Небось такая же свинья, как и ты, тоже не мыл руки, прежде чем сесть за стол. Вернее, ни до того, ни после. И разумеется, это кто-то из знакомых и, если уж говорить начистоту, кто-то из тех, кому мы оказали какую-нибудь услугу.
45. Забастовка
В мадридской гостинице во время ужина убили депутата, избранного от “Эрри Батасуна”, Хосу Мугурусу тридцати одного года. По этому поводу вспыхнула всеобщая забастовка. В больших городах протесты прошли довольно вяло. А жителям поселков деваться было некуда. Либо полное прекращение работы (в том числе в магазинах, барах, мастерских), либо жди кары на свою голову. Сидя у себя на верхотуре, Чато видел, что несколько его работников стоят у ворот, где висит тот же, что и в прошлые разы, плакат. Их было трое. Андони с кольцом в ухе и еще двое. Остальные затаились по домам. Один позвонил ему вчера вечером по телефону, и Чато, сытый по горло звонками с угрозами, когда на него вешали всех собак, называли эксплуататором, фашистом и сукиным сыном – пора тебе, сволочь, составлять завещание, – долго сомневался, брать трубку или нет. Наконец все-таки взял, решив, что звонить вполне могла и Нерея из Сарагосы, заранее ведь никогда не узнаешь. Но нет, просто один работник хотел со всем почтением сообщить хозяину, что лично он предпочел бы выйти на работу.
– Если ты хочешь работать, что тебе мешает?
– Разве вы не понимаете, когда все остальные…
На следующий день, остановив ранним утром машину перед воротами, Чато уже знал, зачем те трое там дежурят. Было холодно, трава за ночь покрылась инеем, с реки поднимался туман и на несколько часов зависал в низине. Хозяин с опаской посмотрел на троицу:
– Ну и что?
Андони состроил свирепую мину и с вызовом вздернул подбородок:
– Сегодня никто работать не будет.
– Кто не будет работать, тот не получит зарплаты.
– Это мы еще посмотрим, кто останется в проигрыше.
– В проигрыше будут все.
Однажды Чато попытался уволить этого мерзавца, который был неважным механиком, да еще и лодырем. Андони на глазах у шефа разорвал уведомление об увольнении, даже не удосужившись его прочесть. Несколько часов спустя он явился на фирму вместе с двумя типами, назвавшимися членами профсоюза LAB. Их угрозы прозвучали настолько серьезно, что хозяину пришлось против воли восстановить на работе негодяя, от одного вида которого у него кровь закипала.
Трое забастовщиков грелись у железной бочки, в которой горели доски, сухие ветки, палки. Чато обругал их за то, что они взяли чужую бочку. Не говоря уж про доски. При слабом свете, когда солнце еще не показалось из-за горы, огонь делал их лица красными.
Чато: сволочи, вечные подстрекатели, которые кусают кормящую их руку.
Биттори:
– Да, конечно, но если не они, то кто станет сидеть за рулем твоих грузовиков и кто станет их тебе ремонтировать?
Он попросил/приказал отодвинуть бочку, чтобы можно было открыть ворота. Андони зло и решительно повторил, что сегодня никто работать не будет. Двое других помалкивали. Им было неловко? А то! Остановить у ворот хозяина – это не шутка. И за спиной у Андони, бывшего у них сейчас за главного, они, потупив глаза, отодвинули в сторону бочку.
Главарь завопил:
– Вы что это делаете? – Как будто не видел Чато. Потом добавил, давясь яростью – или ненавистью? – Ладно, но только ни один грузовик туда не заедет и оттуда не выедет.
Чато заперся у себя в конторе. Через окно, вытянув шею, он мог наблюдать за теми, что дежурили у ворот. Они старались справиться с холодом – то подпрыгивали, то дули себе на руки. Изо рта у них шел пар. Разговаривали, курили. Бедолаги. Им забили голову лозунгами. Дрессированные обезьяны, тоскующие по кнуту. А ведь как были благодарны, когда он взял их на работу!
Биттори:
– Нанимай только местных, чтобы деньги отсюда не уходили.
Так вот, этого урода Андони он нанял лишь потому, что какие-то знакомые Биттори очень уж за него просили, буквально стелились перед ней: да уж сделайте одолжение – и так далее. Знать бы тогда!
Не теряя времени даром, Чато позвонил некоторым клиентам и сообщил, какая сложилась ситуация. Мол, он очень сожалеет и просит его понять. Потом, уже немного успокоившись, хоть и не до конца, сделал еще какие-то звонки, изменил график заказов, договорился о новых датах, был вынужден отказаться от важного заказа (так вашу мать!), отдал по телефону разные распоряжения водителям, которые в тот день должны были вернуться в поселок, чтобы они поставили свои грузовики на свободных площадках в промышленной зоне. А когда увидел, что к забастовщикам, дежурившим у ворот, присоединились еще двое, в том числе и тот вежливый, что звонил ему накануне домой, Чато вдруг решил: нет, так оно продолжаться не может, я должен что-то предпринять, эти типы не заставят меня плясать под их дудку.
Из тех же телефонных разговоров он узнал, что по случаю забастовки не вышли на линию автобусы. К половине десятого он вызвал такси. Натянул теплую куртку и, не выключая лампы, чтобы снаружи думали, будто он так и сидит в конторе, покинул территорию фирмы через заднюю калитку со стороны реки. Чуть дальше, почти у самого моста, начиналась дорожка, ведущая к шоссе. Ждать такси не пришлось и пяти минут. А без чего-то десять он уже был в районе Сан-Себастьяна под названием Амара.
Неожиданность: дверь ему открыла женщина, которая так не понравилась Биттори. Жена говорила, что та всего лишь простая (произнося раздельно: про-ста-я) санитарка. Упоминая профессию подруги/приятельницы/любовницы своего сына, мать морщила нос и чуть приподнимала уголки губ:
– Врачам – врачихи, санитарам – санитарки.
И тотчас начинала перечислять все, что ее не устраивало: одевается безвкусно, много болтает, злоупотребляет духами. Биттори с трудом скрывала неприязнь, которую с первой же минуты почувствовала к Арансасу. И эта неприязнь переросла едва ли не в ненависть, когда она узнала, что та разведена и к тому же старше Шавьера.
– Неужели нашему сосунку понадобилась вторая мамаша? Неужели сам не видит, что эта проныра позарилась на его положение и зарплату?
Чато не обращал на ее выпады никакого внимания. Раз сын выбрал именно эту женщину, значит, такая ему и нужна.
Но он не ожидал встретить Арансасу в квартире Шавьера.
– Я не помешал?
– Что вы, что вы. Проходите.
Он спросил, дома ли Шавьер. Да, он принимает душ, сейчас выйдет. Сама Арансасу была едва одета и разгуливала по дому босиком. Они что, уже и живут вместе? Впрочем, самому Чато не было до этого никакого дела. Его теория: пусть дети будут счастливы, остальное – пустяки.
На что Биттори:
– Да, конечно, ты хочешь, чтобы они были счастливы – и оставили тебя в покое.
– А если и так, то что?
Послышался шум фена. У Арансасу ногти на ногах были покрашены темно-красным лаком. На стене висела картина – залив в Сан-Себастьяне, – подписанная неким Авалосом. Сколько раз Шавьер советовал отцу вкладывать деньги в произведения искусства. Но я ведь ничего в этом не понимаю, сынок.
Чато поинтересовался, не присоединилась ли ко всеобщей забастовке их больница.
– К забастовке? Насколько я знаю, нет. – И когда Шавьер в белом банном халате вошел в комнату, обратилась к нему: – А ты что-нибудь слышал про забастовку?
– Нет.
– У твоего отца сегодня люди не вышли на работу.
Чато кивнул. Отец с сыном обнялись. От Шавьера пахло одеколоном. Он не преминул пошутить:
– Сегодня после обеда я должен оперировать. Остается надеяться ради блага пациента, что пикетчики не ворвутся в операционную и не помешают нам.
Но отца его шутка не рассмешила. Наоборот, он нахмурился, посмотрел строго и не сказал ни слова.
– Да что случилось, aita?
– Ничего.
Арансасу – сработала женская интуиция – тотчас заявила, что уходит, решив дать им поговорить наедине. Пусть только потерпят ее присутствие еще пять минут – на то, чтобы одеться, больше ей не понадобится. У Шавьера с губ сорвалось дурацкое “но” и повисло как нитка слюны:
– Но…
Чато попросил/предложил сыну пойти посидеть в баре на углу, там он Шавьера и подождет. Тот возразил: в баре они будут на виду, слишком много посторонних ушей, и, кроме того, ничего спиртного он сейчас пить не хотел бы. Так что они решили просто побродить по улицам, по тем и по этим. В поисках деревьев и тишины дошли до бульвара Дерева Герники. И все говорили и говорили, прошли весь бульвар до моста Марии Кристины и повернули назад.
– Будет лучше, если мать не узнает, что я приезжал к тебе. Имей в виду, самое главное ей известно. А вот какие-то детали я предпочитаю держать при себе. Не хочу, чтобы она волновалась из-за проблем, которые, возможно, удастся решить, поэтому я и хотел поговорить с тобой наедине. Ты человек с мозгами. Наверняка посоветуешь мне что-нибудь разумное.
– Конечно. Так в чем проблема?
– В поселке у меня все стало хуже некуда.
– Неужели опять пишут на стенах?
– Нет, в последнее время это прекратилось. Видно, до них дошло: я не из тех предпринимателей, что сидят на миллионах, как им поначалу казалось. А может, недавняя попытка переговоров с моей стороны утихомирила эту шваль.
– Каких переговоров? Ты мне ничего не рассказывал.
– А ты хочешь, чтобы я напечатал об этом в газетах? Я нашел канал и попросил о встрече во Франции. Мысль у меня была такая: я объясню им свое материальное положение и попрошу отсрочки. Или пусть позволят платить частями. Я слышал от других, что дела разрешаются и таким тоже образом – эти козлы порой могут и навстречу пойти, если ты в принципе готов платить.
– Раньше ты был против любых переговоров.
– Я и сейчас не то чтобы за, но они нас довели до ручки. А что мне остается делать, дожидаться, пока они меня похитят?
– Хорошо, и что тебе там сказали?
– Я приехал на встречу. Без опоздания, ты ведь меня знаешь. Я не люблю заставлять себя ждать. Ждать пришлось мне самому. Больше полутора часов. Никто не явился. Известно, что после истории с GAL[61] они ведут себя предельно осторожно. Кто знает, а вдруг за мной следил какой-нибудь полицейский, переодетый в штатское, при этом сам я ничего не заметил, а они его засекли? Я стал добиваться новой встречи. Мне в ней отказали. Такое вот паскудство! Сейчас я думаю, что они убедились в моих благих намерениях и пока оставили меня в покое, занявшись другими, которым и портят жизнь. Но я должен что-то предпринять, Шавьер. В поселке я слишком на виду. Сегодня утром три придурка парализовали работу на фирме. Вот так-то! Мои собственные люди теперь решают, работаем мы или нет. У меня нет ни малейших сомнений, что кто-то из них докладывает организации о каждом моем шаге. Помнишь Андони, племянника Сотеро? Он хуже всех. От него чего угодно можно ждать.
– А чего ты его не выгонишь?
– Выгоню, когда ситуация успокоится.
– Послушай, отец, если ты предприниматель, то не должен жить рядом с рабочими. Я не сторонник деления на классы, но что еще тут скажешь? Любой, кто затаит на тебя обиду или позавидует тебе, может попытаться тебе отомстить. И особого труда это ему стоить не будет, поскольку ты всегда рядом. Не исключено, что каждый божий день ты проходишь мимо его двери. Вы с матерью должны жить в другом месте, а в поселок наезжать только к кому-нибудь в гости или на работу. Пишут надписи на стенах? Да и пусть себе пишут. Если тебя в поселке не будет, ты их и не увидишь… А ведь речь не только о надписях, надо думать о вещах куда более серьезных.
– Я бы уехал, но вот мать…
– И она тоже уедет. Она и сама как-то об этом обмолвилась. Беда в том, что вы с ней маловато общаетесь.
– Ну, знаешь, с тех пор как я завязал и с велосипедом, и с картами в баре, мы проводим вместе столько времени, сколько не проводили никогда в жизни. Мы ведь почти не выходим на улицу. Я еду на машине из дому на работу и с работы домой. А она все реже и реже ходит по магазинам в поселке.
– Скажи, разве это жизнь?
– Живем как-то. Бывает и хуже. Мой отец сражался на войне против Франко. Ему изуродовало ногу, а потом он три года отсидел в тюрьме.
– Остается надеяться, что ты не забываешь о мерах безопасности.
– На этот счет можешь быть спокоен. Если они захотят со мной расправиться, придется делать это где угодно, только не в поселке. Там я всегда начеку.
– Итак, давай подобьем итоги. Дела идут хорошо или плохо?
– Плохо. И я бы с удовольствием перевел весь свой бизнес куда-нибудь в более безопасное место. В Ла-Риоху, в Сарагосу, но ведь это очень хлопотно. Почти все клиенты у меня из наших мест. Не проходит и недели без того, чтобы кому-то срочно не понадобились мои услуги. Срочно-пресрочно. А если я буду далеко, скажи, как тут успеть? Обратятся в другую транспортную компанию – и прости-прощай.
– Есть и такой вариант: ты открываешь филиал и постепенно переводишь все дела туда.
– Тогда мне будет нужен партнер, надежный человек, который наймет там для меня людей или, наоборот, присмотрит за работой фирмы здесь. Я ведь не могу быть в двух местах одновременно. Я бы предпочел какое-нибудь более простое решение – и чтобы оно не требовало такой уймы времени.
– Закрой фирму, продай ее и трать свои сбережения.
– Ты с ума сошел? Это моя жизнь.
– Тогда я вижу только один выход. Если ты согласишься, я помогу вам подыскать здесь квартиру, вы переберетесь в Сан-Себастьян и в городе будете чувствовать себя более защищенными. Кроме того, какая тебе разница, где жить, если ты в любом случае ездишь на работу на машине?
– Квартира – это большие расходы. Как мне кажется, твоя мать не…
– Короче, ты хочешь, чтобы я начал что-то вам подыскивать или нет?
– Хорошо, ищи. А там посмотрим.
46. Дождливый день
В тот день, когда убили Чато, шел дождь. Это был обычный рабочий день, серый, из тех, что тянутся вроде бы бесконечно и когда все происходит в замедленном темпе, везде мокро, и утро не отличить от послеобеденного времени. Да, обычный день, и вершины гор, окружавших поселок, были затянуты тучами.
Чато пришел в свою контору рано. Рано? Да, где-то около шести, еще не рассвело. На столе у него лежал отрывной календарь, Чато вырвал соответствующий листок и прочел написанное на обратной стороне. Потом отметил на странице в ежедневнике точное число дней, прошедших после того, как он бросил курить: 114. Чато испытывал гордость, видя, какая длинная колонка цифр свидетельствует о силе его характера, да и Биттори довольна, что он не дымит в квартире, как раньше, когда от табачного дыма желтели шторы, не говоря уж об отвратительном запахе, пропитавшем и стены, и мебель, и воздух, которым они дышали.
Чато не знал – откуда ему было знать? – что он видит все эти предметы в последний раз, в последний раз занимается делами, в последний раз о чем-то размышляет. В последний раз для него наступил рассвет. И еще он в последний раз совершает самые обычные действия. Берет/трогает/смотрит на какие-то вещи в это последнее утро своей жизни.
Выйдя из дому, он вел себя с привычной осторожностью. Деревянные щиты и веревки вокруг машины, как сразу было ясно, без него никто не трогал. Поехал не по тем улицам, по каким ехал вчера, то и дело внимательно глядел в зеркало заднего вида. И, сам того не подозревая, едва не сорвал планы людей, которые решили его убить. У него был намечен завтрак с одним клиентом в Беасайне, но около десяти утра тот позвонил и предупредил, что у него возникли непредвиденные дела, и попросил перенести встречу на другой день.
– Да ради бога, какие проблемы?
В глубине души Чато даже обрадовался, потому что ему совсем не хотелось куда-то ехать в такую погоду по дурным дорогам. И тогда – роковое решение – он вернулся к обычному своему распорядку дня, который был хорошо известен тем, кто получил приказ его убить. Чато позвонил жене и сказал, что обедать будет дома. И действительно вернулся домой и пообедал, но это был последний обед в его жизни.
В гараже, уже заглушив двигатель, он посидел за рулем еще минуту-другую, чтобы дослушать по радио песню, которая ему нравилась. Потом вышел из машины, поставил деревянные щиты и завязал надежными узлами веревки. И все, что было вокруг, сам того не подозревая, он видел в последний раз: банки с краской, выстроившиеся на полке, велосипед, подвешенный к потолку, большие бутыли с вином, запасные колеса, инструменты и разное барахло – его, впрочем, было не так уж много, – сваленное к стенам, чтобы в середине осталось место для машины. Чато вышел на улицу, мурлыча себе под нос песню, которую недавно слушал. Закрыл металлическую дверь гаража. Дождь лил как из ведра. А у него не было с собой зонта – да ладно, уж как-нибудь обойдусь. Ведь до подъезда надо было пройти всего шагов сорок – пятьдесят.
И тут он его заметил – этот бычина стоял на углу. Да и как было его не заметить, если на их улице из-за дождя не было больше ни души. Несмотря на опущенный на лицо капюшон, Чато сразу узнал парня. По росту, по мощной фигуре, да по всему, если на то пошло, и двинулся к нему навстречу, перейдя на другую сторону улицы. Он сказал:
– Надо же, Хосе Мари! Значит, вернулся. Я рад.
Эти глаза, эти сжатые губы, эта застывшая маска вместо лица. Их взгляды на миг пересеклись, и во взгляде Хосе Мари Чато уловил смесь жестокости/смятения, тревоги/оторопи. Дождевые струи лупили по ним обоим, тротуарная плитка стала совсем темной. Плитка, кстати сказать, сохранилась не вся. В пустых квадратах лежала мутная вода. По фасаду дома тянулись вверх какие-то провода.
Церковный колокол как раз пробил час дня, когда они встретились взглядами. Несколько секунд стояли друг против друга, не двигаясь, не произнося ни слова. Чато ждал, что Хосе Мари что-нибудь скажет ему в ответ, а Хосе Мари словно окаменел, застыл, держа руки в карманах куртки. И внезапно он отвел глаза, казалось, решил что-то сказать, но так ничего и не сказал. Потом резко развернулся и стремительно, почти бегом, двинулся в обратном направлении, оставив Чато на углу, хотя тому хотелось поговорить с ним, хотелось что-то спросить.
На кухне, разуваясь, он бросил Биттори:
– Почему ты не зажигаешь света?
– А зачем, если и так все хорошо видно?
– Ни за что не угадаешь, кого я сейчас встретил на улице. Хоть целый месяц гадай, все равно попадешь пальцем в небо.
Из кастрюли шел пар, на сковородке скворчал кусок мяса. На кухне не было другого света, кроме той тусклой серости, что сочилась сквозь покрытое дождевыми каплями оконное стекло.
Биттори – в фартуке, целиком занятая плитой, глухая к тому, что говорит Чато:
– Перец поджарить?
– Я видел Хосе Мари.
Она обернулась так быстро, словно ей в спину вогнали иглу, и сделала круглые глаза:
– Сына этих самых?
– А чьего же еще?
– И вы с ним разговаривали?
– Я-то ему что-то сказал. А он умчался, не проронив ни слова, хотя видно было, что парень уже совсем готов был, – Чато показал, будто хватает подушечками большого и указательного пальцев какую-то мельчайшую частичку, – со мной поздороваться. Думаю, он на секунду забыл, что его родители с нами в разладе. Все такой же здоровяк, как и прежде, правда, морда такая же глупая.
Они ели и пили, сидя друг против друга. Чато шумно жевал. По его словам, он был рад, что ему не придется по такой погоде тащиться в Беасайн. Биттори его радости не разделила:
– Если бы ты поехал, у меня было бы меньше забот. Я ведь для себя одной обед не готовлю. Слава богу, что в морозилке осталось мясо.
– Ну, знаешь, если уж на то пошло, мы вполне могли бы пообедать в ресторане.
– Еще чего! Чтобы все на нас злобно пялились?
– Нам никто не велит обязательно идти в здешний ресторан.
– Ага, а каких денег нам бы стоил твой ресторан?
Чуть помолчав, Биттори вернулась к прежней теме. На лбу у нее появились две тревожные морщины.
– А ведь он из ЭТА, да?
– Кто?
– Кто-кто? А тебе не кажется странным, что парень из ЭТА как ни в чем не бывало разгуливает по поселку, хотя ему вроде бы полагается скрываться от полиции. Вот скажи мне такую вещь, зонт у него был?
– Зонт? Дай-ка припомню. Нет. Он натянул на голову капюшон. Но я же тебе сказал, что заговорил с ним. То есть он вовсе не прятался, нет, и не думал прятаться. Небось приехал повидаться с родными.
– А ты уверен, что он не следил за тобой?
– Какое, к чертям собачьим, следил? Еще раз повторяю: я видел его лицом к лицу, как сейчас вижу тебя. Кто же станет таким макаром за кем-то следить? А если он собирался что-то против меня учинить, то почему смылся, когда я уже был считай что у него в руках?
– Не знаю, не знаю, но мне все это сильно не нравится.
– Ладно, ладно. Тебя можно посылать на чемпионат мира по подозрительности, забьешь кучу мячей и всех победишь. Эх, а сколько порций мороженого я купил ему в “Пагоэте”, когда он был еще пацаном! И ведь как жалко, что сегодня он вот так вот ушел, потому что если он и вправду состоит в ЭТА, то, черт возьми, мог бы свести меня с кем-нибудь из их главарей, и я объяснил бы им, как у меня обстоят дела с финансами.
Они закончили обед, и для Чато это был последний обед в его жизни. Биттори тут же принялась мыть посуду. А он сказал, что пойдет вздремнуть. И прилег не раздеваясь, прямо на покрывало, в постели он провел долгий час – это был последний раз, когда он спал.
47. Что же с ними случилось?
Из троих друзей он был самым слабым. Мирен с раздражением:
– Скажешь тоже: самым слабым! Просто слабаком.
Колдо с детства всегда был на вторых ролях, шел по жизни, что называется, в чужой тени. И он их выдал, когда попал в казарму гражданской гвардии в Инчауррондо.
– Если бы не он, и наш сын, и Хокин были бы сейчас здесь, с нами, уж поверь мне. Может, поджигали бы время от времени какой-нибудь мусорный контейнер, ну и шут с ним, с контейнером, зато в серьезные дела, туда, где нужно браться за оружие, не совались бы. Отлупили этого Колдо в казарме как следует? Ну и что? И других лупили, но они терпели. И когда им голову в воду окунали, тоже терпели, лишнего старались не болтать.
Мирен этого парня люто ненавидела. Просто задыхалась от ненависти, как только слышала его имя.
А вот Хошиан кого терпеть не мог, так это отца Колдо, с которым они вместе работали в литейном цехе. Много лет подряд выходили в одну смену, стояли у плавильной печи и заливали расплавленный металл в формы. Эрминио был чужаком, он еще в молодости приехал в поселок из Андалусии в поисках хоть какого-нибудь заработка, здесь подцепил на крючок Маноли, местную басконку, простодушную здоровенную девку, и с тех пор считал себя самым что ни на есть настоящим баском. Эускера? Запросто, kaixo, egun on[62] – и хватит с вас. Хотя таких, как он, на самом деле вокруг сколько хочешь! Именно из-за его сына, из-за этого слюнтяя, их Хосе Мари скитался теперь невесть где, рискуя жизнью, без профессии, без будущего и без семьи, а уж про бедного Хокина и говорить нечего.
Один из рабочих ушел на пенсию. На его место перевели Эрминио – на шлифовку, полировку и так далее. С тех пор они с Хошианом виделись реже. Дело в том, что Эрминио не был любителем поиграть в карты в баре с друзьями (друзья? у этого?), или прокатиться на велосипеде, или хотя бы просто так пообщаться с людьми. Он либо торчал на заводе, весь с головы до ног покрытый пылью, либо переплетал книги у себя дома, чтобы немного подзаработать. Хотя, по правде сказать, Хошиан настолько не переносил Эрминио, что только рад был сталкиваться с ним поменьше.
Иногда, устраивая перекур, они выходили на заводской задний двор.
– Есть новости?
– Нет, ничего нет.
Всегда один и тот же вопрос – и всегда один и тот же ответ. Больше ни слова на эту тему, но даже этими привычными вопросом и ответом они обменивались, только когда рядом никого не было. Разговор мог идти про футбол, про баскскую пелоту, про что угодно, кроме политики и кроме судьбы их невесть куда уехавших сыновей, а иногда оба просто молча стояли бок о бок и дымили, устремив взгляд в сторону гор.
Одно время Эрминио вдруг взял за привычку, попивая дешевое домашнее вино, всякий раз, когда ЭТА кого-нибудь убивала, поднимать тост по этому поводу. И вот однажды в присутствии других товарищей Хошиан заметил ему:
– Слушай, Эрминио, угомонись, это тебе не игрушки.
А потом дома – жене:
– Таких дураков, как он, еще поискать.
– Да это он просто паясничает, только вот выходит у него по-глупому.
Однажды во время перекура оба опять встретились у ворот. Грязные комбинезоны, красные лица, почерневшие сапоги.
– Есть новости?
– Нет, ничего.
– А у нас есть.
Хошиан заметил радость у того в глазах, желание поделиться известиями. Желтые зубы, на одном золотая коронка. Шепотом, доверительно:
– Он в Мексике, эмигрант, что называется.
– Откуда ты знаешь?
– Сын написал письмо моей сестре, которая живет в Кордове, так что нам теперь известно, где он.
– А про Хосе Мари он ничего не написал?
– Нет, про него даже не упоминает. Если хочешь, Маноли его спросит. Она туда летом поедет.
Хошиан пожал плечами. Какой смысл? До лета оставалось еще пять месяцев. Ну что будет знать к тому времени Колдо про их сына? А Эрминио талдычил о своем:
– Поездка-то ого-го во сколько нам обойдется. Пока мы думаем, что поедет она одна, отвезет ему одежду и остальное, что нужно. Да, далековато он от нас, зато в безопасности. Наконец-то мы можем спать спокойно.
Хошиан и не думал расстраиваться из-за чужой болтовни. Но с работы он поспешил прямо домой, чтобы поделиться новостями с женой. Господи, лучше ему было бы промолчать! Давно уж он не видел, чтобы Мирен так горько плакала. Прямо захлебывалась слезами. Потом хлестнула фартуком по висевшему на стене календарю. Причитания, стоны, ярость/бешенство, горе/горе. И почему это должно было выпасть непременно на их долю, и где же он теперь может быть, и кто же о нем позаботится, если вдруг заболеет? Хошиан: да не ори ты так, мать твою, с улицы могут услышать.
– Ну и пусть слышат. Вот ведь какой удалец этот Колдо – выболтал все имена, а теперь свою шкуру спасает. Да чтоб его какая-нибудь змея ужалила из тех, что там, в этой чертовой Мексике, водятся!
– Ладно, ладно, хватит тебе.
И уже вечером в постели, в темноте Мирен сказала:
– Знаешь, я вот даже хотела бы, чтобы полиция арестовала Хосе Мари и чтобы на этом все раз и навсегда закончилось. Я ведь только и делаю, что молюсь святому Игнатию. Да, молюсь и прошу, чтобы нашего сына арестовали французские полицейские. Но не испанские, слышь? И пусть он какое-то время посидит в тюрьме и забудет там про эти дела, а потом мне его вернут. Ты-то как думаешь?
– Точь-в-точь как и ты. Да только когда я такое говорил, ты из себя выскакивала.
– Тебе никогда не понять, что чувствует мать.
– А что отец чувствует, тебе понять?
На следующий день, уже слегка успокоившись, они дружно пришли к мысли, что эмиграция все-таки лучше, чем то, что пришлось испытать Хокину. А что же все-таки случилось с Хокином? Да у него в какой-то миг совсем крыша поехала. В 1987 году он отправился в поле и застрелился. Несколько недель прошло, прежде чем пастух, гнавший своих овец, ненароком наткнулся на тело, и было это в провинции Бургос. Узнать парня было невозможно, так как тело сильно разложилось, к тому же его успели обгрызть звери. При нем имелись фальшивые документы. Гражданская гвардия установила личность по фото. ЭТА в специальном обращении опровергла официальную версию. Большая толпа собралась в поселке на площади, чтобы встретить гроб, накрытый баскским флагом. Шел дождь. В таких случаях почему-то всегда идет дождь.
Мирен:
– Глупости.
А вот Хошиану казалось, что, когда люди собираются по поводам вроде этого, дождь идет непременно. Битком набитая церковь, многие стоят, так как мест на скамьях на всех не хватило. Много нездешних лиц, есть и политические деятели. Дон Серапио во время проповеди, едва сдерживая эмоции, говорил про “трагическую смерть нашего дорогого Хокина, обстоятельства которой, как мы надеемся, когда-нибудь прояснятся”. Потом длинная череда зонтов двинулась в сторону кладбища. У могилы спели Eusko Gudariak, прокричали лозунги в поддержку ЭТА, поклялись отомстить, а потом все направились к воротам, оставив за собой венки и безмолвие крестов под дождем.
Хосечо на несколько дней закрыл свою мясную лавку. Он так никогда и не смог смириться с потерей сына. Через несколько месяцев у него обнаружили рак. Протянул он еще год.
Хошиан:
– По мне, так болезнь у него из-за смерти Хокина зародилась. А ведь какой сильный, какой здоровый был мужик. И по-другому это никак не объяснишь.
Через неделю после похорон Хошиан под нажимом жены в первый раз отправился навестить Хосечо в мясную лавку. Объятие, слезы, всхлипы. Ну и бычина этот Хосечо! Когда мясник немного успокоился, они поговорили, сидя друг против друга в подсобке. Хошиан напрямик спросил: что же, мать их за ногу, произошло на самом деле?
– Врут они все. Врет полиция, врут наши левые патриоты. Врут все как один, можешь мне поверить, Хошиан. Правда никому не нужна.
Он был совершенно раздавлен. И Хуани, его жена, тоже, но она хотя бы в молитве находила утешение. То, что в тот день рассказал Хосечо, потом, несколько лет спустя, подтвердил и Хосе Мари во время свидания с родителями в тюрьме в Пикассенте. Французская полиция схватила Потроса[63] в каком-то доме в Англете – тот при этом пытался спрятаться под кроватью. У него нашли чемодан, а в чемодане хранилось больше пятнадцати килограммов документов, и среди них – список, включавший сотни имен и сведения о действующих членах организации. Тоже мне командир, паскуда! Да, схватили Санти. Об этом сообщили по каналу SER уже через несколько часов – такая вот оперативность! И понятное дело, все бросились врассыпную, но кучу людей успели все-таки замести. Тогда у Хокина и случился приступ паранойи. Хосечо объяснял это по-своему:
– Он решил, что вот-вот придут и за ним, он в тот момент находился на конспиративной квартире один, ну и запаниковал. Вскоре товарищи по боевой группе потеряли его из виду, и тело тот пастух обнаружил лишь время спустя. Хокин сам наложил на себя руки.
Много позднее Хосе Мари в тюремной комнате для свиданий подтвердил эту версию – шепотом, на эускера:
– Как мне говорили, он уже и до этого как-то странно себя вел. Ему казалось, что всюду понатыканы микрофоны, даже в ванной, в душе. Рассказывали, он и свою одежду то и дело с изнанки осматривал. Никому не доверял. Но чтобы все кончилось так, как оно кончилось, ни один из нас и подумать не мог. Это было большое несчастье, aita. И я долго ходил сам не свой. А если хочешь услышать правду, то после этого я слегка разуверился в нашей борьбе.
48. Вторая смена
Весь божий день хлестал дождь, а Хошиану выпало выходить во вторую смену. Перед тем как отправиться на завод, он выглянул в окно. Мокрая улица, почти никого не видно, и огромная туча, растянувшаяся на все небо, висела так низко, что цеплялась за громоотвод на церкви.
У Хошиана никогда не было машины, как не было и водительских прав. На работу он ходил либо пешком, либо катил на велосипеде. Само собой, не на хорошем своем велосипеде. В рабочие дни он пользовался старым, с брызговиком и корзинкой сзади, который не было необходимости потом тщательно вытирать досуха. Мирен предупредила, что он может опоздать. Хошиан в тревоге бросил взгляд на часы. Какое там, к черту, опоздать, чего жена языком зря мелет, если у него в запасе еще полчаса. Он обозвал ее суматошной. Поцеловать на прощанье? Такого между ними заведено не было. В прихожей он остановился перед стенным шкафом. Что выбрать – дождевик, похожий на пончо, или зонт? Если дождевик, то можно ехать на велосипеде, если зонт – двадцать минут идти пехом – под горку до самого завода. Он выбрал зонт.
И зашагал по почти пустой улице, при входе отметился, потом, как всегда, натянул комбинезон, сапоги, перчатки, каску – и шагнул в жаркое и темное нутро цехового пролета. Для их завода времена наступили не самые благополучные. И для их завода, и для металлургической отрасли в целом. Хошиан, хоть и не вникал в такого рода мудреные дела, кое-что замечал. Раньше продукции выпускалось побольше, побольше было и заказов, да и рабочих по числу – не сравнить с нынешним. И это вызывало тревогу. Ему осталось всего несколько лет до пенсии. С таким опытом работы у печи он был почти что незаменим, по крайней мере по его собственному разумению. Худшее будущее ожидало молодых, если, как поговаривали, хозяева вздумают закрыть завод. У него-то, в конце концов, дети уже выросли, и пенсию он себе обеспечил.
Новость привез водитель грузовика. Точнее, обрывок новости – то, что успел услышать по радио, пока сюда ехал. Только самую суть происшествия, время и место. Подробности? Мало, да и те мутные. Верно только одно: около четырех часов дня на центральной улице их поселка в кого-то стреляли. И непонятно, выжил тот человек или нет.
Хошиану об этом рассказали во время перекура. Он спросил:
– В полицейского, что ли, пальльнули?
– А кто его знает.
– Ладно, услышим еще.
Закончив смену, Хошиан вернулся домой. С каждым днем я устаю все больше. Годы, они даром не проходят. Шагая по пустынным улицам, он беззвучно повторял/бормотал какие-то общие фразы. Все-таки утренние смены давались ему не так тяжело. Ты выходишь с завода, и тебе кажется, будто впереди у тебя еще куча свободного времени – весело маячат несколько партий в мус, встреча с приятелями и матч по пелоте по телику перед сном. А сейчас никакого выбора у него не было – предстояло без всякой охоты поужинать осточертевшей жареной рыбой, потому что жена просто помешалась на рыбе, и залечь в постель с таким чувством, будто тебя долго лупили палками. Зато все завтрашнее утро будет в полном твоем распоряжении.
Было уже темно, дождь не утихал, и глаз не находил ничего нового, за что бы зацепиться, ничего, что выходило бы за рамки обычного, знакомого, повторяющегося изо дня в день: все те же фасады домов с освещенными окнами, те же деревья на площади, скудно подсвеченные несколькими фонарями, и где-то рядом свистящий шелест шин по мокрому асфальту. Ни полиции, ни сирен, ни синих мигалок. По дороге он не заметил никаких признаков того, что в четыре часа дня в поселке был совершен теракт. Дома не горят, ничего не разрушено. Он видел привычные картины: темные подъезды, фонари, двери баров, откуда наружу вырывались гул голосов и редкие взрывы смеха. Туда хотелось войти, пропустить пару стаканчиков и съесть пару хильд[64] под сигарету – это было бы своего рода наградой за отработанный день. Да нет, какое там – поздно уже, устал он, да и жена разлается, лучше уж воздержаться.
Мирен не дала ему времени отнести и поставить зонт в ванную. Сразу выпалила:
– Умер Чато.
В их доме уже давно не произносилось имя бывшего друга.
– Да иди ты! – Хошиан на несколько секуд замер. Так и стоял как столб. Даже не моргнул ни разу. И, не глядя на жену, спросил, как это произошло.
– Сам, что ли, не знаешь, как такое происходит. И этого давно следовало ожидать. Вон сколько надписей на стенах было.
– Так это что, значит, это его днем убили? Не свисти!
– Да тут уж свисти не свисти! Нет больше никакого Чато. На войне иначе не бывает – всегда кто-то гибнет.
Мать твою, мать твою так и разэдак. Он стоял и матерился, мотая головой, потому что никак не хотел в это поверить. Попробовал поесть. Но кусок в горло не лез.
У Хошиана так дрожала рука, что он не мог удержать ложку, и Мирен это вывело из себя:
– Слушай, ты что, горевать по нем вздумал?
Мать твою так и разэдак… Потом:
– Чато был баск, человек из нашего поселка, как ты и как я. Черт побери, если бы ты сказала: грохнули какого-то там полицейского… но ведь это Чато! И я не считаю его плохим человеком.
– А какая разница, хороший он или плохой? Речь идет о судьбе целого народа. Кто мы – патриоты или нет? И не забывай, что твой собственный сын участвует в этой борьбе.
Пылая от гнева, она вскочила из-за стола. Молча принялась мыть оставшуюся после ужина посуду, а Хошиан так и не двинулся с места, даже когда время спустя она вернулась на кухню, чтобы сообщить, что по телевизору как раз сейчас говорят про то, что случилось днем. Может, он хочет посмотреть? Хошиан только дернул в ответ головой.
– Ну, тогда я пошла спать.
Муж остался на кухне. Налил себе стакан вина из бутыли, которую хранил под раковиной, потом еще один и еще один. Пока он вот так пил и курил, пробило двенадцать, час, два. Когда вино закончилось, он лег спать. Мирен в темноте твердым голосом сказала ему, что:
– Если ты оплакиваешь этого, я пойду спать в другую комнату.
– Я буду оплакивать кого захочу, туда-растуда.
Пролетели последние черные остатки ночи. Хошиан лежал на кровати не раздеваясь. Спал? Ни секундочки. И едва в щелях жалюзи появились просветы, встал. Куда это ты намылился? Он не ответил. Из туалета послышался долгий звук струи, нарушивший тишину в квартире. Но вместо того чтобы вернуться в постель, Хошиан вышел на улицу, не дожидаясь завтрака. В такую рань? Притом что смена у него начиналась после обеда? Он сел на велосипед и поехал, не надев дождевика, хотя дождь лупил как бешеный, поехал по одной дороге, потом по другой. Ему было безразлично, куда ехать, ему все было безразлично. Где-то на середине пути в сторону Орио, у небольшой пристани, куда они в старые времена нередко приезжали на велосипедах вместе с Чато, Хошиан притормозил. Они устраивали маленькие соревнования, хотя Чато всегда ему проигрывал, потому что, как бы ни старался жать на педали, у Хошиана для этого дела ноги были лучше приспособлены. Хошиан остановился на краю дороги, чтобы дать волю чувствам – да пропадите вы все пропадом!
Без чего-то час он вернулся домой – промокший до костей. Вымылся и надел чистую одежду. А на столе так и стояли чечевица и кусок жаренного с чесноком мяса. Хошиан взял с собой на работу банан и мрачно решил весь тот день ни с кем не разговаривать. Слово свое он старался выполнить и молчал долго. Но во время перекура к нему подошел Эрминио. Да, этот придурок Эрминио подошел и сказал:
– Чем хочешь готов поклясться, но вчера я видел в поселке твоего Хосе Мари.
– Что-то слишком часто ты стал давать клятвы.
– Нет, на полном серьезе говорю, я его видел, когда шел на работу. Он сидел в машине.
– Поди купи себе очки и вообще – перестань ко мне цепляться. Мой сын далеко. Не так, конечно, далеко, как твой, но все-таки достаточно далеко отсюда.
– Нет, что ни говори, но вот так, в профиль, парень очень был похож на твоего Хосе Мари.
– Обознался ты.
Хошиан швырнул сигарету на землю, хотя не докурил ее и до половины. Затаптывая окурок, пробурчал что-то невразумительное. Потом вернулся в цех.
49. Лицом к лицу
Накануне, как и каждый год в середине осени, он продал Хуани кроликов. Всех своих чудесных кроликов – семнадцать штук. По-дружески дешево, и все равно чувствовал себя неловко из-за того, что взял с нее пусть даже и такие ерундовые деньги. Почему? Потому что Мирен часто ходила в мясную лавку к Хуани, чтобы купить, допустим, две телячьи отбивные, а та – вроде как лично от себя – подкладывала ей еще пару или, не сказав ни слова, совала в сумку два кольца чисторры[65] либо кусок кровяной колбасы – короче, то, что попадало под руку.
Клетки опустели, и Хошиан стал приводить их в порядок, задумав снова заполнить крольчатами. Растить кроликов – самое любимое его занятие. Десять утра. Солнце, покой, птички щебечут, а еще время от времени – тук-тук – начинает работать какая-то машина в мастерской братьев Аррисабалага на другом берегу реки. Хошиан заменил в одной из клеток ржавую сетку на новую, потом принялся выносить клетки из сарая, чтобы проветрились, и тут увидел ее. Она стояла у калитки его участка – увядшее лицо, в руках сумка.
Он смотрел в ту сторону буквально одно мгновение. Удивился? Не сказать чтобы очень. Хошиан понимал, что рано или поздно столкнется с ней на улице, ведь теперь она часто расхаживает по поселку. Чего он никак не ожидал, так это что она заявится прямо к нему. Может, права Мирен и эта чокнутая воспользуется тем, что организация сложила оружие, чтобы поквитаться с нами?
Хошиан повернулся к ней спиной и снова занялся клетками. Ничего, постоит и уйдет. Он чувствовал у себя на затылке ее ледяной – и пронзающий насквозь – взгляд. А вокруг, в его маленьком зеленом раю, уже не осталось и следа от прежнего безмятежного покоя. Даже птицы вдруг перестали петь. И машина братьев Аррисабалага заглохла. Хошиан переставил клетки с одного места на другое – только чтобы изобразить, будто страшно занят. Он злился на себя за то, что никак не может придумать, как выйти из этой дурацкой ситуации.
Впервые за много лет – за сколько? лет за двадцать, не меньше? – она обратилась к нему:
– Хошиан, я пришла поговорить с тобой.
– Ну говори, коль не шутишь.
Как-то некрасиво это у тебя получилось, Хошиан, грубо. И он сам тотчас почувствовал, что каждая складочка на его лице залилась краской стыда. Господи, а ведь еще совсем недавно ему было здесь так спокойно! Он обернулся – а что ему оставалось делать?
Она:
– Может, ты все-таки пригласишь меня зайти?
– Заходи.
Биттори ступила на дорожку, идущую слегка под уклон между грядками лука-порея с одной стороны и цикория и салата с другой. Но на все вокруг она глядела равнодушно, хотя и словно что-то припоминая. Остановилась в двух шагах от Хошиана, похвалила участок. Какой красивый, какой ухоженный. Потом кивнула в сторону насыпной террасы и спросила, не эту ли землю привез ему в подарок ее муж. Хошиан понуро кивнул.
Они посмотрели друг на друга. Враждебно? Нет. Скорее с любопытством, словно с трудом узнавая. Хошиан малодушно взял оборонительный тон:
– Зачем ты пришла?
– Поговорить.
– Поговорить о чем? Мне нечего тебе сказать.
– Вчера я была на кладбище Польоэ. Знаешь, я туда часто наведываюсь. Чувствую, что жить мне осталось недолго, вот и разговариваю с ним. Так вот, он попросил, чтобы я кое о чем тебе напомнила.
Что ей надо? Неужели ищет ссоры? Хошиан ничего не ответил. Грязные после возни в огороде руки; пыльный берет, который он снял, чтобы вытереть носовым платком пот с головы; сапоги, оставшиеся еще со времен работы на заводе. Он постарел. Волосы на висках поседели, а на макушке появилась лысина. Но и для Биттори годы не прошли даром.
– Я не ссориться пришла. Ты мне ничего плохого не сделал, да и я тебе, кажется, тоже ничего плохого не сделала. Или сделала? Значит, я ошибаюсь. Но в таком случае охотно попрошу у тебя прощения.
– Ты ничего не должна у меня просить. Что было, то было. Ни ты, ни я изменить прошлое не можем.
– А что было? Я ведь знаю далеко не все. Вот мне и подумалось: а вдруг Хошиан добавит то, чего в моей истории не хватает? Только поэтому я сюда и пришла. Хочу услышать правду. Ну а потом сразу уйду. Обещаю, что сразу уйду.
– Значит, ты каждый божий день приезжаешь в поселок, чтобы люди рассказывали тебе что-то о прошлом?
– Этот поселок такой же мой, как и твой.
– Кто ж спорит?
– Но ведь сразу видно, что ты обращаешься со мной как с пришлой, словно меня занесло сюда к вам ненароком. Ты ошибаешься. Я опять живу в своей квартире, как и прежде, как и всегда жила. И эта квартира тебе отлично знакома. Ты, помнится, часто к нам туда заглядывал.
– Послушай, нет мне никакого дела до того, где ты живешь.
В первый раз после прихода сюда губы Биттори изогнулись в легкой улыбке. Даже лоб словно разгладился. Самый кончик одной туфли у нее немного испачкался в глине. Они так и не двинулись с места – их по-прежнему разделяло расстояние, равное ширине дорожки. Биттори с преувеличенной опаской проверила, не наступила ли на салат.
– Ты был лучшим другом моего мужа. Так и вижу, как вы вместе катите на своих велосипедах, или играете в пелоту, или сидите за картами в баре. Помню, Мирен не раз говорила мне: “Биттори, мой-то как будто женился на твоем. Нам их теперь ни за что не разлучить, хоть топором руби”.
– Неужто так и говорила?
– Сам у нее спроси, она подтвердит.
Осторожно, Хошиан. Сейчас эта женщина опутает тебя своей сетью. Зачем ты позволил ей войти на участок? И тотчас он невольно увидел себя куда более молодым, увидел, как обгоняет Чато на велосипеде в порту Орио. Увидел, как они играют в пелоту на площадке и на кон поставлено сорок дуро. Увидел, как они вдвоем на кухне гастрономического общества ставят греться свой ужин. Как ссорятся в “Пагоэте” – ну и осел же ты! – из-за последнего неудачного хода.
Он вперил свой уже потеплевший от воспоминаний взор в ее глаза, холодные и равнодушные.
– Я всегда был ему другом.
– Да, только почему-то перестал с ним здороваться, да и заходить к нам перестал.
– Это совсем разные вещи.
– И на похороны не пришел. На похороны твоего убитого друга.
– В чем ты хочешь меня обвинить? Я оставался ему другом, хоть и не здоровался с ним. Я не разговаривал с Чато, потому что с ним тогда нельзя было разговаривать. Вы неправильно повели себя. Вам надо было уехать из поселка. На год, на два, на столько, на сколько потребуется. И сейчас он был бы жив, и вы смогли бы вернуться. Кроме того, живи вы в другом месте, многие из нас охотно вам чем-то помогли бы.
– Не знаю, как другие, а вот ты и теперь в состоянии помочь мне.
– Это вряд ли. Время нельзя повернуть вспять.
– Ты прав. Воскресить Чато нам не по силам. Услугу ты мог бы оказать лично мне. Дело простое. Спроси кое-что у своего сына от моего имени.
– Не вороши прошлое, Биттори. Мы тоже страдали и продолжаем страдать. Живи своей жизнью и не мешай нам жить нашей. Каждый в своем доме. Сейчас наконец-то наступил мир. И лучше забыть о том, что было прежде.
– Но если человек страдает, то как он может забыть?
– Не думаю, что Мирен будет приятно узнать, о чем ты мне тут толкуешь.
– А зачем ей узнавать?
Немного поколебавшись, Хошиан быстро ушел в сарай, давая тем самым понять гостье, что считает их разговор оконченным.
Голос Биттори, которую он уже не видел:
– А разве тебе не любопытно услышать, что бы я хотела спросить у Хосе Мари? – Она ждала ответа, но напрасно, и поэтому продолжила: – Кое-кто видел его в поселке в тот самый день, когда убили Чато.
Голос из сарая:
– Брехня.
– Да выйди же ты на свет божий. Посмотри мне в глаза.
Он вышел. У него слегка дрожала нижняя губа. А глаза почему так блестели? От слез?
– На суде это не доказали.
– Вот и спроси его от моего имени, Хошиан. Спроси в следующий раз, как поедешь на свидание, он или нет стрелял в Чато. Мне нужно узнать это поскорее, так как долго я не протяну. И поверь, злобы я на него не держу. Во всяком случае, доносить не стану. Больше всего я боюсь, что меня похоронят, прежде чем я узнаю все подробности убийства. И скажи сыну, что, если он попросит у меня прощения, я его прощу, но сначала он должен его попросить.
– Биттори, ради бога, не вороши прошлое.
Но просьба его была напрасной, так как прошлое она уже разворошила. Биттори осмотрелась кругом. Терраса, бетонная стена, фиговое дерево.
Держа берет в руке, Хошиан глядел вслед Биттори, которая удалялась по дорожке, полого идущей вверх.
50. Нога солдата
Едва он переступил порог, сестра, даже не поцеловав его, спросила: видел новости по телевизору? Горка с расстроенным видом вяло кивнул. И сказал, что ему было стыдно, очень стыдно.
– Что ж тут удивительного? Кому приятно иметь в своей семье убийцу?
В глазах Горки вспыхнуло что-то вроде мольбы, и это означало: не будь такой безжалостной. Хотя от перечня преступлений, в которых обвинялась та боевая группа, волосы вставали дыбом.
Аранча похлопала Горку по длинной, сутулой спине: молодец, что не пошел по пути, выбранному нашим братом. И добавила, подражая голосу телеведущей: “Он опасный террорист”. В розыск были объявлены три члена организации. Их фотографии появились на экране. На средней – Хосе Мари, длинные волосы, серьга в ухе, совсем молодой.
Да, теперь он и вправду стал знаменитым. Аранче уже звонили из поселка. Кто? Бывшая подруга. Чтобы что-то там такое выразить.
– Мне хотелось послать ее ко всем чертям. Но я не рискнула. Чего бы я этим добилась? Только врага себе наживу, пойдут пересуды, и от меня в мгновение ока многие отвернутся.
А вот как Аранча предсказала будущее Хосе Мари, едва его объявили в розыск: либо у него взорвется бомба, когда он будет ее перевозить или устанавливать, и тогда мы получим похороны по всем правилам – с гробом, покрытым баскским флагом, с традиционным танцем и всем набором фольклорных номеров, либо его не сегодня завтра арестуют. И последний вариант будет лучшим для всех: и для его будущих жертв, которые останутся живы, и для нас, его родственников, потому что мы будем знать, что там, куда таких, как он, отправляют, он уже никому не причинит вреда и ему ничто не будет угрожать; для него самого, потому что он узнает, что такое одиночество, а оно помогает людям много о чем задуматься всерьез.
Горка снова уныло кивнул. Сестру он решил навестить по случаю ее дня рождения и еще потому, что родители сообщили ему по телефону, что Аранча беременна. Подарки? Целых два. Книжечка для детей на баскском языке – “Синий пиратский корабль”, первая его книжечка. Какая прелесть, спасибо, честное слово, прелесть. И цветы.
Брат и сестра условились больше не говорить про Хосе Мари. Хватит. Разве в их жизни нет других важных событий? Аранча вышла из гостиной, чтобы принести вазу. Но показанная по телевизору фотография Хосе Мари, который, понятное дело, стал отныне героем для поселковых ребят, по-прежнему стояла у них перед глазами и занимала все мысли. Так что, едва цветы оказались в стеклянной вазе, Горка и Аранча опять заговорили о брате, избежать этого было просто невозможно.
Аранча:
– Я сразу позвонила родителям.
– И что они тебе сказали?
– Ama рвется в бой. Она ни черта не понимает в политике, не прочитала за всю свою жизнь ни одной книжки, но лозунги теперь из нее выскакивают залпами. Мне кажется, она просто ходит по поселку и выучивает наизусть то, что написано на плакатах. Главное для нее сейчас, конечно, защитить сына. Не знаю, – Аранча положила руки на живот, – как бы я себя повела на ее месте. Отец наш, по своему обыкновению, молчит. Правда, пользуется тем, что Хосе Мари больше не появляется в доме, и опять начал покупать “Баскскую газету”.
– Да, я отлично помню, какой скандал закатил братец, обвиняя отца в том, что он читает происпанскую прессу. Хотя отца во всей газете не интересовало ничего кроме спорта.
– И еще извещения о смерти.
– И еще кроссворды.
– Никакой политики, упаси господь. А почему бы, собственно говоря, ему не читать то, что он хочет?
– Но тогда под нажимом Хосе Мари он переключился на “Эгин”. И вечно потом спешил в “Пагоэту”, чтобы полистать там всегдашнюю свою “Баскскую газету”.
– А мать? Всякий раз, когда приезжает сюда, привозит журнал Hola![66] и прочие в том же духе, которые я уже читала. И вообще, в нашей семье все сдвинутые, тут и спорить не о чем. В семьдесят пятом году ты был совсем маленьким, поэтому не помнишь, а ведь мать горевала, услышав про смерть Франко. По-настоящему горевала и, сидя перед нашим черно-белым телевизором, даже пролила несколько слезинок словно безутешная испанка, но лучше ей об этом не напоминать. В последний свой приезд к нам она спросила, придумали мы или нет имя для ребенка. Я еще не успела ответить, а она уже насупилась. И тогда мне захотелось пошутить, и я сказала, что мы назовем его Хуан Карлос – в честь нашего короля. Она чуть в обморок не грохнулась.
Брат с сестрой пили чай с песочным печеньем. Они были одной крови. Всегда друг друга понимали. И в детстве, и в юности, и сейчас. В окно был виден фасад многоквартирного жилого дома. Спальный район. Развешанное на веревках белье. Газовый баллон на балконе напротив. Мужчина в майке стоит, опершись на перила, и курит. Гильермо рассказывал, что какое-то время назад отсюда можно было различить часть горы Хайскибель, но потом построили вот этот ужасный дом – и прощай, прекрасный пейзаж.
Аранча спросила брата:
– Когда вы с Хосе Мари жили в одной комнате, он не пытался убедить тебя, что и ты тоже должен участвовать в их манифестациях?
– Постоянно. Меня спасало только то, что я в то время был еще совсем мальцом. А он твердил, что года через три-четыре, по его расчетам, я должен буду занять место в первых рядах. Но на деле брат вел себя иначе. Однажды мы столкнулись с ним на какой-то акции против полиции, и он прямо взбесился. Кричал: уходи немедленно, иди куда-нибудь в задние ряды, не понимаешь, что ли, что можешь схлопотать так, что мало не покажется?
– А тебя-то зачем туда понесло?
– Затем, черт возьми, что все пошли.
Хосе Мари, по мнению Горки, участвовал в таких мероприятиях по той же причине. Во всяком случае, поначалу. Это был своего рода спорт. Или забава, куда ходили за компанию. Ты идешь, рискуешь, иногда получаешь по башке – и ура! А потом в баре все выпивают, закусывают, обсуждают недавнюю заваруху – и ты чувствуешь приятное щекотание где-то внутри при мысли, что тоже заразился той же лихорадкой, которая возбуждает всех остальных и объединяет вас, вдохновляет на общее дело. Вечером, лежа в постели, Хосе Мари любил пофанфаронить. Он запустил камнем в какого-то beltza[67], прямо в шлем попал, аж зазвенело. Поджег автомат по продаже билетов, уже пятый за месяц. И он смотрел на брата, чтобы насладиться восторгом в ребячьих глазах. Хотя с такой же гордостью рассказывал о своих победах в матчах по гандболу. Потому что политика была для него тоже спортом, развлечением – пока перед ним не разверзлась бездна.
Теперь, когда Горка размышляет о прошлом, ему кажется, что Хосе Мари воспылал беспредельной ненавистью и стал настоящим фанатиком, да еще агрессивным фанатиком, после того как был найден на реке Бидасоа труп водителя автобуса из Доностии. Труп в наручниках.
– Ты про Сабальсу?
– Да, про него.
Горка помнит, в каком возбуждении пришел домой брат. У него не было ни малейших сомнений, как и у его приятелей, что шофер умер под пытками в казарме Инчаурронды. Убили они его, или он у них там сам в конце концов умер, не важно, главное, что потом дело было представлено так, будто арестованный сбежал, но в это и грудной младенец не поверил бы. Потрясенный Горка следил, как брат мечется по комнате. И внутри у Хосе Мари теперь бушевала уже совсем другая ярость, она была куда более неукротимой, чем прежняя, и Горка уловил и в его словах, и в его ругательствах бешеное желание ломать, крушить, мстить – желание сеять беду, много беды. Где? Все равно где – сеять беду любым способом и где придется.
– Вот тогда-то он и научил меня делать коктейль Молотова. И в одну из суббот мне пришлось пойти с ним на карьер. Хватит, сказал он, время на книжки тратить. И я, следуя его инструкциям, сварганил полдюжины бутылок с зажигательной смесью, а потом мы их бросали – пим-пам – о скалу. Вскоре Хосе Мари запустил бутылкой в какого-то солдата на бульваре в Доностии. Брату было по барабану – солдат это или гвардеец. У солдата загорелась нога. Мог бы и совсем сгореть. К счастью, его товарищи действовали быстро и самого плохого не случилось. Хосе Мари не видел под формой человека, который зарабатывает такой службой на жизнь, человека, у которого, возможно, есть жена и дети. Мне не хватало храбрости сказать это брату, но, клянусь тебе, я считал таких, как он, настоящими чудовищами. А потом, на следующий день, он просто взбесился из-за того, что ни одна газета даже не упомянула о пострадавшем солдате.
Зато приятели угостили его ужином. Такой у них был уговор: вроде как награждать каждого, кто подожжет полицейского.
51. На карьере
Как в кино. Честное слово. Горка вышел из дому поздним утром и направился в библиотеку. Суббота. Вокруг тихо и спокойно. Синее небо, редкие облачка, не холодно и не жарко. Он увидел ее на противоположной стороне улицы, большую, толстую. И Хошуне, вместо того чтобы ответить на его приветствие, поднесла палец к губам, словно требуя, чтобы он вел себя потише. И губы у нее при этом были то ли слишком тонкие, то ли она их закусила.
Потом девушка двинулась за ним, отставая на шаг.
– Только не оборачивайся. Иди вперед, иди.
И он не оборачивался, он шел. Когда они завернули за угол, она все так же едва слышно попросила/велела ждать ее в церкви. На этом они и расстались.
Горка сел на скамью в последнем ряду. В церкви никого не было. Не было и другого освещения, кроме света, проникавшего снаружи сквозь пущенные поверху витражи. Ну хорошо, а если появится священник, что я ему скажу? У меня, мол, вдруг случился приступ набожности? Хошуне заставила себя ждать больше двадцати минут. Горка злился, хотя и догадывался, что, судя по всему, случилось что-то серьезное. Он листал уже прочитанные книги, которые собирался вернуть в библиотеку. Смотрел на часы, разглядывал алтарь, скульптуры, колонны, снова листал книги. Наконец по легкому скрипу дверных петель и внезапному промельку света за спиной он догадался, что девушка открыла дверь. Потом она знаком велела ему следовать за ней под лестницы, ведущие на хоры.
– Если кто войдет, пусть даже знакомый, сразу расходимся каждый в свою сторону. Это я к тому, что за мной, может быть, следят.
– Кто за тобой следит?
– Как кто? Полицейские. Но точно я не знаю, понял? Запросто могут меня использовать, чтобы схватить их. Хосе Мари хочет с тобой встретиться.
Они шептались в темном углу под лестницами. Горка согнулся чуть не пополам, чтобы не удариться головой о ступени. Хошуне не сводила глаз с центрального прохода и со скамей, чтобы сразу заметить, если там кто-то появится.
– Твой брат с Хокином ждут тебя на карьере. Они сами все объяснят. Я в их дела впутываться не желаю. Хватит и того, что передаю тебе его поручение.
– Послушай, но ведь для меня это тоже опасно?
– А ты поглядывай, чтобы никого туда за собой не привести. А там уж эти двое расскажут тебе, что должны рассказать.
Они условились, что первой из церкви выйдет она. А Горка – обещай мне! – посидит здесь еще двадцать минут. Но лучше больше, чем меньше.
– И не забудь спросить у брата, не хочет ли он мне чего передать.
Горка решил сперва зайти в библиотеку. Зачем? Книги будут ему мешать, и еще чтобы не вызывать подозрений. Не исключено ведь, что его видели вместе с Хошуне и теперь будут следить и за ним тоже.
Хошуне:
– Они же понимают, что те, кто скрывается, могут попытаться связаться с родственниками и друзьями – попросить помощи, денег или еще чего. Так что kontuz[68]. Лично я сказала тебе все, что было нужно.
И она ушла – толстая, с тонкими, едва заметными губами. Ну что мог найти брат в этой девахе? Трудно понять. А пока Горка заразился от нее страхом. Чего он боялся, кого? Объяснить это он и сам не смог бы. Но на всякий случай еще с полчаса просидел в церкви. Пытался читать, да какое уж тут чтение.
Он вышел на площадь. Постоял немного, чтобы как следует оглядеться. Посмотрел направо, налево, вперед, на окна. Грузовик с бутаном, знакомые лица, голуби, отыскивающие съедобные крошки. Горка почувствовал острую тревогу. Мать твою…
А ведь как до этого все было спокойно. Он прошел мимо мясной лавки Хосечо. Интересно, знает тот или нет, в какую историю влипли его сын и мой брат? Горка вышел из библиотеки через боковую дверь, ведущую в переулок, – без книг, которые собирался взять. Опять бросил взгляд в одну сторону, потом в другую. Никого. А что я буду читать до понедельника? Что?
На карьер он поднялся, дав кругаля. Внизу, над крышами, колокол отбивал полдень. Запах травы. Несколько коров, пасущихся с равнодушным видом. Горка то и дело оглядывался. Никого. Он пошел на хитрость: свернул с дороги в поле, еще сырое от утренней росы. У него за спиной лежала широкая полоса без единого дерева, так что преследователям, если такие есть, будет невозможно остаться незамеченными.
Брата и его друга он нашел в разрушенном доме. Заметив Горку, кто-то из них громко свистнул. Вот тебе и осторожность! Они спросили, не следил ли за ним кто. Нет, насколько он мог судить.
– А что вы тут делаете?
– Ничего, просто эти собаки, которые вчера свинтили Колдо, вечером прикатили и за нами. Мы только чудом спаслись.
Убежали в чем были. Ночь просидели скорчившись здесь, в углу этого то ли склада, то ли хранилища без окон и дверей, в котором к тому же обрушена часть крыши. Хокин: слава богу, что сейчас не зима. Оба мечтали только об одном – как бы побыстрее перейти границу Франции. В таком виде? Невозможно. У Хокина на ногах были домашние тапочки. Хосе Мари без куртки, в одной рубахе. Он жаловался, что хочет спать и есть. А Хокин страдал без курева.
– Ты-то ведь не куришь, как мне помнится?
Горка не успел ответить, его опередил брат:
– Этот только книжки свои читает и больше ничего не делает.
Денег у приятелей было при себе совсем немного. Немного? Это сколько? По правде сказать, очень мало. Какая-то мелочь в карманах, к тому же Хосе Мари что-то из нее потратил, звоня из телефонной будки своей подружке Хошуне.
Гвардейцы прокололись, что и дало приятелям возможность удрать.
– Эти кретины ошиблись квартирой.
Ошиблись? Да, можно сказать и так. А вот что было до этого. Несколькими днями раньше наши молодцы обнаружили, что протекает труба на третьем этаже. А они вместе с Колдо снимали жилье на втором. На потолке появились мокрое пятно и черные разводы (грибок?). Судя по всему, началось это не сейчас. Просто никто протечки не замечал. Хозяину не оставалось ничего другого, как начать ремонт. И он предложил им на ближайшее время поселиться на первом этаже в квартире справа. А чтобы возместить неудобства, обещал не брать с них квартплату за весь этот срок. Чистая выгода. Они согласились.
Короче, полицейские выбили дверь на втором этаже, воспользовавшись полученной от Колдо информацией. Как стало известно через несколько месяцев, ему здорово досталось: и головой в воду окунали, и били, пока он сознание не терял. Колдо задержали днем на улице и привезли в казарму в Инчауррондо. Задержали не случайно. Их искали, но выследили только его одного. Колдо, понятное дело, под конец заговорил, а кто бы не заговорил? Только вот умолчал (или потерял сознание, прежде чем выложить все?) об одной мелочи – что временно они перебрались в другую квартиру.
Его товарищи вернулись часов в девять вечера и с удивлением обнаружили, что Колдо дома нет. Куда этот козел подевался? К тому же была как раз его очередь готовить ужин. А он даже хлеба не купил. И тут раздался быстрый топот сапог. Где? На лестнице за дверью. Слышишь? Хокин осторожно выглянул в форточку в уборной. И увидел полицейские машины.
– За нами.
Они выпрыгнули через кухонное окно на задний двор. Хосе Мари даже телевизор не успел выключить. Прыти им было не занимать, и оба мгновенно растворились в темноте – со всех ног кинулись в сторону гор. Луна освещала им дорогу. До места добежали на последнем издыхании, спали плохо, если, конечно, это можно назвать сном. Без кроватей, без одеял, без курева, которое могло бы послужить хоть каким-то утешением. Дерьмовая история. Но т-с-с! – больше ни слова. Это и есть борьба.
– Теперь, брат, все зависит от тебя, не подведи.
– А что я-то должен сделать?
– Во-первых, пойдешь в “Аррано” и переговоришь с Пачи. Если его нет, больше никому ни слова. Понял? Никому. Пусть он через тебя передаст нам указания, как перебраться в Ипарральде, а еще – пришлет еды и питья. Только будь осторожен. Не вздумай поднос с едой на голове нести, потому что по поселку наверняка шныряют полицейские в штатском. Скорее всего, Пачи даст тебе еще и какие-то деньги для нас. Ты их получше запрячь и тоже доставь сюда.
Горка в ответ только кивал.
– И не вздумай зайти домой и рассказать все родителям. Я сам им напишу при первом же случае.
Хокин:
– И в мясную лавку тоже не заходи. А если встретишь кого из моих родичей на улице, молчи, понял?
Горка опять кивнул: понял.
Хосе Мари:
– А теперь о самом сложном. За домом, где мы жили, стоят наши велосипеды, у стены под навесом. Снимешь замки, – они дали ему два ключа, – и пригонишь сперва один велосипед и то, что передаст для нас Пачи. Велосипед Колдо легко определить – ключа от его замка у тебя нет. Пока мы будем есть, ты сходишь за вторым. Нам надо отчалить отсюда не позднее четырех. Получится раньше – хорошо. Все зависит от тебя.
Горка спустился в поселок, выполнил их поручения, вернулся на велосипеде и доставил конверт, полученный в “Аррано” от Пачи, но ни бутербродов, ни питья не привез. В конверте лежали деньги, чтобы Хосе Мари с Хокином какое-то время на них протянули.
Когда Горка пришел в карьер, оба о чем-то спорили.
– Вы так орете, что вас издалека слышно.
Хокин требовал, чтобы Горка сходил в их квартиру и забрал его ботинки. Потому что он не желает ехать во Францию в тапках. А еще потому что все сразу обратят внимание на человека, который в таком виде путешествует на велосипеде. Хосе Мари дал себя уговорить.
Брату:
– Возьми ключ. Если не заметишь ничего подозрительного, заходи. Если зайдешь, возьми его ботинки и мою куртку – она висит за дверью.
– И сигареты.
– Но только если будешь твердо уверен, что нет ни малейшей опасности. Я не хочу, чтобы тебя из-за нас арестовали.
Вскоре Горка вернулся со вторым велосипедом. И рассказал, что в квартиру не входил, так как у подъезда крутились какие-то непонятные типы. Наглое вранье. Просто ему не захотелось там лишний раз светиться.
Хосе Мари:
– Ладно, не важно.
Хокин:
– Какой у тебя размер ноги? – И взял у Горки его ботинки в обмен на свои тапочки, сославшись на то, что: – Тебе ведь только до дому дойти.
Они обнялись на прощанье. А Хосе Мари еще и звучно, по-братски, поцеловал Горку в щеку.
– Ты у нас парень что надо и всегда был что надо, мать твою за ногу.
Уже собираясь уходить, Горка вдруг вспомнил про поручение Хошуне:
– Ничего не хочешь ей передать?
Хосе Мари уже нажал на педали:
– Скажи, чтобы жила своей жизнью.
И оба друга уехали, а Горка, которому в ту пору было только шестнадцать, смотрел, как они катят на своих велосипедах в сторону шоссе – Хосе Мари в шерстяном жакете, позаимствованном на время у брата, Хокин в его же ботинках. И Горку кольнуло дурное предчувствие.
52. Великий сон
– А почему ты не рассказал мне об этом тогда же? Я была уверена, что мы друг другу доверяем.
– Мне было шестнадцать. Я здорово перетрухнул. Подумай сама: когда несколько дней спустя в доме родителей устроили обыск, я не сомневался, что это пришли за мной, а не за Хосе Мари, который, в конце-то концов, успел из поселка свалить. Сколько ночей я не спал!
– А родителям ты тоже ничего не рассказал?
– Никому.
Аранча строго/сочувственно упрекнула его. Неужели Горка не понимал, что, отправляясь за велосипедами, становился соучастником тех, кто готовился стать террористами. По ее мнению, Хосе Мари поступил подло (когда она говорила это, лицо у нее напряглось, губы поджались, а в глазах появилась настоящая злоба), использовав брата для связи с таверной “Аррано”, хотя не мог не понимать, какому риску его подвергает. Горка ведь был еще совсем юным, но попади он в лапы гражданских гвардейцев…
– Они бы тебя не пожалели…
Взгляд у нее теплеет. Наивный, боже, какой же он наивный. Ладно, в конце концов, с тех пор утекло слишком много времени. И она, улыбнувшись, предлагает ему еще чашку чаю.
– Они ехали на своих велосипедах в сторону шоссе, и я подумал: с чего они так веселятся? У меня появилось предчувствие, что теперь я долго их не увижу.
– Хокина ты можешь навестить на кладбище. А нашего братца мы видели только сегодня – по крайней мере видели фотографию – в теленовостях. Или ты все-таки встречался с ним в последние годы?
– Я? Нет, и даже не знал, где его носило.
Горка говорит, что, пока он жил в поселке, ему было очень трудно держаться в стороне и не заразиться царящими там левыми настроениями. Поселок маленький, объясняет он, отвертеться от их дел не удалось бы. Когда устраивались манифестации, чествования или вспыхивали стычки – а что-то подобное происходило постоянно, – никто не проверял участников по списку, но всегда находились зоркие глаза, которые внимательно следили, кто пришел, а кто нет.
Сейчас Горка рассказывает сестре, что время от времени он заглядывал в таверну “Аррано”. Заказывал маленький стакан пива, толкался там минут пятнадцать, чтобы только его заметили, – и до свидания. На самом деле он не выносил даже запаха этого заведения. Кроме того, Горка так и не пристрастился ни к сигаретам, ни к выпивке, да и спорт его, как он выражается, не возбуждал. Все знали о его увлечении чтением. Все знали, что парня не привлекают гулянки и кутежи и по вечерам он предпочитает оставаться дома. Запирается у себя в комнате или сидит в муниципальной библиотеке. В шутку его называли монахом. Но на самом деле уважали за то, что он хорошо владеет родным языком – эускера. И еще за одну вещь. Что, по его собственному признанию, служило ему верной защитой:
– То, что я был братом Хосе Мари, придавало мне весу. Брат в ЭТА – не шутка! Я мог казаться им странным, замкнутым, необщительным, но никто не ставил под сомнение мои политические взгляды.
– Как? У тебя были политические взгляды?
Горка только улыбнулся в ответ. Хороший вопрос! Он попытался отшутиться:
– Раз в пять месяцев какой-нибудь один у меня появлялся, но тотчас исчезал без следа.
В этой связи ему вспоминается давняя ссора. С кем?
– С матерью. Однажды она влетела ко мне в комнату и принялась вопить, что вот я сижу тут со своими книжками, в то время как мой брат жизнью рискует ради Эускаль Эрриа, да и другие жители поселка вышли на улицу, чтобы протестовать против не помню уж чего. И добавила, что если Хосе Мари узнает, он сильно расстроится.
– А ты?
– А что мне оставалось? Взял зонтик и пошел на манифестацию, чтобы поорать вместе со всеми.
Ему еще и семнадцати не исполнилось, когда он вполне трезво оценил свое положение и сделал однозначные выводы. Чтобы спастись, надо было либо уезжать из поселка (в Доностию, Бильбао или в любой город за пределами Страны басков), либо отправляться учиться. Поступить в университет было его великой мечтой. Заниматься баскской филологией, или, скажем, психологией, или чем-то в том же роде. Учиться чему угодно в парижском или лондонском университете – ты только представь себе! Правда, приятелям он ни словом о своих планах не обмолвился.
– Зато со мной ты это обсуждал.
– Начал я с отца.
Воскресный день. Горка решил, что застанет Хошиана на огороде. Спустился туда и действительно увидел его – тот собирал ветки и сгребал листья, чтобы сжечь на костре. Сын прекрасно знал, что этот человек, все свободное время посвящавший своему участку, ходивший в пыльном берете, человек, у которого руки огрубели за несколько десятилетий работы в литейном цехе, мало что мог решить в важном для Горки деле, хотя именно он приносил домой деньги и содержал семью. Так или иначе, но Горка хотел прозондировать почву.
Учиться? Мысль показалась Хошиану отличной. Он только об этом и мечтал: сын – врач, как у Чато, или толковый руководитель предприятия, богач, у которого шкаф битком набит галстуками. Горка напомнил отцу, что это предполагает определенные расходы (плата за обучение, книги, возможно, какие-то поездки и съемное студенческое жилье в городе). Хошиан поначалу не вспомнил о такой мелочи:
– Во черт! Тогда ты должен спросить у матери.
Мирен не раздумывала ни минуты. Об этом не может быть и речи.
– Хочешь учиться – иди работать и сам оплачивай свою учебу. Мы и так еле сводим концы с концами, ведь твой отец зарабатывает сущие гроши. Откуда нам взять такие деньги? Затянув как следует пояса, мы могли бы тебе немного помогать, но это будут крохи, а все расходы нам никак не покрыть.
И она тут же принялась жаловаться и причитать. Мол, Хосе Мари во Франции, денег, мол, едва-едва хватает, чтобы прожить от зарплаты до зарплаты.
– А если я возьму кредит?
– У кого?
– У Чато. Раньше вы были большими друзьями.
И тут же на смену жалобам и причитаниям пришли крики и обвинения, и она так разошлась, так рассвирепела, что Горка никогда больше даже не упоминал в родительском доме о какой-то там учебе.
– Да, помню, и тогда ты поговорил со мной? Но я ничем не могла тебе помочь. Клянусь. С моим-то скромным заработком продавщицы в обувном магазине… Кроме того, мы с Гильермо тогда уже решили пожениться и считали каждую песету.
– Я тебя прекрасно понимаю. И никакой обиды у меня не осталось. Мало того, потом, года через два или три, я мог бы и сам оплатить себе учебу, но было уже поздно, мой поезд ушел. Сейчас в Бильбао дела у меня идут неплохо. Зарабатываю какие-то деньги на радио – немного, конечно, зато получил возможность заниматься тем, что мне больше всего нравится, – я пишу. Видишь, и книжка у меня вышла. В следующем году, дай бог, выйдет вторая. Меня приглашают на встречи с читателями в разные икастолы. Платят за это хорошо, даже очень хорошо. Я ведь способствую распространению баскского языка. Вот так и живу. А ты?
Аранча положила руки на живот:
– Вот и я буду жить. Через четыре месяца, если ничего не случится.
– А имя для моего племянника уже придумали?
– Разумеется. Реституто[69].
– Я серьезно.
– Эндика или Айтор. Одно из двух. Тебе какое больше нравится?
– Эндика, пожалуй, больше.
53. Враг в доме
Нерею приводил в восторг лозунг, который был у всех на устах и который можно было встретить повсюду: “Молодежь – веселая и боевая”. И она голосовала, чувствуя себя веселой и боевой, за “Эрри Батасуна”. Ей и в голову не приходило, что можно поступать как-то иначе. Правда, если честно признаться, веселье ей нравилось больше, чем боевые подвиги. Швырять камни, поджигать, переворачивать машины? Это для парней. Так считала она сама, и так считали ее подруги. В общем, как только начиналась какая-нибудь заварушка, девицы быстренько сматывали удочки: пошли отсюда, мы им будем только мешать.
Зато они ходили – это уж непременно – на любые митинги и манифестации, потому что в их поселке вся молодежь в них участвовала. В том числе дети макето и, само собой, дети алькальда, который был членом Баскской националистической партии. Один из его сыновей учился вместе с Нереей, и они, не отставая от других студентов, разворачивали лозунги, расклеивали плакаты, раздавали брошюры или делали надписи на факультетских стенах.
В Аррасате (Биттори называла его Мондрагон[70]) Нерея ездила в марте 87-го. О последних событиях она узнала в таверне “Аррано”.
– Что они говорят?
– Что погиб Чомин Итурбе[71].
– Каким образом?
– В Алжире в автокатастрофе.
– Точно?
– Да разве в таких делах можно хоть что-нибудь сказать точно?
Кто знает, может, это секретные агенты испанского государства или убийцы из GAL подстроили катастрофу, повредив тормоза. Если судить по выражению лиц, многие склонялись именно к такому объяснению. Пачи снял со стены портрет погибшего в рамке. Провел по нему тряпкой и поставил на барную стойку, где каждый входящий мог его увидеть.
В ближайшие дни газеты подтвердили официальную версию. В той же машине ехал алжирский полицейский, он тоже погиб. Была там и еще одна пассажирка, член ЭТА, но для нее вся история кончилась всего лишь загипсованной рукой. Сплошное вранье. Но, как говорила кому-то шепотом и с глазу на глаз Аранча, у которой брат во Франции обучался убивать, если только уже не включился в активную борьбу: в нашей стране правда умерла давным-давно.
– Ты что, тоже собралась туда ехать?
Биттори планы дочери совсем не понравились.
– Конечно, ama. Вся молодежь из нашего поселка туда поедет.
Вся? Аранча не поехала. Еще накануне, в субботу, она объявила, что плохо себя чувствует. Температура, озноб – наверняка простудилась. Подруги дружно решили, что лучше ей поскорее пойти домой и лечь в постель. Горячее молоко с медом – и давай потей под кучей одеял. Не исключено, что, приняв такие меры, утром она проснется вполне здоровой и сможет вместе с ними поехать в Аррасате на похороны/чествование погибшего героя. Так что Аранча распрощалась с ними довольно рано. А ее подруги по дороге на дискотеку обсуждали завтрашнюю поездку.
Было известно, что утром с площади туда отправятся два автобуса (все расходы берет на себя мэрия). Но подругам хотелось добраться до места самостоятельно, то есть на машине Нереи. Ну, лучше было бы сказать, на машине Чато, которую Нерея у отца попросит, а он наверняка не откажет, так как по воскресеньям она ему не нужна и, кроме того, он вообще никогда и ни в чем дочери не отказывает.
– По-моему, ты поступаешь неправильно.
– Да ладно тебе, мама. Едут мои подруги. Что они обо мне подумают, если после того, как мы обо всем договорились, я позвоню и скажу, что лучше им на меня не рассчитывать? Даже Аранча, которая совсем раскисла, пораньше отправилась домой, чтобы отлежаться и завтра поехать вместе со всеми.
– Разве ты не знаешь, что этот человек был одним из руководителей ЭТА и по его приказу убили много людей?
Нерея закатила глаза, терпение ее было на исходе:
– Пойми, мама, Чомин много лет стоял во главе борьбы нашего народа. Он бросил все – дом, работу, семью – ради Эускаль Эрриа. А сколько раз его хотели убить! Для баскской молодежи он идол. Герой. Да что там герой! Бог. Так что сделай мне такое одолжение: когда выходишь на улицу или заглядываешь в лавки, прикуси язык, прежде чем сказать о нем хоть одно дурное слово, иначе наживешь себе неприятностей, а заодно и меня подставишь. И еще: разве ты хоть что-нибудь понимаешь в политике? Твое дело – молиться и ходить к причастию, а уж нам позволь заниматься нашими делами.
Десять вечера. Чато еще не вернулся из своего гастрономического общества, где он сейчас, надо полагать, заканчивает ужин. Наверняка домой вернется не слишком поздно, так как на следующий день ему предстоит воскресный этап на велосипеде и вставать придется рано. Когда он пришел, Нерея уже легла спать. В те времена никто еще ничего не писал против Чато на стенах домов, он по-прежнему наведывался в бар и по субботам ужинал с друзьями, но уже успел получить не одно письмо от организации. Однако Нерея об этом понятия не имела. Как и Шавьер. Супруги долго перешептывались в постели.
– Ты должна ее понять. Она молодая.
– В таком возрасте уже пора соображать, что хорошо, а что плохо.
– Знаешь, если все как следует взвесить, то, по-моему, лучше ей поехать в Мондрагон.
– Чтобы выразить свою поддержку банде, которая вымогает деньги у ее отца?
– Нерее ничего про это не известно. И я не хочу, чтобы было известно. А то испугается еще. Не мешай ей, пусть едет с подругами и развлекается на здоровье.
– Ага, и пусть кричит: “Да здравствует ЭТА!” Ты что, пьяный?
– Ну, выпил немного. Пока моя дочь будет ладить с националистами, ее оставят в покое.
– Для меня это все равно как если бы в доме у нас поселился враг.
– Будем надеяться, что я улажу свои дела и наших детей эти неприятности не коснутся.
– Просто ты во всем потакаешь девчонке. Только подумай: она поедет на похороны главаря ЭТА на машине отца, которому ЭТА шлет письма с угрозами! Господи, спаси нас и помилуй, да где же такое видано! Бред какой-то!
Нет, мать должна ее понять, Нерея еще молодая. Целых двадцать минут они спорили и шипели друг на друга, пока не развернулись спина к спине и не погрузились в сон.
Как это нередко случалось по воскресеньям, Чато встал еще до рассвета. Слегка отодвинул штору и при свете фонаря, стоявшего напротив их дома, проверил, нет ли дождя. На кухне, уже облачившись в велосипедную форму, выпил кофе без молока – это был весь его завтрак. Взял грушу и яблоко на дорогу, наполнил фляжку водой из-под крана и отправился в гараж за велосипедом.
Тем же утром, но много позже Биттори опять попыталась мягко и ласково отговорить Нерею от ее затеи, хотя дочка была уже совсем готова к выходу:
– Ну а если я тебя очень попрошу?
– Нет, ama.
– Сделай это ради меня, ради твоей матери.
– Ты хочешь, чтобы я рассорилась с подругами?
Биттори стиснула зубы. От злости? Нет, чтобы не наговорить лишнего. Если их перепалка продлится еще хотя бы минуту, она выложет дочери всю правду про письма от вымогателей. Иисус, Мария и Иосиф! И что тогда скажет Чато?
Они простились холодно и даже не поцеловались. Но Биттори все-таки выглянула в окно, чтобы посмотреть, как дочь идет в сторону гаража за отцовской машиной. Худенькая и стройная Нерея несколько раз весело подпрыгнула, как любят делать маленькие девочки, но что вряд ли прилично для взрослой женщины.
Стоя за шторой, Биттори с досадой покачала головой:
– Вот дура-то!
54. Вранье про температуру
Было уже больше одиннадцати. Сколько именно? Ну, может, четверть двенадцатого плюс еще несколько минут. Немаловажная деталь: национальный флаг на балконе мэрии был приспущен. Со стороны гор небо затянули тучи (утром даже пару раз сверкнула молния), со стороны реки и шоссе, ведущего в Сан-Себастьян, тоже, но с просветами. Набитые под завязку автобусы – в основном молодежью – только что отъехали.
Нерея, весело сигналя, прикатила на площадь. На галерее ее ждали две подруги, и обе держали в руках флаги с обернутыми вокруг древка полотнищами. А где же Аранча? Нерея спросила про нее, еще не успев выйти из машины. Девушки думали, что Нерея заедет за ней сама. Неужели по-настоящему заболела? Аранча жила совсем близко, за церковью. Нерея: сейчас вернусь. И пока подруги грелись в машине – было не особенно холодно, но все-таки, черт возьми, достаточно свежо, – она поспешила к дому Аранчи. Туда, где бывала столько раз и где в детстве столько раз ночевала. Туда, куда больше уже никогда не вернется, хотя об этом она тогда еще не подозревала.
Знакомая дверь, латунная табличка с фамилией хозяев, звонок, на который она нажимает тоже в последний раз.
Дверь открыла Мирен:
– Там она, у себя. Не знаю, что с ней такое.
И пригласила Нерею войти, а та направилась прямиком в комнату подруги. Аранча лежала в постели полностью одетая. Неужели быстренько улеглась, услышав, что пришла Нерея?
– Болеешь?
Та ответила, что чувствует себя неважно, хотя, надо заметить, и весь ее вид, и нормальный голос, и решительный взгляд свидетельствовали об обратном. Поначалу Аранча пустила в ход те же аргументы, что и Биттори. Правда, словарь у нее был другой. Пойми, речь идет о человеке, не знавшем жалости, главаре убийц, который самолично решал, кому жить, а кому умереть. Прислонившись спиной к изголовью кровати, Аранча попробовала его изобразить:
– Убейте того, убейте этого.
Отличалась она от Биттори еще и тем, что выражение лица у нее не было скорбным и она не таращила испуганные глаза. Юное лицо выражало тоску. Тоску? Нет, лучше сказать, горечь. Горечь, сквозь которую просвечивало возмущение. Это подтвердили и ее слова:
– Так что вы уж, пожалуйста, поезжайте без меня. Я не желаю участвовать в этом карнавале смерти. В другие времена я бы с вами поехала. Сейчас – ни за что.
– Из-за Хосе Мари?
– Когда он вступил в организацию, у меня словно повязка упала с глаз. И дело не в том, что я вдруг иначе стала смотреть на вещи. Просто я наконец научилась кое-что видеть.
– Да ладно тебе, не занудствуй. Никто ведь не заставляет нас идти в первом ряду.
– Я не желаю идти ни в пятом, ни в самом последнем.
– К тому же это ненадолго. А потом сядем в машину и вчетвером где-нибудь повеселимся. Я бы выбрала Сараус, хотя мне на самом деле без разницы. Хочешь, поедем куда-нибудь еще. Отнесись к этому как к экскурсии.
Беспечные глаза Нереи натолкнулись на ледяной взгляд Аранчи. Внезапно между ними повисло молчание. Две или три секунды они смотрели друг на друга не мигая – такая вот получилась замороженная картинка. Они словно изучали друг друга. Одна с изумлением и оторопью, вторая сурово, как чужая, и вроде даже с осуждением.
– Ну так что? Меня там ждут.
– Если ты считаешь, что должна идти, иди.
В этот миг какая-то нить между ними беззвучно разорвалась. Какая? Нить любви и доверия, давнишний негласный договор о дружбе. Однажды в субботу швейцар в дискотеке KU по какому-то надуманному поводу завернул на пороге одну девушку из их компании. Давно это было. Тогда и остальные подруги тоже отказались входить в зал. Или все – или никто. И на глазах у тучного и слишком придирчивого швейцара они разорвали только что купленные билеты. Да пошел он в задницу!
– Могу я попросить тебя об одолжении?
– Да, конечно.
– Не рассказывай ничего нашим девчонкам. Скажи, что у меня температура, что я неважно себя чувствую.
Задумчивая, разочарованная Нерея вышла из комнаты, в которую ей уже больше никогда не суждено будет войти, пересекла гостиную, которую ей уже больше никогда не суждено будет пересечь, и в последний раз поговорила с Мирен, которая спросила, уже открыв ей дверь:
– Что там у нее?
– Небольшая температура.
– Знаешь, с тех пор как стала гулять с этим типом из Рентерии, она ведет себя как-то чудно.
Минуту спустя Нерея повторила ту же ложь про температуру, сев в машину. Подруги тронулись в путь. Шоссе, слава богу, было сухое, до Беасайна машин довольно много, потом гораздо меньше. Мы приедем последними. Одна из девушек сказала, что без Аранчи все будет как-то не так, да и веселья настоящего не получится. Веселья?
– Радость моя, а ты не забыла, что мы на похороны едем?
Как часто случалось в те времена, они натолкнулись на пикет гражданской гвардии. Где? Когда до Аррасате оставалось километров восемь – десять. И пристроились в конец длинной очереди из машин. На первый взгляд это напоминало обычную автомобильную пробку. Но быстро выяснилось, что дело не в пробке, – впереди одну за другой проверяли все машины и у всех подряд спрашивали документы. По обеим сторонам шоссе были расставлены машины гражданской гвардии, а поперек проезжей части растянуты две цепи с металлическими шипами – одна в начале, другая в конце импровизированного пропускного пункта. Сверху на насыпи стояли несколько гвардейцев, и каждый держал палец на спусковом крючке своего автомата. Ниже, спрятавшись за кустами, застыл еще один, в той же позе. А еще один укрылся за деревом. И все они были готовы в любую секунду пустить оружие в ход.
Девушкам резким жестом велели остановиться. Нерея опустила окошко. Ни тебе здравствуйте, ни пожалуйста. Гвардеец унес три их удостоверения в фургон, где каждое было должным образом проверено. Не числится ли чего за их хозяйками. Возвращая документы – медленно, с ленцой, чтобы подольше задержать девушек и чтобы они знали, кто главный на этом отрезке дороги, от этой вот горы и до той, – гвардеец спросил, куда они направляются. Как будто сам не знал. И с какой радости кто-то должен ему отвечать? Но лучше не связываться. Поэтому Нерея, которая в качестве водителя несла ответственность за всех, сказала:
– В Мондрагон.
Им приказали выйти из машины. И не любезно: выйдите, мол, пожалуйста, будьте добры. А словно обухом по голове:
– Все три – выходи.
По знаку “их” гвардейца подошли еще двое. Мужские руки шарили по юным телам. Одна: какое унижение. Другая: какая мерзость. Именно в таком духе они станут комментировать случившееся назавтра в таверне “Аррано”. Едва не плачущей Нерее пришлось открыть багажник. Там лежали плащ, велосипедный насос и зонт ее отца, а еще – скрученные флаги.
– А это что еще за тряпки?
– Два флага.
– Разверните.
Нерея развернула, уже начиная кусать нижнюю губу. Да, они везут с собой два флага, признанные испанской конституцией. И тут он с издевкой затыкал:
– Что, на мессу по этому бандиту собралась? Думаешь, Господь примет его в свои объятия?
Нерея с достоинством молчала. Убедившись, что сумела побороть слезы, рискнула глянуть полицейскому в глаза. В черные глаза, в которых отражалось… Что? Кто? Ее собственная мать, которая снова читала ей нотацию, как вчера вечером и сегодня утром, и еще Аранча, нырнувшая в постель прямо в одежде. Конечно, было бы лучше поехать с общей группой в одном из автобусов. И, подумав об этом, она почувствовала в груди вспышку храбрости.
– Я жду ответа.
– На мессу мы не пойдем.
Тут гвардеец принялся клясть на чем свет стоит Чомина, террориста, убийцу: чтоб им всем, сволочам, таким же манером подохнуть, и так далее. С сознанием собственной власти он махнул головой, велев трем девушкам побыстрее убраться с его глаз. Они поехали, и Нерея в зеркало заднего вида наблюдала, как полицейский остановил следующую машину.
55. Так же, как их матери
Одна спросила другую. Что именно? Не в эту ли кофейню Мирен с Биттори ходили полдничать по субботам? Аранче почему-то кажется, что они предпочитали чуррерию, хотя, может, она и ошибается. Зато знает наверняка, что ее мать до сих пор любит чуррос и иногда, бывая в Сан-Себастьяне, покупает себе полдюжины и съедает потом дома холодными. А вот Нерея готова руку на огонь положить, доказывая, что Мирен с Биттори в пору своей дружбы угощались тостами с мармеладом именно здесь.
А что делали сейчас в этой кофейне Нерея с Аранчей? Они ведь давно не виделись и ничего друг о друге не слышали. И вот только что случайно встретились. Почти что лбами столкнулись на углу проспекта с улицей Чуррука. Что касается Нереи, то в ее изумлении чувствовалась и доля опаски. Однако опасаться ей было нечего – она увидела прежнюю дружелюбную улыбку Аранчи, которая без колебаний кинулась ее целовать. Они внимательно друг друга разглядывали и наперебой обменивались комплиментами.
И тут же решили – у тебя есть время? – посидеть где-нибудь и поболтать о жизни. Где? Ну не на улице же. Смеркалось, подул неприятный ветер. Нерея кивнула на ближайшую кофейню. Туда они и пошли, взявшись за руки.
– Сколько же мы с тобой не виделись?
Уф! Да с тех пор, как Аранча перебралась в Рентерию к Гильермо, а было это где-то года полтора назад.
– В поселке я просто задыхалась. Знаю, что не очень хорошо так говорить, ведь там я родилась и там по-прежнему живет вся наша компания. Но у меня больше не было сил это выносить. Там ведь очень многие просто помешаны на политике. Сегодня они к тебе бросаются с распростертыми объятиями, а завтра, только потому что кто-то что-то сказал про тебя, перестают замечать. Меня в глаза упрекали за то, что парень у меня по национальности не баск. Я не вру. А что, мол, скажет Хосе Мари, если узнает?
– Не придумывай. Кто тебе мог такое ляпнуть?
– Хошуне. И обиднее всего было то, что заявила она это не с глазу на глаз, а при людях. Получилось что-то вроде публичного суда, понимаешь? А я смолчала. В такой стране, как наша, лучше всего помалкивать. Но на другой день, увидев Хошуне на улице, я ее остановила и сказала, что могу крутить любовь с кем захочу, черт побери, и послала ее куда подальше.
– Правильно.
– Но ведь не одна она плохо относилась к моему жениху. У нашей матери, чтобы не ходить далеко, те же предрассудки. Правда, она постепенно смирилась с моим выбором. Иногда даже навещает нас в Рентерии. Бедный Гилье. Но он очень добрый. Даже записался на курсы баскского, хотя, как я вижу, ничего-то у него не выходит. Есть у меня подозрение, что он просто совсем не способен к языкам.
Подошел официант. Что они хотели бы заказать? Аранча, секунду поколебавшись, заказала это, Нерея, не колебавшись ни секунды, заказала другое, а заодно спросила официанта, нельзя ли сделать музыку чуть потише.
– Ну вот, короче, в наши бары я больше не заглядывала. Хотя в “Аррано” еще раньше перестала бывать, чтобы не видеть там на стене фотографию братца. Жизнь моя протекала в других местах – с моим Гилье или в Сан-Себастьяне, где я работаю, хотя работа, конечно, дрянь, но жить ведь на что-то надо. Так вот, я просто мечтала поскорее уехать из поселка. Мечтала, собственно, не то слово – это стало навязчивой идеей. Мне втемяшилось в голову, что в поселке у меня нет никакого будущего. Там я чувствовала себя очень неуютно. Даже сейчас, стоит вспомнить то время, или названия каких-то мест, или физиономии некоторых типов, чувствую во рту непонятный мерзкий привкус. Прости, что я так разбушевалась. Мне не нравилось, как некоторые люди на меня смотрели. Думаю, тут еще и Хошуне постаралась, наплела про меня бог знает что. И не только она. Короче, при первой же возможности я перебралась к Гилье. Мы с ним живем, что называется, в гражданском браке. И дела у нас вроде бы идут неплохо, работаем, стараемся прикопить денег на более пристойную жизнь.
– А твои родители, они как к этому отнеслись?
– Мать, конечно, не очень обрадовалась, что я вот так просто сошлась с парнем. Что, дескать, люди скажут? Дочка у меня в любовницы пошла, заявила она мне. Как будто мы все еще при Франко живем. А ведь заметь, и она, и многие другие считают себя прямо революционерами, ходят на митинги, скандируют лозунги, а на самом деле накрепко привязаны к старым традициям, мало того – как были, так и остаются людьми совершенно необразованными. Послушай, ama, говорю я ей, это можно в один миг исправить. Поэтому мы с Гильермо пошли и расписались. В январе, в самый обычный вторник, без белого платья, без гостей, без всяких этих глупостей. Смертный грех? Нет больше никакого смертного греха – и не о чем тут больше говорить. Для моей матери это было настоящей трагедией, ведь она-то мечтала, чтобы ее дочь обвенчал дон Серапио, чтобы на лестнице перед церковью стояли дети, чтобы им кидали засахаренный миндаль и чтобы на мне было платье красоты неописуемой. Сказала, что никогда мне этого не простит, что так с родной матерью не поступают. Через месяц мы отпраздновали свадьбу в ресторане. Там были Горка, который наотрез отказался повязать галстук, мои родители и родители Гильермо. Наш отец вдруг ни с того ни с сего расчувствовался. Не знаю, может, кава[72] на него так подействовала. Начал вспоминать Хосе Мари. Что-то вроде того, что не вся наша семья смогла здесь сегодня собраться, – и заплакал как малый ребенок. Правда, должна сказать в его защиту, что с Гилье они прекрасно ладят. Еще до свадьбы подружились. Думаю, с того раза, когда Гилье помог ему на огороде. Однажды я сказала: aita, как я рада, что тебе понравился мой жених, ну, во всяком случае, больше, чем маме. А он мне отвечает: это потому, что мать у тебя с характером!
Вернулся официант, принес заказ и поставил тарелочку со счетом рядом с Нереей. В отместку за то, что попросила сделать музыку потише? Она повторила свою просьбу. Но он только буркнул: да убавили уже, тише не получается. Вот и весь сказ. Кинулся к другому столику, а музыка гремела так же, как и раньше.
– Вот черт, отвар – обжечься можно.
– А дети у тебя есть?
Занимаясь своим пакетиком с травой для заварки, Аранча помотала головой. Нерею удивило, что подруга при этом старается не смотреть ей в глаза. И решила уточнить:
– Что, не входит в ваши семейные планы?
Тут Аранча подняла лицо:
– Есть одна проблема, которую я не обсуждала ни с Гилье, ни с кем другим. Тебе-то я могу об этом рассказать, ведь ты ездила со мной в Лондон. Мне все больше и больше кажется, что они там, в той клинике, не все сделали как надо. Моя врачиха меня всячески разубеждает, но что-то не срабатывает, и это, признаюсь, мешает мне быть по-настоящему счастливой.
– Другими словами, детей вы иметь собираетесь.
– И давно уже стараемся. Мне, если честно, страшно даже подумать, что они оставили меня бесплодной. А теперь расскажи все-таки про себя. Как живешь? Какие планы? Обо мне ты теперь все знаешь – ничего особенного, насколько сама можешь судить. Ты все еще учишься?
Нерея ответила не сразу, сначала провела языком по ложечке. Чего она тянет? На мгновение Аранче почудилось, что та старается разглядеть себя в карих глазах подруги. Но откровенность за откровенность, и Нерея сказала:
– Я чуть не бросила университет. И в конце концов решила послушаться отца и с осени буду продолжать учебу в Сарагосе.
– И тебя это вроде бы не очень радует.
– Я поссорилась со своими. Сгоряча брякнула, чего не должна была говорить. Просто с языка сорвалось. И теперь каюсь. Ну, отец-то мне все прощает. Проблема не в нем. С другой стороны – и это меня в некоторой степени оправдывает, – родители не хотели ставить меня в известность о том, что на самом деле происходит. Ради моего же блага. Я обо всем узнала с опозданием. А поначалу никак не могла взять в толк, чего они от меня хотят. Ну скажи, aita, зачем я должна ехать учиться черт знает куда? Мне и здесь хорошо, у меня здесь своя компания, все привычно. Он же твердил свое: я, мол, должна подыскать себе другой университет, это вопрос решенный – мне надо уехать из Эускади. И мать ему подпевала. И Шавьер тоже, которому они обо всем рассказали раньше, чем мне, тоже их поддерживал. Я не соглашалась, мне казалось, они так сплотились, потому что относятся ко мне как к маленькой девочке. И не просто отказывалась куда-то уезжать. Мне шлея попала под хвост. Тогда-то я и сказала то, что до сих пор вспоминаю со стыдом.
– Насколько я знаю, твоему отцу угрожают. В этом все дело?
Нерея кивнула.
– Никаких подробностей я не знаю. В нашем доме о вашей семье отзываются плохо. Вся беда в том, что матушка словно свихнулась, с тех пор как Хосе Мари убежал во Францию. Я слышала, какие ужасные вещи она говорила про Чато. И спорить с ней бесполезно, можешь мне поверить. А ведь как раньше дружили две наши семьи! Лично я отношусь к вам ко всем по-прежнему. Сама видишь: сижу вот болтаю с тобой – и с пребольшим удовольствием, между прочим. А если выйду сейчас на улицу и увижу Биттори на противоположной стороне – кинусь к ней и расцелую. Хочешь знать мое мнение? Я прекрасно понимаю твоего отца – тебе и вправду лучше уехать из поселка, и уехать как можно дальше.
– Чего мой отец не знает – да и незачем ему об этом знать, – так это что не он в конце концов убедил меня.
– Не он?
– Случилась неприятная история в “Аррано”. Тебе про это никто не рассказывал?
– Нет, я ничего не слышала. Я к ним уже давно почти не заглядываю.
– Так вот, туда наверняка докатились слухи про моего отца. А я ни о чем и не подозревала. Как-то захожу и прошу у Пачи воды или еще чего-то. Сперва я решила, что он меня не услышал, так как вытирал стаканы. Ну, я и повторила свою просьбу. А он по-прежнему даже не смотрит в мою сторону. Удивительное дело. После третьей попытки он со злым лицом подходит ко мне и цедит сквозь зубы – я в точности передаю его слова, – что нечего мне тут делать и чтобы больше я в их заведении появляться не смела. Знаешь, я буквально остолбенела. И у меня не хватило духу спросить, что, собственно, произошло.
– Такие вещи без слов надо понимать.
– Я кинулась домой. Вернулся с работы отец. Я обняла его, залила ему всю рубашку слезами и сказала, что да, я поеду учиться в другой город. И вот скоро отправлюсь в Сарагосу искать квартиру, хотя про нее, про эту Сарагосу, знать ничего не знаю. Зато твердо усвоила одну вещь: мы изо всех сил стараемся придать жизни смысл и определенный порядок, как-то ее наладить, а в результате эта самая жизнь делает с нами, что ей заблагорассудится.
– Кто бы спорил.
56. Сливы
Ты задаешь самому себе вопрос: а оно того стоило? И вместо ответа получаешь молчание этих вот стен, в зеркале – свое стареющее день ото дня лицо, а еще окошко с клочком неба, которое напоминает, что там, снаружи, есть жизнь, есть птицы и яркие цвета – но все это для других. И если тебя спросят, что плохого ты сделал, отвечай: ничего. Пожертвовал собой ради свободы Страны басков. Отлично, парень. А если тебя еще раз спросят о том же, отвечай: глупым был, вот меня и использовали. Ты раскаиваешься? Случаются дни, когда он совсем падает духом. И тогда горько жалеет кое о чем из сделанного.
Так шли год за годом – счет им легко было потерять. Он прокручивает в голове одни и те же мысли. Да и нужно ведь чем-то заполнить свое одиночество, а? Нельзя не признать, что ему с каждым днем становится все труднее выносить присутствие товарищей по заключению. Молиться? Нет, это не для него. Вот для матери – то, что нужно, она раз в месяц приезжает к нему и непременно сообщает:
– Сынок, я каждый божий день прошу святого Игнатия, чтобы помог вытащить тебя из тюрьмы или, по крайней мере, сделал так, чтобы отсиживал ты свой срок поближе к дому.
Поначалу он стремился к общению. Во время прогулок во дворе обсуждал с уголовниками спортивные новости. Среди заключенных членов ЭТА Хосе Мари слыл несгибаемым, стойким и убежденным бойцом. Но годы, немые стены камеры и глаза матери в комнате для свиданий постепенно подтачивали его, так что в душе образовалась пустота, как в стволе старого дерева. В последнее время он пользовался любым случаем, чтобы побыть одному, и вот теперь, как раз когда не собирался ничего вспоминать, увидел себя в телефонной будке, в той самой, что стоит на краю поселка: пальцем он заткнул ухо, потому что по дороге едут грузовики и ни черта не слышно. Хошуне на другом конце провода сильно нервничает. Нет, ни во что такое она впутываться не желает. В поселке все уже знают, что арестовали Колдо, а потом гвардия попыталась сцапать их тоже. Хосе Мари с Хокином решили, что поручат Хошуне передать Горке свою просьбу – пусть придет на карьер. И теперь, много лет спустя, сидя в камере, Хосе Мари вдруг соображает, что, если бы телефон Хошуне был поставлен полицией на прослушку, он бы втянул девушку в неприятную историю. Про Горку и говорить нечего.
Хокин:
– Ну что тебе сказала Толстуха?
– Что к брату она сходит, но приключений на свою задницу огребать не желает.
– А ты велел передать Горке, чтобы он притащил ботинки сорок второго размера?
– Совсем из головы вылетело.
– У твоего брата, кстати, какой размер?
– Да хрен его знает!
А еще он вспоминает про конверт, полученный от Пачи. То, что лежало в конверте, их обрадовало. Неплохо – шесть тысяч песет. Начало многообещающее. А еще записка, в конце которой имелись слова ободрения и, естественно, Gora Euskadi askatuta. Там же был почтовый адрес в Оярсуне и кличка того, кому поручено о них позаботиться. Они должны спросить Чапаса. Записка без подписи, на конверте никаких пометок, которые могли бы вывести полицейских на “Аррано”, если они перехватят письмо. Ловкий тип этот Пачи, куда до него мне или бедному Хокину. Нас-то с ним просто обокрали – у него отняли жизнь, у меня – молодость.
До Оярсуна расстояние было приличное, а Хосе Мари страдал от голода. Мало того, их велосипеды подходили больше для прогулок, чем для дальних поездок. Хокин тоже вчера не ужинал, а сегодня утром не завтракал. Да ему что! У него и комплекция не такая, как у Хосе Мари, и аппетит не такой. Они в самом начале твердо условились, чтобы потом в пути зря не спорить: времени на завтрак с вином и сигаретами у них нет, надо пораньше добраться до Оярсуна. Зато потом можно где-нибудь сделать остановку на обед. Ладно, так оно и будет. Приятели зашли в какой-то бар в Рентерии и немного перекусили – прямо у стойки, не присаживаясь, съели по несколько маленьких бутербродов.
– Лучше было бы в Доностию-то на автобусе поехать, не пришлось бы крутить педали и потеть.
– Деньгами нельзя разбрасываться. По-твоему, надо просадить их в первый же день?
Типу, который занялся ими в Оярсуне, было лет сорок, даже чуть больше, и его уже обо всем успели предупредить, но он им не слишком доверял, это сразу стало понятно. Во всяком случае, рожа у него была хмурая.
Позднее, оставшись вдвоем, парни поговорили и об этом:
– Видать, ему просто не нравится, что его называют Чапасом[73].
– Да пошел он…
Чапас поздоровался с ними сухо, на баскском. Смотрел не мигая. Задал несколько вопросов – из тех, на которые достаточно ответить только да или нет. Он словно давал обоим понять: нам тут не до разговоров. Но постепенно лицо у него разгладилось. Ночевать он отвел их в какой-то подвал. Там сильно воняло столярным клеем. Ни тебе кровати, ни тебе матраса. Ни хоть какого-нибудь гребаного умывальника или унитаза. А когда Хокин попытался пожаловаться/возмутиться, тип заявил, что, если им не нравится, могут убираться на все четыре стороны. Это, ребята, и есть борьба. А что они ожидали? Роскоши, удобств? Хосе Мари облегчил мочевой пузырь прямо в углу. Потом они постелили на пол какие-то картонки. После ночи, проведенной в разрушенном доме на карьере, теперь еще и ночь здесь. Двое суток подряд без ужина. Но усталость дала о себе знать, и они уснули. Долго, правда, не проспали, но хоть сколько-то. Рано утром Хосе Мари разобрало любопытство. Через низенькую дверцу в конце коридора он вышел в сад, прилепившийся к дому. Пусто, забор, трава и четыре сливовых дерева. Сливы еще зеленые. Хотя некоторые уже начали желтеть. Хосе Мари набрал таких, желтоватых, штук десять – двенадцать и обкусал с той стороны, что была поспелее. Вскоре появился Чапас. Сказал резко, командирским тоном:
– Уходим.
Объяснения? Никаких объяснений. Еще чего захотели. Мы и сами никогда никаких объяснений не требуем. Велосипеды? Они так и остались в подвале. Кто знает, может, двадцать с лишним лет спустя по-прежнему стоят там, проржавевшие, со спущенными шинами. Чапас в фургончике перевез двух приятелей на какой-то пустырь – примерно в километре можно было разглядеть парковку гипермаркета “Мамут”. По земле стелился утренний туман, но уже было понятно, что на небе нет ни облачка и день обещает быть солнечным. Фургон остановился как раз там, где начиналась грунтовая дорога.
– Вылезайте.
Потом каждому вручил по экземпляру газеты “Эгин” и по пачке “Дукадос”.
– Ждите вон у тех деревьев.
Он показал, как надо держать газеты и сигареты, чтобы их было хорошо видно. Напомнил пароль и пожелал удачи. И как только Хосе Мари с Хокином вышли из машины, уехал.
Хосе Мари:
– Кто-то из нас мог бы сбегать в “Мамут” и купить еды и питья. Пить ужас как хочется.
– Не гоношись. Вдруг приедет человек, который должен нас забрать, а найдет только одного. Уж потерпи чуть-чуть.
Хосе Мари, лежа на своей постели в камере, не может сдержать улыбки. Вот ведь пара мечтателей! Ладно, курево, во всяком случае, у них имелось. Хокин принялся листать газету. Хосе Мари спустился в небольшой овраг, расположенный у них за спиной. Он и сейчас улыбается, вспоминая об этом.
– Я сейчас.
– Куда?
Хосе Мари ничего не ответил. И вскоре скрылся в густых зарослях. Не было его несколько минут. Подтерся он какими-то страницами “Эгина”, но не главной, понятное дело, которая должна была послужить чем-то вроде пароля, потом вернулся к Хокину. Тот ждал его у деревьев.
– Ну что?
– Ничего.
Через несколько минут рядом с ними притормозила машина.
– В котором часу проезжает кран?
– Надо сгрести снег у двери.
Скупые приветствия. Этот мужик тоже был не из разговорчивых, но все-таки пообщительнее Чапаса. Правда, беседу с ним поддерживал только Хокин, занявший место рядом с водителем. Хосе Мари сидел сзади и вдруг пробормотал, словно разговаривая сам с собой:
– Чертовы сливы.
Хокин оглянулся на него, не поняв, к чему это он. Сейчас, в камере, глядя на клочок голубого неба в окне, Хосе Мари не без удовольствия вспоминает ту историю.
57. В резерве
В воспоминаниях он видит себя прежнего – и тот Хосе Мари глядит совсем в другое окно. Не в окно камеры, а в окно деревенского дома в Бретани. Достаточно подумать об этом – и раз! – даже через много-много лет опять в его обонятельной памяти всплывает живой и реальный запах древесины. А еще другой, очень резкий – накопившийся, вероятно, за века, – тот запах, который шел от балок и слегка покатого дощатого пола. Мы с Хокином часто играли, взяв по монетке в десять франков. Пускали их по полу под уклон. Выигрывал тот, у кого монетка подкатится ближе к стене, но стены не коснется – иначе ты проиграл. Почти всегда победителем выходил Хокин. Это потому, что у него рука была меньше. А если честно, он просто оказался ловчее – давай, парень, признай это наконец. У меня-то рука была привычна к мячу, а не к какой-то дерьмовой монетке, которая норовила проскользнуть между пальцами. И, понятное дело, либо останавливалась почти сразу же, либо стукалась о плинтус.
Два бойца-неофита как могли убивали время.
– А неофиты – это кто такие?
– Новые значит.
– Ну ты и умен. А вот мой братец Горка, тот и вправду знает кучу всяких непонятных слов.
Медленное, до отчаяния неспешное время – пока двух приятелей держали в резерве в том доме в Бретани. В котором из многих? В том первом, где их поселили в самом начале, но это был и последний дом, который Хосе Мари делил с Хокином, а в следующем он уже жил с новым товарищем, прежде чем его определили в боевую группу. Он закрывает глаза и вспоминает зеленые поля, бесконечные дожди, скуку. Каждодневная программа – ждать. И кроме того, отсутствие гор, а это для любого баска, сознает он это или нет, смерти подобно. Без гор для баска и радость не в радость – тоска заест.
Отъезд Хокина стал для Хосе Мари настоящим ударом. Они притерлись друг к другу, играли, разговаривали. И вдруг их разлучили. Навсегда?
– Мы с тобой наверняка еще встретимся.
– И через несколько лет станем настоящими командирами, какие входят в историю. Ты и я. Мы возьмем на себя полную ответственность за всю эту заваруху. И пока другие будут вкалывать и рисковать своей шкурой, будем спокойно сидеть себе в Ипарральде, принимать решения и отдавать приказы.
Теперь и вправду начиналась настоящая борьба, по крайней мере для Хокина. Этот сволочуга не мог сдержать радости (или эйфории, замешанной на нервной лихорадке) от того, что пришел конец уединенному житью в Бретани. Он болтал не переставая. Особенно ночью. Был словно обколотый. Ему было без разницы, который час – хоть двенадцать, хоть час ночи. Вся комната в табачном дыму. Хосе Мари терпел это уже через силу. Планы на будущее, воспоминания, какие-то истории из той поры, когда они еще жили в поселке:
– А ты помнишь, как в тот раз?..
Потом, желая поддразнить друга, Хокин пошутил: не беспокойся, вот увидишь, лет через пять-шесть и за тобой тоже пришлют.
На самом деле (во всяком случае, так Хосе Мари думает сейчас, лежа на своей постели в тюремной камере) все шло совсем не по тому сценарию, какой они себе вообразили. Но, пока они жили с Хокином вдвоем, можно было с юмором относиться к долгим часам безделья. Однажды, когда они гуляли в поле, Хокин сказал:
– Каким образом, интересно знать, мы будем освобождать нашу страну, если сами лишены свободы и если, прежде чем сделать хоть шаг, надо ждать особых инструкций, ждать, чтобы нам сказали, куда следует шагать?
– Хватит ныть. Как только получим в руки оружие, сам увидишь, освободим мы страну или нет.
– Надо вести себя так, чтобы люди из поселка гордились нами.
– Это уж обязательно. Про наш поселок мы никогда не должны забывать.
Прежде чем сесть в машину, Хокин – а он так и светился от радости! – глянул на окно, чтобы попрощаться с Хосе Мари. И поднял вверх сжатый кулак. Позднее утро – и опять дождь. Хосе Мари в ответ ради смеха сделал другу кукиш. Теперь он оставался один, один как перст. Хокин показал ему язык. Он что, думает, на праздник едет? Таким Хосе Мари и запомнил Хокина – с высунутым языком.
Машина, подскакивая, умчалась по грунтовой дороге. Хозяйский трактор оставил там глубокие колеи. А дождь все лил и на траву, и на строй яблонь вдоль дороги, и еще на те деревья – дубы или как их там, – закрывавшие собой колокольню деревенской церкви. Ближе к дому дождь лил на коров, которые принадлежали хозяину, красноносому бретонцу. Тот каждый вечер громко ссорился с женой, а вот Хосе Мари мог объясняться с ним только знаками.
Несколько месяцев назад здесь, в Андае, их встретили вроде бы нормально. Как и положено встречать необученных новобранцев, по словам Хокина. Как деревенских недоумков, по словам Хосе Мари. Ни оркестра тебе, ни членов руководства с приветственными речами.
– По-французски понимаете?
– Ни бельмеса.
Тот, кто занимался приемом и размещением, с ходу взял быка за рога. Учтите, вам предстоит это, это и это. Он выглядел усталым. Может, из-за черных кругов под глазами. Тут правила свои. Строгое подполье, предельная осторожность, дисциплина и самоотдача. Все это он изложил короткими фразами, как будто старался побыстрее от них отделаться. А еще добавил: мы тут как черешни в корзинке. Если схватят одну, вытащат сразу пять или шесть. Вот чего нельзя ни в коем случае допустить, понятно? Нельзя допустить, чтобы из-за чьих-то промахов пострадали другие.
– Условия тяжелые, надо прямо сказать. Мы тут не в игрушки играем.
Он временно поселил их (плюс одежда, радио и какие-то самые необходимые вещи) на птицеферме неподалеку от Аскена. Хозяин фермы по имени Бернар был французским баском. Он принял их холодно, настороженно, то и дело хмурился и кривил шею, словно говоря: эти, что ли? Судя по всему, фермер ожидал других постояльцев. Постарше и поопытнее? Занимающих более важное положение в организации? Наверное, поэтому, стоя на крыльце, он и кричал что-то тому, кто их привез. Но Хокин с Хосе Мари так и не поняли, из-за чего разгорелся сыр-бор. Что хозяин не обрадовался их появлению, было очевидно. Вскоре выяснилось: он говорит на диалекте баскского, который, если немного постараться, они могли кое-как разбирать. Несколько дней спустя между ними и хозяином состоялся разговор. И даже наладились сносные отношения. Парни предложили ему помочь с работой на ферме. Кроме того, он любил спорт, в том числе и гандбол. И вот результат: лицо у него сразу подобрело. У его жены тоже. А как-то утром в доме даже раздался веселый смех. Короче, через три дня, не желая сидеть сложа руки, новые постояльцы уже занимались уборкой в доме, если надо было, что-то уносили и приносили, правда, не отходили далеко от фермы, чтобы их не увидел никто посторонний.
Солнечным утром под пение птиц за ними приехали на “рено-5”. Будет важная встреча. Больше ничего не сказали. И в самом начале пути велели надеть очки с непрозрачными стеклами. Больше часа машина петляла. Наконец – скрип гравия под подошвами ботинок, звук, который не спутаешь ни с одним другим. Не смотреть! Хосе Мари, когда они, опустив глаза, вошли в дом, под нижней границей очков сумел разглядеть рыжеватые доски и ступени.
– Теперь можно.
Пожимая им руки, Санти улыбнулся. Kaixo, сказал он, kaixo, робко и смущенно ответили прибывшие. И сразу всей встрече был задан добрый тон, потому что, как оказалось, у Санти имелись в их поселке друзья. С этого они и начали беседу. Потом он упомянул тамошние праздники и танцы на площади. Кроме того, Санти много чего знал про обоих. Хокин только рот от удивления разинул.
– Значит, ты сын мясника.
Спросил, почему они сбежали из поселка. Те объяснили. А почему захотели вступить в организацию?
Хосе Мари:
– Нам стало казаться, что поджигать автобусы и банкоматы – этого мало. Мы хотим перейти к решительным действиям.
И они перешли. Еще раньше перешли. Пять дней просидели взаперти в комнатушке размером не многим больше нынешней его камеры. Три шага в ширину, пять в длину. Если и чуть больше, то ненамного. Он помнит, что там все-таки было окно, правда, так высоко, что не высунешься. К тому же оно было завешено шторой из плотной ткани темно-синего цвета, и она почти не пропускала света. Снаружи долетали какие-то звуки: детские голоса и смех, тарахтенье трактора или если не трактора, то какой-то другой сельскохозяйственной машины и удары колокола, отбивавшего часы – иногда далеко, иногда близко, в зависимости от того, откуда дул ветер. Время от времени кричал петух.
Обучение обращению с оружием? Это было интересно. Хотя теоретическая часть привлекала их меньше. Но, по крайней мере, у них появилось дело. Занятия вел инструктор в черной маске. В первые два дня он являлся в футболке и шортах. Инструктор отлично соображал во взрывчатых веществах, а вот автомат собирал и разбирал с большим трудом. Рядом постоянно торчал – присматривая за ними – тип, отвечавший за логистику, его кличку Хокин втихаря переиначил на Беларри[74], потому что у него были огромные уши. Хосе Мари, разговаривая с ним, не мог заставить себя отвести от них глаз. В тот день, когда они дошли до автомата, наблюдающий вмешался, потому что тип в маске совсем опозорился.
Лучше шло дело на занятиях по стрельбе. Помню, как мы выстрелили из пистолета калибра 7,65 мм. Пиф-паф.
Беларри просто обалдел:
– Ну, парни, язви вашу душу, где это вы научились так стрелять?
Потом они стреляли еще из браунинга, СТЕНа и “Фаерберда”, последний был с глушителем. Бах-бах! Одно удовольствие. Беларри только глазами хлопал, но особенно его поразил Хокин, который ни разу не промахнулся. Как считает Хосе Мари, именно благодаря этому – поскольку Хокин зарекомендовал себя как отличный стрелок – Хокина и привлекли к делу раньше, чем его самого: видно, понадобилось срочно заменить кого-то из выбывших. Расставание, как уже было сказано, стало для Хосе Мари тяжелым ударом.
Чтобы спастись от одиночества, можно было встречаться с Колдо, который в то время жил поблизости. Но ему не хотелось. Как-то раз они с Хокином столкнулись с Колдо уже во Франции, в баре города Бреста. Во черт! Да, они посидели поговорили, но и выражения лиц, и слова, и тон были совсем не такими, как в прежние времена, когда они втроем жили на съемной квартире в поселке.
– Вы уж, ребята, зла на меня не держите. Я ведь и не надеялся живым оттуда выбраться.
– Да ладно, проехали. Скоро мы их самих полечим тем же лекарством.
Пошутили, договорились пересечься как-нибудь еще, но на самом деле ни о чем конкретно так и не условились. Они ему не доверяли.
58. Проще простого
– Это проще простого.
– Да, я войду с пушкой, а вы ждите снаружи. Надо же мне когда-нибудь начинать.
Поговаривали, что тот тип торгует наркотиками. Организация подтвердила это и составила официальное сообщение, которое планировалось через несколько дней опубликовать в “Эгине”. Предполагалось, что ekintza[75] будет быстрая и легкая, ничего особенного, зато вполне годилась, чтобы проверить силу собственного характера. Так сказал ему Пачо – чтобы успокоить? – но ведь так оно и было на самом деле. Хосе Мари часто вспоминал тот случай, потому что для него он стал первым – первым убийством. И крещением чужой кровью. А что было до того, почти стерлось из памяти. Забылись многие детали даже из самых первых терактов. Да и дела-то были ерундовые – подрывы, налеты. Но вот то, что произошло в баре, до сих пор стоит перед глазами. Не из-за убитого. На жертву ему было плевать. Меня посылают казнить такого-то, и я казню такого-то, кем бы он ни был. В задачу исполнителя не входило думать или чувствовать – только исполнить приказ. Этого не понимают те, кто нас осуждает. Журналисты, например, назойливые мошки, которые только и ждут случая, чтобы спросить, а не раскаиваемся ли мы. Другое дело, когда об этом спрашиваешь себя сам, оставшись в камере один. Случаются такие дни, когда совсем тоска заедает. И чем дальше, тем они случаются чаще. Да, черт возьми, слишком много лет он провел взаперти.
Им передавали нужную информацию вместе с фотографией. У объекта огромный нос и большие усищи – ни за что не обознаетесь. Тот мужик, тридцать – тридцать пять лет, держал бар, скорее даже паб. Иногда сам стоял за стойкой, иногда его заменяла какая-то женщина. Женщина их не интересовала. Заведение располагалось на довольно тихой улице. Охрана? Какая там, на фиг, охрана! Уйти оттуда тоже не составит труда. Прав был Пачо, когда утверждал, что дело проще простого.
Иногда они бросали жребий – кто и за что будет отвечать. На этот раз обошлось без жребия. Хосе Мари настоял, что приказ выполнит именно он и никто другой. Чтобы поддразнить его, Чопо все-таки предложил бросить кости.
– Нет уж, хрен вам.
– Хорошо, валяй.
Он войдет в бар, Пачо останется ждать на улице, будет сидеть за рулем машины, чтобы обеспечить отход, потому что из них троих он водит лучше всех. Как и было сказано – дело проще простого.
Спали на тюфяках в квартире, куда их направили накануне. Сейчас Хосе Мари не помнит, чтобы ночью ему снилось что-то, связанное с предстоящим заданием. В квартире имелся телевизор, они поужинали тем, что нашли в холодильнике, посмотрели фильм. Вот и все.
Да и утром он не сказать чтобы сильно нервничал, во всяком случае, изображал перед товарищами полное спокойствие, особо при этом не напрягаясь, а они были для него именно товарищами, а не друзьями. Он вдруг снова почувствовал то самое напряжение, какое обычно испытывал за несколько часов до важного гандбольного матча в дни, когда предстояло играть в составе своей команды. В таких случаях Хосе Мари почти ни с кем не разговаривал и не любил, когда к нему обращались, в первую очередь чтобы не расслабляться и максимально сконцентрироваться.
– Пора.
И они поехали. Какие-нибудь проблемы, неувязки, затруднения? Никаких. Конечно, товарищи привыкли, что обычно Хосе Мари больше шутит и балагурит.
Кто-то из них по дороге:
– Ну что, дрожат поджилки-то?
– Знаешь, ты меня сейчас лучше не задевай.
Дальше ехали молча. Улица пустынная, машин практически нет, почти край города. Объект явился на одну-две минуты позже, чем обычно, то есть по сравнению со временем, указанным в ориентировке. Огромные усы, нос – все при нем, не спутаешь. Хозяин поднял жалюзи, не глядя по сторонам. Этот тип и думать не думает, что жить ему осталось минуту. Вошел в бар.
Если говорить честно, то у Хосе Мари, сидевшего рядом с водителем, бешено колотилось сердце. Еще по дороге он старался показать, что ладони у него спокойно лежат на коленях. Так нет же. Вскоре он вцепился в собственные ноги, чтобы побороть дрожь в руках. Сегодня он знает, что есть некие “до” и “после” – до и после первого убитого тобой человека, хотя, как он считает, многое зависит от твоего характера. Ведь если, к примеру, ты взрываешь ретранслятор или банковский офис – да, ты что-то разрушаешь, но такие вещи можно починить, восстановить. Человеческую жизнь – нет. Теперь он думает об этом спокойно. А тогда его волновало совсем другое. Что? Чтобы в нужный момент не подвели нервы. Он боялся показать себя перед товарищами слабаком, размазней или боялся, что по его вине акция сорвется.
Нет, лучше действовать, чем утюжить себе мозги. Он решительно вышел из машины – уверенный, что дрожь и бешеное сердцебиение остались там, внутри. Дверцу он до конца не закрыл. Пачо, сидевший за рулем, тоже. Сказать друг другу что-то, переглянуться? Зачем? У них все было спланировано, но тут яркий солнечный свет ударил им в лицо.
Хосе Мари увидел балконы с развешанным там бельем. Район-то не из богатых. Как странно, а? Думать о подобных вещах в момент, когда под курткой ты чувствуешь тяжесть браунинга. Одна сторона улицы выходила на гору. Внизу – шоссе. Плохое место. Чуть дальше играли дети, они бегали по участку, окруженному строительным мусором и густым кустарником. Что значит “чуть дальше”? Ну, метрах в ста – ста пятидесяти. Расстояние вполне приличное, к тому же дети были слишком заняты игрой, чтобы обратить внимание на двух парней, направлявшихся один за другим к бару. Сердце у Хосе Мари билось уже почти ровно. То же самое с ним происходило, когда он играл в гандбол. Как только судья давал свисток к началу матча, он сразу успокаивался, а вот нужное напряжение сохранялось.
Шагая по тротуару, он вдруг перестал слышать сзади шаги товарища. Прошел мимо подъезда с застекленной дверью и номером над ней. Каким именно номером? Разве вспомнишь через столько лет? Зато он отлично помнит: чтобы войти в бар, надо было подняться на две ступеньки. Или на три? Жалюзи хозяин поднял не до конца, но все-таки голову наклонять не пришлось. И Хосе Мари тотчас почувствовал запах застоявшегося табачного дыма, запах старого и плохо проветренного помещения. Секунда ушла на то, чтобы привыкнуть к полумраку. Хосе Мари чуть растерялся, не увидев объекта внутри. Помещение было не многим больше его нынешней камеры, хотя длиннее, и в другом конце находилась дверь, откуда неожиданно и появились нос и усы.
– Послушай, не мог бы ты немного обождать? Я еще не открылся.
Шею этого типа украшала цепь. Ее посеребренные звенья отражали слабый свет единственной зажженной сейчас лампы. Цепь спускалась по поросшей редкими волосами груди и пряталась под рубахой, поэтому Хосе Мари так и не узнал, что на ней висело. Если говорить точно, он впился взглядом в то место, как раз под горлом, которое располагалось между двумя сторонами цепи. Он приставил туда дуло браунинга, выстрелил и успел заметить вдруг появившееся кроваво-красное отверстие, прежде чем мужчина повалился на бок и, падая, обрушил табурет.
Раненый еще шевелился на полу. Еще смог сказать/пробормотать, пытаясь подняться, срывающимся голосом:
– Не стреляй. Возьми деньги.
Хосе Мари посчитал вызовом для себя то, что объект не умер на месте, к тому же он оскорбил его, приняв за грабителя. Жалобный стон, мучительные попытки приподняться. Хосе Мари убедил себя: тип хочет разжалобить его, показав, что он тоже человек. Нет уж, меня этим не проймешь. Он пробежал взглядом по ряду бутылок, по доске над полом, на которую посетители обычно ставят ноги. И вспомнил девиз инструктора: мы не убиваем, мы казним. Так что будьте предельно внимательны, действовать надо наверняка. Хосе Мари сделал шаг вперед и все так же спокойно еще несколькими выстрелами разнес хозяину бара голову.
Наконец наступила тишина. В двух шагах находился открытый кассовый аппарат. Я мог этим воспользоваться. Кто бы догадался? Но он не взял ничего. И это лишний раз доказывает (сказал он себе, выходя из бара), что мы ведем честную и справедливую борьбу.
59. Стеклянная нить
Интересно, это им таксист такой лихой попался или только так и можно ездить по улицам Рима? Вдруг водитель резко просигналил и спугнул группу туристов, которые стояли прямо на проезжей части и, окружив плотным кольцом гида, рассматривали какое-то историческое здание. Господи, какие запутанные уличные лабиринты, сколько поворотов! Опустив окошко, таксист высунул руку и помахал юному красавцу, зазывавшему клиентов на террасу ресторана (навес, большие горшки с цветами). Им попадались куски мостовой, мощенные брусчаткой. Арансасу и Шавьер сидели на заднем сиденье, взявшись за руки, они то и дело переглядывались, словно советуясь, как следует себя вести в такой ситуации. Смеяться или кричать “спасите-помогите”?
Пара вышла у дверей гостиницы “Альберго дель Сенато”. Совсем рядом находился Пантеон со своими гранитными колоннами, перед ним стояла толпа неугомонных туристов, обвешанных фотоаппаратами; тут же ожидала пассажиров карета со скучающей лошадью и романтически сонным кучером, а в центре площади бил фонтан, сейчас окруженный подростками – школьниками? – с рюкзаками, желтыми платочками на шее и в кепках того же цвета.
Арансасу заплатила таксисту. У них был общий кошелек, оттуда она и достала деньги. Сколько-то там тысяч лир. Таксист с плутоватым лицом умчался – buona giornata[76] – так же стремительно, как и вез их сюда. И прежде чем они переступили порог отеля – чемоданонагруженные, глубоковдыхающие теплый полдневный воздух, – Арансасу тихонько сказала Шавьеру:
– Господом Богом клянусь, был момент, когда мне показалось, что таксист решил нас умыкнуть.
В ту пору Шавьер был совсем другим, по крайней мере в часы отдыха: ироничным, остроумным, веселым (хотя в больнице вел себя куда сдержаннее). Он ответил:
– И ты была недалека от истины. Этот тип ведь и вправду нас похитил. И даже умудрился получить выкуп.
Неужели и на самом деле из окна их комнаты будет видна Пьяцца-делла-Ротонда? Дудки! Им дали номер, даже отдаленно не похожий на тот, что изображался в рекламном буклете, который показывали в турагентстве. Просторный? Да. Чистый? Тоже да. Но окно выходило на мрачный внутренний двор. Напротив – почерневшая кирпичная стена с узкими оконцами. Зато присутствовала, по мнению Арансасу, одна поэтическая деталь: кот, свернувшийся клубочком на одном из подоконников. А чуть выше, у самого козырька крыши, героическое деревцо цеплялось за жизнь, пустив корни в какую-то щель.
– Только без жалоб, договорились?
– Какие жалобы? Кот мне очень даже нравится.
– У внутренних дворов есть свои преимущества. Уверяю тебя: ночью те, кто поселился в комнатах с видом на площадь, глаз не сомкнут из-за шума.
– Бедняжки. Их просто облапошили. Хоть я с ними и не знакома, но мне их страшно жаль.
– Вспомни цель нашей поездки.
– Я только про нее и думаю. Как ты хорошо пахнешь!
И он начал раздевать ее прямо там, у окна, и она являла собой воплощение покорности, правда, не забыла удостовериться, что никто не наблюдает за ними со стороны двора. Улыбка на красивых губах. Она не только не сопротивлялась, но еще и расставила пошире ноги и подняла вверх руки, стараясь принимать такие позы, которые помогли бы ему легче стянуть с нее одежду.
Он сказал/попросил: пусть между ними не останется ничего недосказанного, пусть – ну пожалуйста – она без стеснения объяснит, что ей хочется, как в физическом плане, так и в любом другом. И он будет вести себя так же.
Они были друзьями, приятелями, любовниками, двумя “я”, слившимися в одно целое. Три дня в Риме позволят им проверить глубину чувств. Шавьер быстро разделся. Он вошел в нее, накрыв своей грудью ее грудь. Угадав его желание, она поставила одну ногу на край стула и оказалась настолько открытой для него, что не нужна была помощь рук. Крепко прижавшись друг к другу, они застыли в неподвижности, повернув лица в сторону окна. Стена, кот, деревцо. Они словно окаменели и срослись, но не обнимаясь, – она закинула руки за голову, он отвел свои назад. Им нравилось проделывать все именно так. Чтобы возникало ощущение, будто они единое целое и никто никем не овладевает. Она сказала ему шепотом, словно боясь что-то нарушить:
– Хочешь еще?
Он ответил, что лучше ночью. Они постояли не двигаясь, молча, минуту, две, и каждый мог погрузиться в свои фантазии, в свои мысли, пока член Шавьера постепенно не обмяк и не выскользнул из своего жаркого прибежища.
– Пойдем обедать?
И они пошли. Куда? Немного побродили по улицам. В одну сторону, потом в другую, и как-то само собой получилось, что оказались на площади Навона. Фонтан со статуями, которые Арансасу показались ужасными, роскошное весеннее солнце, группа монашек, цепочкой вышедших из церкви, напротив – магазин книг на испанском языке, куда они решили зайти, когда утолят голод или, скажем, завтра.
Постояли на углу площади, потом двинулись в сторону реки и остановились у какого-то ресторана. Сюда мы и пойдем, хороший он или плохой, дорогой или дешевый, потому что сил больше нет, так есть хочется. Салат, ньокки и рыба, которая оказалась неплохой, но и не такой, чтобы визжать от восторга.
– И никаких жалоб, договорились? Ты только подумай, как нам повезло с погодой, – сказала она.
– А эту дораду, надеюсь, ее выловили не в фонтане? По-моему, она попахивает ногами тех скульптур.
– Шавьер, ради бога, тебя могут услышать.
– Тут итальянцы. Они нас не понимают.
– Нас все понимают. Если хочешь что-то обругать, говори по-баскски.
Они чокнулись бокалами vino rosso da casa[77] – им было все одинаково смешно, они бросали по сторонам одинаково хитрые взгляды и чувствовали себя одинаково счастливыми. Он сказал ей по-баскски: как хорошо от тебя пахнет. Она напомнила ему: они поклялись друг другу, что поедут в Рим, чтобы всему здесь только радоваться. Они договорились об этом за несколько дней до отъезда. Арансасу представила себе стеклянную нить, и каждый из них держит один ее конец. Три дня в Риме со стеклянной нитью в руках, с нитью, которая в любой момент может разбиться. Именно этого она и боялась. А Шавьер продолжал свои шуточки:
– За наше свадебное путешествие.
– Лучше помолчи, милый. Не торопи события.
Прошло меньше двух месяцев после ее развода с мужем. Уф! Ей было невыносимо говорить о своей прошлой семейной жизни. Но с другой стороны, трудно было – или невозможно? – стереть из памяти те восемь ужасных лет. Ее муж был офтальмологом, и они с Шавьером часто сталкивались в коридорах больницы, в лифте или на служебной стоянке. А еще на стадионе “Аноэта”, так как оба были членами клуба “Реал Сосьедад”, и на трибуне их места разделяло не больше десяти метров. Шавьер старался встречаться с ним пореже. Почему? Дело в том, что его мучила одна вещь. Офтальмолог уже после развода узнал об их с Арансасу романе и как-то сказал Шавьеру в больничном кафе, что о ней надо заботиться, не оставлять одну, и тогда же объяснил, что считает ее женщиной очаровательной, но совсем безвольной.
– Будь с ней побережней.
Кто его просил вмешиваться? Хотя тут уж ничего не попишешь, мы ведь обычно стараемся избегать ссор, а особенно с коллегами по работе, всегда лучше вести себя дипломатично и промолчать. Поэтому Шавьер всего лишь изобразил на лице понимание, хотя и глядел в этот миг в сторону официантки: получите, пожалуйста. Он даже не допил свой кофе с молоком и собрался распрощаться, уже рот приоткрыл, чтобы сказать “пока”, но офтальмолог его опередил:
– Я желаю вам большого счастья. От всего сердца. Хотя это будет непросто. И я знаю это по собственному опыту.
Вечером Шавьер рассказал об их разговоре Арансасу, и она всплакнула, потому что была уверена, что слова ее бывшего мужа могут подействовать как сглаз.
– Хотя ты, наверное, и думаешь, что я преувеличиваю.
Он в первый раз видел, как она плачет. Красивая, сдержанная, чуткая, умеющая грустить как-то очень изысканно. Тридцать семь лет, на три года старше его самого. Он как зачарованный смотрел на ее мокрые глаза. Обнял, желая утешить и наслаждаясь исходящим от нее душистым теплом, потом потерся щекой о распущенные черные волосы и поцеловал мягко и нежно в губы. Была своя прелесть в том, как она уголком платка старалась вытереть глаза так, чтобы не размазать тени на веках. Хотя, пожалуй, в этом жесте присутствовало немного бездумного кокетства, но был и настоящий страх. Не знаю, может, теперь преувеличиваю я сам. Но страх точно был, и страх глубокий, который засел где-то внутри, как глухая/неопределенная боль, которая не переставала из-за этого быть изматывающей. Страх, что она не годится для настоящих и прочных любовных отношений, – а ведь это была ее последняя попытка, как она призналась ему в один субботний вечер, когда они гуляли, прежде чем пойти на какую-то комедию в “Театро принсипаль”.
– Ты в моей жизни безусловно последний. Тут у меня нет ни малейших сомнений. Если из наших отношений ничего путного не выйдет, эта несчастная дама больше никогда не влюбится – даже чуть-чуть. Я погашу свет навсегда.
Именно во время того их разговора у Арансасу возникла мысль о путешествии:
– Давай уедем на несколько дней куда-нибудь подальше – от нашей работы и от всех наших знакомых. На три-четыре дня, когда мы будем вдвоем, двадцать четыре часа в сутки. Под конец мы поймем, до какого предела готовы дойти, подходим ли друг для друга и хотим ли, чтобы наши отношения сводились не к одному сексу. Как тебе эта идея? Только уговор – расходы пополам.
Они отправились в театр. А уже после спектакля, в дверях, она сказала про стеклянную нить. Призналась в своем страхе. В тридцать семь лет она чувствовала себя увядшим цветком. Что она может ему предложить? Любовь – это конечно. Но если Шавьер рассчитывал на что-нибудь еще (завести детей, например), он вряд ли будет счастлив рядом с ней. Этот страх отравлял ей жизнь, не оставлял ее и в Риме. Да, она чувствовала его и там. Где? На дорожке, которая тянулась вдоль Тибра. Они сели рядом на каменный парапет, похожий на бесконечную скамейку. Это было сразу после обеда. В лицо им светило солнце. Внизу спокойно текла мутная река. Вдруг валявшийся у ног камешек натолкнул Шавьера на злосчастную/ребячливую мысль:
– Если сумею добросить камень до того берега, значит, никто и ничто не сможет нас разлучить.
– Оставь, ради бога. Лучше не испытывать судьбу.
– Ты не веришь в мои силы?
– Верю, но река слишком широкая.
Он снял куртку. И грудь и плечи у него были мощными, но молодость уже миновала. Неужели он не понимает? Шавьер взял камень – а ведь во всем остальном он человек очень рассудительный, уравновешенный, каким и должен быть настоящий врач, – разбежался и что было сил швырнул его, испытывая истинно мужское желание произвести впечатление на свою даму. Камень с огромной скоростью прочертил дугу в прозрачном предвечернем воздухе. Оба следили взглядом за его полетом. Но превратившийся в едва заметную черную точку снаряд вдруг пошел вниз и – хлюп! – упал в воду.
– Ладно, это была всего лишь игра.
Потом они направились в Сикстинскую капеллу.
60. Врачам – врачихи
Чато уже совсем было собрался устроить себе сиесту и на все расспросы жены отвечал, что с этой женщиной они только-только познакомились и поэтому он не успел составить о ней определенного мнения. Но Биттори – мрачная, упрямая, все еще в фартуке – твердила свое: врачам – врачихи, санитарам – санитарки. Потом она презрительно оттопырила губу и дернула шеей, словно кого-то изображая:
– Тоже мне, нашел себе пару. Господи помилуй, она же старше его на три года. Неужто этому птенчику понадобилась вторая мамаша? Или что там еще?
– Да ладно тебе, успокойся.
– Нет, ты скажи, права я или нет?
– Подожди, не дай бог, сын тебя услышит, тогда узнаешь.
– А я только с тобой делюсь. И Шавьеру о наших разговорах знать незачем.
Те двое ушли всего несколько минут назад, ушли, взявшись за руки. Это в их-то годы! Счастливая парочка. Люди в поселке просто со смеху помрут. Воскресенье, пасмурно. “Реал” играет в пять. После окончания матча она опять к нему пристанет – вернее, закинет удочку и будет тянуть леску, пока не вытащит рыбу из воды и не бросит в корзину.
Биттори настежь распахнула балконную дверь:
– Прямо дышать нечем. Только не говори, что я опять преувеличиваю. Даже бульон пропах ее духами.
– Ну а я ничего такого не заметил. Но ты же не станешь отрицать, что она красивая.
– Много ты в этом понимаешь! Ладно, иди в постель, и пусть тебе приснятся твои грузовики.
На самом деле они могли бы спокойно пойти вчетвером в ресторан. И Чато сразу это предложил. Хотя вовсе не хотел вмешиваться, куда его не просят. Вскоре и Шавьер по телефону высказал ту же мысль – послушавшись, надо добавить, совета Арансасу, которая считала, что знакомиться им лучше “на нейтральной территории”. Как отец, так и сын были готовы взять на себя все расходы, но Биттори и слышать ни о каком ресторане не желала. Почему? А потому, что в ресторане, с ее точки зрения, все люди ведут себя не так, как им свойственно, и лучше всего знакомиться с новым человеком в домашней обстановке.
Чато:
– Хочешь полдня провозиться на кухне?
– Ну и что? Когда ты повел меня к своим родителям, твоя мать тоже приготовила обед. Гороховый суп и жареную курицу. Как сейчас помню. А потом я помогла ей убрать со стола. А эта барыня даже не подумала предложить мне свою помощь. Она ведь такая изысканная, так умело накрашена и все такое прочее, хотя прекрасно видела, что я собираю посуду, да только и пальцем не шевельнула. Вот такое воспитание!
Они ждали их к половине второго. За четверть часа до назначенного срока Биттори поставила Чато наблюдать у балконной двери – только чтоб они тебя не заметили, понял? – дав ему строгие инструкции. Во-первых, чтобы не трогал руками шторы, потому как они только что выстираны; во-вторых, чтобы дал ей знать, как только гости покажутся в начале улицы, поскольку Биттори ни за что на свете не хотела встретить эту женщину в фартуке.
– Эту женщину? У нее, между прочим, есть имя, и зовут ее Арансасу.
– А мне дела нет до того, как ее зовут.
Кроме того, она хотела получше рассмотреть гостью, прежде чем их начнут знакомить. Ах да, вот еще и в-третьих: чтобы он не вздумал прежде времени ничего хватать со стола – ни спаржу под майонезом, ни хамон из Хабуго, ни крокеты из трески, ни морские деликатесы, ни креветки.
– Имей в виду, у меня все сосчитано.
Чато в роли часового – Господи, дай Ты мне побольше терпения! – стоял и следил за улицей, которая по воскресным дням была почти безлюдной. И точно в назначенный час, очень пунктуально, они появились в поле его зрения. Шли взявшись за руки, она несла букет цветов. Какая высокая, какая красивая, какая элегантная. Пораженный, он несколько секунд просто любовался ею, прежде чем позвать Биттори, которая тотчас нервной походкой явилась с кухни, торопливо стягивая передник.
– Туфли не подходят к одежде.
– А мне она кажется просто картинкой.
– Да не трогай ты штору, ради всего святого.
– А фигура какая! И ростом почти с нашего Шавьера.
– Такой черный цвет волос не похож на естественный. И брошка на отвороте отсюда кажется жирным пятном. Я бы сказала, что у этой сеньоры со вкусом не все в порядке.
Простившись с парой, которую отныне можно было считать формально узаконенной, Чато, евший и пивший во время обеда за троих, мечтал хоть немного вздремнуть. Ну и как, вздремнул? Попытался. Биттори все еще возилась на кухне, но никак не могла успокоиться. И теперь она изображала из себя матерь скорбящую, матерь, произносящую монолог перед полной пены раковиной. Подумать только, ее сын – и эта женщина, простая санитарка. Биттори изливала свою душу, свой гнев, обращаясь к аудитории, состоявшей из грязной посуды. Мочалке она сообщила одно, крану – еще что-то. Но она не получала ответов и не находила так нужного ей понимания. На самом деле сейчас Биттори во что бы то ни стало требовалось, чтобы ее услышало человеческое существо. А в доме не было никого, кроме Чато. Поэтому, понимая, что ему надо спокойно переварить обед и немного отдохнуть, она вошла – разве так входят? нет, ворвалась – в спальню. Пока Биттори шла с кухни, она разговаривала сама с собой, вытирая руки о фартук. Не переставая говорить, села на край кровати. И тряхнула мужа за плечо:
– Ну что, дрыхнешь и на все тебе наплевать?
Поспал, называется. Едва ворочая языком, он пробурчал: ну, чего тебе, что случилось-то? Биттори не ответила. Казалось, она вовсе и не собирается ничего с ним обсуждать. Ей не нужен был собеседник, ей нужны были внимающие уши.
– Нет, по мне, так Шавьер просто не сможет быть счастливым с этой дамочкой. Пусть у нее и полно всяких достоинств, как ты утверждаешь. Я, если честно, не вижу ни одного и ни с какой стороны. Мне она показалась просто больной на голову и без малейших проблесков. Моллюсков даже не попробовала, хамон – тоже. А молочный поросенок? Я как последняя дура жарила его все утро, покупать ездила аж в Памплону… И что? Она, видите ли, вегетарианка. Вот и посуди сам.
Не укрылся от глаз Биттори и еще один проступок их гостьи. Какой? А это когда она, решив, что никто на нее не смотрит, приблизила вроде как бы незаметно свои накрашенные губки к уху Шавьера и стала быстро что-то ему нашептывать. О чем-то просить. Или приказывать? И этот наш дурень, готовый хвостом мести перед какой-то санитаркой, выждал ради приличия несколько секунд, чтобы казалось, будто просьба исходит от него самого, и вдруг сказал:
– Ama, а ты не могла бы унести голову этого поросенка?
И все взгляды тотчас сошлись на румяном, сочном и мирно себе лежащем на блюде поросенке, только что поставленном в самый центр стола. Вернее, это была половина поросенка, купленная по предварительному заказу у мясника в Памплоне. И ведь Биттори отдала за него хорошие денежки, не считая стоимости билетов на автобус до Памплоны и обратно. Только ради того, чтобы оказать гостье честь, угостить лучшим из лучшего.
Раньше она покупала поросят у Хосечо. Она и вообще все у него покупала. Они ладили друг с другом, почти что дружили. Ну а сейчас даже не здороваются.
– И что ты на это скажешь?
– Скажу, что Арансасу, видно, к таким вещам просто не привыкла.
Да, конечно, как же, он ее защищает. А нас, получается, считает допотопными хищниками. Но то, что Шавьер сказал что-то с ее голоса, Биттори восприняла как удар ножом.
– Нет, ты можешь себе представить, чтобы наш сын жил с такой женщиной? Упаси Господь! Мы в нашем доме всю жизнь ели мясо и рыбу. Всё ели. Я уж не говорю о том, что эти травоядные – люди со странностями, с причудами. А как она разговаривает! Тоже мне, строит из себя профессора, только и делает, что все объясняет. А ведь сама-то простая санитарка! Но меня не проведешь. Подцепила на крючок врача-дурачину, который много чего знает про операции, но ничегошеньки не знает про жизнь с женщиной, вот она и смекнула: именно такой мне и нужен. Разведенка ведь, хитрая разведенка. Женщина из вторых рук, которая уже через все успела пройти и дальше ни за что не успокоится. Она, видите ли, ест как птичка. Вон, пирог даже не попробовала. Она бы с удовольствием, но уже успела утром употребить дневную норму углеводов. Это надо быть такой манерной! Ты не видел ее лица, когда я ей сказала, что встала в семь утра, чтобы испечь его? Ей на нас вообще наплевать. Эта знает, чего хочет, подавай ей хирурга с собственным домом и хорошим жалованьем. А видел, какую рожу скривила, когда я спросила, не возьмет ли она кусок пирога с собой в пластмассовом контейнере? Нет, благодарю, не утруждайте себя. Мне сразу захотелось швырнуть этот кусок ей в лицо.
– Когда закончишь выступать, толкни меня. Может, еще успею хоть чуток поспать.
– А Рим? Ох, чую я здесь какой-то подвох! И пусть не говорят, что расходы они планируют поделить поровну. Я ведь знаю Шавьера. Руку готова дать на отсечение, что он сам уже за все заплатил.
Много лет спустя, приехав на кладбище и сидя на краю могильной плиты, как в тот далекий день сидела на краю постели, Биттори продолжала рассуждать на ту же тему:
– Ну разумеется, мне хотелось бы видеть Шавьера женатым. Но женатым на ком следует, а не на первой встречной бабенке, которая сумеет к нему ловко подмазаться и будет ему улыбаться, как та санитарка, которую он однажды в воскресенье к нам привел, – помнишь, надеюсь? Забыла, как ее звали. Еще та лиса! Я, как только ее увидала, сразу поняла, чего ей надо. Ты сам знаешь, что в таких вещах меня не проведешь. В общем и целом я считаю, что пусть лучше наш сын и дальше ходит в холостяках, чем ему испортят жизнь.
61. Приятная мелочь
Пылающее гневом лицо, решительная походка. Едва увидев, как эта женщина идет ему навстречу по коридору, Шавьер догадался, что она намерена закатить скандал. Несколькими минутами раньше она вошла в палату, увидела свободным то место, которое до вчерашнего дня занимал ее муж, спросила медсестру, и та, вероятно без должной деликатности, сообщила ей печальную новость.
И вот теперь она мчится, чтобы призвать врача к ответу. Как правило, полагает Шавьер, именно жены не желают смириться с естественным событием смерти, они непременно ищут виновного – убийцу? – и вот, пожалуйста, он перед ними, человек в белом халате, отличная цель для оскорблений, обвинений, упреков – дежурный врач.
В подобных обстоятельствах с мужьями иметь дело куда проще. Они обычно таят свое горе в себе, а женщины (хотя те, что помоложе, возможно, и нет) выплескивают все наружу, даже не пытаясь сдержать поток эмоций. Во всяком случае, двадцатилетний профессиональный опыт приучил Шавьера именно к этому. Время от времени какая-нибудь дама устраивает ему сцену. Чаще всего это особы в годах, не слишком образованные, но зубастые, бойкие на язык. Шавьер не раз выдерживал/терпел такого рода атаки. И умел сохранить при этом лицо.
Но нынешняя восьмидесятилетняя старуха перешла все границы. Она не просто вопила и рыдала, она так его оскорбляла, что у Шавьера внутри что-то оборвалось. Она была убеждена, что врач – по халатности или нарочно? – не сделал того, что мог бы сделать, чтобы спасти пациента. Это она и орала ему с искаженным лицом, уже перейдя на “ты”:
– Если бы на месте моего мужа был твой отец, ты уж точно не дал бы ему помереть. – И грозилась подать жалобу.
А он словно окаменел. Из-за упоминания об отце? Из-за возраста умершего? Она размахивала руками. Слишком широко разевала рот. У нее недоставало нескольких зубов. Он невозмутимо слушал, как она рассказывает, что в больнице в Логроньо ее вылечили после прободения… Она секунду подыскивала нужный термин, но не нашла и резко закончила фразу, воспользовавшись популярным синонимом: “кишок”.
У Шавьера не дрогнул ни один мускул на лице, и он смотрел в ее заплаканные, безумные и бешеные глаза. Вскоре, когда женщина немного поутихла, Шавьер спросил ее с холодной вежливостью:
– Вы знакомы с моим отцом?
– Нет. На кой он мне сдался? Но точно знаю: если бы заболел твой отец, ты бы расстарался как следует.
Только это он и хотел выяснить. Была ли она знакома с его отцом, известно ли ей, что с ним случилось. Он не собирался и дальше выслушивать старуху. Даже не выразил ей своих соболезнований. Вежливо извинился, сославшись на то, что его ожидают другие больные. И какое-то время спустя, совершенно выбитый из колеи, сидел за столом в своем кабинете. Налил себе коньяку в пластиковый стакан. Залпом выпил. Снова наполнил стакан, не отводя глаз от фотографии отца. От его строго нахмуренных бровей, от ушей, которые, по счастью, не унаследовали ни Шавьер, ни его сестра. В голове у Шавьера звучал визгливый голос старухи, встреченной в коридоре. Ты бы не дал ему умереть. Aita, скажи, я дал тебе умереть? В любом случае не предотвратил твоей смерти. Ты не предотвратил его смерти, Шавьер. Кто это говорит? Это говорят суровые глаза отца. И с тех самых пор ты не осмеливался, стыдился, считал недостойным хотя бы попытаться допустить в свою жизнь даже кроху счастья.
После второго стакана он поднял глаза и посмотрел на паутину – там, под потолком, – стараясь отыскать в прошлом какие-нибудь счастливые мгновения, а ведь были они, разумеется были, и не только в детстве, когда гораздо легче поддаться иллюзиям. Зато теперь он испытывает что-то вроде отвращения к радости.
Сколько раз он готов был попросить уборщиц: пожалуйста, не трогайте/не сметайте паутину? Ведь тогда они одним махом лишили бы его стольких воспоминаний. Лишили бы, например, и вот этого, теперешнего, чтобы не ходить далеко, которое всплыло после третьей порции коньяку, – а оно вернуло ему образ Арансасу. Когда, где это было? Если бы он поставил себе такую цель, то установил бы и дату. Все события его жизни произошли на определенном временном расстоянии от того дня, когда убили отца. Он закончил учебу за семь лет до того, как… Участвовал в конференции по сердечно-сосудистой хирургии в Мюнхене через девять лет после того, как… Похожим образом принято обозначать даты исторических событий по отношению к Рождеству Христову. Арансасу, она была до этой нулевой точки, а после нее – недолго, очень недолго, всего несколько часов.
Он вспоминает место и время. Кофейня “Гавирия” на проспекте, сумерки. Лето. За год и всего несколько месяцев до того, как… Но в тот миг ни он, ни она не могли еще этого знать. На террасе все столики были заняты, и они решили зайти в зал.
Он снова пьет коньяк, хотя потом придется ехать домой на такси. Трудно объяснить, почему на память ему приходит такой ничем не примечательный эпизод, но ведь нельзя просить паутину, чтобы она сама выбирала себе жертву. Она ловит, если удается поймать, то, что в нее попадает; даже если, как и это воспоминание, оно ничего особенного собой не представляет. Приятная мелочь, игра недавних влюбленных.
Он – тогда еще врач общей практики – cидит вот здесь, она – санитарка – напротив. Это не первое их свидание. Они уже успели дважды переспать. В последний раз вчера. Но разве это что-то значит? Он изучающее смотрит на нее и ничего не может с собой поделать. Арансасу уже какое-то время – с подчеркнутой настойчивостью – описывает некий эпизод из своей личной жизни. Что она говорит? Что-то про ту пору, когда была замужем. Он почти не слушает. Как зачарованный смотрит на ее губы, и ему вдруг становится безразлично, заметит она это или нет. Он смотрит на губы Арансасу, когда она говорит или очень изящно – кокетливо? – затягивается сигаретой. Губы свежие, женственные, хорошо очерченные, они шевелятся очень естественно и, когда произносят “у”, делают что-то похожее на воздушный поцелуй. Восхитительные губы, и ему хочется прямо сейчас медленно провести по ним языком. Ему не дают покоя эти губы на прелестном лице Арансасу. И вот я, человек, работающий с телами других людей, человек, которому трудно не видеть в них лишь набор разных органов, и вместилище крови, и мышечную ткань, и кости, вдруг чувствую неудержимый сексуальный порыв.
– Что ты смотришь?
– Представляю себе, как часто тебе должны говорить, что ты очень красивая.
– Значит, ты меня вовсе не слушаешь.
– А это и невозможно.
– Я уже не такая, как прежде. Годы дают о себе знать.
– В твоем случае природа проявила щедрость.
– Да ладно тебе, Шавьер, я сейчас покраснею.
И тогда Шавьер положил на столик правую руку с открытой ладонью. Это было похоже на жест нищего, просящего милостыню. Точно так же шимпанзе протягивают раскрытую ладонь к своим сородичам, то ли желая примириться с ними, ну, не знаю, то ли в знак (где-то я об этом читал) радушия и миролюбия. И Арансасу ответила мне соответствующим образом, положив свою – маленькую – ладонь сверху.
Паутина там, под потолком, сохранила неизменным то далекое воспоминание. Прикосновение показало Шавьеру, что в руке Арансасу сконцентрирована истинная человечность. Теплая рука, теплая и нежная. Рука женщины, уже успевшей пережить разочарования и, возможно, страдания; рука, которая много работала, которая брала, переносила, поднимала и которая была – и осталась – волшебным инструментом наслаждения.
Он и сейчас видит ее руку: тонкая кожа, тонкие и доверчивые пальцы, ногти, покрытые красным лаком. Тогда он вдруг почувствовал через это прикосновение всю ее целиком, всю ее нежность, явленную с неудержимой очевидностью. О господи, да ведь эта женщина безумно влюблена!
62. Обыск
Все четверо спали, когда среди ночи вдруг поднялась суматоха. В их квартиру нагрянуло не меньше шести человек, некоторые в масках, и все непонятно зачем громко орали. Еще кто-то остался в подъезде. Другие оцепили улицу. Целая орда гвардейцев. Бум, бум, открывайте. Мирен, лежа в постели, Хошиану:
– Ты сам откроешь или мне идти?
– Надо поглядеть, кто это.
– Кто-кто? Полиция, кто же еще.
Сначала они позвонили. Потом начали молотить в дверь кулаками, подняв жуткий шум. Тут, как легко догадаться, проснулись и все соседи. Мирен зажгла лампу на прикроватной тумбочке, быстро сунула ноги в тапочки и накинула халат поверх ночной рубашки. Потом сказала Хошиану, что:
– Это, должно быть, из-за Хосе Мари.
Едва она начала отпирать замок, как дверь с силой толкнули снаружи. Мирен увидела дуло автомата. Увидела пару черных сапог на коврике. Отойди в сторону. Обыск. И полицейские так быстро рассыпались по всей квартире, что она даже не успела как следует сосчитать их.
Всю семью, всех четверых, держали в столовой. Горка – босиком и в одних трусах. А вот Аранча успела что-то на себя натянуть, но ноги у нее тоже были босыми. Хошиан – в пижаме, перепуганный, с пятном мочи на пижамных штанах.
Ордер на обыск? Им как-то и в голову не пришло спросить. Они же в таких делах ничего не смыслят. Да и про Хосе Мари толком ничего не знали, если не считать Горку, о чем стало известно только потом.
Правда, у гвардейцев ордер на обыск действительно имелся. Он был у того, который сказал, что рано или поздно террориста все равно поймают и тогда он узнает что почем. Гвардеец швырнул ордер на пол: можете утереть им себе сопли, – и он же спросил, где находится комната Хосе Мари.
– Мой сын здесь не живет.
– Твой сын числится именно по этому адресу, кроме того, мы знаем, что вы храните оружие.
– Здесь он не живет.
Они требовали показать им комнату террориста, иначе грозили перевернуть весь дом вверх дном. Потом к Горке: ты кто? сколько тебе лет? Мирен уверена, что, будь он на пару лет старше, его бы забрали. Горка на вопросы ответил. Молодой еще. Он чувствовал себя неловко и спросил, нельзя ли ему одеться.
– Чтобы никто не смел отсюда ни шагу сделать, понятно?
Вскоре другой приказал им выйти на лестничную площадку – прямо в чем были, и предупредил, чтобы не вздумали что-то трогать или открывать ящики. Потом просто так или потому, что Горка шел недостаточно быстро, толкнул его в спину.
Вскоре после того, как они вчетвером вышли за дверь своей квартиры, явилась женщина судебный секретарь с заспанным лицом и поздоровалась с ними как со старыми знакомыми. Два вооруженных гвардейца охраняли их: один стоял у лестницы, ведущей наверх, второй у двери на улицу.
Мирен выглядела подавленной, но умудрялась держаться еще и сурово. Со злой гримасой она предложила Горке свой халат – простудишься ведь! – но парень, сникший, молчаливый, отказался.
То и дело гас свет. Выключатель был под рукой у гвардейца, стоявшего у двери подъезда, поэтому тому приходилось снова и снова нажимать на кнопку. Жильцам соседней квартиры глазок в двери заклеили скотчем. Крест-накрест. Не знаю, наверное, соседи все-таки что-то успели увидеть, и, улучив момент, он или она тихонько приоткрыли дверь – так, чтобы только просунуть руку, – и бросили на пол два одеяла.
Хошиан дрожал. Горка дрожал. Отец с сыном взяли по одеялу. Аранча сказала, что обойдется. Мирен они предлагать одеяла не рискнули – ее согревала ярость/ненависть. Свет – мрак. Свет – мрак. И так бог весть сколько времени. Из квартиры периодически доносились резкие звуки. Мирен процедила сквозь зубы:
– Они нам весь дом разнесут.
Аранча спросила гвардейцев, нельзя ли сесть, и один из них, пожав плечами, ответил, что ему до лампочки – сядете вы или нет. Так что девушка устроилась на лестничной ступеньке, чуть позже рядом сел и Горка, завернутый в соседское одеяло. Хошиан – хоть далеко и не сразу – тоже сел, прямо на пол. Он часто смотрел на часы, беспокоясь о том, что в шесть ему надо отправляться на работу. Только Мирен продолжала стоять – упрямая, полная собственного достоинства, решившая показать характер.
Потом вдруг послышались голоса на улице. Местные ребята повыскакивали из постелей и, столпившись где-то на углу, хором скандировали лозунги, разносившиеся в ночи: “Полиция – убийцы”, “Полиция, убирайся вон” и другие из обычного своего репертуара.
Обыск продолжался около четырех часов. В квартиру даже привели собаку. По словам Мирен, чтобы она своими слюнями испачкала нам весь дом, а если этого мало, еще и нагадила там. Квартира выглядела так, словно по ней пронесся ураган. И зачем такое было устраивать, раз никаких вещей Хосе Мари в его бывшей комнате не осталось? Больше других пострадал Горка. Гвардейцы унесли его школьный портфель, тетрадь с написанными от руки стихами, альбом с фотографиями и что-то еще. Аранча обнаружила пропажу дюжины видеокассет с фильмами.
Наступил серый день. Хошиан на велосипеде уехал на завод. Он отказался от завтрака, помылся кое-как, но все равно опаздывал. Аранча успела навести порядок у себя в комнате, прежде чем уйти на работу. Она жаловалась: они зачем-то вылили из флакона духи, подаренные ей Гильермо. У одного из ящиков комода оторвали ручку. Куда хуже выглядела комната Горки. Иисус, Мария и Иосиф! Мать сказала ему: иди в школу, я сама этим займусь.
Все утро она то одну, то другую вещь запихивала в пластиковые пакеты, чтобы выкинуть на помойку. Иногда вещи, раскиданные по полу, были совсем новые. В пакеты отправлялись носки, нижнее белье, верхняя одежда и прочее, чего, как ей казалось, касались руки гвардейцев и куда собака совала свой нос. И хотя это были ее собственные вещи, вещи мужа и сына с дочерью, ей было противно дотрагиваться до них. Мирен поднимала их с пола ножницами – лучшего способа в голову не пришло. То, что представляло большую ценность, заталкивала в стиральную машину или – если речь шла не об одежде – относила в раковину на кухню, чтобы отмокало. Ей было противно дышать воздухом собственного дома. Поэтому она настежь распахнула окна и устроила сквозняк. Полы вымыла с щелоком, мебель протерла мокрой тряпкой, почистила/дезинфицировала дверные ручки. Но какое-то время спустя снова начинала мыть то, что уже помыла раньше, потому что ей чудилось, будто что-то там от этих сволочей осталось – какие-то следы, запах, не знаю, грязные души этих полицейских.
Около десяти утра она позвонила в дверь к соседям, живущим напротив. Глазок все еще был заклеен скотчем. Кто там?
– Это я.
Ей открыли. И Мирен с благодарностью вернула одеяла. Ее пригласили войти. Она вошла. Сказала, что ей не хочется оставаться одной в испоганенной квартире.
– Ой, лучше не говори так.
Соседи рассказали, как они сами пережили ту ночь. Шум, голоса, страх. Им так и не удалось заснуть. Они угостили Мирен кофе. Поставили на стол коробку печенья. Она в свою очередь описала им, как проводился обыск. Надо же, а они ведь и знать не знали ничего такого про Хосе Мари! Ничего, кроме того, что в поселке он сейчас не живет. В одиннадцать Мирен сказала, что ей пора, и ушла. Заглянула в свою квартиру. Но не пробыла там и пяти минут. Только причесалась и переоделась. Она собиралась поговорить с Хосечо или с Хуани и выяснить, не было ли обыска и у них тоже. Уходя, оставила окна открытыми настежь. Могут залезть воры? Черт с ними, пусть залезают.
63. Политические материалы
Хуани она застала не в самый подходящий для разговора момент. Та в одиночку обслуживала клиентов у себя в мясной лавке.
– А Хосечо где? – спросила Мирен через головы покупателей.
– У врача.
– Я могу зайти попозже.
– Нет, лучше подожди немного.
Какое-то время спустя они смогли перекинуться парой слов наедине.
– Вы что-нибудь знаете?
– Нет, ничего.
– Ночью нам разворотили всю квартиру.
– Ну, про это весь поселок только и говорит. Небось сегодня и к нам явятся.
– Наверняка.
– А хоть что искали-то?
– Их интересовали вещи Хосе Мари. Они называли его террористом. Надеялись найти оружие. А раз никакого оружия у нас нет, прихватили первое, что попалось под руку.
– Хосечо сильно нервничает. А вдруг наши сыновья вступили в боевую группу? Он говорит, что мы теперь долго этих двоих не увидим.
– Типун ему на язык.
– Вчера здесь был Пачи. Сказал Хосечо, что, если у нас остались хоть какие-нибудь бумаги Хокина, пусть обязательно от них избавится. Короче, все яснее ясного. Ладно, мне пора за прилавок.
– А он не сказал, куда наши ребята отправились?
– Думаешь, я не спросила? Но из него и клещами ничего не вытянешь. Он только хотел, чтобы мы поскорее выбросили бумаги.
– Ну а нас предупредить заранее – это ему в башку не пришло, конечно?
Уже выйдя из мясной лавки и шагая по улице, она вспомнила, связала концы с концами, заподозрила, сообразила. Вот черт! Ведь накануне она застала Горку на месте преступления: тот – прямо в ботинках! – влез на стул, чтобы снять со стены плакаты, развешанные когда-то Хосе Мари. А на полу стояли два полиэтиленовых пакета с газетами и журналами. Она, было дело, уже спрашивала Горку, почему он все никак не соберется убрать со стен эту гадость – раз уж твой брат с нами больше не живет. Он: ты что, ama, если Хосе Мари узнает, такое мне потом устроит…
– Эй, что ты там делаешь, зачем влез на стул?
– Ничего не делаю. Хочу, чтобы комната выглядела по-другому.
– А стул нельзя было хотя бы газетой застелить?
И вот теперь, возвращаясь домой, Мирен шла по улице и рассуждала сама с собой. Кто-то с ней здоровался, она отвечала, не поворачивая головы. А что было бы, если бы гвардейцы увидали эти плакаты? Всех бы нас повязали и забрали к себе в казарму. Но одна мысль не давала ей покоя. Горка сделал у нас дома то, что Пачи велел побыстрее сделать у себя Хуани и Хосечо. Вот ведь какое чудесное совпадение, а? Нет, с этим надо разобраться.
Едва войдя в квартиру и даже не сняв туфли, она накинулась на Горку:
– Ну-ка, давай выкладывай, с чего это ты вдруг надумал выбрасывать плакаты Хосе Мари.
– Просто захотел повесить на их место другие.
– Ну и где они, эти другие? Стены, как я вижу, все еще голые.
– Их надо подбирать постепенно.
– А что ты сделал с плакатами твоего брата?
– Выбросил.
– Но они ведь не твои.
– Плакаты уже старые и грязные.
– А журналы и газеты, которые Хосе Мари хранил в шкафу?
– Мне тоже нужно место, а брата все равно здесь пока нет.
Она подошла ближе и уставилась ему в глаза. Смотрела секунду, две и на третьей – раз! – влепила ему пощечину. Звук получился как от шлепка по сырому мясу.
– Это за то, что ты не говоришь мне правды.
Как и велели брат с Хокином, Горка отправился в поселок, заглянул в “Аррано” и рассказал Пачи все, что должен был рассказать. Пачи сказал: мать твою и размать твою, и тотчас, не теряя ни минуты, начал действовать. Он быстро все устроил. Потом, уже отпустив Горку, которому предстояло идти за первым из двух велосипедов – для Хокина и брата, вдруг опять его позвал. Именно тогда он и спросил, не осталось ли в родительском доме чего-нибудь после Хосе Мари. Каких-нибудь бумаг?
– Я имею в виду политические материалы, сам знаешь.
Горка не сразу сообразил, о чем тот толкует. Ну, плакаты, листовки, номера Zutabe[78]. Да, этого добра полно.
– Выброси все к чертовой матери. И немедленно, слышишь?
Он не объяснил, почему такая спешка, да и Горка был настолько напуган, что никаких объяснений не потребовал. Зато прекрасно понял главное: действовать надо быстро.
Он сказал Мирен:
– Теперь ты и сама знаешь.
– А почему промолчал, когда я тебя спросила?
– Да какая разница! Скажи спасибо, что полиция ничего у нас не нашла.
– Ну, раз ты такой сообразительный, может, знаешь, и где сейчас твой брат?
– Понятия не имею.
– Точно?
– Клянусь, ama. Но могла бы и сама догадаться.
– Так где он?
– Тебе лучше моего известно, где он. И оставьте вы меня наконец в покое, больше я вас ни о чем не прошу.
Он убежал в свою комнату. Длинный, тощий, с каждым днем все более сутулый. Заперся на ключ и отказывался выходить. Мирен: там твоя свекла остывает. Еще чуть позже: достаточно я за сегодняшнее утро набегалась, чтобы еще и ты меня изводить взялся. Она потеряла терпение, принялась кричать, говорила ему, что… Грозилась, что… И тут услыхала скрип ключа – сын решил пойти на мировую. Горка сел за кухонный стол. Мрачно начал есть. Глаза у него покраснели, словно он ревел там, у себя в комнате.
Съел это, потом то. И, надо сказать, не без аппетита. Время от времени Мирен бросала на него испытующие взгляды. Чтобы убедиться, что сын ест, чтобы проверить, не плачет ли он. Под конец молча пододвинула к нему вазу с фруктами.
И, убирая тарелку с куриными костями, дотронулась до его руки. Горка быстро ее отдернул, он решительно не желал никаких нежностей.
Встал из-за стола. И прежде чем сын вышел из кухни, Мирен спросила, понравился ли ему обед. Горка молча пожал плечами, а она вопроса не повторила.
64. Где мой сын?
Вечером в обычный час они вчетвером ужинали на кухне. Главное блюдо – всегда одно и то же. Эта женщина просто помешалась на рыбе. То жареная, то под соусом. Рыба в понедельник, рыба во вторник – и так далее, пока сама смерть не избавит нас вообще от всяких ужинов. Правда, рыба им нравится, кому больше, кому меньше, но, как говорит Хошиан, хоть изредка можно было бы готовить и что-нибудь другое.
– Ладно тебе, в воскресенье были крокеты.
– Ага, из трески, само собой. Лучше не смеши нас.
От Мирен такие жалобы отскакивали как горох от стенки. Сначала она подала цикорий с рубленым чесноком, маслом и уксусом. Потом достала фасолевый суп, оставшийся со вчерашнего дня, и наконец поставила в центр покрытого клеенкой стола блюдо с анчоусами в сухарях. Для женщин – вода из-под крана. Отец с сыном обычно делили на двоих кувшин вина с газировкой, где, естественно, было больше газировки, чем вина.
Аранча язвительно:
– Будем надеяться, что сегодня ночью полицейские к нам не заявятся.
Мирен вздрогнула:
– Помолчи лучше, мало нам, что ли, досталось? Неужто будем теперь без конца вспоминать?
– А может, они придут, чтобы вернуть мне кассеты с фильмами и заплатить за флакон духов.
– Ага, держи карман шире.
– Я на всякий случай лягу спать одетой.
Мать шикнула на нее и велела заткнуть рот. Хошиан вступился за дочку:
– У нас теперь дома что, и разговаривать не позволяется?
Разговаривать? И это он при детях такое заявляет? При Аранче, которая воображает себя очень остроумной? Мирен, собиравшаяся пересказать за ужином тот секретный разговор, который состоялся у нее днем с Хуани, сочла за лучшее обсудить его наедине с Хошианом, после того как оба лягут в постель. Едва они остались вдвоем, она выпалила:
– Я говорила с Пачи.
– С каким еще Пачи?
– С хозяином “Аррано”. Ему, оказывается, много чего известно.
Ближе к вечеру Мирен зашла в таверну. Кто там был? Четверо-пятеро молодых ребят, не больше. Музыка громыхала так, что и глухого проняло бы. Уж не знаю, как на них не жалуются соседи. А может, и жалуются, но только у себя дома за закрытыми дверями, потому что с такими типами лучше не ссориться. Ей почудилось, что Пачи – мужик тридцати с чем-то лет, серьга в ухе – ждал ее. С чего она так решила? А с того, что, как только увидел ее на пороге, сразу сделал знак, приглашая следовать за ним в заднюю комнату.
Хошиан недовольно покачал головой:
– Не знаю, какого черта ты лезешь, куда тебя не просят.
– Ради своего сына я полезу куда сочту нужным. Ну так что, рассказывать дальше-то или нет?
В задней комнате пахло кислым вином, сыростью и плесенью. Тут еще сохранились каменные стены и балки – с той поры, когда это помещение служило коровником. Это было много лет назад. Мирен девчонкой часто бегала сюда за парным молоком.
Пачи закрыл дверь. Прежде чем Мирен успела что-то спросить, велел ей успокоиться. Она ответила, что и так спокойна. На самом деле? Нет, конечно.
– Тебе известно, куда уехал Хосе Мари? Говори сейчас же.
– Мирен, успокойся.
– Пошел ты к лешему, я уже сказала, что не надо меня успокаивать. Хосе Мари – мой сын. Разве удивительно, что я хочу знать, куда он подевался.
– Он ушел в подполье.
– Я за него рада. Ну и где оно, это ваше подполье? Если ему нельзя оттуда вылезать, я сама к нему поеду.
Никак невозможно. Теперь не то, что раньше, когда родственники на выходные отправлялись на юг Франции и везли деньги, одежду и сигареты тем, кто там скрывался. Из-за действий GAL членам организации приходится вести себя с предельной осторожностью.
Хошиан:
– Выходит, поехать к нему мы не можем.
– А я тебе о чем толкую, а?
– Тогда прав Хосечо, и теперь мы их тысячу лет не увидим.
– По словам Пачи, есть две возможности. Наш сын уедет в Мексику либо в какую-то другую страну из тех же или станет членом организации.
– По мне, так лучше бы ему убраться куда-нибудь подальше.
– Да, только вот твое мнение никого не интересует.
– Оно интересует меня самого. И я знаю, что говорю.
– Знает он… Больно умный стал, как я погляжу.
Но она не призналась – зачем? – что Пачи вдруг положил обе ладони ей на плечи. Мирен показалось, что таким манером он хотел выразить не симпатию, а признательность, отдать ей должное, словно говоря: ты по праву можешь гордиться своим сыном. И вот так, держа руки у нее на плечах, он объяснил, стараясь ее успокоить, что существуют некоторые внутренние каналы обмена письмами между членами организации и их родственниками.
– Значит, он может нам написать?
– Да, а вы, соответственно, ему.
– А отправить посылку? Скоро у него день рождения, и мне не хотелось бы, чтобы он остался без подарка.
Лежа в постели, Хошиан резко повернулся и посмотрел на нее:
– Ты ему так и сказала? Думаешь, Хосе Мари отправился в колонии?[79]
– А ты лучше помалкивай. Это мой сын. Я его родила. Или ты? Да ты и узнал об этом только на следующий день.
– Ладно, хватит языком-то молоть, заела уже меня этой историей про то, как ты родила.
– Еще бы! Я там страдаю, а ты в баре сидишь… Понятное дело, тебе не нравится, когда я об этом вспоминаю. Так вот, это мой сын, и я не желаю, чтобы с приходом зимы он мерз, не желаю и чтобы в день рождения ему взгрустнулось из-за того, что он остался без подарка.
Пачи снял руки с плеч Мирен. Сказал, чтобы ни о каких посылках она пока даже не думала; пусть спокойно возвращается домой, потому что организация не бросит своих бойцов на произвол судьбы. Повторил про гордость за них, добавил, что, если бы в Стране басков было побольше таких ребят, как Хосе Мари, мы бы уже давно стали свободным народом. И прежде чем они вышли из задней комнаты, пообещал: как только что-то появится (письмо, записка, что угодно), он сам принесет это что-то к ним домой. Потом кивнул на дверь, перед которой они стояли. И сказал:
– За этой дверью никаких разговоров у нас с тобой не будет.
А уже потом, в зале, на глазах у пяти или шести клиентов не удержался и поцеловал ее на прощанье в щеку.
Мирен Хошиану:
– Вот теперь я все тебе рассказала.
– Что все? Мы так и не знаем ни где он сейчас, ни чем занимается. Хотя тут не приходится слишком ломать голову. Можно и так легко догадаться. Никто ведь не вступает в ЭТА, чтобы ухаживать за садом.
– А мы не знаем, вступил он в ЭТА или нет. Может, поехал в Мексику. Но если и вступил, то только с одной целью – чтобы освободить Страну басков.
– Да, а еще чтобы убивать.
– Если я что и узнаю, больше ничего тебе не расскажу.
– Я не для того воспитывал своего сына, чтобы он шел убивать.
– Ты воспитывал? Кого это, интересно спросить, ты воспитывал? Никогда не видела, чтобы ты занимался детьми. Полжизни провел в своем баре, а вторую половину – на велосипеде.
– Ага, и каждый божий день, язви тебя в душу, ходил прохлаждаться на завод.
Их взгляды на одно мгновение пересеклись. Презрительные, холодные? В любом случае в них не было ни капли сердечности. Потом Мирен погасила лампу и решительно повернулась на другой бок – спиной к мужу. А тот в темноте сказал, что:
– Будь я лет на двадцать моложе, завтра же утром отправился бы искать его, задал бы ему хорошую трепку и приволок обратно домой.
Мирен ничего не ответила, на этом их разговор и закончился.
65. Благословение
Тогда они еще не перестали друг с другом разговаривать, еще любили посекретничать, а по субботам полдничали вдвоем в Сан-Себастьяне. Хотя вроде бы могли пригласить с собой еще каких-нибудь приятельниц из поселка. Хуани, например, с которой очень дружили, или Маноли, с которой, правда, общались пореже. Но нет. В их ставших традиционными субботних посиделках больше ни для кого места не было, и уж тем более для их собственных мужей. Еще чего! Пусть себе играют в карты или гоняют на велосипедах, а нас оставят в покое. Еще они вместе ходили к мессе и в церкви всегда сидели рядом.
Мирен обмакнула чурро в шоколад. Откусила кусочек. Сказала, жуя и вытирая кончики пальцев бумажной салфеткой, что после ночного обыска ей было противно находиться в собственной квартире.
– Почему?
– Не знаю, как лучше объяснить. Ну, мне ее словно навсегда изгадили. Грязи вроде бы не видно, но сама ты все равно эту грязь чувствуешь. И сколько бы я ни ходила с тряпкой, грязь остается, и мне так мерзко от этого, что просто нет сил терпеть. А как только увижу на улице машину гражданской гвардии, хочется им что-нибудь такое устроить!..
– Отлично тебя понимаю.
– И знаешь, что-то у нас в семье, ну, между всеми нами, переменилось. Мы уже не те, какими были до того, как Хосе Мари сбежал во Францию. Младший, тот вообще молчит день-деньской. Не пойму, что с ним происходит. Спрашиваю: неужто на тебя так это подействовало? Ничего не отвечает. Аранча смеется и надо мной, и над отцом, и над жителями нашего поселка – вообще надо всем подряд, так что мне даже стало казаться, будто после знакомства с тем парнем из Рентерии она просто поглупела, хотя и раньше была не семи пядей во лбу. Да и мы с Хошианом, честно признаюсь, с некоторых пор не очень ладим между собой. Ссоримся то и дело.
– Наверное, на него сильно подействовала история с Хосе Мари.
– Подействовала? Да она его просто раздавила. Я тебе еще не все рассказываю. Раньше никогда не видела, чтобы он плакал – даже на похоронах. А теперь, когда вроде и повода никакого нет, гляжу – глаза красные, губа отвисла. И бегом в уборную – чтобы, значит, никто не заметил.
– А сама ты как к этому относишься?
– Я? Я всегда буду на стороне сына, что бы ни случилось. И наплевать мне на чужие пересуды. Само собой, я бы хотела, чтобы он жил поближе, и чтобы работал, и чтобы семью завел. Но если так не получается, надо принимать все как оно есть и как оно сложится. Честно признаюсь – и я только тебе об этом могу сказать, поняла? – что в страшных сомнениях пребываю только по вине Хошиана. – Она обвела быстрым взглядом соседние столики, чтобы удостовериться, что их никто не слышит, потом приблизила губы к уху Биттори и зашептала: – Он говорит, что, если Хосе Мари возьмет в руки оружие, он для отца вообще существовать перестанет. У Хошиана одна надежда, что сын уехал в Мексику или куда-нибудь в те края. А если нет, то как быть тогда? Я вот решила переговорить с доном Серапио.
– Со священником? А он-то что может тебе на это сказать?
– В любом случае что-нибудь присоветует. Хуани сходила к нему на исповедь, и ей вроде бы даже полегчало.
– Тогда и вправду попробуй, поговори с ним. Ничего, кроме времени, ты не потеряешь.
В воскресенье подруги, взявшись за руки, пошли к мессе. Мирен то и дело поднимала глаза на статую святого Игнатия де Лойолы и, едва шевеля губами, что-то ему нашептывала. Что? Просила, чтобы он позаботился о ее сыне, чтобы оберегал его, пока сама она этого сделать не в силах. Ведь даже представить себе нельзя, чтобы такой добрый и такой честный парень вступил в преступную, как ее называют испанские газеты, организацию. У него такое огромное сердце, что едва в груди помещается. Он на все был готов ради других – будь то в своей команде по гандболу или у себя на работе, да где угодно. А если уж речь идет о нашем народе… Ты ведь тоже баск, а, Игнатий?
Биттори:
– Что ты там бормочешь?
– Ничего, это я молюсь.
Они причастились. Сходили, вернулись по центральному проходу одна следом за другой – опустив голову и сложив руки перед грудью. С почти монашеским благочестием. Тут стоит вспомнить, что они когда-то и вправду чуть не стали монашками. В юности были на расстоянии в половину ноготка от того, чтобы уйти в монастырь. И теперь, много лет спустя, полушутя-полусерьезно обе пришли к одной и той же мысли: всякий раз, когда одна из них ссорилась с мужем, она раскаивалась, что предпочла – какими мы с тобой были дурочками! – супружескую жизнь жизни монастырской.
– Если бы не дети, сестра Биттори…
– Пути назад нет, сестра Мирен.
Прежде чем, получая облатку, открыть рот и высунуть язык, Мирен шепнула дону Серапио: я потом к вам подойду, ладно? И священник едва заметно, с невозмутимым видом кивнул.
По окончании мессы прихожане двинулись к выходу. Дон Серапио задул алтарные свечи и следом за служкой, открывшим перед ним дверь, прошел в ризницу. Как раз этого момента и ждала Мирен для приватного разговора.
– А ты не хочешь пойти со мной? – спросила она Биттори.
– Лучше ступай одна. Очень уж это личный вопрос. А я подожду тебя на площади – если что, сама потом все мне расскажешь.
Дон Серапио уже снимал ризу, когда Мирен вошла. Заметив ее, священник – потный лоб, суровое выражение лица – отослал служку. Но парень, заканчивая какие-то свои дела, замешкался и все никак не уходил.
– Послушай, разве я не велел тебе исчезнуть?
Только тогда служка поспешно покинул ризницу, но дверь за собой оставил открытой. Сладу с ним нет! Священник решительным шагом подошел к двери и с ворчанием захлопнул ее. Как только они остались с Мирен наедине, он до приторности любезным жестом предложил ей сесть. Потом уселся сам и спросил, не по тому же ли делу она хотела встретиться с ним, что и Хуани, жена Хосечо. Мирен лишь кивнула в ответ.
Священник взял ее руку, лежавшую на столе, в свои бледные, не приспособленные к грубой работе руки – совсем не такие, как у Хошиана, у которого они шершавые и будто вырезанные из потрескавшегося камня. Зачем, интересно знать, он хватает меня за руку? Вот вопрос. Тем временем священник, поглаживая тыльную сторону ее ладони, сказал:
– Выкинь из головы любые сомнения, забудь про муки совести. Наша борьба – моя в моем приходе, твоя в твоем доме, где ты служишь своей семье, и борьба Хосе Мари, где бы он сейчас ни находился, – это справедливая борьба народа за свои законные права, за возможность самому определять собственную судьбу. Это борьба Давида с Голиафом, и я много раз говорил о ней всем вам во время мессы. Но это не личная, то есть не эгоистическая, борьба, это в первую очередь коллективная жертва, и Хосе Мари, как и Хокин, как и многие-многие другие, вносит в нее свою лепту, заранее принимая любые последствия такого шага. Понимаешь?
Мирен быстро закивала. Дон Серапио ласково и сочувственно похлопал ее пару раз по ладони. Потом продолжил:
– Разве Господь Бог хоть раз сказал, что не желает видеть нас, басков, пред Своими очами? Господь желает иметь рядом с собой хороших басков, как и хороших – это главное! – испанцев, как и хороших французов или поляков. А басков он создал именно такими, какие мы есть, – упорными в достижении своих целей, работящими и верно служащими делу независимости своего народа. Поэтому я рискнул бы утверждать, что на нас падает христианская миссия защищать собственную особость, а следовательно – нашу культуру и прежде всего – наш язык. Если наш язык исчезнет, скажи мне, Мирен, скажи честно и откровенно, кто станет молиться Богу на баскском, на эускера? И я отвечу тебе: никто. Ты считаешь, что Голиаф в треуголке на голове[80] и со своими пыточных дел мастерами, затаившимися в подвалах казармы, шевельнет хоть пальцем ради нашей самобытности? Вот у тебя дома, к примеру, устроили среди ночи обыск. Разве ты не чувствуешь себя униженной?
– Ай, дон Серапио, лучше и не напоминайте, у меня сразу аж дыхание перехватывает.
– Вот видишь? Но такое же унижение, какое пришлось претерпеть тебе и твоим близким, в Стране басков терпят каждодневно тысячи людей. И те же самые люди, которые так с нами обращаются, потом кричат о демократии. О своей демократии, той, что угнетает нас как народ. Поэтому я говорю тебе честно и от всего сердца: наша борьба, она не просто справедлива. Она необходима – и сегодня необходима, как никогда. Она неизбежна, потому что носит защитный характер и целью имеет мир. Ты ведь слышала слова епископа нашей епархии? Ступай спокойно домой. И если встретишь сына – в ближайшие месяцы или когда угодно, – скажи ему от моего лица, от лица священника вашего прихода, что я шлю ему свое благословение и неустанно молюсь за него.
Мирен покинула ризницу и пересекла церковь по боковому проходу. С ума сойдешь с этим священником! Пока я его слушала, мне и самой захотелось последовать примеру Хосе Мари. На миг, даже не останавливаясь, Мирен подняла глаза на статую святого Игнатия. Вот, учись, как надо утешать людей.
Она вышла на площадь. Синее воскресное небо, голуби, детская беготня и гомон под тенистыми липами. Биттори? Вон она, сидит на скамейке. Мирен направилась прямо к ней:
– Пошли, по дороге я тебе все расскажу.
– Ты выглядишь куда спокойнее.
– Теперь я знаю, что сказать Хошиану в следующий раз, когда он станет донимать меня своими переживаниями и страхами. Теперь в голове у меня все встало на свои места.
66. Клаус-Дитер
Она познакомилась с Клаусом-Дитером. Она влюбилась в Клауса-Дитера. У него были длинные светлые волосы, которые умопомрачительно колыхались, когда он танцевал, а также, хотя и не так заметно, когда он просто шел. Метр девяносто роста, здоровенный красивый парень. К тому же немец. А это обещало что-то совсем новое: другую страну, другую культуру, другой язык, другие жесты, другие запахи – и тогда прощай все здешнее, может, даже навсегда. Прощай, несносная матушка, прощай, моя земля, которую я любила и к которой теперь отношусь равнодушно, а иногда и ненавижу, прощай, все, что меня окружает, такое скучное, такое предсказуемое. Прощайте… А иначе – отныне и до самой старости жизнь моя будет катиться по наезженной колее.
Парень приехал в Сарагосу вместе с группой молодых немцев – такие группы каждый год учились один семестр на философско-филологическом факультете. Что они изучали? В точности Нерея не знала. Что-то связанное с языком или сам язык. Иногда по утрам они появлялись в университетском кафетерии – человек девять-десять, девочки и мальчики, – поначалу непременно вместе, улыбающиеся, немного дурашливые, вели себя в меру тихо, несмотря на то что их было довольно много. Но потом год за годом повторялось одно и то же. Постепенно они смешивались с местным студенческим народцем. Ничего особенного: завязывались дружбы, складывались пары, которые, как правило, держались лишь до того дня, когда тому или той, кто приехал сюда из-за границы, приходила пора возвращаться на родину.
Нерея видела его один-два раза и прежде. Он привлек к себе ее внимание, потому что был по-настоящему хорош собой. Ну и что? Что дальше? Она много на кого успела глаз положить, даже на некоторых преподавателей. Но с этим парнем они не пересекались ни на вечеринках, ни в барах, не было каких-то примечательных ситуаций, не было мимолетных обменов взглядами, и вообще, они никогда даже словом не перемолвилась. Говорил ли он по-испански? Во всяком случае, язык учил, ради чего, собственно, сюда и приехал. Хотя, надо заметить, в таких ситуациях разговоры, они порой оказываются вроде как и лишними, разве не так? А что называется узнать, то узнала она Клауса-Дитера лишь позднее.
Но вот убили ее отца. И что же, она перестала встречаться с друзьями, перестала выходить из дому? Ничего подобного, правда, с одной оговоркой: как только разговор между приятелями по факультету переходил на политику, Нерея теряла к нему всякий интерес, отводила глаза или шла в туалет. Зато теперь на нее накатил своего рода сексуальный голод, какого до гибели отца она никогда не испытывала, по крайней мере такого ненасытного. Напрасно Нерея пыталась найти объяснение своему постоянному физическому желанию. Ведь что касается наслаждения, то есть наслаждения в полном смысле этого слова, то его она почти не испытывала. С оргазмом у нее всегда были проблемы. Видно, таким способом она снимала напряжение, вот и все. А еще у нее повышалась самооценка – до того и во время того, но скорее до, чем во время. Потому что случались дни, когда эта ее самооценка опускалась ниже плинтуса. Особенно на занятиях, когда Нерея, как ни старалась, не понимала объяснений преподавателей. И тут она обводила грустным взглядом своих товарищей, которые что-то записывали, поднимали руку, участвуя в обсуждениях, и даже спорили с профессорами. Ей казалось, что все они гораздо умнее и лучше подготовлены, чем она, и что их ожидает блестящее будущее, а ей предстоит засесть дома и терзаться скукой как человеку, который никому не интересен и никому не нравится, как человеку, который с неодолимым отвращением глядит на себя в зеркало.
Она часто выходила на охоту. Но первый встречный ее, разумеется, не устраивал. Она искала себе партнеров спортивного сложения и ухоженных. А так как сама была привлекательной и раскованной, то всегда и легко добивалась своего. Хватало веселой улыбки, брошенной с расстояния в несколько метров, чтобы мошка полетела к паутине. Иногда в Сарагосе дул северный ветер, или шел проливной дождь, или Нерее было просто лень переодеваться, и тогда она выбирала самый необременительный вариант: звонила из ближайшей телефонной будки Хосе Карлосу. И говорила: приходи. Тот приходил, делал свое дело и отправлялся восвояси.
История с Клаусом-Дитером началась не раньше марта, когда оставалось всего несколько недель до его возвращения на родину. Свою роль в их романе сыграло то, что поджимало время, и еще то, что они в буквальном смысле говорили на разных языках. Она до сих пор улыбается, вспоминая ту пору. Пока все это продолжалось, было чудесно, и кроме того, ты не станешь отрицать, что именно он помог тебе, сам того не подозревая, окончить университет. Каким образом? Она всерьез собиралась поехать следом за ним в Германию, и ей пришлось поднапрячься, чтобы сдать все экзамены и выполнить обещание, данное когда-то отцу, – то есть получить диплом. Диплом, на который, кстати говоря, ей самой было наплевать.
Ту вечеринку устраивали в пятницу в университетской Высшей школе Педро Сербуны. Нерея была в отвратительном настроении и никак не могла решить, стоит ли выбираться из дому. Она позвонила Хосе Карлосу, не слишком надеясь застать приятеля на месте. Трубку снял его сосед по квартире. Нет, Хосе Карлос уехал домой и будет только в воскресенье. Нерея представила себе, как в воскресенье ближе к вечеру он возвращается с непременным пакетом (кровяные колбаски, пикантные чорисо и прочее в том же роде), а в субботу – может, еще и в воскресенье – прогуливается по берегу реки со своей официальной невестой. Они ходят, взявшись за руки, потому что никаких вольностей она ему не позволяет, а он особо и не торопится, потому что для своих семяизвержений имеет Нерею, которая всегда страшно веселится, лежа на узкой и скрипучей кровати, когда слушает деревенские истории Хосе Карлоса.
Прежде чем повесить трубку, Нерея спросила:
– Не знаешь, сегодня нигде ничего интересного не намечается?
Тогда он и упомянул то ли вечеринку, то ли концерт в Школе Педро Сербуны. Потом добавил, хотя она и не спрашивала его мнения, что это будет бодяга для снобов. Вскоре Нерея поинтересовалась у соседок по квартире, не хотят ли они пойти туда вместе с ней. Те в один голос отказались. Ну и как быть? Она заперлась у себя в комнате, решив убить последние часы уходящего дня на чтение какого-нибудь романа, но под влиянием еще остававшейся у нее травки ближе к девяти вечера все-таки отправилась на охоту.
И там она увидела его – он был выше всех, кто его окружал, танцевал без остановки, и его длинные волосы при этом очень красиво колыхались. Голый до пояса, с покрасневшим от энергичных движений лицом, белокурый и чуть глуповатый на вид. Двадцать, двадцать два, двадцать четыре года? Не было никаких сомнений, что парень отрывался по полной. Он вихлялся всем телом, чего наверняка никогда не позволил бы себе там, в своей стране. Но тут его никто не знал, кроме нескольких товарищей по университету.
И вдруг их взгляды пересеклись над головами танцующих – этого было достаточно. Нерея не сумела бы выразить словами, что в тот миг почувствовала. Можно, конечно, воспользоваться заезженными штампами: внутренняя дрожь, волшебное мгновение, стрела, попавшая прямо в сердце. Парень, судя по всему, заметил ее состояние, во всяком случае, ошарашенно уставился на незнакомку и даже чуть умерил ритм танца, а потом улыбнулся ей, показав чудесные зубы.
На улице она осыпала его поцелуями. Нерея, что ты делаешь, Нерея, что с тобой происходит? Ей пришлось схватить немца за шею и пригнуть его голову вниз, чтобы жадными и нетерпеливыми губами дотянуться до губ. Она прижималась к нему, чувствуя себя охотницей, угодившей в собственные сети. Она уже истекала соком и с трудом сдерживалась, чтобы не завопить. Интересно, что он обо мне подумает?
Клаус-Дитер жил довольно далеко, в квартире, которую снимал вместе с двумя другими немецкими студентами, где-то в районе Сан-Хосе. Нерею такое расстояние не испугало. Она пошла бы за ним хоть на край света. Он говорил по-испански с заметным акцентом. “Негея”, – называл он ее. А она готова была буквально проглотить его. Акцент только усиливал привлекательность немца. Он делал грамматические ошибки, которые Нерее казались пределом очарования и остроумия. И хотя она ни разу в жизни не сказала ни одного слова по-немецки, сейчас с наслаждением произносила его имя – и произносила очень плохо или совсем на испанский манер, как можно было заключить по смеху Клауса-Дитера. Если судить по тому, что он заставлял ее повторять свое имя снова и снова – вот поганец! – это доставляло ему явное удовольствие.
Было уже больше двух часов ночи. Они шли пешком, дул свежий ветер, над крышами светила луна, на улицах почти не было машин – и вся ночь целиком от края до края принадлежала им двоим. Быть свободнее просто невозможно. Они время от времени останавливались, чтобы снова и снова целоваться, чтобы медленно гладить друг друга по лицу, чтобы трогать друг друга, и неподвижно стояли под деревьями или под козырьками темных подъездов. Она – влюбленная, как влюбляется пятнадцатилетняя девочка в эстрадного идола, он – более сдержанный, но уж никак не робкий. Хотя, возможно, по природе своей этот немец был более стеснительным. А в конце их долгого пути – постель.
67. Три недели любви
Их роман продолжался примерно три недели. Они ночевали то в его комнате, то в ее. Чем была лучше комната Нереи? Тем, что от нее всего пара шагов до университета. Чем плоха? Тем, что кровать там была слишком узкой, а для него еще и слишком короткой. С его жильем все было с точностью до наоборот: оно располагалось далеко, но там имелась огромная двуспальная кровать, на которой можно было не только резвиться в свое удовольствие, но потом и удобно выспаться.
Какие это были три недели! Еще и сейчас, по прошествии двух десятков лет, Нерея мысленно готова отнести их целиком и полностью – с утра до вечера и с вечера до утра – к лучшим моментам своей жизни. У нее даже название для этих воспоминаний придумалось: “Антология счастья”. Вряд ли она сумела бы набрать автобиографического материала на толстую книгу или длинный фильм. Туда вошли бы какие-то эпизоды из детства, какое-нибудь памятное путешествие, несколько радостных событий и уж само собой разумеется – те три недели, которые она провела в Сарагосе вместе со своим немецким мальчиком. Больше она никогда и никого не любила так безоглядно, так пылко. И уж во всяком случае, никогда не любила так своего мужа Кике, самонадеянного хлыща Кике. А не преувеличиваешь ли ты, Нерея? Нет, не преувеличиваю, чтоб мне умереть на этом месте.
На беду, она познакомилась с Клаусом-Дитером слишком поздно, когда до конца его обучения в Сарагосе оставалось совсем немного времени и ему предстояло вот-вот снова вернуться к занятиям в Гёттингенском университете. Оба это сознавали и спешили со своей любовью. Да, спешили, но искусственно себя не подстегивали (хотя, если честно, и такое в некоторые ночи случалось). Они любили друг друга без передышки, а это далеко не то же самое. Нерея делала все возможное, чтобы ни на час не разлучаться со своим белокурым героем. Пропускала собственные занятия в университете, ходила на его лекции или ждала их окончания, сидя с сигаретой на скамейке в коридоре. Обедали они вместе, спали вместе, а иногда и в душ отправлялись вместе.
Если утром Нерея просыпалась раньше, чем Клаус-Дитер, она подолгу с восторгом его разглядывала. Красивое лицо, хорошая фигура. Она подносила руку к его губам и наслаждалась, чувствуя на ладони размеренное дыхание спящего. Или очень осторожно, чтобы не разбудить, накручивала на палец прядь его волос. Мало того, одну прядь с затылка она даже срезала бесшумными ножницами. Чудесную светлую прядь длиной в шесть-семь сантиметров. Для чего? А для того, чтобы у нее осталось от него хоть что-нибудь, на что можно будет смотреть и что можно будет трогать, когда он уедет в Германию.
Ярким ранним утром Нерее нравилось проводить по лицу Клауса-Дитера своим соском. Сонные губы, сомкнутые веки, еще не бритая щека со светлой щетиной, которая так приятно щекотала эту столь чувствительную часть ее тела. Нерея мягко будила его. Он, уже усвоив ее игру, улыбался, не открывая глаз. Неужели тебя не любила так ни одна женщина там, в твоей холодной стране? Иногда Нерея спрашивала его об этом вслух, а он – что он мог ответить, если не понимал и половины слов в ее вопросе?
Потом Нерея спускалась ниже, поглаживая его тело своими прохладными грудями. Задерживалась на животе и на внутренней стороне бедер, слегка покрытых волосами, целовала и касалась языком того, что было между ними, а утренний свет заглядывал в окно, но этому каждодневному наслаждению не было суждено продлиться долго. Да оно и продлилось недолго, но было чудным, волшебным, пронзительным – пока длилось.
Желая сделать приятное своему немецкому мальчику, она пристрастилась к чаю, и это она-то, в ту пору не представлявшая жизни без кофе. И речь, разумеется, шла не о каких-то там пакетиках, брошенных в чашку небрежно, без всякого намека на тайну. Чай хранился в металлической коробке, которую Клаус-Дитер привез с собой из Германии. Как и матерчатый фильтр, уже почерневший от долгой службы. На кухне Нерея завороженно наблюдала за немудреным ритуалом, запоминала каждый его этап, точное количество заварки и точное время, на которое фильтр следовало погружать в чайник с горячей водой. И никакого молока, никакого сахара. Клаус-Дитер, как правило, делал первый глоток с закрытыми глазами, осторожно вытянув губы, чтобы не обжечься, а она, сидя рядом, молча смотрела на него, словно присутствуя при священнодействии.
Однако общаться им было непросто. Клаус-Дитер говорил на ломаном испанском. Нерея с трудом управлялась со своим английским, заржавевшим из-за невостребованности. Поэтому они не могли вести более или менее содержательные беседы. Однако все-таки понимали друг друга, в первую очередь благодаря пылкому стремлению обоих быть понятыми – в ход шли жесты, отдельные слова, короткие фразы, хотя не обходилось и без помощи словаря. И надо добавить, что роман с Нереей помог Клаусу-Дитеру заметно улучшить свой испанский.
А сама Нерея, хотя за все три недели их любви ни разу не взяла в руки ни одной книги ни по одной из дисциплин, начала изучать немецкий, пользуясь учебником, купленным в книжном магазине на площади Сан-Франсиско. Не только Клаус-Дитер, но и его соседи по квартире Вольфганг и Марсель покатывались со смеху каждый раз, когда Нерея произносила какое-нибудь слово на их языке. И ради пущего смеха эти шельмецы открывали словарь и тыкали пальцем в те или иные не очень пристойные слова, чтобы она прочитала их вслух.
Клаус-Дитер был вегетарианцем. Нерея перестала есть при нем мясо. А еще он не ел ни рыбы, ни прочих морских тварей, но за одним исключением – креветки на гриле. За них он душу готов был продать. “В Германия это мало”, – говорил он. Иногда по вечерам они вдвоем спускались пешком в район Эль-Тубо и до отвала наедались обычными и крупными креветками, особой разницы между которыми Клаус-Дитер не видел. Он не курил. Это стало для Нереи нешуточной проблемой. Чтобы не досаждать ему, в барах она ходила курить в туалет. Зато, когда дожидалась своего немца в университетском коридоре, выкуривала несколько сигарет подряд.
Однажды в постели Клаус-Дитер с самым серьезным видом признался ей, что он верующий.
– Я верю Бог.
– В Бога?
– Я верю в Бога. Ты?
– Сама не знаю.
Он принадлежал к Евангелическо-лютеранской церкви. И Нерея, которая уже приучила себя к мысли, что будет жить с ним в Германии, готова была даже сменить веру, лишь бы сделать ему приятное.
Как-то в голову ему пришла идея, что она непременно должна приехать к нему в Гёттинген. Он то и дело спрашивал:
– Ты приехать меня повидать?
Она пообещала. Потому что этого парня я не упущу. Где еще найти другого такого? И опять повторила свое обещание на перроне вокзала Эль-Портильо, пока истекали последние мгновения их нежного прощанья. Вольфгангу пришлось за руку затащить приятеля в вагон. Через несколько секунд поезд тронулся.
Клаус-Дитер высунулся в окно, и Нерея смотрела, как он удаляется от нее. Прощай, белокурая голова. Прощай, обворожительная улыбка. Она сильно его любила, очень сильно, просто очень. Мимо проплыли другие вагоны, другие высунутые в окна головы, другие руки, которые махали на прощанье. А потом как-то сразу, едва ли не за минуту, перрон опустел. Осталась одна только Нерея, которая не сводила глаз с тянувшихся вдаль столбов, проводов и рельсов, она все глядела и глядела в ту сторону, где пропал из виду поезд. Опечаленная? Да, но до слез дело все-таки не дошло, поскольку они договорились встретиться в Гёттингене в конце лета, когда у Клауса-Дитера начнется новый семестр в университете. Он пообещал написать ей сразу, как только доберется до дому. Ладно, там посмотрим, напишет или нет. Если выполнит обещание, значит, это любовь, если нет, значит, я была всего лишь инструментом для достижения оргазма.
Каждое утро Нерея спускалась на первый этаж и проверяла почтовый ящик. А потом, ближе к вечеру, повторяла попытку, хотя почтальон обычно приходил между одиннадцатью и часом, и всего один раз в день.
По прошествии недели она заметила, что ее надежда дала первые трещины. И те слезы, которых не было на вокзале, Нерея выплакала теперь – в одиночестве. Обреченно закрыла учебник немецкого, до того постоянно лежавший открытым на письменном столе, и сунула/швырнула его вместе с заложенной между страницами прядью светлых волос в ящик шкафа.
Еще через несколько дней пришло письмо, первое из тех немногих, которыми они обменялись. На сей раз она плакала от радости. Это письмо, пересыпанное ошибками и тем еще более милое, с голубой наклейкой в форме сердечка рядом с подписью, рассеяло все сомнения. Она снова уверилась, что ее будущее – Германия, и, не теряя времени даром, направилась на факультет. Попросила у товарищей по курсу конспекты, чтобы ксерокопировать их. Больше она не пропускала ни одного занятия, не ходила на вечеринки, не гуляла вечерами. Часы напролет сидела в библиотеке или у себя в комнате и готовилась к занятиям, как никогда за все годы обучения. План у нее был такой: получить летом диплом, собрать чемодан – и пока-прощай.
Перед самыми экзаменами она как-то утром столкнулась на кампусе с Хосе Карлосом. Привет, что-то ты давненько мне не звонила, болела, что ли? Может, хочешь, чтобы я как-нибудь к тебе заглянул? Она посмотрела словно сквозь него. С презрением? Да нет, скорее с полным безразличием. Ответила, что нет, не хочет, и пошла своей дорогой.
68. Конец учебы
Нерея сдала все экзамены и получила университетский диплом. Два месяца усердных занятий помогли ей поднабрать приемлемую сумму знаний. Субботними вечерами в награду за неделю сидения за учебниками она позволяла себе ходить в кинотеатр “Палафокс”. Меньше всего ее интересовали сами фильмы. Иногда она даже смотрела один и тот же две недели подряд – лишь потому, что он оставил по себе приятное воспоминание.
Она сознательно выбрала “Палафокс”. Почему? Во-первых, район Эль-Тубо был ближе других от ее дома, и после сеанса – такая у нее была причуда – она часто исполняла некий ритуал. Заворачивала в бар, садилась за столик или, если все они были заняты, устраивалась у стойки и с наслаждением съедала порцию креветок на гриле, погружаясь в воспоминания о своем немецком мальчике. Что он, интересно, сейчас делает? А вдруг думает обо мне? Креветки и еще, пожалуй, йогурт, но йогурт попозже, уже дома, – вот и весь ее ужин. Вечерами она сидела в своей комнате, зубрила учебники и корпела над конспектами, пока где-то часам к двенадцати, а порой и раньше, внутренний голос не говорил ей: ну, девушка, на сегодня хватит. За два месяца она похудела на четыре кило.
На экзамены Нерея являлась вооруженная не одними только знаниями. Кое-какие научные сведения были наскоро перенесены на шпаргалки, спрятанные в рукавах. Шпаргали нужны были главным образом, чтобы чувствовать себя увереннее. Это своего рода спасательный жилет, говорила она себе, на случай кораблекрушения в необъятных водах невежества. На самом деле она ни разу ими не воспользовалась, вернее, только раз списала оттуда какую-то мелочь на экзамене по правовой философии.
Оценки “отлично”? Ни одной. Да она за ними и не гналась. У нее вообще не было ощущения, что она достигла какой-то цели, скорее – что скинула с плеч тяжкий груз. Точно? Точней не бывает. В то утро, когда стал известен результат последнего экзамена, она, стоя на факультетской лестнице у входа, подняла глаза к небу и выбрала среди облаков одно – какое? – вон то, самое дальнее, а потом прошептала, обращаясь к нему:
– Видишь, aita, я выполнила то, о чем ты меня просил. Теперь я свободна и могу сама решать, что делать дальше.
Больше нет никаких преград для поездки в Германию. Она шла по улице и смеялась. Я становлюсь такой же чокнутой, как мать. За несколько месяцев до того она узнала от Шавьера, что та взяла в привычку посещать кладбище Польоэ, чтобы, сидя на могильной плите, беседовать с Чато. Когда Шавьер рассказывал об этом, было заметно, как сильно он обеспокоен. Брат боялся, что у матери начнется депрессия, хотя депрессией страдал скорее сам, а еще он боялся, что ей не удастся оправиться после тяжелого удара, хотя если кто и не мог оправиться от удара, так это тоже он сам. Нерея не придала его сообщению никакого значения. Мало того, чтобы поубавить драматизма в их разговоре, она заявила, что, если бы вход на кладбище был платным, мать туда не ходила бы. Шавьеру шутка явно не показалась удачной.
Когда Нерея выходила из университетского городка, у нее мелькнула мысль, что надо бы зайти в первую же телефонную будку и поделиться с матерью хорошей новостью. Ну так что, звонить или не звонить? Почему-то ее одолевали сомнения. И, увидев будку, она прошла мимо. Но, дойдя до улицы Фердинанда Католика, после секундного колебания все-таки решилась. Если подумать хорошенько, почему я должна скрывать от собственной матери, что окончила университет? Нерея сунула в щель монету, набрала три первые цифры, потом повесила трубку. Почему? Потому что я ее знаю как облупленную. Потому что сейчас же она скажет что-нибудь такое, что испортит мне этот победный день.
Короче, еще две недели Нерея скрывала новость от Биттори. Завтра я ей позвоню. Но наступало завтра, и Нерея откладывала звонок еще на день. И еще на один, и еще…Чтобы потянуть время, чтобы поберечь собственные нервы. Мать окончательно поселилась в Сан-Себастьяне. Жить с ней? Ужас. Вернуться в поселок? Еще того хуже. Когда она ездила туда в последний раз, друзья и знакомые с ней не здоровались. Она прикинула свои возможности, посоветовалась с подругами по квартире и приняла решение. Какое? Остаться на все лето в Сарагосе. Ее предупредили:
– Сарагоса летом – все равно что раскаленная печь.
Ей это было по барабану. Кроме того, именно сюда писал ей письма Клаус-Дитер. Разумеется, она могла дать своему белокурому мальчику адрес в Сан-Себастьяне. Могла ли? И какой именно? У нее в запасе был только адрес матери. Нет, только не это. Она легко представила себе следующую сцену. Нерея, смотри-ка, пришло письмо из Германии. Кто тебе пишет? У тебя что, появился жених? Не говоря уж о том, что мать непременно вскроет конверт, сославшись на то, что не обратила внимания, кому именно письмо адресовано.
Из двух ее соседок у одной, как и у Нереи, срок аренды заканчивался в конце июля, другая – которой оставалось учиться еще год – собиралась прожить этот год там же. И ей предстояло после каникул подобрать новых жилиц. Нерея спросила у нее, позволит ли она ей сохранить за собой комнату на август и сентябрь. А чтобы подруге в этот период не пришлось самой нести все расходы, Нерея предложила отдавать свою часть непосредственно ей, а не хозяйке. Девушка с радостью согласилась.
Сарагоса в августе – тридцать восемь, сорок, сорок четыре градуса. Солнце, пустынные улицы. Нерее казалось, что этим дням не будет конца. Она читала романы, гулять выходила по вечерам, когда жара немного спадала, и учила немецкий. Трудный язык. У нее просто не умещалось в голове, как это в нынешний период истории люди могут в булочной, или в больнице, или из окна в окно разговаривать, склоняя слова на манер древних римлян. Она поискала в “Желтых страницах” адрес интенсивных курсов немецкого, куда можно было бы записаться. В августе? Там даже на телефонные звонки никто не отвечал.
Дни маразма, дни скуки. И все равно – лучше провести их в раскаленном одиночестве, гуляя вечерами по городу, выбираясь изредка в аквапарк “Ла Ипика” с увлекательной/интересной книгой, например детективом, чем день напролет снова и снова выслушивать материнское ворчание. По телефону – в тех редких случаях, когда Нерея звонила, – мать донимала ее вопросами, почему она по-прежнему остается в Сарагосе, если с учебой покончено. Просто… И Нерея врала первое, что приходило ей на ум. Потом вдруг сообщала, что плохо слышит – ой, совсем ничего не слышно – или что у нее закончились монеты. Ни про Германию, ни про Клауса-Дитера она даже не заикалась.
Хуже всего в ту пору одиночества и несносной жары для Нереи было отсутствие писем. Уже начиная с июля письма от Клауса-Дитера стали приходить все реже и реже. В августе она не получила ни одного. Но Нерея знала почему, хотя каждый раз, заглянув в почтовый ящик и найдя его пустым, испытывала такое же разочарование, как вчера или как позавчера. Что происходило? Да ничего, просто Клаус-Дитер почти на месяц уехал в Эдинбург. За это время она отправила в Гёттинген дюжину писем, вкрапляя в них немецкие фразы. Некоторые переписывала прямо из учебника, другие, менее затасканные, составляла как придется при помощи – всегда ненадежной – словаря. В начале сентября она получила – ура! – ответ. Он вернулся из поездки и скучает по Нерее: “Я тебя скучаю”.
Когда-то давно в Сарагосу ее отвез отец. А забирал из Сарагосы Шавьер.
– Я приехал за тобой по просьбе матери. Сегодня у меня свободный день – и вот я здесь.
Зачем он явился? Помочь сестре с вещами, которых накопилось немало. И у них ушло порядочно времени на то, чтобы загрузить их в машину. Одних только книг было две большие коробки. Шавьер даже сложил спинки задних сидений, чтобы расширить площадь багажника. И набили они его битком.
– Где бы нам теперь пообедать?
Прежде чем пуститься в путь, брат с сестрой отправились в ближайший ресторан. Жевали, пили, разговаривали.
– Мама волновалась из-за того, что ты все никак не возвращаешься.
– Я ей объяснила, что до отъезда мне надо покончить с некоторыми делами.
– Я так и думал. Это связано с университетом?
– Нет, это проблемы сердечные.
Столь лаконичный ответ, выраженный с типичным для ее возраста вызовом, не насторожил Шавьера, который как ни в чем не бывало продолжал резать свою телячью отбивную. Иногда он рассеянно обводил взглядом тех, кто обедал за соседними столиками. Откровения сестры, казалось, не пробудили в нем любопытства и не произвели ни малейшего впечатления, пока он не услышал одно слово. Какое именно? “Германия”. Вилка с подцепленным на ней куском мяса застыла в воздухе. Шавьер уставился на Нерею. С изумлением? Нет, скорее с тревогой.
– И что ты собираешься делать?
– Девятого числа я сяду на поезд и отправлюсь к нему. Билет куплю только в один конец.
– А мать знает?
– Пока об этом знаешь только ты.
Разговор утратил главную нить. Между островами молчания текли разрозненные цепочки слов. То и дело прерывающийся, ленивый вербальный поток вяло нес с собой какие-то отговорки, увертки, никому не интересные сейчас проблемы. Шавьер покончил с обедом и попросил счет.
– Или ты хочешь еще и десерт?
– Что?
– Если ты закажешь десерт, мы можем еще немного тут посидеть. Я не собираюсь тебя торопить.
– Нет, не хочу. Только, если ты не против, выкурю сигарету, а потом можно и ехать.
Через двадцать минут они оставили позади то, что, по мнению Нереи, могло считаться последним зданием Сарагосы. Шавьер вел машину, а она, приняв театральную/торжественную позу и весьма неправдоподобно изобразив ностальгию, вдруг произнесла короткую прощальную речь. Она от души развлекалась, нагнетая пафос. И говорила о том, что здесь заканчивался целый этап ее жизни, что она увозит с собой хорошие воспоминания о городе, но вряд ли вернется сюда в ближайшие три тысячи лет.
Шавьер еще какое-то время хранил молчание, а потом сказал:
– Мне кажется, наша ama очень одинока, и я боюсь, как бы она окончательно не утратила чувство реальности. Я стараюсь проводить рядом с ней как можно больше времени, но работа вытягивает из меня все жилы. Она мечтает, чтобы ты занялась адвокатской практикой. Тебе она этого не говорила?
– Я ненавижу юриспруденцию.
– Ну, знаешь ли, я тоже не ради развлечения хожу в свою больницу. На что-то надо жить, тебе не кажется?
– Да, но только не занимаясь чем угодно, а для меня адвокатура – хуже, чем что угодно. Честно признаюсь, свое будущее я вижу где-нибудь далеко отсюда. И хочу попробовать.
– Ты выглядишь счастливой.
– А тебя это задевает?
– Нет, конечно. Единственное, о чем я прошу: хоть немного поумерь свое ликованье при матери. Ты ведь прекрасно понимаешь, что в нашей семье не у всех есть причины для веселья.
– Дорогой брат, эта ловушка хорошо мне известна, и я в нее не попаду. А могу я задать тебе один вопрос? Из простого любопытства. Если не хочешь, не отвечай. – Не отводя глаз от дороги, Шавьер кивнул. – После того как умер aita…
– Он не умер, его убили.
– Результат тот же.
– Для меня – разница самая существенная.
– Хорошо. После того как убили нашего отца, ты хоть раз рассмеялся? Я имею в виду – от всей души, ну, над какой-нибудь глупостью, которую ляпнул кто-то в вашей больнице, или, например, смотря фильм? Не было такого, чтобы ты вдруг обо всем позабыл и непроизвольно – хотя бы раз – расхохотался?
– Может, и было. Не помню.
– Или ты сам себе запретил быть счастливым?
– Я не знаю, что такое счастье. Догадываюсь, что речь идет о какой-то науке, которой ты владеешь. Видно даже, что стала в ней экспертом. А с меня довольно того, что я дышу, исполняю свои профессиональные обязанности, какое-то время провожу с матерью. Да, с меня этого довольно.
– Ты каждую минуту упоминаешь о матери.
– Я вижу, что с ней не все в порядке, то есть она попала в ту самую ловушку, о которой ты говорила. Я за нее тревожусь.
– Вот что значит хороший сын. Зато я, в отличие от тебя, ничуть не тревожусь. Именно на это ты намекаешь? На то, что мне все до фонаря? Что я думаю только о себе?
– Никто ничего от тебя не требует и ни в чем тебя не обвиняет. Не волнуйся. Отцовская фирма ликвидирована. В материальном плане все у нас очень даже неплохо. Ты молода, наслаждайся жизнью, пока можешь.
Потом они дружно решили сменить тему. Как раз когда въехали в Наварру. Солнце, равнина, иссохшая земля. Время от времени – очертания какой-нибудь деревни.
Нерея внезапно:
– А ты что-нибудь знаешь про Арансасу?
– Нет, давненько уже ничего не слышал. Последнее, что до меня дошло: она уехала по гуманитарной линии в Гану, но сведения не очень точные, так что уверенности у меня нет. А почему ты спрашиваешь?
– Да просто так. Она мне нравилась.
На этом их разговор оборвался. Чуть позже, когда позади осталась Тудела, Нерея включила радио.
69. Разрыв
Надписи на стенах, направленные против Чато, лишили Хошиана аппетита. А еще они лишили его лучшего друга. Потому что в городе на такие вещи можно было бы наплевать, а вот в поселке, где все мы друг друга знаем, ты не можешь поддерживать отношения с тем, на ком поставили метку. Об этом Хошиан и думал в то воскресенье, возвращаясь из Сумаи домой. Туда он ехал вместе с Чато, обратно – уже без него. И кто теперь станет моим партнером за картами? После завтрака, когда еда не лезла ему в горло и он почти все оставил на тарелке, Хошиан вышел из бара вместе с остальными, но на первом же подъеме сделал вид, будто выдохся и поэтому отстал от основной группы. Позже, не доезжая до Гетарии, решил сойти с велосипеда, сесть на валун у моря и разобраться в своих мыслях. Море, оно большое. Море, оно как Господь Бог, который находится одновременно и рядом, и далеко, который напоминает нам, какие мы маленькие, гори оно все синим пламенем, он бы нас запросто уничтожил, взбреди ему такое в голову. Никогда Хошиану не было так тяжело возвращаться на велосипеде в поселок. В Орио он даже готов был пересесть на автобус. А велосипед? Его можно было бы где-нибудь пристегнуть и оставить на время. А если украдут? Вот в том-то и дело! Здесь много чужаков. И Хошиан опять нажал на педали, хотя и крутил их через силу и почти не обращал внимания на движение на дороге, погруженный в раздумья.
Когда он вошел в квартиру, Мирен из кухни – в фартуке – глянула ему в глаза, но не сердито, не нахмурив брови, а вопросительно. Он ожидал скандала из-за своей задержки. Она же сказала только:
– Ну давай, ступай в душ.
И это было похоже на вдруг возродившуюся былую теплоту. Жена не произнесла ни слова упрека, как случалось обычно. А иногда бывало, что она очень спокойно говорила ему вроде бы что-нибудь самое нейтральное, но по голосу и по выражению ее лица он понимал: следом немедленно грянет гром.
– Есть мне совсем не хочется.
– Ну, тогда садись и смотри, как стану есть я.
И они поговорили – серьезно, сухо, хлебая суп и жуя бараньи котлеты, пока сидели за столом вдвоем, без сына и дочки.
– Ты уже знаешь?
– Сначала Хосе Мари, а теперь вот еще и это.
– Это вещи совсем разные.
– Беда за бедой.
– Она позвонила мне где-то около десяти. Я повесила трубку.
– Но ведь только вчера вы с ней ездили в Сан-Себастьян.
– Вчера и было вчера, а сегодня – расклад уже другой. С нашей дружбой покончено. Начинай к этой мысли привыкать.
– Столько лет. Неужели тебе не больно?
– Мне больно за Страну басков, которой не дают свободы.
– А вот я к этому никогда не смогу привыкнуть. Чато – мой друг.
– Был твоим другом. И не вздумай с ним встречаться. Лучше всего им было бы уехать отсюда. С их-то деньгами – чего им стоит купить себе дом где-нибудь там, в нижних краях? Так нет же, надо непременно поступать наперекор всем, хочется подразнить гусей.
– Никуда они не уедут. Чато, он упрямый.
– Борьба за свободу – вещь жестокая. Или они уедут сами, или их вышвырнут отсюда. Пусть сами выбирают.
Еще не пробило десять, когда раздался телефонный звонок. У Мирен не было ни малейших сомнений – это она. За полтора часа до того был и другой звонок, который вытащил ее из постели. Хуани: знает ли уже Мирен… саму-то ее это ничуть не удивило… уже давно…
И потом:
– Они накопили денежек, эксплуатируя рабочий класс, вот и пришло время платить по счетам. И не одна я так говорю. Так все в поселке считают. Но я хочу тебя предупредить, потому что каждый у нас здесь знает, что вы с ней подруги не разлей вода.
Мирен – с только что вымытыми и еще не высохшими до конца волосами – вышла на улицу, накинув на голову платок, прямо в тапочках. Идти далеко не пришлось. Надписи появились везде, даже на церковных стенах: “Чато доносчик, угнетатель, alde hemendik, Herriak ez du barkatuko”[81]. И все в таком же духе.
Не одна надпись, не две, их было двенадцать, пятнадцать, двадцать – вдоль всей улицы как в ту, так и в другую сторону. В деле поучаствовало много рук. Работа была серьезной и хорошо организованной. У Мирен появилось предчувствие: Биттори непременно позвонит ей, чтобы спросить, знаю я уже про надписи или нет, и предложит встретиться и обсудить все это. Нашими с мужем руками разгрести жар? Они ведь привыкли на чужом горбу выезжать.
Конечно, Биттори позвонила. Не успел колокол пробить в десятый раз. И Мирен, которая была в ванной и накручивала волосы на бигуди, кинулась к телефону, настроенная весьма решительно – разорвать с подругой все отношения.
– Слушаю.
– Мирен, это я. Ты уже?..
Едва услышав/узнав ее голос, Мирен повесила трубку. Вот ведь нахалка! Мой сын рискует жизнью, борясь за свободу Страны басков, а эти все никак не угомонятся, все наживаются на чужом труде. Ладно, что посеешь, то и пожнешь. И, продолжая ворчать себе что-то под нос, Мирен вернулась в ванную и снова взялась за бигуди.
Потом она какое-то время не встречала бывшую подругу. Сколько дней? Немало, не меньше двух недель. Интересно, Биттори хоть иногда выходит из дому? Его-то самого Мирен однажды видела, правда, издалека, когда он выезжал на машине с той улицы, где находится их гараж.
О бывшей подруге Мирен знала только то, что рассказала Хуани. Что именно? Ну, что однажды та внаглую зашла в мясную лавку. Постояла в очереди, что-то попросила. Хуани ей сказала: у нас этого нет. Биттори попросила что-то другое, теперь уж не помню, что именно. Хуани опять: нет у нас этого. Тогда она, гордо выпрямившись, прямо как настоящая сеньора, говорит: тогда отрежь мне двести граммов вот этой йоркской ветчины, – и ткнула пальцем в кусок, а Хуани бросила на нее такой взгляд, каким можно дырку в стене просверлить, и говорит: для тебя у нас ничего нет.
Сама Мирен только один раз видела ее на улице. Совсем мельком, пару секунд, не больше. Тогда Мирен по чистой случайности столкнулась со священником. Ну как, есть новости от Хосе Мари? Нет, все только ждем. Ложь. К тому дню Пачи уже передал им пару писем, но предупредил, чтобы они об этом помалкивали.
Итак, Мирен разговаривала с доном Серапио, тот, как всегда, задал ей кучу вопросов. И тут Мирен заметила ее – поверх плеча священника. Биттори шла прямо к ним с той же самой старой и потертой сумкой в руках, которую по субботам обычно брала с собой в Сан-Себастьян. Вокруг глаз черные круги.
Денег куры не клюют, а сумка как у нищенки. Очень уж эта Биттори прижимистая. Мирен быстренько встала сбоку от дона Серапио и таким образом повернулась спиной к приближающейся Биттори. Мирен со священником занимали почти весь тротуар. Той, другой, пришлось – вот тебе, получай! – сойти на проезжую часть, чтобы обойти их. Ни она с ними не поздоровалась, ни они с ней. Ни она на них не посмотрела, ни они на нее. И тотчас Мирен опять встала туда же, где стояла прежде – лицом к лицу со священником.
Дон Серапио, помолчав несколько секунд:
– Вы что, даже не разговариваете?
– Я? С этой? Еще чего!
– Ради их же собственного блага им лучше было бы уехать из поселка.
– Так ступайте и скажите им, потому что, как мне кажется, они никак не желают этого понять.
А вот Хошиан и в самом деле один раз тайком поговорил с Чато. Он поджидал его неподалеку от гаража. Когда? Вечером после ужина Хошиан под тем предлогом, что хочет вынести мусор, отправился ему навстречу. У Хошиана на совести лежал тяжкий груз, от которого надо было освободиться. Он уже пытался сделать это раньше – слегка шевелил бровями в знак приветствия, когда сталкивался с Чато. И вот теперь ему вдруг вздумалось вынести на улицу пакет с мусором, хотя обычно это делал Горка.
С некоторых пор Чато старался возвращаться с работы в разное время. Видно, из осторожности. Хошиан решил подловить его на той темной улице, где у Чато был гараж. И наконец наступил вечер, когда он его дождался.
– Это я.
– Ну и что тебе надо?
У Хошиана дрожали руки, дрожал голос. К тому же он непрестанно озирался по сторонам, словно боялся, что кто-нибудь заметит, как он разговаривает с Чато.
– Ничего. Хотел только сказать тебе, что очень сожалею, что не могу даже здороваться с тобой, потому что это обернется для меня серьезными проблемами. Но если мы когда встретимся на улице, ты знай, что мысленно я с тобой здороваюсь.
– А тебе никогда не говорили, что ты трус?
– Я сам себе это то и дело говорю. Да что толку! Могу я тебя обнять? Тут нас никто не увидит.
– Лучше подожди, пока решишься на это при свете дня.
– Если бы я мог помочь тебе, то клянусь…
– Не беспокойся. Мне достаточно твоих мысленных приветов.
Чато пошел дальше уверенной походкой, его расплывчатый силуэт был виден в тусклом свете фонаря. Хошиан подождал, пока бывший друг завернет за угол, и двинулся в сторону своего дома. Больше им встретиться с глазу на глаз уже никогда не довелось.
Чато шагал, сунув руку в карман брюк. Вскоре он дошел точно до того места, где дождливым днем, который стремительно приближался, один из боевиков ЭТА лишит его жизни.
70. Про родину и всякую брехню
Рассказывают, уверяют, и так было написано в газетах, что его нашел пастух. Пастух гнал своих овец через выжженные солнцем поля в провинции Бургос, и там лежал разложившийся и наполовину обглоданный зверьем труп.
Как заявил пастух гвардейцам, рядом с трупом лежал пистолет. Министр внутренних дел счел это обстоятельство достаточным, чтобы утверждать, будто речь идет о самоубийстве. Тип оружия указывал на связь погибшего с ЭТА.
В его кармане гвардейцы обнаружили удостоверение личности на чужое имя. Вечером в теленовостях показали фотографию. В поселке все и сразу его узнали.
Пачи в личной беседе сообщил Хуани и Хосечо, что организация уже давно не имела никаких сведений о Хокине.
– Вы должны приготовиться к самому худшему.
Гроб привезли накрытым баскским национальным флагом. Дождь и зонты. “Полицейские – убийцы!” – хором скандировали на улице сотни глоток. Хокину устроили многолюдные похороны, собравшиеся пели песни, подняв вверх сжатый кулак, и обещали отомстить. Потом его похоронили. А летом во время местных праздников огромный портрет Хокина висел на балконе мэрии.
Его родители были раздавлены горем. Мясная лавка несколько дней была закрыта. Но если Хуани мало-помалу стала приходить в себя, загоняя боль внутрь, а утешение искала в молитве, то Хосечо погрузился в глубокую депрессию. Так, во всяком случае, говорили люди. Кто именно? Их соседи. А также Хуани, которая в те дни пару раз заглядывала к Мирен, чтобы выплакаться. Она рассказала, что Хосечо постоянно молчит, часами лежит в постели и нет никакой возможности заставить его подняться.
Они договорились/решили, что Хошиану надо пойти навестить Хосечо, побеседовать с ним, и кто знает, может, мужской разговор поможет ему встряхнуться.
Хошиан, вернувшись вечером домой:
– Ты уже раз посылала меня к нему, и для меня это была сущая пытка.
Он брюзжал, шипел, чертыхался. Вздорные бабы – пристали как банный лист, лезут куда их не просят. А Мирен, распахнув окно настежь, с самым невозмутимым видом продолжала обваливать в сухарях и жарить рыбу. Она не перебивала его, словно дожидаясь, когда в часах закончится завод.
Позднее в постели:
– Слушай, ну, если уж так не хочешь – не ходи. Завтра скажу Хуани, что ты отказался, – вот и все дела.
– Да замолкни ты наконец, и так издергала меня нынче.
И он опять пошел к Хосечо, но всю дорогу бурчал что-то себе под нос. Знал/боялся, что тот, другой, устроит сцену со слезами, как и в первый раз. А я что, железный?
До закрытия лавки оставалось совсем немного. Ни одного покупателя там уже не было. Запах сырого мяса, запах жира. Хосечо стоял за прилавком в белом фартуке, забрызганном кровью, и, едва увидев гостя, разрыдался – у него ходили ходуном плечи, он громко и гортанно всхлипывал. Потом – здоровый, крепкий – кинулся обнимать Хошиана, а тот хлопал его по широкой спине, пытаясь вот так, на свой манер, успокоить:
– Мать твою растак и разэтак, Хосечо, мать твою…
И никак не мог сообразить, что еще тут можно сказать. Он хотел отыскать нужные слова, но на ум приходили только крепкие выражения да божба. При этом он отнюдь не был уверен, что произносит их с подобающим видом и подобающим случаю голосом. Кроме того, с Хосечо они приятельствовали – это да, – но не сказать, чтобы были близкими-преблизкими друзьями… Чего нет, того нет. Другом Хошиана был Чато. Настоящим другом, хотя они теперь и не разговаривали. А с мясником, который никогда не заглядывал в бар, чтобы сыграть партию в мус, да и велосипедом не увлекался, отношения у него не были ни доверительными, ни по-настоящему искренними.
Хосечо решил закрыть лавку чуть раньше обычного. Он попросил Хошиана опустить снаружи металлические жалюзи, потому что не хотел, чтобы кто-то из прохожих видел его в таком состоянии. Потом, уперев руки в боки и подняв унылый взгляд к потолку, начал понемногу успокаиваться. Вскоре он положил свою огромную руку Хошиану на плечо, словно давая понять, что теперь он вполне способен вести разговор:
– Я ведь так и думал, что ты придешь.
– Это козни наших с тобой жен. Видишь, вот опять к тебе заявился, а что тут надо говорить, ума не приложу.
– Наконец хоть кто-то не врет мне в глаза. За что я тебе от всей души благодарен.
Хозяин лавки провел гостя в подсобное помещение и указал на стул. Достал из холодильника и предложил какой-то напиток (должно быть, безалкогольный). Может, съешь чего-нибудь? Но тогда ты уж без церемоний – ступай к прилавку и бери что хочешь сам.
– На свой выбор. Правда, хлеба у меня нет.
Хошиан от всего отказался, а вот приглашение сесть принял.
– Только не вздумай меня утешать. И если у тебя в голове осталась хоть капля мозгов, немедленно отправляйся искать своего сына. Во Францию, куда угодно. Хватай за шкирку, дай по морде – и тащи домой или даже сдай в полицию. Молись, чтобы его как можно скорее арестовали. Да, он попадет в тюрьму, зато ты не потеряешь сына, как я потерял своего.
Хошиан сидел на стуле, и на лице его застыла подобающая случаю мина.
– Они ведь мне даже похороны подготовить как следует не дали. Как клещами вцепились в покойника и разыграли вокруг него весь этот патриотический спектакль. Им же очень кстати пришлась его гибель. Чтобы использовать ее в политических целях. Понимаешь? Так они используют и нас всех тоже. А ребята наши – все равно что бараны. Да бараны они и есть. Доверчивые простаки. И твой Хосе Мари такой же. Им запудривают мозги, дают в руки оружие – и вперед, иди убивай. Мы у себя дома никогда не говорили про политику. Меня самого политика вообще не интересует. А тебя интересует?
– На хрена она мне сдалась!
– Им забивают головы дурацкими идеями, а поскольку они еще молодые, то легко попадаются в сети. И потом каждый мнит себя героем – только потому, что у него есть пистолет. Но ведь не думают своей башкой, ради чего все это, хотя в конце концов в качестве награды их ждут тюрьма или могила. Они бросили работу, семью, друзей. Все бросили, чтобы выполнять приказы кучки ловкачей. И чтобы сеять вокруг горе, оставлять после себя вдов и сирот.
– Надеюсь, ты не станешь повторять это на людях, а?
– Я где угодно буду повторять то, что считаю нужным.
– Они устроят тебе веселую жизнь.
– У меня был сын, и я его потерял. О какой еще жизни ты толкуешь?
– Посмотри на Чато. С ним уже никто не разговаривает.
– А вот ты взял бы и начал разговаривать, ты ведь его друг.
– И тогда со мной поступят так же, как с ним.
– Это земля лжецов и трусов! Короче, Хошиан, послушай моего совета. Брось все эти глупости и поезжай искать Хосе Мари.
– Это не так просто, как тебе кажется.
– Если бы я раньше знал, где найти Хокина, я бы донес на него в полицию. И теперь у меня был бы сын, пусть он и сидел бы в тюрьме. Плевать мне на то, перестал бы кто-то со мной разговаривать или нет. Из тюрьмы когда-нибудь да выходят. Из могилы не выходит никто и никогда.
Они проговорили почти целый час, и Хошиан покинул мясную лавку, понуро повесив голову. Еще недавно он собирался пойти в “Пагоэту” и поиграть в карты. Нет, вряд ли я смогу думать об игре после того, что сказал мне Хосечо. Он направился домой, неся пакет с колбасой, который всучил ему мясник.
Мирен с удивлением:
– Что-то ты очень скоро вернулся. Встряхнул его хоть немного?
– Где там, встряхнешь его, пожалуй, зато он меня тряханул как следует, совсем из колеи выбил. И больше не вздумай посылать меня к нему.
71. Непутевая дочка
Дело было в январе. В среду. Это надо же до такого додуматься! Выбрать утро среды! Серого, дождливого рабочего дня. Нет, для такого важного события, которому суждено остаться в памяти на всю жизнь, следует ждать весенних или летних выходных – только так! – чтобы небо было синим, чтобы было тепло и чтобы вся родня, разодетая в пух и прах, с улыбками позировала у церкви фотографу. А тут что? Аранча позвонила им по телефону. Во сколько? В одиннадцать с минутами. Трубку взяла Мирен. И свою дочь даже не поздравила. Только заявила сухо и сердито, что так с матерью не поступают. Она не поинтересовалась подробностями, не поинтересовалась вообще ничем, быстро свернула разговор, простилась, повесила трубку и решила, что не прольет ни слезинки. Я? Это ее жизнь, пусть поступает, как знает.
После двух вернулся с завода Хошиан.
– У меня дурные новости.
– Что, его арестовали?
– Она вышла замуж.
– Кто?
– Твоя дочка.
– Разве это плохая новость?
– Ты совсем дурной, что ли? Она сочеталась гражданским браком с этим типом из Саламанки. А теперь подумай своей башкой. Без Божьего благословения, даже не предупредив нас с тобой, без всякой свадьбы. Словно цыгане какие!
Хошиан вытаращил глаза. Огромные, как у совы, глаза на усталом лице – с шести утра он не отходил от плавильной печи. И теперь никак не мог согласиться с женой. Во-первых, новость показалась ему очень даже замечательной – дочка вышла замуж, и надо это дело непременно отметить, черт возьми. Во-вторых, сколько уж времени эти двое живут вместе? Отец и сам толком не знал. Два, три года? В любом случае достаточно долго, и Мирен без конца их этим попрекала. Так что им уже давно пора было оформить отношения. То, что дочь вышла замуж за человека, которого любит, Хошиан не считал поводом для недовольства – вовсе даже наоборот. И этот парень, наш зять, он вовсе не из Саламанки, он родился в Рентерие. А если бы даже и в Саламанке, то что с того?
– По мне, так пусть будет хоть китайцем, негром или цыганом. Главное, что его выбрала моя дочь. И точка.
– Дурак ты дурак, всегда был дураком и дураком помрешь. Сам не знаешь, что несешь. Небось утром тебе на голову кирпич свалился. Ну-ка, раз уж ты считаешь себя таким умником, пойди к дону Серапио и расскажи, что твоя дочка вышла замуж не по-церковному, да еще за типа, который ни слова не говорит по-баскски.
– Она вышла замуж за честного, работящего парня, который ее уважает и любит.
Нет, такого Мирен стерпеть просто не могла, она со злобой сорвала с себя фартук. И крикнула уже через силу, быстро выходя из кухни, чтобы запереться в туалете и выплакаться вволю:
– Ай, Иисусе, до чего я одинока, до чего одинока!
Пролетели дни, пролились новые дожди. В феврале две семьи уговорились вместе отправиться в ресторан. Мирен язвительно: празднуем между своими, словно это поминки. За стол сели всемером: молодые супруги, их родители, а также Горка, который, вопреки требованиям матери, наотрез отказался надеть костюм с галстуком, потому что после ресторана планировал встретиться с приятелями и не хотел, чтобы они над ним насмехались. Мирен на него наседала, ничего не желая слушать. Аранча и Гильермо встали на сторону мальчишки, который в результате явился на обед в футболке и кроссовках, а потом первым и ушел.
Остальные мужчины оделись так, как того требовали традиция и их собственные супруги. Костюмы сидели на них неважно – тут широко, там висит или стоит колом. Все трое имели вид пролетариев, постаравшихся принарядиться к празднику. Правда, об их внешнем виде позаботились жены, которые взялись за дело со всей ответственностью и, завязывая мужьям галстуки, прикрикивали: стой спокойно, не дергайся.
Сами женщины выглядели гораздо лучше. Больше вкуса и больше элегантности. Все три сделали прически в парикмахерской. Аранча надела темно-зеленое платье, которое было на ней и в день бракосочетания, а еще вставила розу из ткани того же цвета сбоку в распущенные волосы. На Мирен было темно-синее платье, которое она купила себе в магазине в Сан-Себастьяне. Анхелита втиснула свои пышные формы в бежевую юбку с белой блузкой, что дало Мирен повод позже пройтись на ее счет, когда они с мужем уже легли в постель.
Хошиан, повернувшись лицом к стене, напрасно старался заставить жену умолкнуть – ее рот оказался совсем близко от его уха и извергал словесные потоки. А Хошиану хотелось отдохнуть, день-то был длинным. Но Мирен продолжала сидеть, прислонившись спиной к изголовью кровати, и никак не могла угомониться. Под конец она спросила:
– Ну и как тебе все это?
– Отлично. Мясо, правда, было жестковато.
Зачем он это сказал? Неужто не понимал, что только подливает масла в огонь? Он сразу раскаялся – не столько в самом своем ответе, сколько в том, что вообще что-то ответил. Но было уже поздно.
– Жестковато? Подошва. А консоме – вообще ни то ни се. Нам с тобой доводилось бывать в заведениях получше и к тому же не таких дорогих. Но чего тут можно было ждать? Когда все делается не как Бог велит, ничего путного выйти не может.
– Хочу тебе напомнить, если ты вдруг позабыла, – мне завтра с утра пораньше на работу вставать.
– Аранча со своей свекровью вроде бы ладит. Заметил, как наша дочь помогла ей развернуть салфетку? А потом сняла каплю майонеза вот отсюда, у нее с усов? Потому что, если это у нее не усы, тогда можешь называть меня епископшей. Для собственной матери у Аранчи никогда любви не хватало, а для этой толстой бабищи из Саламанки – сколько хочешь.
– Ладно, ладно. Не заводись по новой.
– А еще я видела, что сам ты с зятем уже нашел общий язык. Над чем вы там гоготали?
– Слушай, теперь ты еще и на него, что ли, остервенишься? А он ведь и добрый, и ласковый донельзя. Знаешь, меня даже тревога берет, как бы он не стал подкаблучником у нашей дочки.
– И еще у вас с ним вроде как получился свой отдельный разговор.
– Просто мы оба спортом интересуемся.
– А чего ты так расчувствовался? Это надо – пустить слезу у всех на глазах! В таких случаях нормальные люди выходят на улицу или запираются в уборной, а не устраивают представление. В жизни такой стыдобищи не испытывала.
– Я тебе уже говорил: не сдержал себя, вот и все.
– Да уж, что не сдержал себя, это точно, только совсем в другом смысле: когда слишком приналег на каву. Я ведь не слепая. Сразу увидала, когда ты принялся бок чесать.
– Не плети лишнего. Я про сына вспомнил. Вся семья в сборе за праздничным столом, а он невесть где пропадает.
– Ну и выставил нас в смешном виде. Не хватало только, чтобы ты заговорил про Хосе Мари при этих. Я бы в тебя сразу тарелкой запустила, можешь не сомневаться.
– Хватит языком-то молоть. Дашь ты мне поспать или нет?
Мирен погасила лампу со своей стороны. Хошиан свою погасил еще какое-то время назад. Ну и что, теперь супруги умолкли? Он – да. Мирен, не меняя позы, продолжала и продолжала в полной темноте вспоминать подробности обеда, а также судить, рядить и злобиться.
– Для меня они все равно люди пришлые, чужаки, одним словом. Пусть любезные, пусть воспитанные и что там угодно еще, но видно ведь с первого взгляда, что родились-то они не здесь. Хоть манеру речи возьми, хоть жесты… По мне, они даже жуют как-то не так. Вот и жди теперь, что появится у нас внук по фамилии Эрнандес. При одной только мысли об этом у меня кишки начинают болеть. Мне, честно скажу, именно из-за этого плакать хочется, а не из-за Хосе Мари, который, между прочим, защищает дело Эускаль Эрриа. Не знаю, не знаю, Хошиан, и что мы с тобой сделали не так? Может, ты скажешь? Почему дочка у нас получилась такой непутевой? Эй, Хошиан, ты что, спишь?
72. Священная миссия
В Сан-Себастьяне присуждали литературные премии, учрежденные для молодых авторов. Конкурс каждый год объявлял Сберегательный банк провинции Гипускоа. Мирен не до конца поняла, что там ей говорили по телефону, поэтому, когда Горка вернулся к обеду домой, смогла сообщить ему только это:
– Звонил какой-то сеньор, спрашивал тебя. Сказал, будто ты что-то выиграл в Сберегательном банке.
Но до утра следующего дня Горка, которому вот-вот должно было стукнуть восемнадцать, так и не смог получить подтверждения тому, о чем догадывался/мечтал. Он удостоен первой премии по разряду поэзии на баскском языке за стихотворение под названием Mendiko ahotsa[82]. Это был его первый успех.
Никто, даже лучшие друзья понятия не имели, что он участвует в литературном конкурсе. И не впервые. Если выиграю – отлично, если нет – вряд ли кто об этом проведает. Зато о победе узнал весь поселок, ведь в день вручения премии приехал журналист и взял у Горки интервью, так что фотография юного поэта и беседа с ним появились на следующий день на посвященных культуре страницах “Баскской газеты”. Сообщения о премии напечатали и другие областные издания, но без интервью и фотографии. Каждому победителю конкурса причиталось по десять тысяч песет.
– Десять тысяч? Ни хрена себе! – От радости Хошиан со всей силы хлопнул сына по спине. Он смотрел на Горку с улыбкой, одобрительно, и от гордости у него отвисла нижняя губа. – Ну и чего ты ждешь? Беги в свою комнату и пиши – будешь купаться в деньгах.
Мирен:
– И что ты намерен сделать с этими десятью тысячами?
– Я их еще не получил.
– Когда получишь.
– Мне нужна одежда, нужны ботинки.
Кто больше всех радовался этой скромной победе – как ни посмотри, но все-таки настоящей победе, – так это Хошиан. В “Пагоэте” он с явным удовольствием выслушивал шутки друзей. Вон, мол, отец – олух олухом, а сынок в знаменитости выбился. И так далее в том же духе. Счастливый Хошиан по-детски хвалился сыном. Это гены, объяснял он. На что ему отвечали:
– Ага, только гены-то небось твоей жены, а вовсе не твои.
Но он добродушно отмахивался:
– Этой-то? Еще чего!
Ему пришлось пообещать партнерам по игре в мус, что, если он даже и выиграет партию, все равно из своего кармана заплатит за кувшин вина. Хотя Хошиан рад был и всех других, кто слонялся по бару, тоже угостить.
Главное случилось на следующий день. Хозяин завода лично явился в плавильный цех, чтобы поздравить Хошиана. Тот, смутившись, поспешил стянуть почерневшую рукавицу, чтобы пожать белую властную руку с часами известной марки. Какой именно? Он в таких вещах не разбирался.
Хошиан Горке на кухне:
– Чтобы купить такую штуку, мне пришлось бы работать много дней, а тебе – отхватить кучу премий.
Мирен тоже пыжилась от гордости, но молча. Она всасывала свою горделивую радость внутрь, пропитывалась ею как губка. И только заметив, как Мирен непроизвольно дергает шеей, можно было догадаться, насколько она довольна.
– Ну что, ты рада, ama?
– Еще бы!
В те дни, едва Горка переступал порог, Мирен начинала передавать ему приветы то от одного, то от другого. Она испытывала что-то вроде эйфории, когда с расширенными глазами перечисляла имена людей, с которыми столкнулась на улице и которые просили ее поздравить писателя. Писателя? Скорее счастливчика, который выиграл десять тысяч песет и чью фотографию напечатали в газете, – именно это всех изумляло и поражало. Но Мирен испытывала какое-то судорожное удовольствие, как будто все ее кости, все внутренние органы, все мускулы и даже кровеносные сосуды сжимались в комок в самом центре тела. У нее было такое чувство, словно ее хотя бы частично вознаградили за все пережитое.
– Наконец пришел час, когда и нам будут завидовать.
Аранча во время телефонного разговора посоветовала брату быть осторожнее. Разумеется, она была рада. Очень рада. Привет, чемпион! – сказала она ему, словно стараясь сделать так, чтобы никаких сомнений на сей счет у него не осталось. Она всегда в него верила. Не забыла передать ему поздравления Гильермо, который посылал Горке еще и крепкое объятие. Но потом она все-таки упомянула про одну важную вещь – чтобы он не слишком светился.
– Ну, ты меня понимаешь.
Но Горка не понял. Сестра, судя по всему, это заметила и после паузы, продлившейся несколько секунд, добавила:
– Главное, чтобы ты писал то, что хочется тебе самому, и никому не позволял использовать твой талант.
– До сих пор все были со мной очень любезны.
– Вот и хорошо. А хоть кто-нибудь в поселке поинтересовался тем стихотворением, за которое ты получил премию? Кто-нибудь прочитал его?
– Никто.
– Теперь ты меня понимаешь?
– Кажется, начинаю понимать.
Горка вспомнил предупреждение сестры уже через несколько дней, когда шел в церковь, где его ждал дон Серапио. Мирен столкнулась со священником утром, и тот заявил, что желает побеседовать с Горкой и лично поздравить его.
– Если ты придешь в церковь к пяти, найдешь священника в ризнице.
– И что он собирается мне сказать?
– Поздравить тебя, что же еще?
– Всю эту историю здесь сильно раздули. Я всего лишь написал стихотворение – вот и все.
– В нашем поселке не так часто встретишь человека, который способен получить премию за стихи. Так что ступай к пяти в церковь, побеседуй со священником и не мешай людям себя любить, понял? Да, кстати, прежде чем идти, прими душ.
Горка шел туда неохотно, кроме того, он здорово робел. Никогда раньше ему не доводилось с глазу на глаз разговаривать с доном Серапио. Потом, во время их беседы, Горка часто делал вид, будто чешет нос, а на самом деле пытался отгородиться от зловонного дыхания священника. Тот при разговоре часто соединял вместе подушечки пальцев. И на его лице появлялось выражение скорбного умиления. Речь дона Серапио была очень сдержанной, он изъяснялся на правильном эускера, пересыпанном старинными выражениями, то есть на языке, какому учат в семинарии.
– Наш народ всегда был народом предприимчивым и готовым идти на риск, народом храбрецов и людей благочестивых. Мы умели обращаться с древесиной, камнем, железом и исходили все моря; но, на беду, на протяжении веков мы, баски, не придавали большого значения литературе. Да что я могу тебе об этом сказать, чего ты не знаешь сам? Ты ведь, насколько мне известно, страстный любитель книг, а как выяснилось теперь, еще и поэт.
Горка смущенно кивал. На стене напротив, рядом с вешалкой для риз, имелось зеркало, и в нем отражался высокий и худой парень с немного (а если честно, очень даже заметно) приплюснутым носом. Священник гнул свое:
– Господь наградил тебя талантом, а я, сын мой, от Его имени прошу тебя держать себя в узде, прошу, чтобы ты употребил свои способности на службу нашему народу. Задача эта в первую очередь касается молодых, тех, кто сейчас только начинает писать. У вас есть энергия, есть здоровье, и перед вами открывается великое будущее. Кто лучше вас способен дать жизнь литературе, которая станет надежной защитой для нашего языка? Понимаешь, о чем я толкую?
– Конечно.
– Эускера – душа басков, но нашему языку нужна опора – собственная литература. Романы, пьесы, поэзия. Все что угодно. Ведь недостаточно, что дети ходят в школу, что родители разговаривают с ними и поют им песни на эукскера. Никогда нам не нужны были так, как сегодня, великие писатели, которые помогут нашему языку достичь настоящего расцвета. Иметь своего Шекспира, своего Сервантеса, но пишущих на эускера, – вот это было бы чудесно. Ты можешь себе такое хотя бы вообразить?
Горка увидел в зеркале, как его отражение кивает.
– Трудно говорить о таких вещах без волнения! Но тебе я хотел сказать, что ты должен и дальше накапливать знания и писать, чтобы наш народ создавал свою культуру и твоими руками тоже. Когда ты пишешь, это пишет и сама Страна басков, живущая у тебя в душе. Всем известно, какую ответственность предполагает такая работа, возможно пока еще непомерную для столь юного и неопытного человека, как ты. Но это настоящая миссия, поверь мне, прекрасная, прекраснейшая миссия, и на нынешнем этапе нашей истории, говорю это, не боясь преувеличить, миссия священная. Вот тебе мое благословение, Горка. Если ты в чем-то почувствуешь нужду, не важно, в чем именно, без колебаний приходи ко мне. Ты всегда получишь здесь поддержку, чтобы иметь возможность целиком посвятить себя столь благородному делу, как литература.
Через полчаса растерянный Горка вышел из ризницы. На прощанье священник обнял его. Парень почувствовал, как его груди коснулась грудь дона Серапио, и это произвело на него странное впечатление. Он не был готов к физическим контактам такого рода. И все-таки: неужели дон Серапио относит меня к числу избранных? Пока Горка шел по улице, внутри у него от изумления образовалась пустота, некий экзистенциальный воздушный пузырь. Как странно, дон Серапио ни разу не упомянул про Хосе Мари. Как странно, он не упрекнул Горку за то, за что наверняка должен был упрекнуть: я редко вижу тебя в церкви. И тут Горка вспомнил – да и как было не вспомнить! – о чем ему совсем недавно говорила по телефону сестра. Ведь и священник тоже не проявил никакого интереса к его стихотворению.
Как только он вошел, мать спросила:
– Что было нужно от тебя дону Серапио?
– Хотел поздравить, вот и все.
– Я так и думала.
Через несколько дней уже никто не вспоминал про полученную Горкой премию. Никто. Теперь и мать, когда он возвращался домой, не спешила навстречу с перечнем приветов. Все успокоились. Наконец-то. По крайней мере, ему так казалось. И слава богу, потому что Горке уже до чертиков надоели поздравления, шутки и похлопывания по плечу, иногда искренние, но чаще насмешливые. А главное, надоело собственное стихотворение, которое, когда он перечитал его, запершись у себя в комнате, вдруг показалось ему настолько слабым, что после этого он не мог взглянуть на него без стыда.
Короче, Горке перестали докучать, и вот как-то в субботу он заглянул в таверну “Аррано”. С каждым разом ему становилось все неприятнее входить туда, видеть фотографию брата и отвечать на вопросы про него. Неприятны были дым, шум и плохо вымытые стаканы, иногда со следами губной помады. Но друзья зовут, и ты идешь. А если не идешь, это сразу берут на заметку. А если берут на заметку, это плохо.
С такими мыслями он подошел к стойке, потому что их компания решила заказать еще по стакану калимочо. На сей раз идти за выпивкой выпало Горке. За стойкой стоял Пачи с каменным лицом. Он остановил на Горке тяжелый взгляд, потом наклонился к нему:
– Ты неправильно ведешь себя, и это мне не нравится.
Горка поднял брови. На две-три секунды на лице его застыло удивление. И ему было страшно смотреть в злые глаза хозяина таверны.
– А что случилось?
– Не смей больше давать интервью фашистской газете и не смей брать деньги от банков, которые эксплуатируют трудящихся. Дело с газетой теперь уже не исправишь. Надеюсь, это не повторится. А второе исправить можно. Знаешь, что у нас тут? – Он поставил на влажную стойку перед оробевшим Горкой кружку, куда собирали деньги для заключенных. – Сюда вмещается как раз десять тысяч песет.
73. Если начал – назад ходу нет
Закончив работу в обувном магазине, Аранча вышла на улицу и сразу увидела – вон он стоит, окутанный сквозистыми предвечерними тенями, ее брат Горка с лицом печальной собаки. Что случилось? У него к ней просьба. Нельзя ли ему пожить несколько дней у них? Почему? Жизнь в поселке стала для него невыносимой.
– А родители что говорят?
– Я хотел сперва обсудить это с тобой.
Она предупредила:
– У нас есть только одна кровать – наша.
Он готов был спать на полу, подстелив одеяло, а вместо подушки использовать полотенца. Аранча велела ему успокоиться и для пущей убедительности красноречиво махнула рукой. У них имеется еще и диван, хотя он, пожалуй, окажется для Горки слишком коротким.
– Ты ведь все растешь и растешь.
Потом она спросила, не от полиции ли он намерен скрываться. Ответ: нет. Честно? Честно. Аранча облегченно вздохнула. Тогда от кого, от приятелей?
– И от приятелей, и от кое-кого еще.
Брат с сестрой договорились, что сейчас они сядут на автобус и поедут в Рентерию, а потом Горка при ее муже расскажет, что у него произошло в поселке.
– Ведь если ты останешься у нас на несколько дней, Гилье имеет право знать причину, согласен?
– Разумеется.
Картина получилась такая: Гильермо и Аранча перед ужином сидят на диване, Горка – напротив на стуле, принесенном с кухни, потому что молодые супруги, хоть и много работают, пока не накопили достаточно денег, чтобы завершить обстановку квартиры. Горка со всеми подробностями рассказывает о том, что в общих чертах уже обрисовал сестре, пока они ехали в автобусе. Теперь, в присутствии зятя, он начинает с констатации факта:
– Или я уберусь из поселка, или повторю путь Хосе Мари. Выбирать тут не приходится. Меня берут за жабры. Я кажусь им слишком мягкотелым. Говорят, что из-за книг у меня совсем высохли мозги, смеются надо мной. Теперь вот и прозвище мне придумали – Монах. Но хуже другое. Постепенно им удается подмять меня под себя и заставить делать то, с чем я решительно не согласен. Сейчас у меня нет ни одного друга, с которым я мог бы поговорить так, как с вами. Да я и вообще больше помалкиваю, чтобы не ляпнуть чего лишнего. А вчерашняя история стала последней каплей. Я страшно устал. Всю ночь глаз не мог сомкнуть. Еще немного – и убежал бы в горы, чтобы спрятаться там, но потом вспомнил про вас.
– Расскажи теперь Гилье то, что рассказал в автобусе мне.
Вчера в “Аррано” Пейо отозвал его и еще одного парня в угол и зашептал, что у него в надежном месте спрятано четыре коктейля Молотова.
Гилье:
– А кто такой этот Пейо?
– Один из их шайки, и он с каждым днем становится все отвязнее.
Аранча добавила:
– Его отец был самым известным пьяницей в поселке. Каждый день люди видели, как он выписывает кренделя на улице. Его уже нет в живых.
По всей видимости, Пачи разрешил Пейо унести с собой несколько пустых бутылок. И тот уже сам раздобыл бензин. Купил? Дожидайся! Обычно он сует шланг в бензобак легковушки или грузовика и подсасывает горючее. Очень легко и просто. Так вот, он изготовил коктейли. Добавил туда машинного масла, чтобы огонь, по его словам, получился более “прилипчивым”. Сколько-то бутылок испытал в одиночку на карьере. Но еще четыре у него осталось.
– Он просто помешан на оружии и на борьбе и не сегодня завтра намерен вступить в ЭТА.
Пейо предложил нам провести акцию, когда стемнеет. Вот только никак не мог придумать, какую цель выбрать. Нет ли идей у нас? Поначалу он упомянул о Народном доме[83]. Там на двери остались следы огня после последнего поджога.
– А batzoki?[84]
Хуанкар:
– Эй, притормози, там наверняка мой отец будет в карты играть.
Горка молчал. Горка, не говоря ни слова, пил свой калимочо и исподтишка поглядывал на часы, дожидаясь подходящего момента, чтобы свалить из бара. Ситуация становилась по-настоящему скверной. Он видел, что два его приятеля рвутся в бой, да и глазки у них поблескивают от выпитого за вечер. Жаль только, говорил Пейо, что сегодня эти сволочи, наши продажные полицейские, не устроили никакой потасовки, а то мы могли бы двух-трех подпалить. Потом стали обсуждать, не поджечь ли автомобиль кого-нибудь из врагов Эускаль Эрриа. Они так громко спорили и так размахивали руками, что скоро вся таверна была в курсе того, что замышляла эта троица, стоя в уголке. Поэтому к ним подошел Пачи и посоветовал/велел убираться вон. Мол, здесь, в “Аррано”, ему лишние проблемы не нужны. А для всяких таких дел у него, к их сведению, есть подсобка. И за разговором он как бы между прочим упомянул, хотя ничего впрямую и не сказал, что в поселке живет один тип, у которого имеются грузовики.
– Я поначалу не понял, о ком это он, потому что все время думал, как бы мне поскорее оттуда смыться. А вот Пейо с Хуанкаром сразу сообразили, что Пачи указывал нам на Чато.
Гилье:
– А кто такой Чато?
Аранча:
– Я тебе про него однажды рассказывала. Хозяин транспортной фирмы. Он не хочет прогибаться, хотя и получает угрозы от ЭТА. По всей видимости, отказывается платить “революционный налог”, а может, только мешкает с выплатами или платит меньше, чем они требуют, чего не знаю, того не знаю. Слухи ходят разные! Но кончилось дело тем, что против него развернули целую кампанию, чтобы запугать, и теперь весь поселок от него отвернулся. А человек он хороший. Для нашего отца – все равно как брат, а для меня – почти как дядя. Но теперь мы не разговариваем ни с ним, ни с его семьей, хотя они ничего плохого нам не сделали. Наша земля – земля безумцев.
Между тем Горка, зажатый приятелями между столом и стеной, пытался защищаться. Нет, правда, он не хочет, ему пора отваливать. Они настаивали. На все про все уйдет не больше часа. Меньше, гораздо меньше. План совсем простой: швырнем четыре бутылки с коктейлем, а потом сразу обратно в поселок, и ты можешь катиться к своим гребаным книжкам. Пачи со своего места за барной стойкой следил за их перепалкой. Потом опять подошел к ним, на сей раз вроде как чтобы собрать стаканы.
– Можно узнать, какого черта тут происходит?
– Да вон он, Монах, говорит, что не хочет с нами идти.
– Уже в штаны наложил.
– Никто бы не поверил, что это брат Хосе Мари.
Горка молчал. И тогда Пачи, серьезный, суровый, повернулся к нему:
– Слышь, парень, когда вас несколько и ты знаешь весь план, надо идти до конца, а не предавать своих. Если не хотел ни в чем участвовать, надо было сваливать раньше. Никто тебя не принуждает. Но если начал – назад ходу нет. А теперь выметайтесь отсюда все трое. За выпитое заплатите завтра. А может, я вам его и прощу. Будет зависеть от вашего поведения.
Горку почти что впрямую назвали предателем. От этого до доносчика – рукой подать. Поэтому он сдался. Но вдруг на него накатил такой стыд, словно он шел по улице голым – длинный, худющий, на виду у всех жителей поселка. От омерзения у него ком в горле стоял. И это было омерзение к себе самому. Он чувствовал себя жалким трусом, марионеткой, достойной презрения, чудиком, ощипанной птицей, рыбой, выброшенной на берег, и больше всего его заботило сейчас одно: как бы сделать так, чтобы другие, то есть двое приятелей, не заметили его состояния. А спутники, шагая по улице, грозным тоном повторяли доводы Пачи, пока Горка не остановил их: да хватит вам, я ведь и так иду с вами. И они двинулись дальше – веселые, под хмельком, gora ETA, amnistia osoa, и так далее, – за теми четырьмя бутылками с зажигательной смесью, которые были припрятаны у Пейо.
Загрузив бутылки в сумку, пошли вниз, в сторону реки. Уже стемнело, но в небе над горами еще тянулась фиолетовая полоса. Договор был такой: каждый кинет по бутылке, а Пейо, который их изготовил, две. Когда они оказались у цели, Хуанкар велел приятелям вести себя потише. Они убедились, что ворота заперты. Что они слишком высокие – не перелезешь. К тому же поверху была протянута колючая проволока. Не повезло и в другом: во дворе стояло всего два грузовика. Один из них рядом с въездом в гараж.
– Черт, слишком далеко.
Если кинуть бутылки снаружи, ни за что не попасть. Второй грузовик стоял так, что водительская кабина упиралась в стену. В чем трудности? Их было по крайней мере три. Первая: из-за проволочной полосы поверх забора бутылка должна лететь как снаряд из мортиры. А значит, как следует никак не прицелишься. Вторая: непролазные заросли ежевики прямо у самой ограды. А третья? Вокруг росло слишком много деревьев – из-за них было темно и ни черта не видно, даже куда ступаешь.
В конторе свет не горел.
– Никого нет.
Дрожавший от нетерпения Пейо швырнул первую бутылку. И постарался бросить ее как можно выше, чтобы не задела за проволоку. Не прицеливаясь. Бутылка разбилась об асфальт. Зато благодаря вспышке грузовик теперь был отлично виден.
– Потом они сказали, что теперь моя очередь. Мне было ясно: в грузовик я ни в жизни не попаду. Какие ко мне претензии, если Пейо и сам промахнулся? И вдруг, пока мы зажигали тряпку, послышался громкий крик: сволочи, сво-о-лочи! И не только крик. Раздался выстрел: пиф-паф! Клянусь. Чато бежал в нашу сторону по эспланаде. Пиф-паф – еще один выстрел. Целился он в нас или нет, не знаю. Но было понятно, что в руке у него пистолет. Туда-растуда, этот тип нас сейчас перестреляет. Мы побежали. У нас не было ни капюшонов, ничего, чтобы закрыть лица. В любом случае, думаю, из-за темноты узнать нас он не успел. И гнаться за нами Чато не стал, а бросился тушить огонь. Я уверен, если бы он захотел, убил бы наповал всех троих. Я всю ночь не спал, а сегодня несколько часов слонялся по городу. Так что, если вы разрешите мне пожить у вас несколько дней, буду очень благодарен. А потом придумаю, как мне покинуть поселок. Если останусь там, наверняка кончу тем же, чем кончил Хосе Мари.
Аранча встала с дивана:
– Ладно. Пойду готовить ужин. А ты пока позвони домой и расскажи отцу с матерью, в какую беду попал.
– Про вчерашнее я им рассказать не могу.
– Ну, сочини что-нибудь.
– Что?
– Гилье, вот ты, например, что бы сказал на его месте?
– Я? Не знаю. Что меня грозятся избить или что-то вроде того.
74. Движение Личного Освобождения
На какое-то время Горка нашел спасение в одиночестве. Постепенно он отошел ото всех своих друзей. В таверну “Аррано” больше носа не показывал. Учился, читал, писал стихи и рассказы. Потом все рвал, поскольку был уверен, что они никуда не годятся. Но не отчаивался. Я учусь. Между тем он не оставлял надежды найти наконец себе работу. Какую? Пойти на завод, как не раз предлагал отец? Хошиан даже обещал замолвить за него словечко в конторе. Ни за что. В двадцать один год Горка все еще жил с родителями. Отец переживал, находя сына чудным, мать частенько его ругала. И чтобы хоть немного расшевелить, говорила, что теперь точно знает: младший у них вышел лодырем.
Время от времени Горка ездил в Сан-Себастьян и посещал книжные презентации, конференции и “круглые столы” – иными словами, тянулся туда, где собирались писатели, и с некоторыми из них даже свел знакомство. Теперь он уже не брал книги в поселковой библиотеке. Главным образом потому, что не хотел ни с кем встречаться на улице или в читальном зале. Зато стал постоянным посетителем муниципальной библиотеки Сан-Себастьяна, расположенной в Старом городе. Там он мог просиживать часами, склонившись над книгами, энциклопедиями, газетами.
Но он понимал, что, пока будет зависеть от родителей, из поселка ему не вырваться. Праздники, политические акции, звонки приятелей – водоворот засасывал его, от этого он никакими силами не мог полностью отгородиться, хотя и преуспел в искусстве уверток, научился мастерски притворяться. Раз нельзя не ходить на демонстрации, значит, надо выбрать для себя стратегически правильные места. Сначала рядом с приятелями, потом уже в нескольких шагах от них, и как только он убеждался, что его присутствие замечено, останавливался с кем-нибудь поболтать, лучше с людьми постарше, и словно ненароком отставал от своей компании, а потом, выбрав подходящий момент, сматывал удочки.
Часто Горка уезжал на несколько дней из дому. Такой у них был договор с Аранчей. Он жил в ее квартире и хотя бы на время избавлялся от поселковой компании. Но надо сказать, что иждивенцем в семье Аранчи Горка не был. Чем мог, помогал сестре и зятю. Пока они оставались на работе, наводил идеальный порядок в квартире. Вместе с ними оклеивал обоями гостиную. Сам покрасил потолок на кухне. И, чувствуя себя перед ними в долгу, попытался обучить зятя хотя бы начаткам баскского языка. Но занятия вскоре пришлось бросить – у них ничего не получилось, так как Гильермо был совершенно не способен к языкам.
И вот однажды судьба улыбнулась Горке. Что именно произошло? Парень наконец-то нашел себе работу – или работа его нашла, и к тому же в городе. Оплачивалась она не слишком щедро, нельзя об этом не сказать, но была ему по вкусу: его взяли продавцом в один из книжных магазинов Сан-Себастьяна. Хозяева уже знали Горку и однажды, когда он пришел на презентацию какой-то книги, спросили: а ты не хотел бы?.. Горка ни минуты не колебался. Это был первый успех на пути, который сам он назвал Движением Личного Освобождения и цель которого сводилась к единственному пункту: добиться независимости. Дело было не только в том, что он стал зарабатывать хоть какие-то деньги, главное – теперь он мог каждый день уезжать из поселка, никому ничего не объясняя, потому что все знали, куда он направляется по утрам и зачем садится в автобус.
Служа в магазине, Горка начал публиковать в журналах рецензии на книги на эускера и даже кое-какие свои сочинения, а иногда – правда, нерегулярно – и статьи по вопросам культуры в газете “Эгин”. Публикации в “Эгине” служили для него в поселке охранной грамотой. Никто его ни в чем не упрекал, никто ни в чем не подозревал. Редко видели? Да, редко, зато он печатался в “Эгине”.
Однажды он заметил на улице Пачи. На противоположном тротуаре.
– Очень удачной получилась у тебя вчерашняя статья. Я ничего не понял, но мне понравилось. Действуй так и дальше.
Баскский язык превратился в главный источник его доходов. Прибыльный? Пока не очень. Он брался за все. Ему поручали писать тексты на книжные обложки и рекламные проспекты, иногда доставались небольшие переводы. Одно издательство согласилось напечатать его тоненькую книжечку для детей. В последний момент редактор, не посоветовавшись с автором, изменил название. В итоге она вышла как Piraten itsasontzi urdina – “Голубой пиратский корабль”. Нельзя сказать, чтобы Горке оно совсем не понравилось, но он предпочел бы свое. У него остался в душе неприятный осадок от того, что кто-то непрошеный вторгся в его произведение.
Аранча посоветовала ему не принимать это близко к сердцу и в дальнейшем всерьез заняться именно детской литературой.
– Пока ты пишешь для детей, никто не станет к тебе придираться. Но упаси тебя господь касаться запутанных дел нашей Страны басков. В любом случае, если вздумаешь сочинить что-нибудь и для взрослых, пусть события происходят подальше отсюда. В Африке, скажем, или в Америке – как у других писателей.
Судьба повернулась к Горке своим добрым ликом, благодаря чему он без особых трудов осуществил давнишнюю мечту – навсегда покинуть родной поселок. Как это получилось? Он познакомился с Рамунчо. Поначалу Горка не собирался идти на открытие выставки баскской живописи в галерее “Альчерри”, но опоздал на нужный ему автобус, к тому же лил дождь, а галерея, как нарочно, находилась совсем близко. И он, решив скоротать время там, отправился на выставку, словно его тянуло туда невидимым канатом. В галерее он и встретил Рамунчо. Тот держал в руке канапе с креветкой, вареным яйцом и майонезом. Завязался разговор. Нового знакомого поразило то, как великолепно владеет Горка баскским языком. Они и вообще понравились друг другу. Чтобы побеседовать без помех, спустились в бар, расположенный внизу. Беседа только укрепила взаимную симпатию, и в конце концов где-то около десяти Рамунчо предложил отвезти Горку в поселок на своей машине. Горка был на седьмом небе от счастья – и не только потому, что таким образом решилась проблема с транспортом, нет, главное, он впервые за долгое время убедился: есть на свете еще один человек, кроме сестры, с которым можно разговаривать откровенно, ничего не опасаясь.
Два месяца спустя он стал жить вместе с Рамунчо в Бильбао. Поначалу предполагалось, что Горка будет выполнять функции его секретаря и редактировать тексты для радио. Рамунчо был разведен, и у него имелась дочка Амайя, которую он безумно любил. Горку он поселил в своей квартире на улице Лиценциата Посы. Предоставил ему спальню и кабинет, а платил намного больше, чем хозяева книжного магазина в Сан-Себастьяне.
Но попросил/запретил писать хотя бы строку для “Эгина”:
– Это опасно. Поверь мне.
У Горки стали получаться такие интересные, такие глубокие – и так хорошо написанные – тексты, что какое-то время спустя Рамунчо решил устроить Горку на радио. И без особого труда добился, чтобы его молодого друга зачислили в штат. Об этом тот раньше и мечтаь не смел.
Радиостанция была небольшой. Примерно восемьдесят процентов программ шли на баскском языке. Но некоторые дикторы плохо справлялись с грамматикой. И Горка от этого только выиграл, потому что благодаря куче прочитанных книг проблем с родным языком не испытывал, а кроме того, у него был хороший голос, поэтому, побыв какое-то время мальчиком на побегушках, редактором и ассистентом, отвечающим за фонотеку, а также за кофейник, он занял место у микрофона – сначала на пару с Рамунчо, но потом стал вести передачи самостоятельно.
Ему страшно нравилось это дело, так что он засиживался в редакции и после окончания рабочего дня. Пристраивался рядом со звукотехником и просил, чтобы тот научил его обращаться с пультом. А еще он всегда знал, когда в город приезжали какие-нибудь писатели, художники, певцы. И, прихватив диктофон, бежал брать интервью. Позднее он таким же образом ловил спортсменов и любых известных людей, готовых ответить на его вопросы.
Рамунчо, увидев такой энтузиазм, дал ему получасовую персональную программу. Каждый день, кроме субботы и воскресенья, в десять вечера Горка рассказывал про баскскую литературу. Он был счастлив.
75. Фарфоровая ваза
Арансасу, надев темные очки, устроилась на носу лодки, Шавьер сидел на веслах. На корме можно было прочесть название лодки – Lorea Bi. Дело в том, что раньше существовала некая Lorea Bat. Теперешняя лодка, как и прежняя, принадлежала брату Арансасу, который дал им ключ. Еще в ранней юности Арансасу любила плавать по заливу на Lorea Bat, правда, та была тяжелее и неповоротливее, чем нынешняя. Вместе с ней часто плавали подруги по школе или какой-нибудь случайный кавалер, и очень редко она покидала берег одна. У Lorea Bi имелся подвесной мотор, но Шавьер решил воспользоваться веслами. В конце концов, они и так прекрасно проведут день, не оставив брата с пустым бензобаком.
– Да брось ты, сколько мы этого бензина истратим!
– Мне будет очень полезно немного размяться. Я это рекомендую своим пациентам, а потом оказывается, что сам веду сидячий образ жизни, за который их ругаю.
Они отшвартовались. Медленно двинулись между рядов всякого рода плавучих средств, стоявших на якоре, и старались ни одно не задеть. Арансасу руководила: осторожно, тут подай немного вбок, не спеши. И когда они вывели лодку на свободное пространство, она закурила и больше уже ни во что не вмешивалась.
Прекрасный день. Голубоватое послеполуденное время, как бывает в конце весны. Вода в порту спокойная, иногда в темной глубине серебряной вспышкой мелькает резко повернувшаяся рыба. А на берегу сидят в ряд шесть-семь рыбаков с удочками, в большинстве своем мальчишки. Из-за отлива на виду оказалась широкая полоса покрытой водорослями стены. В щелях можно разглядеть раков.
Шавьер недовольным тоном:
– Не хватает только, чтобы кто-нибудь из этих балбесов поймал нас на крючок.
Они вышли в залив. На открытом пространстве Lorea Bi начала слегка покачиваться. Здесь уже трудно не заметить огромность водной массы, мощь волн, которые словно о чем-то предупреждают. О чем? Да все о том же: что вода, она живая, а вы лишь букашки на плавающей скорлупке. Штормит? Ничего подобного, но если ты не привык справляться с морем, постоянная качка нагоняет страх, а легкий ветер кажется свирепым. Он наскакивает на тебя со всех сторон, хлещет, потому что понимает твою беззащитность. Арансасу он растрепал волосы – ох, до чего же она красивая! – и ей пришлось собрать их в пучок.
Но боялась она совсем другого:
– Как мне хотелось бы просверлить дырку у тебя во лбу, чтобы время от времени заглядывать туда и узнавать, о чем ты думаешь и что чувствуешь. Когда я была девчонкой, мы с подругами любили делать “секретики”. Каждая выкапывала в земле маленькую ямку, на дно надо было положить маргаритки, листья клевера, какую-нибудь безделицу, прядку волос. Все это накрывалось сверху кусочком стекла, а на следующий день мы приходили посмотреть на свои сокровища. Так вот, я сделала бы то же самое с твоим лбом, чтобы видеть, что происходит там внутри.
– И ты можешь запросто выполнить свое желание. Когда я засну, просверли дырку у меня в черепе – я наверняка ничего не почувствую. Сама знаешь, как крепко я сплю.
Шавьер гребет неторопливо. Не хочу набить на руках мозоли. Небольшого, но ровного усилия достаточно, чтобы легкая Lorea Bi – с пластиковым корпусом, укрепленным стекловолокном, – плавно скользила по водной глади. Куда они плывут? Никуда. Им всего лишь хочется побыть вдвоем, без посторонних, подальше от города, откуда, по мере того как они уходят глубже в залив, до них доносится все меньше звуков, а те, что доносятся, кажутся приглушенными.
Арансасу, уже без солнечных очков, покачиваясь, перешла на сиденье на корме, чтобы видеть при разговоре лицо Шавьера. А для большей надежности, перебираясь с одного конца лодки на другой, на миг оперлась на его плечи. Мягкие, нежные руки, в них чувствуется какая-то бархатная влюбленность. А потом Арансасу сняла шлепанцы, голубую блузку, джинсы и, решив позагорать, осталась в бикини. Ступни у нее маленькие, девичьи. Ногти покрыты темно-красным лаком.
– Ума не приложу, что еще я должна сделать, maitia[85], чтобы понравиться твоей матери. Я ведь и вправду стараюсь. Но хочешь верь, хочешь нет, все мои ресурсы исчерпаны. Что ты мне посоветуешь?
– Моя мать – человек с довольно узкими воззрениями на жизнь. Не беспокойся. Не сегодня завтра она поймет, какая ты чудесная, и вы с ней подружитесь.
– Плохо верится. Она не может мне простить, что я, простая санитарка, украла у нее сына.
– Она сама тебе это сказала?
– Но я же вижу, Шавьер. Глаза-то у меня есть.
– Есть, и других таких красивых глаз я в жизни не видел.
Очередной комплимент? И вне всякого сомнения, заслуженный. Она действительно красивая женщина, и красота эта зрелая – в моем вкусе. Ни девчонка, ни старуха. Женщина в расцвете лет, у которой уже появились первые морщинки в уголках глаз, но пока они делают ее еще более привлекательной, потому что добавляют впечатление опытности в земных делах, притом что пока нет и речи о капитуляции/покорности судьбе, зато еще есть здоровье, немалый набор надежд, умение радоваться жизни, несмотря на развод, который выбил ее из колеи и нанес психические травмы, – но появление Шавьера многое исправило.
Полные губы – наверное, лучшее в ее милом лице. А когда губы раскрываются, видны белые, чудесные зубы. Я очень многое помню! О том, какая она добрая/красивая, прекрасная/теплая.
Когда лодка оказалась между горой Ургуль и островом и поблизости не осталось других лодок или корабликов, Арансасу попросила его нанести ей на спину крем для загара. Я каждый день имею дело с человеческими телами, но сейчас передо мной тело, которое я люблю. Я ее любил. Я сильно ее любил.
Она:
– В последнее время у меня повторяется один и тот же сон. Хочешь расскажу?
– Расскажи.
– Я иду по лесу или по горам, рядом зияют ужасные провалы. Я несу в руках фарфоровую вазу. Но вот описать ее тебе не сумела бы. Кто-то шепчет мне на ухо, что ваза очень ценная. И будет большим несчастьем, если она разобьется.
– Легко угадать финал. Ваза выскальзывает у тебя из рук и со страшным грохотом разбивается.
– За последние недели это снилось мне раз пять, не меньше. Кажется, я на этом просто зациклилась. Ваза, а иногда это бутылка – они всегда разбиваются. Во сне мне хочется расплакаться, но стыдно. Люди указывают на меня пальцем и, вместо того чтобы помочь, ругают. Я не знаю, где спрятаться. И бегу как сумасшедшая, но вдруг понимаю, что снова несу в руках вазу, или бутылку, или какой-то хрупкий предмет, который непременно разобьется, – и он действительно разбивается.
– Думаю, тебе стоит попробовать писать. Вон какие у тебя образы возникают.
Натерев кремом ей спину, Шавьер поднял верхнюю часть купальника, скорее чтобы дотронуться до ее груди, а не потому что решил и грудь тоже намазать кремом. Разве она просила об этом? Нет, но Арансасу никогда не отказывает ему ни в чем, что связано с ее телом. Хочет трогать, пусть трогает. Хочет коснуться губами, пусть касается. Хочет взять ее, пусть берет. Она сказала ему об этом еще до тех счастливых дней, которые они провели в Риме. Пусть он не скрывает от нее своих желаний, пусть пользуется ее телом и получает наслаждение, когда хочет и как хочет, только любовь его должна быть искренней. Этого ей достаточно. Если, конечно, он понимает, о чем она говорит. Разумеется, он понимает.
Груди у нее скорее маленькие, чуть обвисшие, но невероятно чувствительные. Поэтому, если он их осторожно, с кропотливой нежностью гладит/сжимает/целует, она вздрагивает от наслаждения и просит, чтобы он не останавливался.
Закрыв глаза, целиком отдаваясь приятным ощущениям, Арансасу спрашивает, посещают ли его когда-нибудь в больнице эротические мысли, когда он лечит красивых женщин.
– В операционной – никогда. Во время консультаций – не стану врать, бывает и такое. Иногда запах духов заставляет меня забыть на мгновение, что я механик, ремонтирующий тела. Думаю, такое случается с кем угодно. А с тобой разве нет?
– Редко.
– Среди моих пациенток были прелестнейшие женщины, но разве может человек позволить себе поддаться их чарам, зная, что внутри этих тел растет опухоль или почка перестала работать?
Потом Шавьер с Арансасу решают выйти из залива. Куда? Туда, за остров, где будут совсем одни. Шавьер опять берется за весла.
– Так с ходу я бы не припомнил, чтобы у меня случилась эрекция во время работы.
Сейчас, двигая веслами, он вспоминает гримасы боли, кровоточащие раны, болезни. Вспоминает голые тела, да, иногда молодые и хорошо сложенные, но переполненные страданием и тоской, подключенные к трубкам, в бессознательном состоянии, приговоренные к неизбежной смерти – сегодня, завтра, через три недели. И он находится там вовсе не для того, чтобы прислушиваться к своим влечениям. Да, именно так. И даже не для того, чтобы позволить себе сострадание.
Lorea Bi двигается легко. Море покрывается барашками. Весла мягко входят в воду, которая с каждой минутой становится все темнее. Темнее, потому что глубже. А еще она становится чуть менее спокойной. Вокруг никого. До самого горизонта ни паруса, ни силуэта какого-нибудь корабля.
Арансасу закурила, она загорает на корме, подложив под спину полотенце и опустив ноги на сиденье. Шавьер смотрит на ее тело. Разве позволительно быть такой красивой? Стройные, гладкие, хорошо очерченные ноги, которые шагали по жизни, пока не встретили меня. Колени, бедра с едва заметным намеком на целлюлит, что причиняет Арансасу столько огорчений. Она ведь привыкла любоваться собой. Хотя и утверждает, что нет, но это скорее уязвляет ее самолюбие. И тут он перевел глаза на крохотные красные трусики, на кусочек ткани, сквозь который иногда угадываются мягкие очертания самой потаенной части ее тела. Но нет, сегодня нет.
– Кто был у тебя первым?
– Приятель моего брата, в родительском доме. Мне было пятнадцать лет.
– Скороспелая девчонка.
– С одной стороны, меня разбирало любопытство. С другой – я хорошо понимала, что, если не соглашусь по доброй воле, этот тип меня изнасилует. У меня и сейчас нет на этот счет никаких сомнений. Дома никого не было. Брат еще не вернулся. И тогда я притворилась, что и сама не против, и еще я притворилась слабой и покорной, благодаря чему все закончилось всего за пару минут.
– Никогда не поверю, что это не оставило у тебя травмы на всю жизнь.
– Нет, никакой травмы. Да и особой боли я не испытала.
Через полтора часа они двинулись в обратный путь. Начался прилив. С теми же усилиями можно было пройти вдвое большее расстояние. Иногда Шавьеру удавалось подладить движение весел под толчки волн. И тогда Lorea Bi делала быстрый рывок вперед. Они в мгновение ока вернулись в залив.
Солнце садилось. Морской горизонт с заходящим где-то далеко-далеко солнцем был окрашен в тот же ярко-желтый цвет, что и небо. Воздух посвежел, и Арансасу стала одеваться. Они обсуждали планы на вечер: поужинать можно в каком-нибудь ресторане в Старом городе, заказать пинчос, а потом – домой, ведь завтра у обоих утренняя смена.
Примерно на уровне Аквариума они услышали, как что-то грохнуло. И сразу же грохот повторился. Похоже было на праздничный фейерверк, но любой местный житель знает: это полицейские стреляют резиновыми пулями в демонстрантов.
– Заварушка на бульваре.
– Будущие террористы практикуются. Часок побузят, что-нибудь подожгут, а потом давай гулять по барам Старого города.
Продолжавший грести Шавьер вдруг ни с того ни с сего завелся, и Арансасу поразила его горячность. Что с ним такое?
– Никогда не слышала, чтобы ты говорил в таком тоне. Как будто другой человек.
– Я думаю об отце, и мне трудно сдержаться.
– Его так и не оставили в покое?
– Какое там! На днях какие-то мальчишки попытались поджечь его грузовики. Но он все время начеку. Ничего у них не вышло. А у меня волосы на голове встали дыбом, когда он признался, что готов был совершить самую страшную из ошибок, какие только может совершить человек.
– Не пугай меня. О какой ошибке он говорил?
– Я не стал спрашивать. По лицу видно было, что он не желает углубляться в эту тему. Но есть у меня одно подозрение. Вернее, я почти уверен.
– Неужели он мог применить силу?
– Мне кажется, он держит у себя в конторе оружие и у него был сильный соблазн пустить его в ход, чтобы защититься.
Они уже подплывали к порту. Впереди над крышами домов поднимался столб черного дыма.
Арансасу:
– Если бы он действительно это сделал, ответа долго ждать не пришлось бы. Эти люди придут в восторг, если все мы включимся в их игру. Они получили бы доказательство того, что война, которая на самом деле существует только в их головах, и вправду ведется. Не хочу причинять тебе боль, maita, но таково мое мнение.
– Знаешь, отец рассуждает точно так же. Они все равно убьют меня не сегодня завтра, говорит он совершенно спокойно. Я уговариваю его перебраться жить в ту квартиру, которую мы с тобой помогли им купить в Сан-Себастьяне. Он обещает, что со дня на день примет решение. Изображает из себя сильного человека, но я-то знаю от матери, что ночами он иногда плачет.
– Неужели они могут поднять руку на твоего отца, он ведь настоящий баск и говорит по-баскски?
– Да, но еще и владелец фирмы. На всю эту безумную вооруженную борьбу нужны деньги, не забывай. В поселке на стенах до сих пор появляются надписи против него. Думаешь, хоть кому-нибудь из соседей пришло в голову замазать их? И чем больше я об этом думаю, тем сильнее бешусь.
– Когда я вижу, как ты страдаешь, maitia, у меня душа разрывается. Давай оставим пинчос до другого дня, а?
– Да, пожалуй, так будет лучше. Честно скажу, у меня как-то сразу пропал аппетит.
76. А ты поплачь
Ему ничего не сказали. Он не знал. Я сын. Не стал уточнять чей. В этом не было необходимости. Они, должно быть, и так все поняли по его лицу. Кроме того, белый халат волей-неволей вызывает уважение. Шавьера пропустили. Серый день, сердце в груди бешено колотится, и он лишь в последний миг заметил кровавое пятно. Потому что заметить его на мокром асфальте было трудно. И чуть на кровь не наступил. Значит, это случилось здесь. Он не знал. Ему ничего не сказали. В голове запечатлелись красные следы в форме подошвы на коротком отрезке пути до дома его родителей. Или теперь только до дома его матери?
Но если бы Чато был мертв, разве не лежал бы он на земле накрытый простыней в ожидании, когда приедет судья и разрешит увезти тело? Да и машин “скорой помощи” рядом с патрульной видно не было. Значит, отправили в больницу. А пока есть работа для врачей, есть и тонкая нить надежды.
Двое полицейских спускались по лестнице, болтая о чем-то своем. С губ одного сорвался робкий смешок. Заметив на лестнице его белый халат, они примолкли. Коротко поздоровались. Шавьер подумал, что они выразили бы ему свои соболезнования, если бы… Ну, что-то вроде того: вы родственник погибшего – или убитого, или жертвы, или казненного – короче, покойного? Нам очень жаль, позвольте выразить вам… Но вместо это они продолжили спускаться. Чуть погодя, когда Шавьер уже толкнул дверь, которую полицейские оставили приоткрытой, он услышал, что те снова вернулись к своей пустой болтовне.
Он вошел. Вошел, стараясь шагать очень осторожно, как человек, который боится нарушить чей-то сон. Знакомый запах, полутемная прихожая. Он уже несколько месяцев не был в поселке. Не был, и все тут. Потому что чувствовал, как на него смотрят, плохо смотрят, и дважды на улице люди, которых он знал всю свою жизнь, не ответили на его приветствие, не поздоровались с ним. Иными словами, теперь, если ему хотелось повидаться с родителями, он предлагал им приехать в Сан-Себастьян.
На вешалке висела старая куртка Чато, которой было уже много-много лет. И Шавьер не удержался – протянул руку и дотронулся до нее. Не знаю, зачем я это сделал. Всего несколько секунд – словно хотел убедиться, что в куртке сохранилась какая-то частичка жизни хозяина.
Шавьер двинулся в сторону единственного освещенного места в квартире. В гостиной действительно была его мать. Рыдающая, всхлипывающая, проливающая потоки слез? Ничего подобного. Биттори стояла у окна и сквозь щели в жалюзи смотрела на улицу. Услышав шаги сына, она резко обернулась – на лице ее застыло злое спокойствие, надменная невозмутимость и полная достоинства выдержка. Они стирали любые внешние следы страдания.
– Я не хочу, чтобы ты делал мне укол.
Иными словами, она одной силой воли могла держать себя в руках. А вот он вел себя иначе – он кинулся к матери на грудь.
Биттори:
– А ты поплачь, если это тебе помогает. А от меня они не дождутся ни слезинки. Такого удовольствия я им не доставлю.
Но Шавьер, дав волю чувствам, крепко обнял ее. Он был раздавлен горем, а мать стояла перед ним в своих старых плюшевых тапочках, один из которых был забрызган кровью. Его мать казалась сильной, его седая мать, его несчастная мать, а совсем рядом, на столе, лежали очки для чтения, которые Чато носил дома, лежали ручка и газета, раскрытая на странице с кроссвордами. И тогда я, захлебываясь рыданиями, вдруг услышал, что она спрашивает, не приготовить ли мне что-нибудь поесть. Неужели на нее все это так подействовало, что она утратила всякое представление о реальности? И отказывается осознать случившееся?
Нет, наоборот. У Биттори не было ни малейших сомнений в том, что:
– Он умер. Ты должен свыкнуться с этой мыслью.
– Кто тебе сказал?
– Сама знаю. Когда я его увидела, он еще дышал, но дышал из последних сил. Поверь, он не выживет. Мне показалось, что выстрелом ему всю голову разворотило. Нет больше Чато, вот посмотришь.
– Его, судя по всему, увезли в больницу.
– Да, но ему уже никто ничем не поможет, вот посмотришь.
Бедная Нерея, что с ней будет, когда ей сообщат. Надо немедленно позвонить в Сарагосу. Шавьер, немного придя в себя, нашел в указанном матерью ящике клочок бумаги с номером телефона. Трубку сняли сразу же. И два гудка не успели прозвучать. Были слышны обычные для любого бара шум и громкие голоса. Шавьер изложил свою просьбу, не вдаваясь в подробности. Просто назвался и сказал, что просил бы их передать сестре. Что именно? Чтобы она немедленно перезвонила домой. Он подчеркнул: дело очень срочное. Для пущей надежности повторил адрес Нереи. Человек из бара сказал, что адрес ему не нужен, он и так прекрасно помнит эту девушку.
– Скажи, а ты уверена, что aita был жив, когда его забрала “скорая помощь”?
– Я не отходила от него ни на секунду. У него двигались веки, а я не переставала разговаривать с ним, потому что подумала: если я замолчу, он от меня уйдет. Но ответить он не мог. Истекал кровью. Сам вообрази: когда я вернулась домой, мне пришлось переодеться.
– Ты лучше скажи, он был в сознании или нет.
– От тебя можно свихнуться. Я же сказала: веки у него двигались. Чуть-чуть.
– Это ты позвонила в полицию и врачам?
– Нет, я никому не звонила. Они вдруг понаехали со своими сиренами, орущими что есть мочи. Видать, позвонил кто-то из соседей. Я ведь жутко кричала. Небось было слышно аж в соседнем поселке.
После сиесты Чато выпил кофе – на самом деле он выпил холодные остатки из кофейника. Биттори, услышав его ворчание, предложила сварить свежего, но Чато – наверное, потому что увидел, что она дремлет на диване, сложив руки на груди, или потому что, как всегда, торопился, – отказался:
– Мне и того, что есть, вполне хватит.
Он вышел из дому. В котором часу? Без чего-то четыре. Да, почти в четыре. Теперь она страшно жалеет, что не встала и не поцеловала его в прихожей – может, последний раз в жизни. Господь не захотел этого. Лучше им было бы проститься посердечнее – ведь сколько лет вместе прожили, двух детей вырастили, – а мы теряли время на дурацкий разговор про горячий или остывший кофе.
– И если тебе интересно знать, то я скажу, что помню только звуки. Сначала стук двери, когда он вышел, потом его шаги на лестнице, а потом уже больше ничего – лежу себе на диване с закрытыми глазами и думаю: может, все-таки удастся заснуть хоть на полчасика? И вдруг – выстрелы. Не спрашивай сколько. Но то, что это были выстрелы, у меня ни малейших сомнений не возникло. Тогда я выбежала на балкон. Увидела, что Чато лежит на асфальте и вокруг ни души. Того, кто в него стрелял, я не заметила, если, конечно, мерзавец действовал в одиночку. Да я и не смотрела больше, а со всех ног кинулась вниз, на улицу, и при виде крови принялась кричать как сумасшедшая. Ты думаешь, кто-нибудь вышел, чтобы помочь мне? Я ведь пыталась поднять твоего отца. Сказала себе: я должна поставить его на ноги. А он тяжелый. Ну, вдвоем или, скажем, втроем мы бы его подняли, но никто не вышел. И тогда я начала с ним разговаривать. Вообрази только, в каком жутком состоянии я была, если сказала ему: я тебя люблю. Мы никогда ничего такого друг другу не говорили. Не получалось у нас. Ну, если угодно, мы свою любовь показывали – вот и все. Но я должна была говорить и говорить, чтобы он от меня не ушел. Во всяком случае, если уж суждено ему умереть, пусть знает, что я его любила. Никто мне не помог. На улице ни души. Все окна закрыты. Господи, а дождь-то какой лил! И еще раз повторяю: никто не вышел, никто к нам не подошел. Кто-то из тех, кто видел все из-за жалюзи, наверное, и вызвал полицию и “скорую”. Иначе трудно объяснить, как им удалось так быстро примчаться. Через десять минут полиция уже была тут. Чуть позже – “скорая помощь”.
Зазвонил телефон. Нерея? Биттори знаками велела сыну: беги скорей, возьми трубку. Но Шавьер и так стоял рядом с аппаратом, ему надо было лишь чуть повернуться и протянуть руку.
– Слушаю.
– Gora ETA!
Он опустил трубку на рычаг.
– Насколько я поняла, звонила не твоя сестра.
– Есть люди, которые хотят причинить нам как можно больше горя. Давай не будем отвечать на звонки.
– А если позвонит Нерея?
Кроме того, Биттори ждала известий из больницы.
Шавьер:
– Не беспокойся. Этим займусь я.
Он набрал номер. Поздоровался, что-то сказал, спросил. И тот, кто с ним разговаривал, дал ему другой номер, который Шавьер записал на стопке бумаг для заметок. Потом сразу же набрал его. Мать сидела сзади на диване. Он нарочно повернулся к ней спиной, словно хотел установить между ними экран.
– Мне очень жаль, Шавьер. Но сделать уже ничего было нельзя.
Он поблагодарил бесцветным тоном. Поблагодарил за что? Ни за что. Это был лишь способ показать, что ты умеешь держать себя в руках. Повесил трубку. Моя спина, за ней – мать, и вот он самый трудный момент, когда надо повернуться к матери. Он старался не смотреть ей в лицо, чтобы она ничего не смогла прочесть в его глазах. Он стал отыскивать нужные слова: мне только что сообщили, что… ты должна знать, что… Но вместо этого сказал, что ему надо ехать в больницу и узнать все на месте, что оттуда он позвонит и будет держать ее в курсе дела. Он попросил:
– Если услышишь, что по телефону кто-то тебя оскорбляет, сразу клади трубку. Обещаешь?
77. Черные замыслы
Через два дня после отпевания Чато предали земле на кладбище Польоэ. Народу на похоронах собралось мало. Но Биттори в первую очередь переживала из-за отсутствия Нереи, это углубляло ее горе, и этого она дочери никогда не простит. Шавьер – чуткий, разумный – старался их примирить, быть посредником между матерью и сестрой. Впустую. Он не смог ни утешить первую, ни уговорить вторую. Ему казалось, что гневные морщины на лбу у матери с каждым днем становились все глубже. Он много раз звонил в Сарагосу, чтобы через хозяина бара вызвать для разговора Нерею и убедить ее поскорее приехать домой. Но связаться с сестрой не удавалось, кроме того, он чувствовал, что уже изрядно надоел людям из бара. А Нерея твердо решила: ни за что на свете она не согласится своими глазами увидеть физическую смерть отца. Выходит, дело только в этом? Последний взрыв ярости у Биттори: она заявила Шавьеру, что ей уже все равно, пусть Нерея живет по своему разумению, и еще:
– Знаешь, что я тебе скажу? Я больше не верю в Бога.
Утро похорон было серым. Хорошо еще, что обошлось без дождя и ветра. Иначе где бы они там, на кладбище, нашли укрытие? Кресты, могильные плиты, дорожки между ними. Внизу – городские крыши, затянутые осенним туманом. Говорят, это кладбище красивое. Тоже мне утешение! Несколько человек окружили могилу, и, когда была сдвинута могильная плита, их взору предстал гроб дедушки Мартина. Приехали родственники из Аспейтии, те, кого обычно видят лишь на свадьбах и похоронах. Приехала сестра Биттори, которая все равно ничего не соображала, потому что голова у бедной совсем перестала работать. Приехало человек шесть соседей, но они приносили соболезнования, стараясь говорить потише. Вместе с ними – двое работников с фирмы Чато. Что ж, понятно. Здесь, далеко от поселка, никто их не увидит и присутствие на похоронах в вину им не поставит. Биттори – черные круги под глазами, спокойная – поблагодарила всех, каждого по отдельности. Родственники из Аспейтии, как и в день отпевания, спросили про Нерею.
– Никак не смогла приехать. Сами знаете, она ведь учится в Сарагосе, – отвечала Биттори.
Зато Шавьер, сын-телохранитель, буквально ни на шаг не отходил от матери. Был он рядом с ней и когда она начала прощаться с теми, кто пришел на похороны. В этот миг он заметил женщину в темных очках, стоявшую шагах в двадцати от остальных, словно она навещала совсем другую могилу. Это она. Кто? Кто же еще – Арансасу. После того, что между ними произошло, Шавьер не надеялся ее больше увидеть. Ну, может, случайно, мимоходом – привет! – на больничной стоянке или в кафетерии.
Шавьер матери:
– Я буду ждать тебя у ворот.
– Куда ты?
Он не ответил. Незачем. Биттори и так узнала Арансасу. Да, но разве он не сказал матери, что между ними все кончено?
Пока Шавьер шел к Арансасу, которая показалась ему еще красивее, чем всегда, он почувствовал, как за спиной у него повисло молчание. Спокойно, сдержанно он пожал ей руку. Не целовать же ее при всех, правда?
Они направились к воротам кладбища, сохраняя дистанцию в полметра, и сделали небольшой крюк, чтобы скрыться от посторонних глаз.
– Я решила не подходить, чтобы не мешать.
– Сама знаешь, что никогда не помешаешь.
– Мне нравился твой отец. С самого первого дня он был очень добр ко мне. Чего не могу сказать про мать.
– Давай не будем об этом. Очень тебя прошу.
– Я пришла, чтобы попрощаться с твоим отцом, и еще – чтобы показать, как отношусь к террористам. Если бы мы жили в приличной стране, на кладбище сейчас было бы полно народу.
– Тут уж ничего не поделаешь.
– А заодно воспользуюсь случаем, чтобы проститься с тобой, и тоже навсегда.
– Ты уезжаешь?
Остановись, Шавьер, тебе-то какое до этого дело? И то правда, я ведь и сам не знаю, зачем спросил. На самом деле все между ними было обговорено/разорвано, обговорено ими вместе, разорвано им одним – когда они сидели в кафе при гостинице “Лондон”. И теперь она, женщина с добрым сердцем, – ты ведь не станешь этого отрицать – сделала благородный жест, придя на похороны Чато и одновременно на похороны их любви, на которую возлагала столько надежд и которой так самозабвенно и всей душой отдавалась. Может, в фигуральном смысле. Ну, пусть будет в фигуральном. Эта любовь, такая хрупкая, словно сделанная из стекла и фарфора, любовь, которую ты вдребезги разбил – да, ты сам, своими руками, – теперь умерла и покоится в той же могиле, что и твой отец. Двумя днями раньше, когда уже пролитые и неизбежные слезы начали уступать место смирению, Арансасу сказала, что:
– Человек, убивший твоего отца, разбил и то, что соединяло нас с тобой.
В ее словах не чувствовалось никакой обиды. Хотя поводов было достаточно. Шавьер, сукин сын, как ты мог так обойтись с ней? А как я с ней обошелся? Не прикидывайся дурачком. Поначалу она ничего не могла понять. Сразу же после гибели Чато решила, что Шавьером руководили гнев и горе. И готова была – по доброте своей и чистосердечию – окружить его любовью и облегчить, хотя бы отчасти, страдания, готова была, если бы это зависело от нее, взвалить их целиком на свои плечи. Она пообещала любить его, быть ему верной спутницей – прежде всего в этот трагический час – и сказала, глядя потемневшими глазами:
– Я сделаю тебя счастливым, maitia, клянусь.
– Беда в том, что я не должен быть счастливым.
– А кто тебе это запрещает?
– Я сам себе запрещаю. И сейчас даже вообразить не могу более чудовищного преступления, чем желание быть счастливым.
– Я остаюсь с опустевшей душой.
Словно разговаривая сама с собой, она сказала, что с мужчинами ей не везет, потом попрощалась, вышла из кафе и вот теперь появилась на кладбище в темных очках, хотя день стоял пасмурный.
– Если ты не против, подруга зайдет к тебе домой и заберет мои вещи. И принесет твои, те, что ты оставил у меня.
– Как хочешь. Поверь, что…
Она перебила его:
– Какая разница, верю я тебе или нет. И знаешь, именно сейчас, когда я меньше всего этого ожидала, у меня что-то замаячило впереди. Один знакомый дал мне рекомендацию, и я подала заявление о приеме на работу во “Врачей без границ”. Ответа пока еще, конечно, не получила, но по телефону сказали, что им срочно нужен персонал и что с моим опытом меня непременно возьмут. Так что я ухожу из больницы, уезжаю из этого города и в самом скором времени буду проходить курс специальной подготовки. А ведь в ту ночь, после нашего разрыва, я бродила по Новому бульвару с самыми черными мыслями.
– Не говори глупостей.
– Вокруг никого не было. Темень. И как это было бы просто сделать! Чудесная обстановка для романтического самоубийства. Соблазн был очень велик. И вдруг я подумала: давай рассуждать здраво, Арансасу, в мире столько людей, которым плохо живется, которые страдают от голода, эпидемий, войн. Почему бы тебе не утопить свои горести в море, вместо того чтобы самой туда бросаться, почему бы не помочь хоть чем-нибудь другим? Самым обездоленным, а твоей собственной жизни это придаст некий смысл. Такое вот решение я приняла.
– По-моему, великолепное решение.
Вскоре они оказались у кладбищенских ворот.
– Не исключено, что и тебе тоже стоило бы отважиться на подобную авантюру.
– Я подумаю.
Они простились официально, пожав друг другу руки. Она, отойдя всего на несколько шагов, вдруг повернула к нему улыбающееся лицо:
– Спасибо тебе за чудесные мгновения.
– И тебе спасибо.
– Тогда, в Риме, ты не должен был кидать камень.
Шавьер стоял у ворот и смотрел, как уходит Арансасу. Ее прощальная улыбка оставила у него в душе горько-сладкий след. Сцену со слезами, криками и обвинениями ему было бы перенести легче. Он с болезненным восхищением смотрел на ее походку, стройную фигуру, прямые плечи. Вспомнил ее обнаженной. И чуть не окликнул. Мало того, ему нестерпимо захотелось кинуться за ней следом.
Но тут появилась мать и схватила его за руку:
– Ты ведь сказал, что вы расстались.
– Она пришла попрощаться. Теперь она будет жить далеко отсюда.
– Тем лучше. Такая женщина не для тебя. Я поняла это в тот самый день, когда ты привел ее к нам знакомиться.
78. Курсы
То, что ему предстоит долгое время оставаться в резерве, он знал. Они с Хокином это обсуждали. Тогда они были еще вместе, поэтому и серые дожди Бретани, и бесконечное ожидание, и скука вроде бы переносились легче. К тому же у них имелись и свои развлечения – естественно, при условии соблюдения должной осторожности. Хотя им было известно, что члены организации частенько пренебрегали дисциплинарными запретами, сами они никогда себе такого не позволяли. Вернее, если уж говорить начистоту, позволяли очень редко и зная меру, скорее, чтобы не выделяться на общем фоне.
Иногда, например, совершали прогулки по окрестностям на велосипедах, взятых у хозяев дома. Воровали фрукты, ловили лягушек, вырезали ножом фигурки из дерева, а то и ходили на праздники в ближайшую деревню, где пили что-то вроде сидра, если, конечно, это можно было назвать сидром, и отдавал он, по словам Хосе Мари, мочой.
Но вот Хокина перевели в состав оперативной группы. Хосе Мари остался один, позднее к нему присоединился Пачо, который был неплохим парнем, но не шел ни в какое сравнение с Хокином. К тому же Хосе Мари ему не слишком доверял. Почему? Трудно сказать. Что-то мешало им по-настоящему сблизиться. Такие вещи при тесном общении нельзя не почувствовать. Мы с тобой ладим – и слава богу. Но бывает ведь, что в моторе возникает непонятный, пусть и едва заметный посторонний шум. Значит, что-то не так.
Время спустя французские жандармы вместе с представителями судебной и пограничной полиции и при содействии тайных агентов разведслужб арестовали в Англете Санти Потроса. У него обнаружили некий кожаный чемодан. Внутри – настоящее сокровище для полиции, больше четырехсот имен действующих членов ЭТА, их клички, места проживания, номера телефонов, перечень машин, которыми они пользовались, и даже с номерами. В следующие недели начались повальные аресты.
Пачо был уверен, что если бы их с Хосе Мари призвали раньше, они бы тоже попались. А еще он считал, что:
– Организации придется восстанавливать потери. Вот увидишь, в самые ближайшие дни мы получим приказ: ну-ка, ребята, вперед.
Но ничего подобного не случилось. Еще несколько месяцев они бездельничали. За это время Хосе Мари получил по внутренним каналам организации письмо от родителей, где лежала также вырезка из “Эгина” с подробным описанием “странной” гибели Хокина. Для Хосе Мари это было страшным ударом. Он не плакал так с детских лет. А чтобы Пачо не видел, притворился больным и два дня ничего не ел и не вставал с постели.
– Скажи, а ты хорошо понимаешь смысл этой нашей вооруженной борьбы?
У Пачо сомнений не было:
– Я в это дело сунулся, заранее приготовившись к любым последствиям.
– Но ты ведь говорил, что твой старик может передвигаться только в инвалидной коляске? И его надо кому-то возить.
– Да, а это тут при чем?
– Ты вроде бы должен ему помогать.
– Для этого у меня есть сестры.
Нет, Хосе Мари никак не мог сдружиться с этим парнем. Кроме того, ему было непривычно целый день проводить бок о бок с человеком не из поселка. Пачо вырос в Ласарте[86]. Фамилии у него были не баскские, да и на эускера он совсем не говорил. Но тогда на кой хрен сдалась ему эта борьба? Может, он просто осел, который нарисовал себе полоски, чтобы стать похожим на зебру? И еще Хосе Мари подозревал, что Пачо работает на гражданскую гвардию. В любом случае лучше не обсуждать с ним ничего личного.
Через много лет Хосе Мари рассказал матери, когда она приехала к нему в тюрьму на свидание, что тогда, узнав про судьбу Хокина, он почти решился попросить, чтобы его отпустили домой.
– Как же, отпустят они! Поздно спохватился! Зато вон Колдо – живет себе тихо-мирно в поселке со своей мексиканской женой и детишками.
Да, все так, но тогда Хосе Мари почти-почти решился. Мало того, он только ждал ближайшей встречи со связным, чтобы через него передать просьбу руководству. Но тот привез им запечатанное сообщение, где говорилось, что в самом скором времени их отправят проходить интенсивный курс боевой подготовки, а потом немедленно подключат к борьбе.
Пачо все понял правильно:
– Ну что, приятель, теперь нам пути обратно нет. Теперь начнется пьянка-гулянка.
– Лучше что угодно, чем сидеть здесь сложа руки.
Дождь стоял стеной, когда они сели на поезд. И не прекращался всю дорогу. Пересадка в одном городе, пересадка в другом. Ближе к вечеру приехали в Бордо, где дождь лупил так же.
В баре у вокзала они встретились с человеком, которому было поручено их забрать. Мужик оказался каким-то суетливым, и мне пришлось одним глотком допивать вино, хотя официант только что нам его принес. В машине он велел им надеть черные очки и пригнуться. Хосе Мари уже проходил все это, когда их с Хокином возили на беседу с Санти Потросом. Час с лишним они мотались туда-сюда и наконец вошли в дом, где играла музыка. Только тогда им разрешили снять очки.
Восемь дней они провели взаперти в комнате без окон, три шага в ширину, пять – в длину. Слишком маленькой для двоих, они чуть ли не натыкались друг на друга, и это выводило Хосе Мари из себя. С Хокином он мог делить даже нижнее белье. А с Пачо отношения сложились совсем не такие. Но труднее всего бывало ночью. Пачо, видно, когда-то давно сломал себе носовую перегородку, и теперь спать с ним рядом было просто невозможно. Он даже не храпел. Храпел как раз сам Хосе Мари. Нет, это было похоже на мехи, из которых вырывалось рычание со свистом. И так час за часом до самого рассвета.
Покидать комнату разрешалось, только чтобы сходить в уборную, расположенную этажом ниже. Потому что они должны были как можно меньше увидеть и запомнить. Очень часто в доме на полную мощь играла музыка. Благодаря этому одни обитатели дома понятия не имели, что делают и о чем говорят другие. Каждый боевой отряд, по словам инструктора, действует изолированно от других, зато никто ничего не знает про остальных, и если вас схватят, никакой информации из вас вытянуть не сумеют, ничего о том, как устроена вся организация. Понятно? И оба парня дружно кивнули головами.
По утрам на теоретических занятиях Хосе Мари обычно помирал со скуки. Исподтишка он то и дело поглядывал на свои часы и прикидывал, сколько осталось до обеда. Учеба никогда не давалась ему легко. Еще маленьким, в школе, он не умел сосредоточиться. То же самое случалось на занятиях по военному делу, зато после обеда они переходили к практике, им в руки давали оружие, и вот тогда – тогда он буквально оживал и как будто возвращался в старые времена, когда вместе с друзьями шел на карьер, чтобы испробовать бутылки с зажигательной смесью, подрывные шашки и зажигательные гранаты. Тут он чувствовал себя как рыба в воде, это было по нему – действие, движение, а не скукотища по теории взрывчатых веществ, от которой он сразу сникал.
Они с Пачо тренировались – собирали и разбирали оружие. Научились изготавливать смертоносные ловушки и машины-бомбы. Что еще? Собирали часовые механизмы. Потом устраивали взрыв в металлической бочке с песком. Их обучали всему, что касается тайников и бункеров, обучали вскрывать замки в машинах. Инструктор постоянно твердил о мерах безопасности – мол, действовать нужно с предельной осторожностью, очень внимательно и так далее. Объяснял, как они должны вести себя в случае ареста. Занятия по стрельбе ограничились одним днем, и стреляли они только из пистолета, потому что французская полиция с некоторых пор стала такие вещи ловко отслеживать. Теперь было не так, как несколько лет назад, когда можно было пойти в ближайший лес и пострелять вволю. К немалому огорчению Хосе Мари. Ведь больше всего на свете он любил стрельбу по цели.
Однажды он поцеловал рукоятку браунинга со словами:
– Для меня это лучше, чем трахаться.
Чем рассмешил окружающих. Эти придурки решили, что он пошутил.
Инструктор:
– Ну нет, парень, одно другого не заменит.
В последнюю ночь, проведенную в том доме, Хосе Мари не мог заснуть. Разные мысли, эхо от недавних выстрелов, свистящее дыхание Пачо. И вдруг Хосе Мари начал разговаривать сам с собой. Шепотом? Да нет, в полный голос, как будто вел беседу с кем-то другим. Третий час ночи. Ему казалось, что он целится из пистолета, но на сей раз вовсе не в бумажную мишень. Сосед проснулся. Спросил в темноте:
– Чего это ты разговорился?
– Интересно, кто в ЭТА установил рекорд по казням?
– Почем мне знать. Может, Де Хуана, а может, кто из группы “Мадрид”.
– А ты не слышал, убил кто-нибудь из них больше пятидесяти человек?
– Ты что, совсем спятил? Глянь на время, нам через несколько часов отваливать отсюда.
Лежа в темноте, они несколько минут помолчали. Потом Пачо опять начал издавать носом звук, который так бесил Хосе Мари. И внезапно тот заявил:
– За смерть Хокина государство заплатит большой кровью. Я поубиваю их столько, что когда-нибудь попаду в книги по истории как самый кровавый боец ЭТА.
– Мать твою, да заткнись ты наконец.
– Мой друг стоит не меньше ста покойников. И я буду вести им счет. Каждый раз, как шлепну кого-то, поставлю черточку в тетрадке.
– Это значит, что ты воспринимаешь вооруженную борьбу с позиций личных интересов.
– А тебе-то, подлюге, что за дело? Лучше научись дышать как следует, когда дрыхнешь.
79. Прикосновение медузы
Кажется, на улице было холоднее, чем предполагал Хосе Мари, прежде чем они тронулись в путь, хотя с точностью он определить не мог, поскольку они с Пачо ехали, согнувшись в три погибели и уткнув лица в колени – чтобы ничего не видеть и ничего не знать, – туда, где их ждал командир или один из командиров. Когда встретивший их человек сказал, что должен отвезти обоих к руководству, они подумали о Тернере[87], но в том доме в Бордо – или в окрестностях Бордо, или невесть где еще – увидели Пакито[88].
Именно с этим связано упоминание о холодной погоде. С чем конкретно? А с тем, что, когда Хосе Мари стоял перед командиром, у которого на лице застыла мертвая улыбка, а глаза были как у начавшей тухнуть рыбы, он почувствовал озноб, и в голове у него мелькнуло: черт, надо было надеть свитер. Ощущение было точно таким же, как когда ты идешь по супермаркету, поворачиваешь к отделу замороженных продуктов и тебя застает врасплох резкое понижение температуры. Окно было закрыто, и Хосе Мари вдруг показалось, будто холод исходит от этого человека, который, хоть и занимал в организации высокое положение, встретил их с какой-то показной застенчивостью.
Или, может, это были лишь фантазии Хосе Мари, порожденные опасливым восторгом, какой чувствует новобранец, стоя перед ветераном вооруженной борьбы со столь же темным, сколь и кровавым прошлым. Про него говорили, что он убил Пертура[89], а также приказал казнить Йойес[90] в Ордисии и взорвать казарму в Сарагосе, хотя в здании находились и дети. Пакито протянул руку Пачо, а меня просто потрепал по плечу, и мне это напомнило прикосновение медузы. Таким образом он благословил нас – мы стали полноправными членами ЭТА. Но в нем самом ничего не переменилось – та же застывшая улыбка, те же мутные рыбьи глаза.
Он предложил им сесть на диван.
– Это ты играл раньше в гандбол?
Вот шельмец. Ясное дело, ему о нас все в подробностях доложили, и теперь он корчит из себя всезнайку. Но, судя по всему и судя по рассказам других, успевших пообщаться с ним раньше, за этим не крылось ничего, кроме желания понравиться. Потом он выразил надежду, что мы будем чувствовать себя на месте, включившись в боевой отряд.
Пакито производил впечатление человека аккуратного и практичного. Развернул перед ними карту провинции Гипускоа. Затем указательным пальцем очертил на ней круг:
– Вот ваша зона. Тут – делайте что хотите. Ваши объекты – полицейские, гражданские гвардейцы – кто только встретится вам на пути. Удары должны быть чувствительными – чтобы заставить государство сесть за стол переговоров.
В первую очередь Хосе Мари отметил про себя, что его поселок включался в круг, очерченный Пакито, но он отнесся к этому не хорошо и не плохо. Граница их территории пролегала по реке Ориа вниз от Вильябоны. Так они и будут называться – группа “Ориа”, которая будет состоять из трех человек. Третий, Чопо, уже дожидается их на съемной квартире.
– В Доностию не суйтесь. Там вам делать нечего. В Доностии работают другие. Но вот в этой зоне, – он снова ткнул пальцем в карту, – вы полные хозяева. Там у вас руки развязаны.
Затем он вручил каждому по браунингу и патроны. А еще поддельные документы, полиэтиленовый пакет с деньгами и, наконец, мешок побольше со взрывчатыми веществами, детонирующий шнур и все прочее, что нужно для изготовления бомб.
– Объекты у себя в зоне будете намечать сами, понятно? И полный вперед! Чтобы рука не дрогнула.
Потом возникла какая-то проблема с теми, кто помогает перейти границу между Францией и Испанией. Какая именно? Непонятно, но двум новым членам организации пришлось задержаться в доме французской супружеской пары в довольно пустынной местности. Чтобы добраться туда, понадобилось свернуть с шоссе, ведущего из Юррюни в Аскен. Шесть дней ожидания они использовали для прогулок по лесу. Никто ведь не предупредил их, что гулять запрещено. Как-то раз они решили испытать свои пистолеты. И таким образом последовали совету, полученному от инструктора.
По его словам, каждый должен непременно удостовериться, что его оружие хорошо действует, прежде чем пустить его в ход. Так вот, они поднялись по грунтовой дороге в уединенное, густо поросшее деревьями место и по очереди – один стоял на стреме – выпустили по несколько пуль.
Ночью произошла неприятная история. Хосе Мари уже более или менее привык к шумному дыханию товарища по комнате – а что ему, собственно, оставалось делать? Но порой нервы сдавали, и у него появлялось желание подойти и врезать соседу кулаком в нос.
Короче, заснуть у него не получалось, и он зажег свет. Было уже совсем поздно. И тут он их увидел. Они вылезали из-под картины, висевшей на стене – прямо над его кроватью. Кто вылезал? Какие-то твари. Твари с темными брюшками, которые расползались в разных направлениях – спокойно так расползались. Он раздавил первую попавшуюся, ту, что была побольше других. А когда убрал палец, увидел кровавое пятнышко на стене. Господи помилуй! Клопы. Он разбудил Пачо, и они вдвоем били их больше часа.
– Группа “Ориа” начала действовать.
– Послушай, Пачо, если тебе так уж не терпится получить кличку, я уже придумал для тебя подходящую – Мудак.
Хосе Мари прекрасно понимал: от недосыпа у него портился характер. Его бесила любая ерунда. Он стал нетерпимым, придирчивым, брюзгливым. По-баскски – так как по-французски не знал ни слова – обругал хозяйку дома за плохую еду. Он орал как бешеный и назвал ее стряпню помоями. Еды было мало, она была безвкусной и готовилась кое-как. Вечером вернулся с работы муж хозяйки и пригрозил выгнать Хосе Мари в шею.
Когда они с Пачо запирались перед сном у себя в комнате, он с тоской вспоминал материнскую стряпню:
– Я не знаю никого, кто готовил бы лучше, чем она. Так и вижу, как мать сейчас жарит рыбу у нас на кухне. Мы всегда ели на ужин рыбу. Даже запах сюда как будто доходит. Не чувствуешь? Неужели правда не чувствуешь запаха жаренной в сухарях барабульки с чесноком?
Он вытягивал шею и принюхивался к воздуху в комнате, словно там и на самом деле прямо у него перед носом лежали поджаренные матерью барабульки.
– Вот умора! Ты смотри не расплачься от избытка чувств.
– Не расплачусь, не дождешься. Просто с тех пор, как нас сунули в этот дом, я все время хочу жрать. Съел бы сейчас вот такущую отбивную с перцем и жареной картошкой.
У них не было даже телевизора. Так что, придавив четыре-пять клопов, они погасили свет раньше обычного, и как только Пачо начал изводить его своим свистом, Хосе Мари как можно тише вытащил матрас в коридор. Всю ночь он проспал как бревно, что ему безусловно пошло на пользу. Рано утром он вышел в поле, нарвал букет полевых цветов и перед завтраком с улыбочками и шуточками преподнес хозяйке. Этот милый жест помог ему помириться с ней.
В тот же день ближе к вечеру за ними приехал черный пикап “рено”. Они двинулись в сторону Ибардена. Погода? Облачно, но без дождя, с просветами, через которые очень скоро стали проглядывать звезды. Перед тем как совсем стемнело, вышли из машины в каком-то густо заросшем деревьями месте. Из чащи вынырнули две тени – два молодых человека. Времени на разговоры они не тратили, а взвалили себе на спины наши тяжеленные рюкзаки и зашагали в гору. Мы шли следом за ними. Очень скоро нас уже окружала настолько плотная темень, что ничего не было видно на два шага вперед. Трудно понять, как удавалось проводникам ориентироваться, должно быть, знали дорогу как свои пять пальцев. Потом выглянула луна. Теперь уже можно было различить какие-то формы, силуэты и друг друга.
Четверо мужчин молча шли около часа, пока не добрались до вершины холма. Оттуда им открылись очертания горы Ларрун и светящиеся точки Вентас-де-Ибарден. Тут они остановились, и один из проводников какое-то время прислушивался, а потом несколько раз проблеял по-козьи. Довольно близко раздался ответный крик, точно такой же. Это был условный знак для смены проводников. Таким образом Хосе Мари и Пачо узнали, что перешли границу. И тут же начался спуск к Вера-де-Бидасоа.
Вскоре они оказались за кладбищенской часовней, и им велели оставаться там и никуда не отлучаться. Почти полчаса они ждали, не снимая рюкзаков, пока им наконец не подали знак, что можно двигаться к шоссе. Шедший с реки туман полностью закрывал дома. И если честно, мы до костей продрогли. Уже светало, когда они сели в машину. По пути в Ирун несколько раз останавливались и ждали: человек, ехавший впереди на мотоцикле, возвращался и подтверждал, что дорога свободна от полицейских. Путешествие завершилось ранним утром на проспекте Сараус в Сан-Себастьяне. У застекленной остановки городского автобуса они встретились с Чопо, которого прежде не знали.
80. Группа “Ориа”
Лежа на тюремной койке, Хосе Мари вспоминал. О чем? О том, что в тот год ему исполнился двадцать один год и он оказался самым молодым из их троицы. Правда, разница в возрасте была небольшой. Двадцатичетырехлетний Чопо был самым старшим.
– Почему тебя зовут Чопо?[91]
– Это детская история.
Мальчишкой он любил играть в футбол на заросшем травой пустыре неподалеку от своего дома. Металлические столбы, на которые натягивали веревки для сушки белья, служили воротами. Там было слишком мало места и слишком мало игроков, чтобы устроить настоящий матч. Поэтому играли трое на трое или четверо на четверо – никогда больше, а он был единственным вратарем. Но ему нравилось не только ловить мячи и той и другой команды, но еще исполнять роль радиокомментатора.
– Ну-ка, ну-ка, объясни, как это.
Он присваивал каждому игроку имя какого-нибудь знаменитого футболиста и, стоя в воротах, громко комментировал ход игры, как это делают по радио. И поскольку себя самого он часто называл Чопо – в честь Ирибара, его тогдашнего кумира, – к нему навсегда прилипло это прозвище.
Пачо, который тоже был страстным футбольным болельщиком, ненавидел “Реал Сосьедад”.
– Еще скажи, что болеешь за “Атлетик”.
– Чем и горжусь!
– Хорошо же мы начинаем. Слышь, а почему ты не записался в группу “Бискайа”?
– Потому что никто меня не предупредил, что мне придется жить вместе с таким типом, как ты.
Хосе Мари попытался их примирить:
– Ну хватит, ребята, хватит. Есть ведь и другие виды спорта.
– Какие же, интересно знать?
– Гандбол, например.
Они решили его подколоть:
– Да ладно тебе, тоже спорт называется!
– А что же это, если не спорт?
– Гандбол по сравнению с футболом – то же самое, что пинг-понг по сравнению с теннисом.
– Или онанизм по сравнению с тем, как ты девку трахаешь.
И эти козлы гоготали во всю глотку, а он смотрел на них не мигая.
Чопо выполнял в их команде по большей части подсобные функции. За его спиной – чтобы не вызывать обычных у Чопо вспышек злобы – Пачо называл его “наш мальчик на побегушках” или просто “посыльный”. Все, что Чопо знал про вооруженную борьбу, про участие в движении, про оружие – а знал он немало, – он постиг своим умом, не проходя через вербовочные каналы во Франции. Ему хватало и ловкости, и организаторских способностей, а еще у него уже был опыт. Прежде чем присоединиться к Хосе Мари и Пачо, он никогда не участвовал напрямую ни в одном теракте, зато действовал в тени некоторых вспомогательных групп в Доностии, решая логистические задачи, и это ему удавалось лучше всего.
– В один прекрасный день я стану лидером ЭТА.
Сейчас в воспоминаниях Чопо представляется мне пауком, который вечно сидит затаившись в ожидании добычи. Ни манифестации, ни стычки с полицией его не интересовали. Сам он объяснял собственную стратегию так: вести себя тихо, учиться и как можно меньше привлекать к себе внимание. Пачо не понимал его:
– Как можно в твоем возрасте быть таким стариком?
– Когда у тебя лоб станет пошире, тогда и поймешь.
В полиции Чопо не засветился. Его ни разу не задерживали. Он был убежденным, идеологически крепко подкованным сторонником борьбы, зато у Пачо и Хосе Мари, более склонных к прямому действию, с идеями было туговато. К тому же он был образованнее, чем они. Проучился целый курс на факультете географии и истории университета Деусто, в том здании, что расположено на проспекте Мундайс в Сан-Себастьяне. Но на экзамены в конце года не явился. Прошло какое-то время, и Чопо снова поступил в университет. Он был, кстати сказать, из влиятельной семьи.
Что касается Хосе Мари, то ему Чопо сразу понравился. Чем? Тем, что был очень надежным человеком во всем, касавшемся практических дел. Легко помогал в трудных вопросах, решал твои проблемы, был осторожным и предусмотрительным. А еще он умел готовить.
Квартиру на бульваре Сараус – четвертый этаж с лифтом – снял опять же он где-то с месяц тому назад. Платил аккуратно и напрямую владелице – по устной договоренности, без письменного контракта. Гараж? Да, гараж там имелся, но он, во-первых, был общим, а во-вторых, предполагал дополнительную плату, поэтому Чопо от него отказался. Он поселился в квартире, дожидаясь прибытия новых товарищей, и любому, с кем встречался в подъезде, представлялся студентом. Ради этого он каждый день выходил из дому и потом возвращался с папкой и какой-нибудь книгой в руках.
Достоинство снятой им квартиры – рядом было несколько автобусных остановок, что позволяло ездить хоть вглубь провинции, хоть в центр города. Чопо говорил:
– Лучше жить подальше от тех мест, где ты устраиваешь теракты. Нанес удар – и сматывай удочки, живи себе спокойно, как обычный человек. Вот и здесь, в Доностии, в районе вроде нашего, легче замаскироваться. Появление трех новых парней в каком-нибудь поселке, где все друг друга знают и где, как вам хорошо известно, не насчитать больше четырех баров, сразу обратит на себя внимание.
– Ну, мать твою, Чопо, ты у нас такой умный, что ум у тебя прямо из ушей лезет.
Перед нашим приездом он несколько дней изучал порученную нам зону. Короче, как уже было сказано, трудолюбивый как муравей и расчетливый как паук, который день и ночь плетет свою паутину. Ездил туда-сюда, искал. Шагая по шоссе на Игару, нашел отличное место для тайника. И довольно близко. Если пешком, минут пятнадцать. Туда они и отправились как-то в воскресенье втроем, вернее, один за другим на расстоянии в сотню шагов. Дойдя до покинутого дома с обрушенной крышей, свернули с шоссе и стали карабкаться вверх по крутому склону в сторону скита Ангела Хранителя. Потом углубились в сосняк. А до этого двигались по тропинке, плотно заросшей ежевикой и крапивой – знак того, что сюда уже давно никто не забредал. И Пачо, и Хосе Мари место одобрили.
Без тайников дело затевать не имело смысла. В этом все трое были согласны. Незадолго перед тем они послали руководству первое донесение. Подробно описали их общую квартиру, дали характеристику зоне действия, попросили машину и необходимые материалы. Иными словами, что касается лично их, то они уже готовы действовать. Правда, Пачо согласился бы хранить оружие и взрывчатые вещества прямо в квартире. Чопо был категорически против. И объяснил почему. За Хосе Мари оставалось последнее слово, поскольку он являлся главным в группе, и он взял сторону Чопо, решив, что дома они могут держать исключительно оружие, необходимое для самозащиты и безотлагательного использования.
– Если мы оставим все прочее в тайнике, этим смогут воспользоваться и другие товарищи в случае, если сами мы попадем в лапы полиции. Так что пора уже начинать готовить тайники.
Первый шаг – купить пластмассовые бидоны. Это легко. А перевезти их, не вызывая подозрений? Нужна была машина.
Пачо:
– Угоним какую-нибудь – и всех дел.
Чопо вышел из себя:
– Ты просто всяких фильмов насмотрелся.
Потом обещал взять эту задачу на себя. И решил ее. Как? Достал два синих пластмассовых бидона, совершенно новых, с большими закручивающимися крышками, объемом двести двадцать литров каждый. Кто-то одолжил ему фургон. Кто? История умалчивает. Он на такие вопросы отвечать отказывался. А так как мы настаивали, объяснил, что машину дал его двоюродный брат, водопроводчик. А там поди узнай, правду он сказал или нет. Чопо спрятал оба бидона в том самом разрушенном доме рядом с шоссе на Игару. В бидонах лежали лопаты, тоже новые, чтобы было чем выкопать ямы. Этот тип и вправду не упускал из виду ни одной мелочи.
– Мать твою, Чопо, не пойму, чего мы за тобой таскаемся, мы тут явно лишние.
– Все надо делать или по уму, или вообще не делать.
Черт, а не парень. Цены таким нет. Многие лидеры ЭТА и в подметки ему не годились.
Как-то с утра пораньше они втроем отправились в сосняк. Шли спокойно, слушали пение птиц, закопали бидоны – один тут, другой чуть повыше. Потом засыпали эти места сухой сосновой хвоей. Никто бы не заметил, что здесь рыли землю.
Лежа на тюремной койке, Хосе Мари вспоминал.
81. Провожать ее пришел один только грустный доктор
Утром 9 октября Нерея села в поезд, который должен был доставить ее в Париж. Там после обеда она перейдет на другой вокзал и, прежде чем следовать дальше в спальном вагоне, будет иметь в своем распоряжении несколько часов, чтобы побродить по окрестностям Северного вокзала, если, конечно, удастся оставить багаж в надежном месте.
Приблизительно в тот же час Биттори, которая не пожелала проводить дочку к поезду – я? еще чего! – отправилась на кладбище. На сей раз – пожалуй, в первый и последний – она поднималась на холм пешком. Ей нужен был свежий воздух и физические усилия, чтобы справиться с бешенством, сжигавшим ее изнутри. До самого последнего момента она надеялась, что Нерея заглянет к ней в комнату и скажет: ama, ты права, я никуда не поеду. И вправду не поедешь? Да, это было чистое безумие, сама не знаю, как мне такое пришло в голову. Но дочка не заглянула. И тогда Биттори, не один час пролежав в постели без сна и чутко прислушиваясь к сборам Нереи, решила ее не провожать.
В сердцах, а также из-за спешки Биттори забыла дома непременную свою пластиковую подстилку. Ну и ладно. День был солнечным, и могильная плита оказалась сухой – а пыль с юбки я потом уж как-нибудь отряхну.
– Она уехала. Да, Чато, уехала. Твоя дорогая доченька, свет очей твоих, помнишь? Так вот, она нас бросила, и, судя по всему, навсегда. У нее там, в Германии, видишь ли, любовь. Правда, особых подробностей я из нее не вытянула, не думай. Мне об этом рассказал Шавьер. Если бы не он, я бы и вообще ничего не узнала. Мне она только сообщила, что уезжает, да, сообщила, но я-то думала… Ну, сам знаешь, что я думала. Нет, эта не вернется. Этой на нас наплевать. Потом она назвала мне имя своего любовника, но неужели я, по-твоему, могу запомнить такое необычное слово? А ведь сколько денег мы потратили на ее учебу. И теперь к чертям собачьим блестящее будущее. Ну что она будет там делать, если даже языка не знает? Гладить этому немцу рубашки? Я даже фотографии его не видела. А ты лежишь себе тут и не можешь отругать эту вертихвостку как следует. Эгоистка она самая настоящая, вот и весь сказ. А ведь могла стать адвокатом… Открыть собственную контору, жить себе припеваючи и стать гордостью своего покойного отца. Так нет же. Сам увидишь, как она протрынькает денежки, которые ты ей оставил. И глазом не успеем моргнуть.
Как ни странно, на вокзал неожиданно явился Шавьер:
– Я ведь не знаю, когда мы с тобой снова увидимся, поэтому хотел обнять тебя на прощанье.
– А твоя работа?
– Договорился с товарищем.
Они обменялись какими-то ничего не значащими фразами, порадовались солнечному утру. Оба притворялись. Но она не выдержала: напрасно он открыл матери, зачем Нерея уезжает, лучше бы она сама ей все объяснила, написав длинное письмо уже из Германии или позвонив по телефону. Рано или поздно ama все узнала бы. Как бы она среагировала? Наверняка точно так же, но дело, по крайней мере, обошлось бы без отвратительной ссоры, которая случилась у них накануне.
Шавьер был с ней не согласен и заговорил профессорским тоном, сопровождая свои доводы профессорскими жестами:
– Нет, знаешь ли, в таком случае ты должна была и от меня скрыть свои планы. Я вовсе не намерен утаивать что-либо от матери, о чем бы ни шла речь. И дело вовсе не в том, узнает она о чем-то или нет. Для себя я допускаю только честное и искреннее поведение по отношению к ней.
– Ну так будет тебе известно, что после твоего вмешательства я уезжаю с камнем на сердце. И, как видишь, от радости не прыгаю, хотя надеюсь, что настроение у меня улучшится по мере приближения к цели. Вчера вечером мы поссорились довольно серьезно. Она ведь не случайно не захотела меня проводить. И дома со мной не попрощалась. Наверное, если бы ты держал язык за зубами и позволил бы мне поступать так, как я наметила, мы бы до такого не дошли.
– Тактика оказалась неверной. Это ты хочешь сказать?
– Я хочу сказать другое: я не нуждаюсь в твоей опеке. Я уже не маленькая. Поверь, у меня нет желания тебя чем-то уязвить. Я знаю, куда еду и зачем. Оглянись вокруг, посмотри. Хоть одна подруга явилась проводить меня? Здесь у меня нет ни подруг, ни друзей. И как мне жить дальше в подобном месте? Гнить заживо в одиночестве? Поселиться с матерью? По воскресеньям мы будем обедать втроем и есть запеченную в духовке курицу, а на десерт – дружно проливать слезы?
– То, что ты говоришь, несправедливо, и ты действительно стараешься меня уязвить, хоть и отрицаешь это.
– Тебе хотелось бы, чтобы я никуда не уезжала, правда?
– Ни в коем случае. Я пришел, чтобы пожелать тебе всего самого наилучшего.
– Спасибо, но знаешь, что я должна тебе сказать, братец? У меня сразу бы поднялось настроение, если бы ты держался повеселее.
– Ну, веселость – это я оставляю для тебя.
– Издеваешься?
– Нет, но здесь нам радоваться особо нечему. Я уверен: ты правильно делаешь, что уезжаешь. Да и что ты, собственно, за собой оставляешь? Разрушенную семью, убитого отца.
– Я оставляю вас, тебя и маму. Отца – нет. Отец всегда будет тут, у меня внутри. – И она пылко указала рукой на сердце.
– Это ты хорошо сказала, сестра. Я не стану снова и снова напоминать тебе, что нам довелось пережить. Прошу только об одном: время от времени звони матери. Скажи ей что-нибудь приятное, напиши письмо, ладно? Может, пришлешь посылку с какими-нибудь тамошними продуктами. Чтобы она чувствовала, что ее любят, понимаешь? Большого труда это тебе не составит.
Так они стояли и разговаривали, пока не показался поезд. Когда ты доберешься до места? Тебя встретят? Ты сообщишь нам свой почтовый адрес? И все такое прочее. Потом он выразил готовность сделать для нее все, что нужно: если тебе что-то понадобится, если придется оформлять какие-то бумаги, не сомневайся, что…
– Как его, кстати, зовут?
– Клаус-Дитер.
Шавьер, кивнув головой, повторил про себя имя. Может, это следовало понять как своего рода одобрение? Потом он снова попросил Нерею не забывать про маму. Потому что мама… и кроме того, мама… Короче, завел обычную свою песню…
У вагонной двери он нежно расцеловал сестру в обе щеки. И помог поднять тяжелый чемодан. После чего резко развернулся и направился к выходу, не дожидаясь, пока поезд тронется. У Нереи в голове мелькнула мысль: брат просто не хочет, чтобы она видела его волнение.
Ее брат, грустный доктор, – высокий, с каждым днем все более худой. Мужчина с седыми висками (с каких это пор?) шел, глядя себе под ноги. Чтобы не пришлось здороваться, если попадется кто-то знакомый? Эти удаляющиеся плечи – плечи очень одинокого человека. Неужели не обернется, чтобы махнуть на прощанье рукой своей сестре? Нет, не обернулся.
Нерея еще какое-то время задумчиво наблюдала за ним в окошко. Я уеду не заплакав. В ушах ее звучали слова известной песни. Бедный Шавьер, всю жизнь выбивался из сил, чтобы занять хорошее положение в обществе, чтобы порадовать отца и мать. Вон он идет, словно стараясь спрятаться от посторонних глаз, человек, который никогда не разбил ни одной тарелки, который не умеет сам покупать себе одежду, человек в темно-синем свитере, накинутом на плечи с завязанными на груди рукавами, в клетчатой рубашке, которую некому погладить. Еще несколько шагов – и он скроется в здании вокзала. Но он и тогда не обернулся.
Через несколько секунд закрылись двери. Поезд тронулся. На небольшой скорости он миновал район Гросс. Там под некоторыми окнами, выходящими на железнодорожные пути, сушилось белье. Еще долго Нерея стояла у окна, наслаждаясь острым ощущением расставания. Порт Пасахес, гора Хайякибель, пригород Рентерии – верилось, что все это она видит в последний раз, – ну и наплевать. Я уеду не заплакав. Наконец, незадолго до границы, Нерея села. Паспорт! Сердце бешено колотилось, пока она искала его в сумке. Вот. Уф, надо же, до чего испугалась.
82. He’s my boyfriend
Когда Нерея сошла с поезда на вокзале Гёттингена, ей смертельно хотелось спать. День 10 октября катился к вечеру. Господи, какой дождь! Словами не описать. Там, где заканчивался крытый перрон, по земле тянулся слой тумана. Дождевые капли, разбиваясь, превращались в пар. Во всяком случае, именно такое создавалось впечатление. А вдалеке, над крышами домов и кронами деревьев, между тучами проглядывало яркое небо. Разреженный дневной свет и шум сильного ливня.
Люди? Почти никого. Не было и ее белокурого мальчика. Может, он в здании вокзала, прячется от непогоды? Нет. Или вышел на площадь? И там его не было. Наверняка уже ушел, потому что ему наскучило ждать. Она должна была приехать еще несколько часов назад, но в Бельгии железнодорожники объявили забастовку – вот уж не повезло так не повезло, – и ночной поезд сделал огромный крюк, поэтому Нерея опоздала на следующую пересадку. И вот теперь она стояла на вокзале в Гёттингене одна со своим тяжелым чемоданом, до смерти уставшая после суток, проведенных в дороге. Но она с удовольствием осмотрелась по сторонам. Очень скоро все это станет для меня родным.
Нерея знала на память адрес Клауса-Дитера. Всю дорогу тренировалась, стараясь правильно произносить название улицы и номер дома. По-немецки она умела считать до ста. Мало того, за время пути выучила по словарю длинный список слов. Двести пятьдесят пять слов, которые выбрала по своему усмотрению. Названия того и сего, около тридцати прилагательных и много глаголов. Сегодня утром и потом, сразу после обеда, несколько раз прошлась по этому списку. Кто знает, может, немецкий станет когда-нибудь основным для меня языком. Для меня и для моих детей – наполовину белокурых, двух девочек и одного мальчика. Она все спланировала/продумала и теперь улыбалась: у каждого будет один глаз карий, другой голубой. Да, а еще мальчика они назовут в честь покойного деда.
Адрес был у нее записан на клочке бумаги: Кройцбергринг, 21. Перед своей поездкой в Эдинбург Клаус-Дитер объяснил ей в письме, пестревшем милыми ошибками, что эта улица расположена прямо за университетом, если идти пешком, то есть где-то в пятнадцати минутах ходьбы от вокзала. Хорошо, а где находится университет? Кто бы знал. Дождь все лупил и лупил. Нерея чувствовала, что ни за что не сумеет произнести слово Кройцбергринг так, чтобы ее поняли. Но даже если это получится у нее более или менее сносно, как она потом поймет объяснения? Так что, вместо того чтобы просить помощи у кого-то из местных, она села в такси и показала водителю записанный на бумажке адрес.
В машине она чуть не заснула. Ей хотелось набраться впечатлений от нового для нее мира, и она смотрела в окошко на детали городского пейзажа, хотя и сквозь закрывавшую все пелену усталости. А чему тут удивляться? Ночью она не могла сомкнуть глаз, слушая перестук колес. Вагон болтало, а еще – жара, неприятное присутствие еще пяти чужих/дышащих/босых тел на спальных полках. Слава богу, ей досталась верхняя, а снизу лежал старик в майке, который через полчаса после отправления уже храпел как разбитый колокол.
Такси довезло ее до места меньше чем за пять минут. Нерея еще плохо ориентировалась в немецких марках. Чтобы не пришлось считать деньги, дала таксисту купюру в сто марок и, кажется, хотя она в этом не уверена, здорово переплатила. Иначе как объяснить излишнюю услужливость водителя, который донес ей чемодан до самого подъезда и осыпал несомненно любезными, хотя и совершенно непонятными, пожеланиями.
Нерея остановилась перед рядом почтовых ящиков, не очень чистых, кстати сказать. Вот оно: Клаус-Дитер Кирстен – написано фломастером на полоске бумаги рядом с другими именами. Она вообразила руку немецкого почтальона в тот миг, когда он бросает в металлический ящик ее письма, переполненные нежностью, тоской и одиночеством, сочиненные знойным летом в Сарагосе. Она достала из сумки флакончик духов и брызнула на себя два раза, прежде чем начать подниматься по скрипучей деревянной лестнице, ухватив чемодан обеими руками. Второй этаж, третий, четвертый. На лестничной площадке рядом с дверью у стены стояло что-то вроде невысокого стеллажа без задней стенки – пять полок, уставленных обувью. Прежде чем нажать на звонок, Нерея быстро пригладила волосы, уже готовясь к объятию и поцелую в губы.
Вскоре в глубине квартиры послышались шаги, они приближались к двери по деревянному полу. Дверь открылась. Девушка с короткими светлыми волосами посмотрела на нее не сказать чтобы враждебно, нет, но и не дружелюбно. Сначала она глянула Нерее в глаза, потом перевела взгляд на чемодан, потом снова – уже нахмурившись – уставилась в глаза. Пухленькая, с тонкими губами немка даже не пыталась с ней заговорить, не предложила войти. С самой любезной улыбкой Нерея спросила:
– Клаус-Дитер?
Девушка повторила – поправила? – имя, но уже довольно громко, обернувшись внутрь квартиры. И, не дожидаясь, пока тот, кого она звала, появится на сцене, начала что-то говорить/упрекать его на своем языке. Да, она и вправду отчитывала его. Нерея не понимала ни слова, но в то же время вроде бы и понимала. Искаженное злобой лицо, резкий голос – это язык универсальный. И тут же в прихожей возник Клаус-Дитер. Смущенный, покрасневший, серьезный, он как-то блекло и безучастно поздоровался и протянул Нерее руку для пожатия, даже не подумав выйти и обнять ее, не пригласив войти в квартиру. На ногах у него были огромные поношенные тапки. Да и шерстяной жакет с растянутыми рукавами тоже был не из тех, что могут очаровать принцессу.
И тут девушка в первый и единственный раз обратилась к Нерее. По-английски:
– He’s my boyfriend. And who are you?[92]
К тому времени Нерея уже поняла суть происходящего. Сначала она сказала девушке, стараясь четко произносить слова и очень спокойно:
– I thought he was my boyfriend[93].
Потом, не дожидаясь ответа, пристально посмотрела ему в глаза:
– Мне придется ночевать на улице?
Понятно, что ту девушку вывела из себя попытка незнакомки напрямую обратиться к ее парню на непонятном языке.
Теперь она начала кричать уже гораздо громче, угрожающе покачала пальцем и треснула Клауса-Дитера по руке, а потом с воплями удалилась куда-то в глубь квартиры. Клаус-Дитер остался один на один с Нереей. Но даже теперь он не вышел к ней, не переступил порога.
– Я жалею проблема. Ты ждешь, пожалуйста, здесь. Я звоню Вольфганг, да? Он, большая квартира, чтобы ты спать.
Медленно закрывая дверь, он повторял – нервно, униженно, приблизив лицо к щели, на своем убогом испанском, – что сейчас позвонит Вольфгангу. Нерея около минуты постояла на лестничной площадке. Смеяться тут надо или плакать? И что, черт побери, теперь делать? Из-за двери доносились голоса и рыдания девушки. Забирай его себе, красавица. Я тебе его дарю со всеми потрохами.
Она спустилась на улицу, волоча свой тяжелый чемодан, у которого хоть и есть колесики, но на лестнице толку от них никакого. Неужели все, между ними случившееся, было с самого начала основано на том, что они друг друга не понимали? Наверное, он не умел как следует объясниться, наверное, до меня что-то не дошло. Но тогда почему – и письма, и настойчивые просьбы приехать, и адрес, и дата приезда, и… Неужели он обычный мерзавец? Нет, лучше сказать так: неужели я влюбилась в такого мерзавца? И поссорилась с матерью из-за мерзавца? А вдруг мерзавка – это я сама? Ладно, а что теперь делать мне, умирающей от усталости, здесь, в чужой стране?
По-прежнему лил дождь, хотя и чуть послабее, а просвет в небе сделался шире и уже растянулся почти надо всем городом. Еще не стемнело, но дело шло к тому. Она по-английски спросила, где the city centre. И двинулась в указанном направлении. Пересекая то, что очень напоминало университетский кампус, она увидела парня, шагавшего в противоположном направлении, и готова была поклясться, что это Вольфганг – он прошел где-то метрах в двадцати от нее. Она не была уверена на сто процентов, но окликать его не захотела. В Сарагосе было одно, а здесь – совсем другое.
У нее слипались глаза, болели ноги, ей хотелось пить. Но вот думать ни о чем не было сил. Ни о чем? Клянусь, в тот миг мне на все было наплевать. Зато я внимательно оглядывала фасады встречных домов в поисках спасительного слова. Какого? Какого-какого – слова “отель”. На одной из многочисленных улиц я его наконец увидела. Дорогой, дешевый, чистый, грязный? Ей уже было все равно. Войдя в номер, Нерея тотчас выпила целую бутылочку минеральной воды. К этому и свелся весь ее ужин. Еще не было и девяти, когда она легла спать. И сразу же заснула.
83. Не повезло
В восемь часов утра, приняв бодрящий душ, Нерея спустилась вниз на завтрак. Набирая еду в тарелку, она с благодарностью вспомнила отца. Ведь без тебя я никогда не смогла бы позволить себе всю эту роскошь. Злополучная вчерашняя история не оставила ни единой царапины у Нереи в душе. Странно, правда? Разве не полагалось ей впасть в отчаяние? Почему же у нее возникло чувство облегчения? Вывод она сделала быстро: парень, в которого она влюбилась в Сарагосе, ничего общего не имел с тем вчерашним недоумком в тапках и шерстяном жакете. Акцент, с которым тот, другой, говорил по-испански, казался ей пленительным; а тот, с которым говорил вчерашний олух, хотя и был тем же самым акцентом, вызвал у нее отвращение. И что теперь будет с ее тремя наполовину белокурыми детками? А ничего, девушка, с ними не будет, в свое время родятся какие-нибудь другие. Люди приходят в этот мир так, будто это выигрыш в лотерею. Такой-то и такой-то – добро пожаловать, поздравляем, тебе выпал шанс родиться. Человеку дается тело, дается место в материнской утробе, и наконец его рожает женщина, которую обычно называют матерью. Нерея взяла себе два круассана. Осторожно, Нерея, от счастья толстеют. Поднос, где стояли мисочки с мармеладом и разными сортами меда, выглядел очень соблазнительно.
В хорошем настроении, отдохнувшая (она проспала без просыпа одиннадцать с половиной часов), умытая и сытая. Ну а что теперь? Она раздвинула шторы и выглянула в окно: пасмурно, но дождя нет, низкие дома, мусорная машина, двое рабочих в светоотражающих жилетах копаются в траншее. Как будто я попала в маленький поселок. Возможность встретиться на улице с Клаусом-Дитером, или с его пухлявой девицей (твой вегетарианец обманывал тебя, дорогая, в Испании он за милую душу уплетал креветок), или с любым другим немецким студентом из Сарагосы заставила ее отказаться от мысли получше познакомиться с Гёттингеном. Может, вернуться домой? Это было бы очень унизительно! Что-то ты, дочка, слишком быстро пожаловала назад? Да просто я…
Прежде чем тронуться в путь, она решила облегчить свой чемодан. К черту все – диски, книги, “Адокинес дель Пилар”[94], коробка “Арагонских фруктов”, четыре бутылочки пива – такие, какие они с ним обычно вместе пили в барах Сарагосы, – а также другие подарки, приготовленные для главной любви ее жизни. И еще толстенный испанско-немецкий словарь, грамматика, сборник упражнений с ключом на последних страницах и прочие вещи, которые, если рассуждать здраво, пригодились бы ей только в том случае, если бы она надолго задержалась в Германии. Обслуга гостиницы очень обрадуется, обнаружив, что в этом номере ночевала племянница Санта-Клауса. Да, а вот и прядь белокурых волос – память о страстной любви, прядь, к которой она с таким благоговением относилась до вчерашнего дня, а сегодня смотрит на нее с омерзением – как на что-то тошнотворное (Нерея, не злись). Прядь она бросила в унитаз.
Дежурная у стойки дала ей план Гёттингена, с помощью которого Нерея легко дошла до вокзала. Цель у нее была одна – сесть на первый же поезд, который довезет ее до какого-нибудь интересного города, – короче, узнать новые места, устроить себе прогулку по Европе, а потом вернуться домой, получить докторскую степень, подыскать работу, забеременеть – ну и так далее.
В час дня она уже была во Франкфурте. Сняла комнату в гостинице в центре города, правда, чуть дешевле предыдущей; пообедала в итальянском ресторане, заказав тарелку пенне арабьята, которая страшно ей понравилась, прошлась по магазинам и что-то купила, бесцельно побродила по улицам. В двухэтажном книжном магазине присела, чтобы полистать атлас. Положив открытую книгу на колени, изучила возможные маршруты. Сперва – в Мюнхен, это вне всякого сомнения. Там она решит, поехать ей в Австрию или в Швейцарию, как карта ляжет, а потом – Италия.
Чуть позже она позвонила матери из гостиничного номера. И охотно рассказала бы, как из влюбленной девчонки превратилась в туристку, но Биттори разговаривала так неохотно, так сухо и неприязненно, что у Нереи отпало всякое желание делиться с ней своими приключениями, поэтому, сообщив какие-то банальности про погоду и еду, дочь поспешила распрощаться. Даже не сказала, откуда звонила. А та и не спросила. Биттори вообще ничего не спросила: ни как у нее дела, ни как она добралась до места. Ничего.
Рассвет 12 октября. Чистое небо и приятная температура располагали к прогулке по Франкфурту. С этой мыслью, прихватив фотоаппарат и план города, Нерея вышла из гостиницы. На следующий день начнется новый этап путешествия, так что в каждом городе она проведет две ночи и один полный день, если, конечно, какое-нибудь место не поразит ее воображение, и тогда можно будет задержаться там подольше. Решать Нерея будет по ходу дела. В конце концов, поездку она выстраивала по своей прихоти – на самом деле именно так я хочу поступать во всем до конца жизни. А что касается расходов, то неизбежные траты она расценивала как награду себе за окончание университета. Раз уж матушке и в голову не пришло хоть как-то отметить мои труды, я сама себе дарю это путешествие, а потом будь что будет.
Спокойно, неспешно, делая снимки, Нерея стала отыскивать реку и совершенно случайно оказалась рядом с домом Гёте. В путеводителе она прочитала, что дом был разрушен во время бомбардировки и после войны его восстановили. Нерея не стала туда заходить. Зачем, если дом ненастоящий? И тем не менее, пока она стояла перед знаменитым фасадом, ей сильно захотелось приобщиться к истории и культуре. Чтобы день прошел не зря, она разделила его на две части: первая половина будет познавательной, потом – обед в каком-нибудь типично немецком заведении, потом – отдых и покупки.
Приняв решение, она дошла до угла, повернула налево, увидела колокольню и красноватые стены Паульскирхе и направилась туда. Заглянула в церковь, которая не произвела на нее особого впечатления, и, выйдя оттуда, двинулась не к реке, а по лежавшей напротив улице, так как решила непременно побывать в Музее современного искусства. Пообщавшись с искусством – или с тем, что нынче именуется искусством, – сделала полный круг вокруг собора, чтобы сфотографировать его с разных точек, купила себе темные очки и, уже почувствовав усталость в ногах, а также голод и жажду, добрела до реки, перешла через нее по мосту, который ближе к противоположному берегу пролегал по узкому, поросшему деревьями острову.
Мост привел Нерею в район под названием Заксенхаузен. Его ей порекомендовали в гостинице. На полях карты города она записала название и адрес ресторана. Там и пообедала. За длинным деревянным столом сидеть пришлось вместе с другими клиентами. Жареные ребрышки с жареной же картошкой и пронзительно-острым соусом, вкус которого надолго остался у нее во рту. Местный сидр, более сладкий и не такой мутный, как тот, что подают в барах у них в поселке. Но кое-что ей не понравилось. Что? То, что она привлекала к себе мужские взгляды, взгляды парней, сидевших за тем же столом и откровенно ловивших ее взгляд. Они улыбались ей, поднимали в ее честь свои кружки и стаканы – симпатичные, веселые – и не раз пытались завязать с ней беседу. Но она обращала на них не больше внимания, чем предписано элементарными нормами вежливости. Жаль, конечно, они ребята хорошие, но, на беду, я свою квоту немцев исчерпала – и это до конца жизни.
Кофе она пила в другом месте. Где? На палубе туристического кораблика, совершавшего прогулку по Майну. Ласковое осеннее солнце остановилось на ее лице, и она ради чистого удовольствия позволила себе задремать, сложив руки на груди и не прислушиваясь к пояснениям, которые на немецком и английском звучали по радио, и лишь изредка поглядывала на ровную линию домов на другом берегу. Иногда она кожей чувствовала легкий ветерок. Это было похоже на прохладную ласку, делавшую еще глубже состояние счастья, в которое она погрузилась. И никто, за исключением женщины, подававшей кофе с печеньем в подарок, не сказал ей ни слова. Она была наедине с собой, ни о чем не думала, ни о чем не вспоминала, не страдала. Она была свободна. Идеальные мгновения. Она открывала глаза: над городом сияло голубое небо. Потом закрывала глаза и снова чувствовала, как ее убаюкивает шум мотора.
Но когда она снова очутилась на твердой почве, все как-то переменилось. Правда, не сразу. Нерея успела поглазеть на витрины, зайти в магазины, что-то примерить. В четверть шестого по несчастной прихоти судьбы она невесть зачем повернула именно на эту улицу, а не на любую другую и стала свидетельницей следующей сцены. Примерно в сотне метров от себя Нерея увидела кучку народа, а чуть дальше, за людскими головами, остановившийся трамвай и две “скорые помощи”. И Нерея почувствовала любопытство – злополучный порыв. Со своими магазинными пакетами она пошла посмотреть, что случилось. Несколько полицейских не давали людям подходить близко к месту трагедии. Нерее удалось протиснуться к самому краю тротуара. Сердце екнуло так сильно, что на миг ей показалось, будто она теряет сознание. Она тотчас отступила назад, однако слишком поздно, так как уже успела разглядеть то, что видеть ей не следовало, – физический образ смерти, неподвижное тело, накрытое простыней, которая оставила на виду ступни. Человек лежал рядом с трамваем, рядом с медиками, которые ничего не делали, потому что делать было уже нечего.
План Франкфурта, без которого она не смогла бы найти свою гостиницу, дрожал у нее в руке. Aita, aita, повторяла она. И некоторые прохожие оборачивались и смотрели на девушку, вроде бы иностранку, которая куда-то неслась, рыдая взахлеб. В гостинице у стойки дежурного Нерея срывающимся голосом попросила разбудить ее в пять утра. Такси доставило ее в аэропорт.
84. Баски-убийцы
Мысль съездить в Сарагосу втроем пришла в голову Шавьеру. Он легко уговорил родителей, и рано утром, чтобы выиграть время, они тронулись в путь. Шавьер сидел за рулем. Было воскресенье, конец января того самого злосчастного года, но они об этом пока еще не знали. Была у поездки и особая цель (или повод): в пять часов “Реал Сосьедад” будет играть на стадионе “Ла Ромареда” против сарагосского “Реала”. Как Шавьер объяснил отцу, как раз на этот день у Арансасу неожиданно выпало дежурство – ей пришлось кого-то заменить. Не повезло. Поэтому она поехать с ними не сможет. А одному ему ехать неохота, к тому же было жалко терять два билета на стадион, за которые он заплатил приличные деньги. Чато, прежде чем ответить на предложение сына, посмотрел в окно. Быстро оценил взглядом то единственное, что было очевидно, – сплошные тучи. И сказал, словно ответ продиктовали ему небеса, что, конечно, он с большим удовольствием сходит на матч “Реала”, хотя они все там и растяпы.
Биттори никуда смотреть не стала, а сразу же согласилась ехать. Футбол? Он волновал ее меньше всего. С конца года они не виделись с Нереей. Заодно она – мать-инспектор и контролер, мать, снедаемая любопытством, – хотела взглянуть на новое жилье дочери. Предыдущую квартиру – ту, что находилась в районе Торреро, довольно далеко от университета, – она знала. И вполне в свое время одобрила. Чистая и так далее. А вот нынешнюю Биттори еще не проверила. Посмотрим, посмотрим…
По дороге отец с сыном договорились, что они в квартиру Нереи заходить не будут, иначе, по словам Шавьера, еще решит, что мы приехали, чтобы провести пальцем по мебели и посмотреть, нет ли там пыли.
Мать:
– Знаешь, чистота еще никому не помешала.
Чато промолчал.
– Ama, Нерея живет с двумя соседками. Не можем же мы вламываться в их жилье как батальон инспекторов.
– А я ничего такого и не предлагала.
– Ну а если к ней кто-то зашел с личным визитом?
– Мы ее еще в четверг предупредили, что приедем.
– Наверное, я плохо объяснил свою мысль. Когда говорят про “личный визит”, имеется в виду интимная встреча.
– А это уж не наша забота.
Дело в том, что Биттори решила в любом случае подняться в квартиру дочери. Зачем? Затем что везла ей банку кальмаров в собственном соку, которые сама приготовила, банку помидоров, зеленую фасоль (между прочим, по двести восемьдесят песет за кило), черные бобы из Толосы и так далее, и так далее. Все это она перечисляла, сидя на заднем сиденье, по очереди нажимая подушечкой указательного пальца на подушечки пальцев другой руки.
– Вы что, думаете, я пойду гулять по Сарагосе с сумками, полными продуктов?
Чато не выдержал:
– Сказала бы раньше, я бы взял грузовик, ты думаешь, наша дочка умирает там с голоду?
– А ты сиди и помалкивай.
– Почему это я должен помалкивать?
– Потому что ты не мать и потому что это говорю тебе я.
Потом по просьбе Биттори они остановились на заправке в Вальтьерре. И пока она ходила в туалет, отец с сыном вышли из машины, решив размять ноги. Кто-то из них вяло предложил заглянуть в кафетерий. Второй считал, что не стоит зря тратить время, поэтому никуда они не пошли. Чато, в то время еще куривший, вытащил сигарету.
– В пятницу нам сунули в почтовый ящик куриные потроха. Черт знает во что его превратили. Не говорю уж о вони. Мать не велела тебе рассказывать. Чтобы ты не переживал.
– Если бы это зависело от меня, я заставил бы вас уехать из поселка сегодня же, как только мы вернемся из Сарагосы.
– Но от тебя это не зависит. А почтовый ящик мы уже вычистили. Нет, они меня не согнут. Все это делают люди из поселка. Кто же еще? Молодые ребята. Но если я кого из них поймаю, он это надолго запомнит. Сам знаешь моего адвоката, тот на них управу найдет.
Шавьер обвел глазами окрестности:
– Вот скажи, почему бы тебе не перевести свою фирму сюда? Посмотри, какие поля. Как тут тихо и спокойно. И автотрасса рядом. Раз – и ты в Эускади. Что ты на этот счет думаешь?
Чато повторил оценивающий взгляд сына:
– Все здесь как-то слишком сухо.
– Зато можно дышать.
– В поселке у нас тоже воздуху достаточно. Кроме того, у меня есть еще служащие, механики и водители, не забывай. А здесь я никого не знаю.
– Я не собираюсь приставать к тебе каждый раз, когда мы остаемся вдвоем. Только хочу, чтобы ты понял: если с вами, с тобой или с матерью, случится что-то серьезное, я себе этого никогда не прощу.
– Да ладно тебе, не ной раньше времени. И ведь права была твоя мать, не надо было ничего тебе говорить.
В десять утра показались первые дома Сарагосы. Холодновато (девять градусов на уличном термометре), но без дождя. На улице Лопеса Альуэ они не нашли места, чтобы припарковать машину. Сумели сделать это только на параллельной. В конце концов, вопреки долгим спорам, они втроем поднялись в квартиру Нереи. Она сама на этом настояла.
На лестнице Биттори позволила себе пошутить:
– Имей в виду, дочка, эти двое идут специально, чтобы проверить, как ты следишь за чистотой.
Чато, когда они уже вошли:
– А твои соседки?
– Их сейчас нет. Иногда на выходные они уезжают домой к родителям.
Вся семья в полном составе. Когда они собирались вчетвером в последний раз? В новогоднюю ночь. А когда увидятся в следующий раз? Следующего раза не будет, но они этого не знают. Год спустя Биттори, сидя на могильной плите, напомнила об этом Чато:
– Тогда ведь мы в последний раз были все вместе, помнишь? – Ей вообразилось, что лежащий под плитой покойный муж стал что-то возражать. – И не спорь, я совершенно в этом уверена. Позже, уже летом, Нерея пробыла с нами чуть больше недели. А Шавьер в то же время уехал в отпуск со своей санитаркой, ну той, которая пыталась его захомутать. Теперь скажи, что у меня плохая память!
У Чато была одна очень своеобразная привычка. Биттори это сравнивала со своего рода способом метить территорию. Как делают собаки. Только вот Чато оставлял по себе деньги. И хотя он постарался проделать все тайком, жена, которая видит и то, чего не видит, а если не видит, то носом чует, заметила, как он прячет два билета по пять тысяч песет в ящик письменного стола Нереи, под книгу, надеясь, что никто за ним не следит.
– Ох, какой же ты был щедрый, Чато. Особенно со своей дочкой, со своей любимицей, которая потом не явилась к тебе ни на отпевание, ни на похороны.
Нерея показала им квартиру. Здесь это, там то. А также комнаты своих соседок, куда они, разумеется, не входили, но одним глазком посмотрели, чтобы составить общее представление. Гости – как доброжелательно настроенный батальон инспекторов – следовали за ней по всей квартире, одобрительно кивая и хваля новое пристанище Нереи. И Чато, который явно взволновался, увидев дочку в незнакомых ему доме, городе и обстановке, трижды в разных ситуациях повторил одну и ту же фразу:
– Если тебе что понадобится, только скажи.
После третьего раза Биттори не выдержала:
– Ну сколько можно талдычить одно и то же!
Вчетвером они вышли на улицу. Нерея вела их, ухватившись за отцовскую руку. И шагали неспешно, довольные, разговаривая о том о сем, по Гран-виа, по бульвару Независимости, где в этот час почти не было народу, по Тубо, где в воздухе плавал аромат жареного мяса. И хотя еще не пробило двенадцати, Чато начал интересоваться, нет ли поблизости хорошего ресторана. Они зашли в базилику Богоматери Пилар. Биттори опустилась на колени, чтобы помолиться Пресвятой Деве. Тогда она еще была верующей. Остальные ждали снаружи. А ведь когда-то она хотела стать монахиней, сестрой Биттори. Они дружно смеялись, отлично понимая друг друга, пока мать их не слышала. Между тем по площади бродили типы с атрибутами “Реал Сосьедад”. Кое-кто, заметив бело-голубой шарф Шавьера, поприветствовал его.
Чато:
– А это кто такие?
– Понятия не имею.
Обед? Прошел отлично. Жаловалась только Биттори – и то лишь тогда, когда пришлось расплачиваться, ведь она была убеждена, что:
– По акценту они поняли, что мы нездешние, и сразу сообразили: с этих надо содрать побольше.
Остальные члены семейства стали дружно ей возражать: если сравнить с Сан-Себастьяном, то с них взяли вполне по-божески. Уже на улице Нерея подтвердила, что Сарагоса – город, где можно свободно жить (съемное жилье, питание, досуг) на меньшие деньги, чем в других местах.
Биттори упрямо стояла на своем:
– А мне все равно кажется, что нас надули.
На площади Испании Чато и Шавьер взяли такси, которое доставило их на стадион. Женщины сразу же отправились в кафе-мороженое на проспекте Независимости, потом пешком – на квартиру, где Биттори – только не спорь со мной! – захотела во что бы то ни стало вымыть окна. Потом занялась туалетом и кухней. И это при том, что, как она сама не раз повторила, квартира содержалась в чистоте.
– Но не могу же я сидеть тут у тебя сложа руки.
Тем временем отец с сыном заняли стоячие места, смешавшись с прибывшей из Доностии группой болельщиков. Еще игроки не вышли на поле, когда с противоположной трибуны на них посыпались оскорбления: террористы, ЭТА, дерьмовые баски, баски-убийцы и так далее. Они в ответ распевали свои песни и размахивали своими бело-голубыми флажками, говоря при этом друг другу:
– Не будем обращать на них внимания, мы приехали сюда поддержать нашу команду.
Чато заметно растерялся:
– Ну уж такого я никак не ожидал.
– Ничего, ничего, aita. Есть стадионы и похуже этого. К таким вещам пора привыкнуть и научиться изображать из себя глухих.
– Но они ведь совсем близко. Запросто могут закидать нас камнями до смерти.
– Не дергайся. Все это – часть ритуала. А так как мы их обыграем, то вроде как получим компенсацию – полюбуемся на то, как они станут беситься.
Сарагоса выиграла со счетом 2:1 благодаря пенальти, который взялся бить и забил их вратарь. За десять минут до окончания матча счет еще оставался ноль – ноль. И победа как-то поубавила пылу у местных болельщиков, теперь они разве что делали непристойные жесты в адрес бело-голубых. Когда Шавьер с отцом вышли со стадиона, небо уже потемнело. Шавьер сунул шарф в карман пальто:
– Думаю, лучше их лишний раз не дразнить. Надо соблюдать осторожность.
Они долго не могли найти свободное такси. Наконец сели, и оно довезло их до улицы Лопеса Альуэ. Простились с Нереей. Поцелуи и объятия у подъезда. Чато едва сдерживал слезы:
– Дочка, если тебе что-нибудь будет нужно, только скажи.
Пошли к своей машине. Им разбили два боковых зеркала, а с двух сторон продавили – ногами, что ли, били? – кузов. Другие машины – и впереди, и сзади – остались целы. Ладно, по крайней мере было на чем возвращаться домой.
Шавьер, сидя за рулем:
– Не думайте, что я чего-то подобного не ждал.
– Чего ты не ждал?
– Знал ведь, что рискованно оставлять на целый день без присмотра машину с номерами Сан-Себастьяна.
А еще им сломали дворники. Это обнаружилось чуть позже, на заправке в Имаркоайне, где они остановились по просьбе Биттори, которой срочно понадобилось в туалет.
Чато Шавьеру, закуривая:
– О машине не беспокойся. Я сам этим займусь.
– Я заплачу.
– Ничего ты не будешь платить.
И так они пререкались, пока не вернулась Биттори.
85. Квартира
Чато поручил купить для них с женой квартиру в Сан-Себастьяне Шавьеру, который, в свою очередь, возложил это дело на Арансасу, после того как она сказала:
– Знаешь, maitia, давай я поговорю со своим братом. Он в таких вопросах спец.
Единственное, чего не хотел Чато, так это дворца, который стоил бы миллионы и миллионы.
– Я никогда не жил в роскоши, и мне она не нужна.
– Но ты же не собираешься поселить мать в хибару?
– Если мать выдернуть из поселка, ей все равно больше нигде жить не понравится.
– По-моему, ты относишься к покупке квартиры исключительно как к вложению денег.
Чато не очень ясно представлял себе свой переезд в Сан-Себастьян, во всяком случае в ближайшее время. А Шавьер настаивал, что переезжать нужно срочно. Его стала поддерживать Нерея, как только узнала о появившихся на стенах надписях. Эти двое сговорились у меня за спиной. Чато уступил – или сделал вид, что уступает, – лишь бы не спорить с детьми. Он тянул время, оттягивал решение вопроса, но все же согласился купить квартиру в Сан-Себастьяне, только добавил, что из поселка уедет лишь в том случае, если все станет совсем плохо.
– Так и сейчас ведь плохо.
– Нет, если еще хуже.
И пояснил, что судно не покидают из-за того, что началась буря, – только когда оно уже идет ко дну. А если им устроят окончательно невыносимую жизнь? Ну, тогда Чато с Биттори переберутся в Сан-Себастьян, и там он начнет обдумывать – более спокойно? – каким образом перебросить фирму в Ла-Риоху или в любое другое место рядом с Эускади, чтобы остаться поближе к большинству своих клиентов.
– А новым жильем тем временем могла бы пользоваться твоя сестра, ведь куда-то ей надо деваться, когда она окончит университет.
Брат Арансасу вскоре сообщил Чато о двух выставленных на продажу квартирах. Обе принадлежали частным лицам, так что о цене можно будет договариваться непосредственно с собственниками. У брата Арансасу была складная речь и приятная наружность (волосы, правда, слишком напомаженные).
– Это почти что даром, уж поверьте мне.
Он сам их купит, если Чато откажется. По словам Арансасу, ее брат тем и жил: продавал дорого то, что покупал по дешевке. А потом, получив хороший куш, три-четыре месяца мотался по другим странам.
Для Чато сама мысль, что можно в течение целого года не ходить на работу с понедельника по воскресенье, была странной. Шавьер знаками показал ему, что тут лучше от любых комментариев воздержаться. И Чато перешел к делу:
– Хорошо, хорошо, надо бы на эти квартиры поглядеть.
И хотя он подозревал, что Биттори отвергнет оба варианта, повез туда жену, чтобы услышать ее мнение. Квартира в районе Гросс – просторная, с окнами на бульвар Сурриолы – показалась ей холодной, темной и, возможно, слишком сырой из-за близости моря. А кроме того, шестой этаж. Нет, ни за что. Вторая квартира – на улице Урбиеты – тоже не понравилась Биттори: вытертый паркет, слишком высокие потолки, шум от дрели, работавшей у жильцов сверху, из чего она вывела, что перекрытия недостаточно толстые. А еще из-за шума, доносившегося с улицы.
– Там столько машин, что я и здесь запах чувствую.
Чато так и знал: на эту женщину угодить просто невозможно. Дома она твердила, что им надо непременно уехать из поселка и перекинуть все грузовики в место поспокойнее, чтобы никогда больше не видеть этих злых и завистливых людей, которые тут нас окружают, но едва он предпринимал хоть какие-нибудь шаги для подготовки переезда, как Биттори рушила любые его планы.
Какое-то время спустя Арансасу сообщила еще об одном предложении. Она повторила слова своего брата, что было бы безумием упустить такой удачный шанс. На сей раз отец с сыном договорились провернуть покупку за спиной у Биттори. Они пешком одолели небольшой подъем в районе Альдапета.
– Вот посмотришь, какой скандал мать учинит из-за этого подъема.
Они осмотрели квартиру. Четвертый этаж с лифтом, жилье досталось в наследство трем людям, которые никак не могут между собой договориться и спешат обратить наследство в деньги, поэтому продают квартиру совсем дешево. И брат Арансасу по доверенности Чато купил квартиру – за значительную сумму, но все-таки гораздо дешевле, чем могли бы запросить хозяева, будь они более дошлыми.
При передаче ключей Биттори тоже не присутствовала. Но настал момент, когда и дальше скрывать от нее покупку стало невозможно. Арансасу заехала за Биттори на своей машине, а дожидавшиеся их Чато и Шавьер вышли на балкон, так как погода стояла прекрасная. С балкона был виден остров Санта-Клара. А также гора Ургуль, вершина Игуэльдо и полоса моря под желтым предзакатным небом.
– Как красиво. Матери наверняка понравится.
– Плохо ты ее знаешь. Подари ты ей хоть гранадскую Альгамбру, эта женщина все равно предпочтет остаться в своем поселке.
Отец с сыном стояли, облокотившись на балконные перила. Прямо под ними рос индийский каштан, верхушка которого всего лишь на метр с небольшим не доставала до четвертого этажа. Они смотрели на ближние дома, на припаркованные внизу машины, на пустынную улицу. Спокойное место, район для состоятельных людей.
– Надеюсь, ты меняешь маршрут, когда едешь на работу?
– Иногда меняю, если не забываю.
– Ты ведь мне обещал.
– Эти, если захотят кого подловить, все равно подловят. Сегодня я могу ехать тут, завтра там. Но рано или поздно окажусь в том месте, где они меня поджидают.
– Мне не нравится твое спокойствие.
– Будет лучше, если я начну нервничать?
– Нет, не нервничать, но быть всегда начеку.
– Послушай, Шавьер, я не желаю плясать под дудку сволочей, которые оскорбляют нас по телефону и пишут всю эту гнусь на стенах. Это наши местные людишки. Чего они добиваются? Чтобы я наложил в штаны от страха и сидел дома или убрался жить в другое место. Я их совершенно не боюсь. Мать считает, что они стараются устроить нам невозможную жизнь, потому что мы сумели выбиться из бедности. Они ведь знали нас и в другие, более тяжелые, времена, когда мы были такими же, как они, – простыми неудачниками. А теперь смотрят – сын у нас стал врачом, дочка учится, у меня есть мои грузовики, и этого они никак стерпеть не могут, поэтому тем или иным способом пытаются испортить мне жизнь. Они уверены: все, что у меня есть, я украл. А работать столько, сколько работал я, сами они никогда не стали бы.
– Если это такие плохие люди, тем более надо принимать меры и быть осторожным.
– Ладно, пусть только попробуют меня тронуть. Получат угощеньице, запомни. А если совсем допекут, оставлю их в этом году без пожертвований на праздники. Еще узнают, кто такой Чато. Я куда больше баск, чем все они, вместе взятые. До пяти лет ни слова не говорил по-испански. Отцу моему – царствие ему небесное! – из пулемета разнесло ногу, когда он защищал Страну басков на фронте в Эльгете. Уже в старости он лишь сжимал зубы от боли всякий раз, когда у него случались судороги. “Болит?” – спрашивали мы. “А пошел этот Франко к растакой-то матери!” – отвечал он. Его три года продержали в тюрьме и только чудом не расстреляли.
– И к чему ты мне все это рассказываешь, aita? Думаешь, боевикам не плевать на то, что произошло с твоим отцом?
– А разве они не клянутся, что защищают баскский народ? Так вот, если я не баскский народ, то скажи на милость, где он, этот их баскский народ.
– Aita, ради бога! Ты должен смириться с мыслью, что ЭТА – не знаю, как лучше выразиться, – что ЭТА – уже запущенный механизм.
– Если ты хочешь, чтобы я ни черта не понял, продолжай в том же духе.
– Объясняю: ЭТА должна действовать без остановки. Иначе им нельзя. Они уже давно вступили в фазу слепого автоматизма. Если ЭТА не сеет зло, значит, ее нет, она перестала существовать, не выполняет никакой функции. Такой вот мафиозный способ действия, и он не зависит от воли членов организации. Даже ее главари не способны что-то изменить. Да, разумеется, они принимают решения, но это одна только видимость. Они просто не могут не принимать их, поскольку машину террора, если она уже набрала обороты, остановить нельзя. Теперь ты меня понимаешь?
– Нет.
– Ну, тогда тебе надо всего лишь почитать газеты.
– По-моему, ты зря паникуешь.
– Они хладнокровно расправились с Йойес, которая принадлежала к самой верхушке их шайки. Они даже своих не жалеют, а ты хочешь, чтобы они прониклись сочувствием к тебе, потому что твой отец пятьдесят лет назад сражался в батальоне баскских патриотов? Ну-ну. Меня, если честно, больше всего беспокоит твоя наивность.
– Знаешь, сын, я, конечно, не получил такого образования, как ты. Все, что ты говоришь, для меня – какая-то философия. Да, я не могу понять, как люди, которые твердят о том, что их цель – защита баскского языка, убивают тех, кто на этом языке говорит. Твердят, что желают построить свободную Страну басков, и убивают самих же басков. Совсем другое дело, когда они расправляются с гражданскими гвардейцами или с теми, кто приехал сюда к нам откуда-нибудь со стороны. Я плохо отношусь к таким вещам, но логика террористов придает этим убийствам хоть какой-то смысл.
– Нет у них никакой логики. Сплошное безумие, а может, еще и бизнес.
– В моем случае надо спустить все на тормозах. Пройдет некоторое время, и они обо мне забудут. Сам увидишь. Кое-кто в поселке перестал со мной здороваться? Ну и хрен с ними. Обойдусь как-нибудь! Знаешь, единственное, что меня по-настоящему бесит, это то, что я не могу по воскресеньям ездить на велосипеде. А в остальном – плевать мне на них с высокой колокольни.
Машина Арансасу медленно подъехала к подъезду. Первой вышла Биттори. Хмуро поглядела наверх, увидела мужа с сыном на балконе. И не стала ждать, пока поднимется в квартиру. Прямо с улицы, не заботясь о том, что ее могут услышать из других домов, закричала:
– Я уже знаю, что ты купил квартиру, не спросив меня.
Чато очень тихо Шавьеру:
– Вот кого я по-настоящему боюсь. Характер у твоей матушки не дай боже!
86. У него были другие планы
Лежа в постели, он слушал шум дождя. Серый шелест словно говорил ему: Чато, Чато, просыпайся, вставай и иди помокни. И он, наверное, чтобы оттянуть тот миг, когда придется на себе испытать все прелести нынешней погоды, или из-за блеклого света, который пробивался сквозь шторы и дурманил его ленью, наливая веки свинцовой тяжестью, или потому, что была отменена встреча с клиентом из Беасайна и в конторе ему после обеда делать было особенно нечего, но Чато протянул сиесту дольше обычного. Что это значило? Что он проспал целый час без сновидений и тревог, хотя обычно ему было достаточно двадцати – тридцати минут.
Чато сидел на краю кровати, и его одолевало желание закурить – но нет. С этим покончено, хотя соблазн время от времени появлялся. Сто четырнадцать дней назад он выкурил последнюю сигарету. Дни он считал, и это давало повод с каждым новым днем все больше гордиться собой. Среди его родичей было несколько случаев рака легких и рака желудка. Среди родни Биттори тоже. И в поселке тоже. И он не хотел для себя такой судьбы. У него были другие планы.
Он обулся. Так, и чем теперь заняться? Совершенно лишний вопрос для человека, который, будь он холостым, пожалуй, и жить бы перебрался к себе в контору. Кроме того, на фирме за всем нужен глаз да глаз. Нельзя полагаться на служащих, нельзя оставлять их без пригляда. А если кто позвонит по телефону? Что тогда? Чато вдруг заторопился. Заторопился? Нет, скорее почувствовал угрызения совести из-за того, что больше часу отдал отдыху в ущерб работе. Он постарался получше расправить покрывало, чтобы вечером не слушать ворчание жены.
В гостиной на столе так и лежала газета, раскрытая на странице с кроссвордом, рядом – очки для чтения. Если бы он проспал меньше, мог бы попытаться решить кроссворд до конца. Чертов филиппинский остров, четыре буквы, который попадался ему и раньше, но он никогда не мог сразу вспомнить его название. Фрукт, распространенный в пиренейских долинах. А черт его знает. Биттори сидела на диване, сложив руки на груди, она устало приоткрыла глаза, услышав шаги мужа. Который час?
– Скоро четыре.
– Ты что там прирос к кровати?
На кухне его ждало разочарование: кофе не было, только холодные остатки в кофейнике после завтрака. Чато ругнулся сквозь зубы. Биттори, которая вроде и спит, а вроде и нет, потому что никогда, даже ночью, не засыпает до конца, его услышала:
– Сейчас сварю.
Он знает себя: ему хотелось, чтобы кофе был, как всегда, уже готов, чтобы не ждать, а сразу же умчаться на работу. Не без легкого раздражения в голосе он сказал, что ему некогда:
– Мне и того, что есть, хватит.
И он выпил черную жидкость прямо из кофейника. Биттори продолжала дремать на диване. От горькой кофейной бурды Чато поморщился. Потом, снова ругнувшись, шагнул через порог. И даже не подошел к Биттори, да и она тоже не вышла в прихожую. Простился он с женой отнюдь не сухо, но коротко:
– До ужина.
Биттори тряхнула головой, словно отвечая ему тем же: я до смерти хочу спать, поэтому мне не хочется ничего говорить, так что хватит с тебя и моего кивка. И снова закрыла глаза.
Оказавшись на лестнице, Чато включил свет. Вязкая предвечерняя серость проникала повсюду, разъедала краски, сгущала тени. Он спустился вниз и заглянул в почтовый ящик. Хотя и не надеялся найти там письмо. Почтальон-то приходит только утром. Иногда им совали в ящик всякую дрянь или записки с оскорблениями и угрозами, но уже около двух месяцев ничего такого не случалось. В этом смысле их вроде бы оставили в покое. Зато несколько дней назад на стене музыкальной эстрады появилось его имя, написанное в центре мишени. Одна соседка шепотом сообщила об этом Биттори. Зачем сообщила? А иначе Биттори и Чато ничего бы не узнали, поскольку на площадь ни он, ни она уже давно не ходили. Короче, шутка-то скверная. Ведь одно дело, когда тебе по-всякому вредят или тебя оскорбляют, и совсем другое, когда жители твоего же поселка (ну, хорошо, некоторые жители) требуют тебя прикончить.
Чато вышел из подъезда, вернее, не до конца вышел. Только сделал шаг через порог. Потом сразу дернулся назад. Дождь и серость. Машины мимо не проезжали, вернее, была одна, какой-то пикап, и он удалялся, катясь под горку. На улице не было обычных в такой час прохожих. Да какие тут прохожие – дождь льет как из ведра. Чато стоял у двери под навесом, и ему захотелось вернуться за зонтом. Да бог с ним, с зонтом, жена спит… И вообще, отсюда до гаража рукой подать. Чато собирался с духом, чтобы бегом кинуться туда. Но прежде бросил беспокойный взгляд на небо, хотя не было никакой надежды, что дождь утихнет.
А вот и растяжка во всю ширину улицы – одним концом привязанная к его балкону, другим – к фонарю. PRESOAK KALERA, AMNISTIA OSOA[95]. Время от времени их вешают, и не всегда они содержат политические лозунги. Бывают и такие, что связаны с местными праздниками. Несколько лет назад у него попросили разрешения, он позволил, хотя и без особой охоты; но понятно, что лучше не ссориться с жителями поселка и особенно с молодыми ребятами. Так и получилось, что время от времени кто-то приходит с лестницами и привязывает растяжку к перилам его балкона. И почему им приглянулся именно их балкон, а не вон тот или вон тот? А все из-за гребаного фонаря, который стоит как раз напротив.
В тот день, когда ему насовали в почтовый ящик всякой дряни, он поднялся к себе домой в страшном бешенстве. Биттори, услышав, как он ругается, и увидев его с ножом в руке, спросила, куда это он собрался.
– Пойду обрежу веревку от растяжки.
Она встала у него на пути:
– Ничего ты не обрежешь.
– Отойди, Биттори, я как в огне горю.
– Вот и поостынь. Хватит с нас и тех проблем, которые уже есть.
Биттори не двинулась с места, и Чато, хотя ругался последними словами и со злобой швырнул берет об стенку, вынужден был смириться с тем, что к его балкону иногда привязывают растяжку.
Теперь, совсем как когда-то в детстве, он пропел:
– Bat, bi, hiru[96].
И кинулся в сторону гаража. Побежал? Да, поначалу побежал, но потом снизил скорость. На самом деле он не шел и не бежал – ему, с одной стороны, не хотелось сильно промокнуть, с другой – он боялся поскользнуться на мокром асфальте. Чато двигался легкой рысцой, как и положено немолодому толстозадому мужчине. Через дюжину метров он уже и рысцу сменил на шаг. В конце концов, в конторе у него есть одежда на смену.
И откуда оно все льет и льет? Мать твою растак и разэдак. Как будто тучи только и ждали, чтобы всю свою воду сразу вылить непременно на него. По краю тротуара уже бежал ручей. Еще не пробило четырех, а казалось, будто на поселок опускается ночь. Но в такой час еще не включают уличное освещение – рано.
Между двумя машинами, припаркованными у противоположного тротуара, появилась фигура молодого человека. Из-за опущенного на лицо капюшона Чато не увидел его глаз. Парень направлялся в его сторону, но не прямо к нему. Кто это? Лет двадцать с небольшим, небось кто-то из местных. Стараясь защитить лицо от дождя, тот низко опустил голову. Одним прыжком заскочил на тротуар за спиной Чато, которому оставалось совсем немного, чтобы дойти до угла.
И тут у него за спиной раздался выстрел.
И потом второй.
И еще один.
И еще один.
87. Грибы и крапива
Уже давно ходили тревожные слухи о финансовых трудностях, которые переживала фабрика. Говорили про то, что… утверждали, будто… И Гильермо стал мало и плохо спать по ночам, начал тревожиться за свое рабочее место. Их сыну Эндике к тому времени исполнилось два с половиной года. А девочка еще не родилась, но дело двигалось к тому. Они с Аранчей вполне приспособились к своей нехитрой жизни, жизни нижнего слоя среднего класса, и надеялись в будущем достичь много большего. Они были счастливы, во всяком случае, верили/говорили, что счастливы, а это, по мнению обоих, было одно и то же, но такое счастье рухнет сразу, как только лишится материальной основы.
Ночью в постели:
– Скажи на милость, как мы будем жить без моего жалованья на бумажной фабрике?
– Ну, может, тебе повезет и уволят кого-нибудь другого.
– Кого?
– Говори потише, не дай бог, разбудишь ребенка.
– Так кого они уволят? Тех, кто сидит в конторе? Нет, я один из первых кандидатов.
– Могут уволить людей в возрасте, и тогда работать останутся молодые. Да ладно тебе, в любом случае что-нибудь найдешь для себя. А пока потянем на мою зарплату. Она, конечно, маловата, но лучше такая, чем ничего.
– Нам не хватит, Аранча. Я и так и сяк прикидываю – не хватит. Нас ведь скоро будет четверо.
Аранча скрыла от мужа, что произошло в обувном магазине. А что там произошло? Хозяйка магазина, черствая как корка хлеба, упрекнула Аранчу за то, что она так быстро снова забеременела. И потом Аранча узнала от одной из продавщиц, что хозяйка за глаза на чем свет стоит костерит ее. Аранча решила ничего не рассказывать Гильермо, чтобы не волновать еще больше.
А тот не находил себе места, думая о будущем:
– Забудь про отпуск, про новую машину – да и про все прочее тоже.
– Успокойся. Как-нибудь выплывем, если будем бороться вместе.
– Я так хотел, чтобы мы были счастливы, но, как видишь, не суждено. Неужели в этом мире невозможно стать счастливым? Не знаю, для чего мы тогда вообще рождаемся на свет.
– Гилье, ради бога. Безоблачное счастье бывает только в кино. Ты слишком многого хочешь.
– Я не хочу, я требую. Я человек надежный и умею хорошо работать. Делаю все, что мне велят. И делаю как следует. Но мне нужно получить свое, свою скромную часть.
Через несколько дней он вернулся домой раньше обычного. Положил на кухонный стол извещение об увольнении и долго прижимал к груди Эндику. Малышу всего два года – а отец без работы, без всяких перспектив, короче, никчемный человек.
– Не говори так.
– Да, никчемный. Таких, как я, выкидывают вон, а фабрика продолжает прекрасно работать. Типичный неудачник, которому жена должна дать несколько монет, чтобы он мог выпить стакан пива в баре.
Гильермо – человек, смирившийся со своей судьбой. По утрам он уходил в горы, оттуда приносил лесную землянику, грибы, крапиву. И, усаживаясь за кухонный стол, принимался вещать: мол, крапива – вполне съедобное растение, из нее еще и всякие настои можно готовить. Ему требовалось непременно убедить себя, что он добывает еду для своей семьи. Он выходил из дому очень рано, нарядившись, как и положено для похода в горы, взяв рюкзак для сбора фруктов. И приносил много всего, в том числе яблоки – интересно, из какого сада? – и ореховые прутики, из которых потом нарезал палочки, чтобы строить с сыном замок. В другой раз, если погода позволяла, брал удочку и шел ловить рыбу у входа в порт или у скал Хайскибеля. Возвращался мрачный, хмурый, смотрел зло, старался остаться один, и нельзя было сказать ему ни слова поперек – сразу мог вспылить. А когда родилась Айноа, стало еще хуже.
Взяв в первый раз девочку на руки, он произнес:
– Не повезло тебе, детка. Ты родилась в доме бедняков.
Гильермо часто прерывал свое тягучее молчание, чтобы выдать подобного рода сентенции – и голос его неизменно дрожал от обиды. Аранча безропотно страдала, боясь, что любое слово может ухудшить ситуацию. Иногда она не выдерживала. Черт побери, я тоже живой человек. И высказывала свой взгляд на вещи, стараясь держать себя при этом в руках:
– В тебе играет раненое самолюбие.
– Да что ты в таких вещах понимаешь, ты ведь дура набитая.
И все в таком же роде. Он стал обидчивым, агрессивным, желчным. Никаких тебе больше “ласточка”, “радость моя”, “сокровище мое”, как прежде. В постели она просто терпела его, оставаясь совершенно равнодушной. Потому что, понятное дело, если лишить его еще и этого, у него совсем мозги сдвинутся и он, чего доброго, даже руку на меня поднимет. В результате секс у них получался скучным, муж быстро насыщался, а она не получала никакого удовольствия. В нем не осталось ни капли нежности. Правда, и грубости тоже не было, нет, не было. Скорее это напоминало формальный акт, сводившийся к унылому звуку, с которым соприкасались их животы.
Уже через несколько дней после увольнения Гильермо совершенно пал духом и твердил всякие глупости вроде того, что теперь ему остается только одно – броситься под поезд. А некоторое время спустя не стыдился в присутствии детей, еще таких маленьких, рассуждать о мрачном будущем, причем в таких высокопарных выражениях, которых малыши не могли понять, да, собственно, не для них эти речи и предназначались. Он склонялся над колыбелью Айноа и начинал рисовать картину ужасных лишений, ожидавших семью. С Эндикой поступал точно так же. Внезапно хватал мальчика на руки и пророческим тоном возвещал грядущие беды.
Домашними делами он теперь интересовался меньше, чем в те времена, когда работал на фабрике. Почему? Потому что ему казалось унизительным мыть окна, заниматься грязной посудой или возиться с пылесосом.
– Я родился не для того, чтобы быть домашней хозяйкой.
– А я?
Именно в подобных ситуациях Гильермо вполне серьезно угрожал, что бросится под поезд или выпьет бутылку щелока. Аранча нервничала, едва сдерживала слезы, но видела рядом детей, таких ранимых, таких восприимчивых, и, стиснув зубы, молчала. Иногда позволяла себе поплакаться женщине, с которой они вместе работали в магазине. Рассказывала ей то одно, то другое, описывала какие-то отдельные случаи, но не всю ситуацию в целом и не самые интимные подробности, потому что дружба их не была такой уж близкой. Собственно, подруг, настоящих подруг, у Аранчи не было. Выйдя замуж, она отдалилась от своей поселковой компании. В Рентерии по воле случая общалась с соседками и чуть чаще – с родителями Гильермо. Но Аранча скорее дала бы вырвать себе глаз, чем рассказала бы хоть что-то собственной матери. Мирен знала, что зять сидит без работы. Но ей и в голову не пришло поинтересоваться, не нужна ли им помощь.
С кем Аранча действительно была откровенна, так это с Анхелитой и Рафаэлем. Им она рассказала даже то, что Гильермо грозился броситься под поезд или выпить кислоту. Рафаэль сказал ей: выкинь это из головы. Анхелита: успокойся, ради бога. И они поддерживали их с безграничной щедростью. Рафаэль в течение целого года делал за них ежемесячный взнос по ипотеке. Анхелита каждую неделю ходила с невесткой в супермаркет и оплачивала ее покупки (тележку с верхом) своей карточкой. А Гильермо? Он об этом и не догадывался. Ему было достаточно того, что он ходил по горам, собирая крапиву и разговаривая сам с собой.
И вот по прошествии десяти месяцев с того дня, как он потерял работу, случилось нечто совершенно неожиданное. Однажды Гильермо, прогуливая в коляске Айноа, оказался на площади Де-лос-Фуэрос и столкнулся со своим приятелем Маноло Самарреньо. Маноло увидел его первым, остановил знаком и с улыбкой подошел. Он сообщил Гильермо весьма обнадеживающую новость. Что? Вручил ему записанный на листке бумаги телефонный номер. Пусть обязательно позвонит, лучше прямо сегодня, потому что освободилось место в гипермаркете “Мамут” – они срочно ищут человека на замену.
– Позвони. Вдруг тебе повезет, только не тяни.
Так и получилось, что Гильермо променял грибы и крапиву на цифры и счета. Зарабатывал он меньше, чем на фабрике, но все-таки зарабатывал. В считанные дни к нему вернулись хорошее настроение и желание жить. Он снова стал добрым, разговорчивым, щедрым и попросил у Аранчи прощения за те злосчастные месяцы, когда так ее терзал, – она же должна понять, как он страдал все это время.
– Двое детей, их надо кормить, ну, сама понимаешь.
Получив первую же зарплату, Гильермо пригласил жену в ресторан. А на следующий день, вернувшись с работы, подарил ей розу. Аранча без лишних церемоний поставила розу в воду, потому что в детской, как всегда, плакала Айноа. А назавтра, едва муж вышел из дому, швырнула цветок в помойное ведро.
88. Окровавленный хлеб
Четверг 25 июня. Гильермо с Аранчей сумели одновременно взять по неделе отпуска. Так получалось далеко не всегда, а вот на этот раз им повезло. К тому времени оба они работали, так что могли позволить себе отдохнуть, пусть и весьма скромно. А поскольку дети уже подросли (Эндике было шесть лет, девочке без малого четыре), их можно было брать с собой в поездки и не возиться с ними как с младенцами, лишая себя многих удовольствий.
Вчера они вчетвером съездили на пляж в Биарриц, сегодня наступил черед обеда у бабушки Мирен, а завтра – ну, там будет видно. В семье уже появилась машина, хоть и подержанная. Не бог весть что, конечно, но для их потребностей вполне сгодится.
В тот четверг, еще утром, вдруг выяснилось, что у них нет хлеба на ужин. Но эту проблему решить было легко. Гильермо: пусть бы все наши беды были вроде этой. И он вызвался прямо сейчас отправиться в булочную и купить половину большого батона. Потом, уже стоя у распахнутой двери, весело спросил, кто хочет пойти вместе с ним. Специально спросил – чтобы разделить хотя бы на время детей, которые вечно ссорились. Аранча сказала:
– Возьми Эндику, он меня уже довел до белого каления.
И отец взял с собой Эндику (ну, давай руку, чемпион).
Этот четверг они никогда не забудут, ведь он мог стоить им обоим жизни. И они были бы не первыми и не последними. Потому что прошли совсем близко от черного мотороллера, начиненного взрывчаткой. Гильермо отлично это запомнил (чем хочешь могу поклясться!).
Аранча:
– Точно мимо проходили?
У Гильермо не было ни малейших сомнений, потому что он разозлился, увидев, что мотороллер оставили прямо на тротуаре, и даже что-то такое сказал по этому поводу сыну, что-то вроде того, что, мол, так делать нельзя, это очень плохо, – короче, проклятую машину они видели.
Потом, еще через сколько-то метров, уже у дверей булочной, встретили Маноло Самарреньо, который вышел оттуда с батоном в руках. Было чуть больше десяти, минут пять или десять одиннадцатого. И Маноло, пока они обменивались с Гильермо дежурными приветствиями, ласково потрепал Эндику по голове.
На улице, прямо у двери булочной, его ждал охранник. Охранник? Да, конечно. Дело в том, что в декабре в одном из баров Ируна убили его друга Хосе Луиса, и Маноло заменил его на посту члена муниципального совета от Народной партии[97] в аюнтамьенто Рентерии. Гильермо, узнав об этом, бросил:
– Дело опасное.
– Знаешь, Гилье, если бы я ходила в церковь, я бы стала за него молиться. Боюсь, помощь Господа Бога очень ему понадобится. Но если и с ним что случится, не вздумай занять его место, понял? – заметила Аранча.
– Чтобы я?.. Ты с ума сошла. Я еще жить хочу.
Не успел Маноло вступить в новую должность, как ему сожгли машину. Его по-всякому обзывали, развешивали плакаты с оскорбительными надписями под его фотографией, а имя писали в центре мишени. Но он не трусил. Сделал заявление для прессы: “Здесь я родился и здесь останусь”. И действительно остался – на неделю, еще на одну, но ненадолго, до своего последнего часа, до того июньского четверга, когда он вышел купить хлеба и остановился на несколько минут поболтать с Гильермо.
Один входил в булочную, другой оттуда вышел. После короткого разговора Маноло пошел по тротуару, охранник следовал за ним. Гильермо немного постоял в очереди перед прилавком. Вдруг раздался страшный взрыв. Эндика упал на пол. Со звоном посыпались стекла. Гильермо быстро поднял сына. И сказал ему скороговоркой, но с отеческой заботой, притворяясь спокойным:
– Не плачь и никуда отсюда не уходи, я сейчас вернусь. – И кинулся к дверям.
Около дома номер семь взорвался мотороллер. Маноло? Его Гильермо не видел. Зато видел охранника, тот с черным лицом сидел на тротуаре, прислонившись спиной к машине. Поврежденные автомобили. Мгновенно наступила плотная, коптящая тишина. А потом раздались первые голоса, закричала женщина, люди (жильцы ближайших домов) подбежали, чтобы посмотреть/оказать помощь.
А Маноло?
Он был там. Где? Между двумя машинами, лежал в луже крови, и крови было много. Весь почерневший, потому что взрыв, по всей видимости, пришелся в основном на него. Почти раздетый, в одном нижнем белье и ботинках. На запястье часы. И только что купленный хлеб – переломленный пополам.
Гильермо, взяв ребенка на руки – не смотри, только не смотри, – вынужден был пройти рядом с местом трагедии, рядом с погибшим и рядом с охранником, сидевшим на тротуаре, прежде чем приехала полиция и перегородила улицу.
– Ты смотрел? Скажи правду.
– Нет, aita.
– Честное слово?
– Я ничего не видел.
По дороге он столкнулся с Аранчей, которая неслась им навстречу с испуганными глазами:
– Ты цел? Что случилось?
– Маноло.
– Что?
– Маноло.
Он открывал рот, но мог произнести только одно слово: Маноло.
– Маноло Самарреньо?
Он кивнул, все еще держа мальчика на руках. Объяснять ничего не понадобилось. Аранча, словно онемев, только и смогла что хлопнуть себя ладонью по лбу. Больше они не проронили ни слова. Поспешно поднялись к себе домой, откуда она выбежала в панике, оставив без присмотра малышку, а еще – включенный утюг. Очень скоро завыла первая сирена – сначала где-то далеко, потом все ближе и ближе, уже в их районе.
И тут зазвонил телефон. Анхелита. Что там случилось? Значит, грохнуло так, что и они услышали. Аранча, прижимая к себе детей, взялась было объяснять, но ничего толком не объяснила, хотела что-то сказать, но ничего внятного сказать не сумела, правда, смогла выговорить, что дома она не одна, и свекровь, угадав ее состояние, ответила, что все поняла.
Гильермо сидел на кухне, схватившись руками за голову. Он выбрал кухню как самое подходящее место для своего горя/возмущения и вбил там эти горе/возмущение в пол, как вбивают столб в землю. Аранча с сыном и дочкой скрылись в детской комнате. Дети испуганно молчали. Потому что их отец очень громко стонал. Аранча взяла с собой транзисторный приемник. Прижав ухо к аппарату, включенному на самую малую громкость, она очень быстро услышала подтверждение: террористический акт, бомба, район Капучинос, один погибший.
Она заплела косичку Айноа. Расплела. Снова заплела. Через два часа они собирались поехать на обед к ее родителям, но ей надо было найти для себя какое угодно занятие, чтобы заполнить оставшееся время, успокоиться и осознать – с облегчением, с огромным облегчением, ох! – что дети с ней, что можно трогать их, слышать их голоса, а это значит, что они живы и здоровы.
Эндика, тихо сидевший рядом, ухватился за подол ее юбки – так держатся за поручень в городском автобусе. Мать отошла на несколько шагов, чтобы достать из ящика комода пакет с заколками для волос, и мальчик молча пошел следом. И так же, держась за материнскую юбку, вернулся на место.
Дверь в детскую осталась приоткрытой, и до них доносились через неравные промежутки времени едва различимые, уже угасающие всхлипывания Гильермо, теперь не такие пронзительные, скорее даже глухие. Поначалу Аранча, чтобы не волновать детей, хотела закрыть дверь. Но тотчас передумала. Пусть слышат, пусть знают, в какой стране им выпало жить.
А тем временем на кухне Гильермо произносил гневные политические речи. Проклинал национализм, который отравлял людям души и превращал многих и многих молодых басков в преступников. Гильермо перечислял виновных: лендакари со своим ядовитым языком, лицемер епископ, националисты, у которых руки по локоть в крови, а также соседи-доносчики, которые сообщают ЭТА, в котором часу будущая жертва проходит там-то и там-то. Потом Гильермо со злобой и отчаянием стал кого-то передразнивать:
– Вот здесь, кстати, живет один испанец, и вы можете прихлопнуть его без всякого труда, когда он пойдет за хлебом. У него семья? Значит, должен был сам подумать о своей семье, прежде чем лезть в члены муниципального совета. Что? Он хороший человек и в жизни мухи не обидел? Какая разница? Он ведь член происпанской партии, которая нас притесняет, и, кроме того, тут у нас идет серьезная борьба.
Иисус, Мария и Иосиф, и все это он говорит при открытом окне? Аранча решила проверить.
– Тебя услышат.
– Ну и пусть.
Окно на кухне она поскорее закрыла.
– Ты ведь не один живешь.
– Я вдруг почувствовал жгучую ненависть. Как будто крапива жалит нутро. Аранча, любовь моя, скажи мне что-нибудь, чтобы я избавился от этой ненависти, которая меня просто раздирает. Меньше всего я хотел бы кого-то ненавидеть.
– Выпусти пар, поругайся как следует, только не кричи. И за дверью нашей квартиры – тоже молчок! Договорились? Нам не нужны лишние проблемы. Мы пойдем на похороны, принесем свои соболезнования. Не позволим себе терять лицо и будем держаться достойно.
– В таком состоянии я не могу ехать к твоим родителям. Надеюсь, ты понимаешь. Поезжай одна с детьми.
– Конечно, тебе туда ехать незачем. Не хватает только, чтобы ты упомянул моего брата и ввязался в спор с матушкой – она ведь стала настоящей фанатичкой.
– Еще бы, ее бедный сынок угодил в тюрьму, а ведь он убийца, да еще из самых страшных.
– Ладно, довольно. Ты ведь обещал, что мы никогда не будем касаться этой темы в присутствии моих родителей. Наши дети имеют право навещать деда с бабкой.
Где-то в половине второго Аранча вышла из дому с принаряженными, умытыми и надушенными детьми. Айноа подошла к отцу, чтобы поцеловать его. Эндика, стоя сзади, вежливым голосом спросил:
– Ты грустишь, aita?
– Да, сильно грущу.
– Из-за того, что случилось с Маноло?
– А ты, значит, все-таки посмотрел.
– Только одним глазком.
Гильермо обнял мальчика, обнял Аранчу и дочку, проводил всех троих до двери и посмотрел, как они спускаются по первому лестничному пролету. А когда они обернулись, послал им воздушный поцелуй.
89. Настроение в столовой
Если бы Мирен только знала. Что знала? А то, что внуки за глаза иногда называли ее “злая бабушка”. И как ни старалась Аранча, изменить их отношение не удавалось. Она понимала: в лучшем случае они, чтобы не огорчать меня, промолчат, но все равно чувства их останутся прежними.
Даже у маленькой Айноа, которой еще не исполнилось и четырех, заметна была настороженность в присутствии amona Мирен, а что касается Эндики, то у него в некоторых случаях прорывалась неприкрытая враждебность.
С Анхелитой и Рафаэлем они вели себя совсем иначе. Отчасти потому, что те отдавали им больше времени, видели почти каждый день и имели больше возможностей развлекать внуков и показывать им свою любовь. Но еще и потому, что они по характеру были добродушные, щедрые, веселые, а Мирен обычно казалась сердитой и строгой, хотя и не со зла, а только потому, что была такой по натуре, всегда была такой – нетерпимой и резкой, не только со своими детьми и мужем, а вообще со всеми.
Что касается aitona Хошиана, так он, откровенно говоря, играл роль малозаметную. Точнее, не играл никакой роли. Как правило, Айноа и Эндика видели его один или два раза в месяц, но и когда видели, он просто молчком сидел на своем стуле, казался ко всему безразличным и даже не пытался чем-то с внуками заняться. Впечатление часто было такое, будто его и нет вовсе в комнате.
Как-то Эндика спросил мать, почему дедушка Хошиан так мало разговаривает.
– Наверное, потому что ему нечего сказать.
– Aita говорит, что это потому, что osaba Хосе Мари сидит в тюрьме.
– Может, оно и так.
В тот четверг после теракта в Рентерии, когда Аранча приехала с детьми к своим родителям, Хошиан еще не вернулся из “Пагоэты”, и уже одного этого было достаточно, чтобы Мирен ходила злая как черт.
Она открыла им дверь. Радость? Ничего подобного. Скорее наоборот – нахмуренные брови, сердитый блеск в глазах.
– А я понадеялась, что это твой отец. Он ведь все еще не вернулся из бара. Ну, я ему покажу.
Потом она как-то слишком резко приласкала детей. Стоптанные тапки, забрызганный чем-то мокрым фартук. Неужели ей не пришло в голову приодеться к их приезду, вести себя помягче, сказать внукам что-нибудь, что рассмешит их и расположит к ней, подарить что-то заранее приготовленное, чем-то неожиданно порадовать?
Она не сочла нужным даже наклониться пониже, чтобы они могли без труда ее поцеловать. Внуку Мирен сразу выговорила за то, что он вошел в квартиру, не поздоровавшись.
– Ты что, язык проглотил?
Внучку спросила, кто ей заплел такую кривую косичку. Потом повернулась к Аранче:
– А твой муж что, не явился?
– Он себя неважно чувствует.
И мать даже не поинтересовалась, не заболел ли тот, не поранился ли – ничего не спросила. Почему? Потому что она просто не может выдавить из себя подобных вопросов. Если вызвать ее на откровенность, она скажет в свою защиту, что всю свою жизнь только работала. А вот и доказательство: накрытый стол, квартира, пропитанная дивными запахами с кухни, тепло от плиты. Она опять трудилась не покладая рук. Все утро. Вернее, еще со вчерашнего вечера, когда приготовила соус бешамель для крокетов. Разумеется, она устала, а кроме того, уверена, что никто не скажет ей спасибо, как бы она ни старалась.
А еще эта ее одержимость баскским языком. Эта ее суровая требовательность, придирчивость, с какой она устраивала детям проверки всякий раз, когда они сюда приезжали. Мирен задавала хитрые вопросы, чтобы вынудить их отвечать по-баскски. Они бегло и без малейших затруднений на нем разговаривали, хотя и в естественных для их возраста рамках. Но нередко случалось, что в присутствии Гильермо дети ненароком переходили на испанский.
Мирен тут же сурово их перебивала:
– Здесь говорят только на эускера.
И Гильермо начинал чувствовать себя чужим. Нередко он участвовал в общем разговоре через Аранчу.
– Спроси своего мужа, не хочет ли он еще гороха.
Тогда Аранча – а что ей еще оставалось делать? – поворачивалась к нему и переводила вопрос. Гильмермо не терял при этом чувства юмора:
– Скажи ей, чтобы добавила мне восемнадцать штук.
Хошиан заявился домой, почесывая бок, – верный признак того, что он позволил себе лишнего. Для Мирен не имело значения, много он выпил или мало. Ей достаточно было хотя бы краем глаза заметить это его почти механическое движение, чтобы взбелениться. Но при дочери и внуках она все-таки сдерживалась. Правда, Аранча успела услышать из столовой, как, пока отец разувался в прихожей, Мирен тихим голосом его отчитывала. Почему пришел так поздно? Уже два часа двадцать пять минут, а ведь договаривались сесть за стол в половине третьего. А если она ждала, чтобы он пришел пораньше и хоть чем-то ей помог? Хотя разве этот тип хоть раз помог ей в домашних делах?
В столовой над столом, уставленным закусками – боже, сколько труда на это положено! – сгустилось напряжение. Будто в воздухе сильно натянули кусок полотна и он мог в любой миг с треском лопнуть. Даже дети не могли не почувствовать что-то необычное вокруг и реагировали по-своему: вежливо молчали, выжидая, когда же мать позволит им наконец взять такие аппетитные крокеты, в идеальном порядке разложенные на керамическом блюде.
В домашних тапках в столовую вошел дед, не очень ловко делая вид, будто никакого нагоняя не получил. Еще раньше, едва переступив порог, он коротко с ними поздоровался и каждого вяло поцеловал. Но только он собрался сесть на свое привычное место, спиной к балконной двери, как Мирен спросила, вымыл ли он руки. При дочери и внуках спорить с женой Хошиан не стал и покорно поспешил в ванную, чтобы не дать разгореться скандалу.
Наконец все пятеро сидели за столом и жевали. Хошиан, как и все остальные, пил воду: вина с тебя на сегодня хватит. А в комнате над склоненными над тарелками головами по-прежнему висело все то же напряжение – его породили как поведение людей, так и какие-то непонятные воздушные потоки. Напряжение чувствовали даже дети, которые обычно вели себя непоседливо, а сегодня были до странности тихими. Взрослые, чтобы скрыть свое настроение, говорили о всякой ерунде. Но главная сегодняшняя тема висела в воздухе, и все это знали, хотя никто ни о чем таком не упоминал. Чтобы не портить семейный обед? К тому же они видятся не так уж и часто. А через час-полтора мы сможем отсюда уехать.
Понятно, что у Хошиана на душе было неспокойно из-за новости, услышанной в “Пагоэте”. Он улучил момент, когда Мирен понесла грязные тарелки на кухню и собиралась достать из шкафа чистые, для десерта, чтобы шепотом спросить Аранчу, кого именно там у них убили. Она ответила так же шепотом:
– Друга Гилье.
– Мать честная!
– Того, который помог ему найти работу.
– Мать честная!
Мирен вернулась в столовую с тарелками:
– Вы тут о чем?
– Ни о чем.
Ни о чем? Напряжение сгустилось. Еще немного, и воздух треснет. Но тут на столе появился заварной крем, чему шумно обрадовались дети, и Хошиан очень кстати дал каждому из внуков по двадцать дуро. Мир, спокойствие и десерт. Потом дед едва не совершил страшную оплошность. Какую? Машинально схватил дистанционное управление. И уже направил его в сторону телевизора, так что на экране немедленно появились бы и Рентерия, и бомба, и погибший в районе Капучинос мужчина. Аранча вовремя успела толкнуть отца под столом ногой. Но кажется, Мирен это заметила. Или еще раньше заподозрила тайный сговор между Хошианом и дочерью?
Короче, изведя себя подозрениями, она отправилась на кухню мыть посуду и, пока была там одна, вдруг под каким-то надуманным предлогом позвала Эндику, шестилетнего малыша. Тут-то воздух и взорвался. Мирен вознамерилась выпытать у ребенка, почему отец не явился вместе с ними на обед. И мальчик, не получивший нужных наставлений, которые помогли бы ему перехитрить бабку, рассказал ей правду. Со своей детской точки зрения, но правду. И кроме всего прочего, он еще сказал:
– Злые люди убили друга моего папы.
– И поэтому он с вами не приехал?
– Он все утро сидел и плакал.
– Да разве мужчине положено так сильно плакать?
Эта реплика не понравилась Эндике, и он, вернувшись в столовую, передал весь разговор Аранче. Хошиана словно что-то кольнуло. Он попытался удержать дочку, схватив ее за руку, но старческой, артрозной руке не хватило ловкости. Аранча резко/гневно вскочила из-за стола, решительно прошествовала на кухню, и там произошло то, что в общем-то не могло не произойти.
– Послушай, что ты сказала ребенку?
– А вы сами, что вы ему сказали про злых людей?
У обеих были искаженные бешенством лица, злые глаза, а с губ срывались слова, больше похожие на выстрелы…
Аранча, уже не сдерживаясь, с вызовом заговорила на испанском:
– Я только чудом не потеряла сегодня ребенка и не осталась вдовой. Мои муж и сын прошли рядом с бомбой за полминуты до взрыва.
– Мы не сражаемся с невинными.
– Ах, значит, и ты тоже сражаешься? Может, я должна поздравить тебя от всей души с тем, что случилось утром?
– Этот член муниципального совета, друг твоего мужа, был из Народной партии.
– Ты что, совсем спятила? Прежде всего он был хорошим человеком, отцом семейства, а еще он имел право защищать собственные принципы.
– Угнетателем он был, вот кем. И хочу тебе напомнить, что у тебя брат заживо гниет в испанской тюрьме по вине таких вот хороших людей, каким был тот.
– А твой сынок, которым ты сильно гордишься, совершил, как было доказано, много кровавых преступлений. Потому и сидит в тюрьме, потому что он террорист. Могу повторить еще и еще: он террорист и сидит за это, а не за то, что предпочитает говорить на баскском языке, как ты однажды сообщила Эндике. Лгунья, настоящая лгунья, вот ты кто.
– Какое право ты имеешь судить о моем сыне, настоящем борце, который жизнью рисковал ради свободы басков?
– А ты сходи в дома к родственникам жертв твоего сына – и поговори с ними, объясни им все это. Вряд ли ты посмеешь посмотреть им в глаза.
– Все они друзья твоего мужа. Вот пусть он к ним и идет.
– У моего мужа есть имя, почему ты никогда не называешь его по имени? Губы жжет? Наверное, для тебя и он тоже угнетатель.
– Во всяком случае, он не баск.
– Он здесь родился раньше, чем я.
– Он Эрнандес Каррисо и не говорит на эускера. Тоже мне баск…
На этом Аранча сочла разговор законченным. Она натолкнулась на Хошиана, который слушал их перебранку, стоя в дверном проеме, грустно сдвинув брови и не рискуя вмешаться.
– Пусти меня, aita. Уж не знаю, как ты выдержал столько лет рядом с этой.
– Дочка, не уходи.
Аранча позвала детей, схватила свои туфли, чтобы обуть их на лестничной площадке или даже на улице (а мне уже все равно), и, не сказав больше ни слова, не простившись, вывела/вытолкнула сына и дочь из квартиры. Мирен осталась на кухне. Она хранила злобное, непрошибаемое молчание, а Хошиан, спотыкаясь от горя, попытался удержать дочь и внуков:
– Не уходите, ну пожалуйста, не уходите.
Ничего не помогло. Пять лет Аранча не разговаривала с матерью.
90. Страх
В те времена велосипедные шлемы мало кто носил. Какие там шлемы! Ну, может, какой-нибудь придурок, изображающий из себя профи, мог нацепить мотоциклетный шлем – вот и все. Поэтому Хосе Мари с приятелями надевали шапки, темные очки и велосипедные костюмы – и были уверены, что никто их не узнает. Хосе Мари как-то раз рискнул проехать в таком виде через весь поселок, с опаской посматривая по сторонам. Накануне Пачо подзуживал его:
– Что, кишка-то небось тонка, а?
– Тоже мне подвиг. В моем поселке полно народу ездит на велосипедах. Никто не станет приглядываться.
Так оно и случилось. Ни одному пешеходу, судя по всему, и в голову не пришло, что этот верзила на велосипеде в шапке и темных очках – Хосе Мари. Тот прокатил по улице, которая пролегала вдоль площади, потом мимо “Пагоэты” и спустился к реке. На противоположном берегу разглядел своего отца (берет, клетчатая рубашка, согнутая спина – каким же он стал старым), который возился у себя в огороде. Пачо спросил, куда он смотрит.
– Никуда. Хотелось проститься с моим поселком.
Если не было дождя, оба они отдавали предпочтение велосипеду перед машиной или автобусом, когда объезжали провинцию в поисках подходящего объекта, что было их главным, если не сказать единственным, занятием в те дни. Велосипеды позволяли добираться в одно и то же место по отдельности, но не теряя друг друга из виду. А еще они условились об особом сигнале, которым тот, кто ехал впереди, мог известить заднего о любой опасности. Дистанция – не меньше пятидесяти и не больше ста метров. И никогда, оказавшись в том или ином населенном пункте, они не заходили вместе в один и тот же бар. Вернувшись обратно – сначала первый, потом второй, – на лифте поднимали велосипеды в квартиру. Если поставить велосипед стоймя, он в лифте помещался. В квартире встречались с Чопо, который вел – или изображал, что ведет, – жизнь обычного студента.
Во время военной подготовки их обучили мерам предосторожности. Свет, горящий в одной комнате в любое время суток, означал, что кто-то из них находится дома и все в порядке. Погашенный везде свет и монетка в почтовом ящике, которую положил туда последний из уходящих, означали, что в квартире никого нет. Если монетка отсутствует – осторожно, в квартиру не подниматься. То же самое – если за окно вывешено сложенное пополам полотенце, или свет горит во всех комнатах, или коврик перед дверью лежит не так, как было условлено. Пачо как-то раз забыл выполнить одно из правил. И если бы Чопо не вмешался, Хосе Мари разбил бы ему за это рожу.
Тот день был рабочим, холодным, серым, но без ветра и дождя, и после обеда они решили объехать Андоайн, Вильябону и Астеасу. Главным образом чтобы не сидеть без дела, а еще потому, что после целой недели зимнего ненастья наконец-то погода располагала к велосипедной прогулке. Ничем другим, кроме как крутить педали, они заняться и не могли, поскольку связной передал им приказ до нового сигнала никаких действий не предпринимать. Из чего они вывели, что в Доностии готовится серьезный теракт и поэтому им надо на время затаиться. А может, организация тайком заключила какое-то соглашение с правительством.
Хосе Мари все это приводило в отчаяние:
– Мы для них группа второго сорта.
Пачо старался подбодрить его:
– Не беспокойся. Как только подвернется подходящий случай, мы такой удар нанесем, что нас сразу все зауважают.
– Это в том случае, если государство не прогнется. Вот скажи мне, если вдруг прекратится вооруженная борьба, то как можно будет оценить наш вклад в нее?
– Да ладно тебе, не плачь раньше времени. По мне, так это продлится еще несколько лет.
В Рекальде, недалеко от похоронного бюро, уже почти в самом конце поездки Хосе Мари, как и обычно, остановился, чтобы дать товарищу возможность доехать на несколько минут раньше его самого, потом опять нажал на педали, а когда оказался уже совсем недалеко от их подъезда, очень удивился, увидав Пачо на тротуаре. Какого черта он тут торчит? Наверху, в квартире, не горел свет.
Они сошлись на углу их дома.
– Монетки в ящике нет.
– Надо валить отсюда.
Не теряя времени, они направились в сторону района Эль-Антигуо. В хорошем темпе доехали до площади Бента-Берри. Там – ну а теперь что будем делать? – решили сперва немного успокоиться, потом обсудить план действий. Вокруг окончательно стемнело. Пробило девять. Машин становилось все меньше и меньше. Холод, которого они почти не замечали, пока крутили педали, теперь пронимал до костей. И Хосе Мари, чье мощное тело начинало требовать ужина, уплел последнюю шоколадную конфету, которые обычно брал с собой в поездки заодно с бананами и яблоками.
Одно было очевидно: ночью в велосипедном облачении они сразу привлекут к себе внимание, если останутся на улице.
– И куда нам в таком виде деваться?
– Холод-то собачий, а мы считай что раздеты – как пить дать замерзнем.
– Мать твою…
– Я предлагаю вернуться и поглядеть, что там и как. А вдруг Чопо просто забыл положить в почтовый ящик монету. Помнишь, со мной раз такое случилось.
– Если это он зевуна дал, я ему голову оторву.
– Поехали.
Окна в квартире по-прежнему были темными. На пустынной улице они не заметили ничего подозрительного, хотя попробуй узнай, не прячутся ли полицейские в одной из стоящих поблизости машин или за шторами в какой-нибудь квартире. Они прислонили велосипеды к столбу с дорожным указателем. Изо рта у них уже валил густой пар. Пачо дрожал от холода и несколько раз повторил, что боится заболеть. Хосе Мари, чтобы согреться, подпрыгивал и делал разные упражнения. Он не переставал ворчать. И не только ворчать, но и ругаться последними словами, но при этом никакого решения принять не мог.
Пачо, окоченевший, с красным носом, вдруг предложил:
– Пусть поднимется кто-то один. Если они нас поджидают, его схватят, а второй успеет смыться.
– Сволочь ты. Если они возьмут тебя, это все равно что возьмут и меня тоже. И наоборот. Они любого у себя в казарме так отутюжат, что ты запоешь отче наш и на латыни, и на русском, и на всех языках, которых знать не знаешь.
Ночной холод усиливался, их одежда не подходила ни для этого места, ни для этого часа, голод/холод/усталость – все заставляло принять хоть какое-нибудь решение, и они его наконец приняли. Поднялись на свой этаж по отдельности, один на лифте, другой пешком. Коврик у двери? На положенном месте. Хороший знак. Только вот дверь не была заперта на ключ. Осторожно! Да ладно, какая разница, раз уж все равно вставили ключ в замочную скважину, будь что будет. Пачо, вошедший первым, зажег свет в прихожей. Каждый снял с предохранителя свой браунинг, потому что без оружия они из дому не выходили. Всякий раз, покидая квартиру, непременно надевали поясную сумку.
Чопо скорчившись лежал на полу в своей комнате щекой в луже блевотины. Что они с тобой сделали?
Он был в сознании.
– Не могу даже пошевелиться – начинает болеть еще сильнее.
При всей их подозрительности, при всей их неискушенности они уже через несколько секунд поняли, что ничего сверхъестественного не происходит. Но пока он не спросил: “Где вас так долго черт носил, ублюдки?” – не переставали целиться в стены, в потолок, в шкаф, в самого Чопо. А почему он не зажег свет? Идиоты, потому что я не могу пошевелиться. Сами, что ли, не видите? Не успел он вернуться домой, как у него начались ужасные боли. Внезапно, еще в лифте. Он из последних сил доволокся до квартиры. Где у него болит? Вот здесь. Здесь – это бедро, но еще и поясница, и часть живота. Ну и что мы будем делать? Он пригрозил, что станет кричать во всю глотку, если ему не окажут помощь. Они попытались его поднять. Невозможно: боль становилась просто невыносимой. И опять рвота, зловоние.
– Надо вымыть все это.
– Вот и вымой.
Хосе Мари сделал знак Пачо, чтобы тот вышел с ним на кухню. Они закрыли за собой дверь и начали шепотом совещаться:
– Мы не можем впустить в квартиру врачей. Слишком рискованно.
– Но что-то ведь делать надо, и поскорее, если этот откинет копыта, проблем не оберешься.
Самого Хосе Мари стоны лежавшего на полу Чопо доводили до белого каления. И он властным, непререкаемым тоном командира поставил точку в споре:
– Переоденься или накинь сверху куртку, подгони к подъезду машину и жди там, внизу.
– Ты что, спятил? В багажнике коробки с оружием.
Такой взгляд, какой бросил на него Хосе Мари, не допускал возражений, такой взгляд прожигал насквозь. Пачо: ладно, если что, я не виноват. Он быстро оделся, продолжая бурчать себе под нос. И, выходя из квартиры, сквозь зубы процедил что-то про ответственность. А Хосе Мари заглянул в комнату Чопо, чтобы сказать ему: будь спок, не волнуйся, потерпи немного… и так далее. Потом, не тратя времени даром, переоделся.
Из кухонного окна он увидел, что к дому подъезжает “Сеат-127”, который в их распоряжение предоставила группа, занимавшаяся угоном автомобилей. В багажнике полно коробок и ящиков. Вот и понимай как хочешь: с одной стороны, они пересылают тебе кучу оружия и всего, что нужно для изготовления взрывчатых веществ, с другой – велят пока затаиться и носа не высовывать. Между тем они планировали с наступлением темноты загрузить все это в спортивные сумки, потихоньку поднять в квартиру, как следует рассортировать и прикинуть, что надо отправить в тайник, а что – нет.
Ладно, сейчас нельзя терять ни минуты. Хосе Мари схватил Чопо за ноги, чтобы оттащить от лужи блевотины. Во черт, мерзость какая. Тут бы моя матушка пригодилась. Взял полотенце и слегка обтер товарища. Вышел на лестницу и нажал на кнопку лифта. Соседи? Сидят по своим углам. Он и вообще редко их видел. Где-то работал телевизор. Без всяких церемоний Хосе Мари взвалил Чопо на спину как мешок. Посмотрел в глазок и убедился, что в лифт никто не сел. И только после этого вышел со своей ношей, спустился вниз и, как только Пачо знаком дал ему понять, что на улице никого нет, быстро сунул больного на заднее сиденье машины. Сам сел вперед и велел трогать.
– И куда мы теперь?
– Пока вон в ту сторону. Потом я тебе скажу.
Они оставили Чопо в непонятной позе – то ли сидит, то ли скрючился? – на скамейке в парке Ондаретты, рядом с дорогой, ведущей к горе Игуэльдо. Пачо забеспокоился:
– Он здесь как пить дать замерзнет.
Однако Хосе Мари по-прежнему молчал, пока не заметил телефонную будку, когда они уже пересекли улицу Мариа:
– Останови. Я выйду здесь. А ты езжай домой.
Сначала он завернул в расположенный совсем рядом бар. И, пока пил сурито, полистал телефонную книгу. Затем, уже из будки, позвонил в больницу Красного Креста, главный фасад которой был виден на другой стороне улицы. Не вдаваясь в подробности, сообщил:
– Послушайте, тут один парень, ему очень плохо.
Объяснил, где именно находится больной, и, когда удостоверился, что его поняли, повесил трубку. Примерно минуту спустя мимо промчалась машина “скорой помощи” – надо полагать, в указанное им место.
Прошло два дня, два долгих дня, прежде чем они получили известия от Чопо. Раздался звонок. Они всполошились. Неужели он? Услышали голос в домофоне: открывайте. Как он рассказал, в ту же ночь, когда его поместили в больницу, вместе с мочой у него вышел камень из почек, из-за которого он так страшно мучился. На всякий случай еще сутки его продержали под наблюдением. Он стал извиняться перед товарищами за причиненные им неприятности и поблагодарил за помощь. А не отметить ли нам такое дело? Как? Чопо взялся приготовить роскошный ужин. Кальмары в собственном соку, мерлан под соусом – все, что им захочется.
Хосе Мари:
– Ты напоминаешь мне мою матушку, которая вечно готовит на ужин рыбу.
Чопо сказал, что сам купит продукты и вообще всем займется. От них он ждет только хорошего аппетита. Отлично, парень. Он тут же исчез в своей комнате. На полу все еще валялось грязное полотенце рядом с высохшей лужей блевотины.
91. Список
Список имен с адресами они получили по обычному каналу. Местные предприниматели, хозяева ресторанов и магазинов – иными словами, люди с хорошими деньгами, которые не заплатили организации то, что положено. Всего девять человек. Никаких инструкций к списку не прилагалось, да в них и не было нужды. Пачо сразу обратил внимание на одно имя:
– Тут есть один из твоего поселка.
– Да, мы зовем его Чато. Хозяин фирмы, которая занимается грузовыми перевозками, она расположена рядом с рекой, чуть повыше огорода моего отца. Вот уж не думал, что и он тоже из тех, кто не платит. Гад ползучий!
Предложение Чопо: раз объект известен и его легко найти, может, с него и начнем? Надо только выяснить маршруты этого типа, когда и куда он ездит, один или с кем-то еще – и так далее.
Пачо не упустил случая подколоть товарища:
– Кажется, Хосе Мари не в восторге от твоего плана. Мужик-то из его поселка, а это, видать, кое-что меняет.
– Что это меняет? Ты совсем дебил, что ли? Какая мне разница, откуда родом наш враг? Даже если бы он приходился мне родичем… Раз надо кого-то проучить, мы проучим. Здесь приказы не обсуждаются и с приказами не спорят.
Решили, что Хосе Мари не будет участвовать в слежке, чтобы не рисковать ни собой, ни всей группой. Правда, он все-таки поехал в ту же ночь со своими товарищами в поселок на “Сеате-127”.
Не выходя из машины, дал нужные пояснения. Вот фирма по перевозкам. Живет он вот здесь, на втором этаже. А вот здесь, под вывеской таверны “Аррано”, надо спросить Пачи. В дальнейшем Хосе Мари только выслушивал их отчеты, сидя в квартире в Сан-Себастьяне.
И чтобы ни у кого не осталось ни малейших сомнений, заявил:
– Так вот, если мы решим нанести удар, я готов.
С присущей ему осторожностью Пачи, хозяин “Аррано”, который никогда не высовывался, никогда не попадал в полицию, притом что был хозяином местного гнезда террористов, нашел через своих людей для троицы пристанище. Потом поставил их в известность, что сам он к этому делу никакого отношения иметь не будет, и попросил не приходить в “Аррано”. Хосе Мари сразу понял:
– Ты прав. Здесь мы все друг друга знаем. Два чужака обязательно привлекут к себе внимание. Достаточно будет, если останется один.
Пачо на неделю поселился в поселке. На Чопо была возложена задача каждый день ездить с одной квартиры на другую, передавая информацию, поручения, записки, но ночевал он всегда в Сан-Себастьяне, где еще и составлял отчеты, за что Хосе Мари был ему от всей души благодарен, поскольку сам с любой писаниной справлялся плохо.
Семи дней вполне хватило Пачо, чтобы собрать достаточно сведений. Даже больше, чем надо, по его словам.
Он ввел товарищей в курс дела:
– Тот, кто выделил для меня комнату, как оказалось, работает на фирме нашего объекта.
– Как его зовут?
– Андони.
– Знаю такого. Бешеный активист из профсоюза LAB.
– С его помощью я узнал уйму подробностей о жизни этого капиталиста, которого он терпеть не может.
Хосе Мари возразил:
– А вот мне кажется, что вооруженная борьба не должна исходить из того, что кто-то кого-то ненавидит. Мы это вовсе не для того затеяли, чтобы получить возможность мстить тем, кто нам не по душе. А уж если бы дело сводилось к этому, я бы сейчас же выпустил несколько пуль в самого Андони. Почему? Потому что говно человек. У них вся семья такая. Его дядюшка Сотеро был из тех, кто во времена Франко вывешивал на балконе испанский флаг, а теперь вдруг стал выступать за свободу басков. Я таким типам не верю, вот не верю, и все. Скажем, Чато как человек мне куда больше нравится, но я, само собой, должен поступить с ним так, как того требуют интересы Эускаль Эрриа.
– Ладно тебе, не кипятись, пусть Пачо договорит.
– Значит, на чем я остановился? Этот предприниматель часто меняет свой маршрут, хотя выбора большого у него нет. Передвигается на машине. Андони, который много всего про него порассказал, подтвердил, что определенного рабочего расписания у Чато тоже нет. Сразу видно, что начальник – и начинает, и заканчивает, когда ему вздумается. А теперь внимание! Как только он выходит из подъезда, пешочком топает к гаражу, который находится не на той же самой улице, а на другой, за углом.
– Можно подумать, ты нарыл что-то новенькое. Мальчишкой я сто раз бывал там, внутри.
– На этих сорока или пятидесяти метрах – от подъезда до гаража – его легко подловить, хоть туда пойдет, хоть обратно. Отрезок от гаража до угла кажется мне чертовски подходящим для нашего плана. Улица узкая, довольно темная, там почти не бывает ни прохожих, ни машин. Похитить его будет проще простого.
– Да, но у нас нет инфраструктуры. Где мы будем его держать? Кроме того, мы не можем этого сделать, не получив отмашки от руководства. Так что о похищении не может быть и речи. Чато узнает меня не глядя, по одному только голосу. Так что о похищении забудем.
– А я и не сказал, что мы станем его похищать, я только отметил, что сделать это было бы легко.
– Тогда говори прямо.
– Он никогда не ходит в бары. Об этом мне тоже сообщил Андони. Раньше, правда, ходил. А теперь нет, потому что группа abertzale из поселка нагнала на него страху. Кстати сказать, он ранняя птичка. И где-то в час – в половине второго обычно возвращается домой обедать. За то время, что я там пробыл, он нарушил это расписание только раз. По словам Андони, иногда хозяин остается обедать в конторе. Из дома снова едет на работу около половины четвертого, плюс-минус несколько минут. В понедельник, например, вышел без четверти четыре. Всегда пешком идет до гаража и там садится в машину – красный “рено-21”. Мне кажется, после окончания рабочего дня разобраться с ним будет сложнее. Позавчера уже пробило одиннадцать, а он так и не появился. С тем я и ушел.
– Охрана?
– Нет у него никакой охраны. И еще раз повторяю: с этим объектом будет одно удовольствие работать.
Хосе Мари так не думал – он тряс головой, сомневался: сначала хорошо бы… нет, лучше бы…Товарищи легко разбивали каждый его новый аргумент. Все проще простого, изобретать тут ничего особенного не требуется, жертве бежать некуда, к тому же в этом поселке даже фонари и те abertzale, да и с места покушения нетрудно скрыться. Что еще надо? Но Хосе Мари их словно не слышал. Он придумывал все новые и новые возражения, новые и новые отговорки. Они: да ведь Пачи уже давно готовит почву, вон сколько надписей на стенах появилось, его там совсем затравили.
– Сейчас ради него ни один черт даже пальцем не шевельнет.
– Да пошел этот Пачи к растакой-то матери, чего я уж никак не хочу, так это чтобы Пачи, Андони и прочие воображали себя крестными отцами нашего движения. Будто мы их цепные псы. Кто даст нам гарантию, что потом они не станут ходить по поселку, распуская язык, не станут болтать и про то, и про это, или, например, кто даст нам гарантию, что среди них нет доносчика? Они нам помогают? Отлично. Но когда, где и как – это мы будем решать сами, только между собой.
– Правильно, и поэтому надо потянуть время, прежде чем нанести удар.
– О чем я и толкую, а у вас получается какая-то дикая спешка. И чем меньше людей будет в это замешано, тем лучше.
Так они и поступили, занимаясь – весь конец весны, все лето и часть осени – другими людьми из списка. Одним из них был хозяин металлургического цеха в Ласарте. Как только выяснилось, что объект – толстый шестидесятилетний мужчина – имеет привычку оставлять машину на пустыре неподалеку от цеха, сразу стали прикидывать: а почему бы не установить бомбу туда? Главным образом потому, что им очень хотелось попробовать, ведь после подготовительных курсов они еще не изготовили ни одной бомбы, и надо было потренироваться. Так вот, на следующий день Хосе Мари явился на нужное место и, стараясь остаться незамеченным, заложил бомбу под машину. Оттуда вместе с Пачо отправился в сидрерию и там спокойно ждал, пока прогремит взрыв. Они даже заключили пари:
– Если грохнет до восьми часов, за сидр платишь ты.
Никакого взрыва не прогремело, бомба не сработала, и никто пари не выиграл. Из бара они ушли уже ночью. Странное дело. Может, хозяин цеха пошел домой пешком, или поехал на велосипеде, или кто-то его подвез, или… черт их знает, что там было в действительности. Вернувшись к себе на квартиру, стали советоваться с Чопо. Он тоже ничего не понимал. Включили сначала телевизор, потом радио, наконец сканер для перехвата полицейских переговоров. Пусто. Весь следующий день они ждали, что вот-вот появятся какие-то сообщения. Но ничего не дождались. И только еще через сутки отправились туда, где стояла машина. На сей раз они ехали на велосипедах. Машины толстяка на пустыре не было. Может, поставил где-нибудь рядом или за цехом? Но и там они ее не нашли. Вывод: бомба не сработала.
Хосе Мари страшно злился, вспоминая то, что так часто повторял инструктор: “Это не бомба подвела, это мы сами совершили ошибку”.
Все вместе они проверили каждый свой шаг в изготовлении взрывного устройства. На курсах им твердили, что надо непременно проводить предварительные испытания. Они их провели. Так что же, черт возьми, приключилось?
Пачо:
– Знаешь, что я думаю? Толстяк что-то учуял и вызвал полицейских.
– Вряд ли. Если бы в дело вмешался TEDAX[98], что-то обязательно просочилось бы в газеты. По мне, так устройство просто открепилось и сейчас валяется в канаве.
Желая взять реванш, они решили взорвать толстяку весь его цех. Чтобы и фундамента не осталось, мать вашу туда-растуда. Поэтому утром Хосе Мари и Пачо пошли к цеху – изучить место и посмотреть, где лучше подложить бомбу, чтобы разрушения были посильнее. Но обнаружили пустое помещение. Даже вывески у входа не осталось. Как стало известно, хозяин страшно перепугался и то ли закрыл предприятие, то ли перевел его в более безопасную область. Уже изготовленную бомбу – с зарядом из шести килограммов аммонала и часовым механизмом – они использовали против другого человека из списка, владельца бара. Пресса особенно подчеркивала масштаб разрушений. Оставалось только пожалеть о раненых.
92. Он был ее любимым сыном
Его вызвали в комнату для свиданий. Там в очередной раз за стеклом замерли в ожидании материнские глаза. Поначалу в них отражается неуверенность, страх перед неизвестным, пока мать не видит, как входит он, большой и на первый взгляд здоровый, хотя и облысевший. Тогда ее взгляд мягчает, светлеет, становится ласковым, материнским, в нем вновь появляется что-то молодое – по контрасту со все заметнее стареющим год от года лицом. Отец появляется в тюрьме редко – один-два раза в год. Она объясняет это тем, что поездка на автобусе слишком утомительна – твой отец уже не тот, что прежде, – а еще она ругает государство (Мирен никогда не произносит слово “Испания”) за политику рассредоточения, когда заключенные отбывают свои сроки очень далеко от дома. Но Хосе Мари знает, что мать сама не хочет, чтобы Хошиан навещал его. Потому что тот слишком расстраивается. Потому что при встрече непременно пускает слезу: да как же это так… мой сын… на столько лет… я ведь помру, не увидев его на свободе. Мирен уверена, что на Хосе Мари это действует плохо.
Кроме того, в дороге они обычно ссорятся. Из-за любой ерунды. Еще перед выходом из дому она наседает на Хошиана с упреками за то, что он плохо побрился, что из ушей у него торчат волосы, а потом, уже в автобусе, продолжает вправлять ему мозги, ругает, делает внушения в присутствии родственников других заключенных. Это сильно ранит его самолюбие, и он копит обиды, а под конец начинает неуклюже, злобно и грубо отругиваться. На обратном пути все повторяется. Так что пусть уж лучше сидит себе дома.
Хосе Мари ожидал услышать от матери привычный репертуар: жалобы на дорожные неудобства, на жару в Андалусии, на жестокость властей, по вине которых родственникам приходится ехать на свидание в тюрьму чуть ли не через всю страну. Нас-то, ваших близких, они за что наказывают? Потом наступает черед сплетен из жизни поселка, сообщений о недавней смерти кого-то из знакомых, рассказов о том, как медленно восстанавливается Аранча.
Однако сегодня все получилось иначе. Им показалось, что за ними внимательно наблюдают – осторожно, давай не будем говорить лишнего! И хотя беседуют мать с сыном на баскском, наверняка тюремщики тайком записывают весь разговор на магнитофон и у них есть люди, которые потом эти записи переведут. Так что лучше не касаться сомнительных тем, никакой политики или, если иначе не получается, только шепотом и намеками. За столько лет они поднаторели в такого рода приемах. И друг друга понимают, так как думают в одном направлении, им достаточно переглянуться, чтобы обменяться мыслями. И тут Мирен, всегда такая сдержанная в проявлении чувств, неожиданно призналась через стекло, что он ее любимый сын.
Так что же нового она принесла сегодня? Через десять минут после начала свидания мать заговорила как-то таинственно, что-то такое замямлила… Что? Возникла, мол, проблема, которая мешает ей спать по ночам. И, увидев тревогу на ее лице, Хосе Мари сообразил, что речь идет о таком деле, какое нельзя обсуждать напрямую. Отец? Аранча? Мирен мотала головой. Чокнутая? Мирен кивнула. Опять? Мать снова кивнула и одновременно поднесла к стеклу руку и показала ему то, что было написано мелкими буквами у нее на ладони: “Она хочет знать, ты или нет выстрелил в ее мужа”.
– Пошли ее ко всем чертям.
– Она очень настырная.
– А зачем ты позволяешь ей к тебе подходить?
– Да нет, со мной она не разговаривала. Попробывала бы только! Но твой отец… Сам знаешь. Он от нее отвязаться не умеет, и она выслеживает, когда его можно застать на огороде. Да еще Аранча пишет ей всякое на своем айпэде, когда они встречаются. Я уж сколько раз говорила Селесте: как только увидишь эту сеньору, поворачивай в другую сторону. Но ведь меня никто не слушает, сынок.
Она сменила тему разговора, спросив о чем-то несущественном. Хорошо ли его кормили в последнее время?
– Здесь все пересаливают.
Тем временем Мирен показала сыну ладонь другой руки: “Что мы ей должны ответить?”
– Иначе она всех нас тоже заразит своим безумием. Я ведь говорю тебе, что совсем перестала спать.
– Скажи, неужели во всем поселке не найдется пары ребят, способных отогнать назойливую муху? В мои времена ничего такого не потерпели бы.
– Поселок теперь совсем не тот, каким был раньше. Там уже не увидишь ни надписей на стенах, ни плакатов. Все как мертвое.
– Черт, но кого-нибудь все-таки можно было бы найти. Поговори сама знаешь с кем.
– С тех пор как закрылась таверна, мы его почти не видим. И впечатление такое, будто никто ничего не желает знать. Все талдычат о мире и о том, что надо попросить прощения у жертв. Как же, ждите. А разве сами мы не жертвы? С каждым днем с нами считаются все меньше, нас оставили одних. И попробуй тут открой рот – за тобой сразу придут и арестуют за пропаганду терроризма.
Лежа на койке, Хосе Мари смотрит на кусок неба в квадратном окошке. Голубое предвечернее небо пересечено белым следом от самолета. Я чувствую, что пропадаю. И желудок как огнем горит. Говорят, в еду подмешивают какой-то порошок, чтобы заключенные вели себя потише. А так как за Хосе Мари укрепилась слава несгибаемого члена ЭТА, ему небось достается двойная доза. Только в этом все дело или в чем-то похуже? Ужасная судьба – умереть в тюрьме от рака, так и не увидев своего поселка. Он думал об этом много раз. Были ведь и такие случаи.
Теперь он различает в окне не синее небо, а ладони матери и то, что успел на них прочитать. Нет уж, ко мне пусть даже не суются со всеми этими разнесчастными вдовами. Хотят перемотать назад пленку с его историей? Пусть отправляются в архивы. Что сделано, то сделано. Они там решили навсегда отказаться от вооруженной борьбы? Отлично. Gora ETA во веки веков – и будем думать о будущем.
Вдруг полил сильный дождь. Где? У него в памяти. Вопреки его воле. Он медленно идет ко дну. Он, несгибаемый, всегда первым начинавший голодовки и последним их завершавший; он, бравший слово на сходках заключенных, чтобы заклеймить тех, кто попался на крючок и готов поверить в программу перевоспитания.
Да, человек может быть кораблем. Человек может быть кораблем со стальным корпусом. Однако проходят годы, и в корпусе образуются трещины. Через них внутрь проникает вода – ностальгия, отравленная одиночеством, сознание, что ты совершил ошибку, которой уже не исправить. А также вода, сильнее всего разъедающая сталь, – раскаяние, которое ты чувствуешь, но в котором не желаешь признаться, потому что тебе страшно, стыдно и ты боишься испортить отношения с товарищами. И вот человек, ставший кораблем, из-за этих трещин в любой момент может пойти ко дну.
Окно в камере затянуто серостью. Со вчерашнего дня не прекращается дождь. Одно преимущество – непогода выметает людей с улицы. Никому не придет в голову остановиться и поболтать, каждый торопливо идет туда, куда ему нужно. Почти в самом начале улицы стояла телефонная будка.
Ее как будто нарочно поставили именно на этом месте, чтобы облегчить ему задачу. Чем облегчить? А тем, что, во-первых, он мог укрыться там, а не мокнуть под дождем. Во-вторых, будка служила ему разом и укрытием, и наблюдательным пунктом, лучше которого не придумаешь. Допустим, сюда направится кто-то из местных. Тогда он сделает вид, что разговаривает по телефону. Удобно было и то, что стекла в будке слегка запотели. А на голову он надвинул капюшон. Вот так-то! Знакомому с ним человеку пришлось бы сунуть голову в будку, чтобы убедиться, что там стоит именно он.
И тут он увидел в конце улицы “рено-21”. Сердце екнуло. Нервы? Ну да, пожалуй, есть немного, но не как в первое время, когда у него душа уходила в пятки. Постепенно он научился держать себя в руках. Они с Пачо это обсуждали. Как тот признался, с ним происходило то же самое всякий раз, когда приближался момент действия.
– Это нормально. Мы же не психопаты.
Машинально он тронул браунинг, оттягивавший карман толстовки. Главное – не промахнуться. Увидел в машине размытый профиль Чато. Этим огромным ушам остается не больше трех-четырех минут жизни. Хороший знак: объект ехал один. Как и сообщал Пачо, за все дни, что он вел наблюдение в поселке, ни разу не видел, чтобы нужного им человека кто-то сопровождал.
Чато завернул за угол, и Хосе Мари, уставившись на секундную стрелку своих часов, выждал еще полминуты и только потом вышел из будки. Эти дополнительные секунды жизни он подарил Чато, чтобы тот спокойно открыл гаражную дверь. Как ему показалось, стрелка ползла непривычно медленно. Пора, пора. Хосе Мари дошел до угла как раз вовремя: Чато снова сел в машину и заехал в гараж. План был такой: когда он будет оттуда выходить, Хосе Мари двинется ему навстречу и выстрелит. Правда, одного выстрела, по его прикидке, будет мало. Лучше действовать наверняка, а то вдруг жертва узнает стрелявшего и выживет. Потом, не мешкая, но и без глупой спешки, чтобы не привлекать внимания живущих по соседству людей, он вернется к тому месту, где ждет его в машине Пачо.
Чато не сразу появился на улице. Почему? Может, надеялся, что ливень вдруг прекратится? Во всяком случае, мокнуть сейчас пришлось Хосе Мари. На углу он прижался к стене дома, пытаясь хотя бы отчасти укрыться от дождя. Он знал, что в гараже нет второй двери и рано или поздно Чато должен выйти на улицу, чтобы пойти домой. И Чато вышел, без зонта. Вот он – наполняет свои легкие последними в жизни порциями кислорода, и расстояние до него не больше десяти шагов. Хосе Мари видел его в профиль, когда тот поворачивал ключ в замке, и при этом у Чато шевелились/дрожали губы, словно он разговаривал сам с собой или беззвучно что-то напевал. Отойдя от двери, он сразу меня увидел. Моя рука сжала рукоятку лежавшего в кармане браунинга, а Чато? Что он делает и какого черта он это делает? Переходит на мою сторону улицы и направляется прямо ко мне. Такой поворот дела не был предусмотрен сценарием.
– Привет, Хосе Мари. Ты вернулся? Я рад.
Эти глаза, эти огромные уши, эта дружелюбная улыбка. Друг отца, покупавший ему, малышу, мороженое. Церковный колокол пробил час дня. И в его звоне – таком знакомом, металлическом, не допускающем возражений – как будто прозвучало слово “нет”. Не делай этого. Не убивай его. Они молча стояли друг против друга. И было ясно, что Чато ждет ответа на свое доброе приветствие. Я член ЭТА и пришел казнить тебя. Но ничего подобного Хосе Мари не сказал. Не смог выдавить из себя. Колокол произнес с высоты слово “нет”. Это ведь был Чато, черт побери. Его глаза, его уши, его улыбка. И Хосе Мари развернулся и пошел прочь, не побежал, разумеется, а пошел очень быстрым шагом.
Он сел в машину и со всей силы захлопнул дверцу.
– Не получилось. Там между нами оказался один сосед. Давай, поехали обедать.
– Он тебя видел?
– Вряд ли.
– Можно попробовать снова, когда он отправится на работу. Как ты думаешь?
– Не знаю.
– Мы вон уже сколько дней валандаемся.
– Хорошо, только теперь ты пойдешь в телефонную будку, а я буду ждать в машине. Сегодня я уже достаточно вымок.
– Да мне что…
Мирен напомнили: ваше время выходит, сеньора. Но она даже взглядом не удостоила охранника, который к ней обратился. Встала со стула и начала прощаться с сыном:
– Ну что, maitia, ты уж держись тут, ладно? Через месяц я приеду, а может, и раньше, если твоей сестре не станет хуже.
– Только ты с той, с Чокнутой, не вздумай разговаривать. Обещай мне это. Чтобы ни одного слова. Если ей нужны какие-то сведения, пусть посмотрит протоколы судебного заседания.
– Ей надо непременно вмешаться в нашу жизнь. Она очень настырная.
– А ты не обращай на нее внимания. Небось отлипнет.
93. Страна молчунов
Получилось так, что Рамунчо узнал новость дома по радио, а вот Горка, который находился на работе и сначала записывал беседу с директором издательства, потом еще одну – с книготорговцем из Бильбао, понятия не имел о том, что произошло.
Самый обычный рабочий день, послеобеденное время. Двое коллег разговаривают в соседнем кабинете. Один, только что пришедший с улицы, сказал между прочим: дождь все идет и идет, новый теракт, не знаешь, когда появится Рамунчо? Горка не придал его словам никакого значения.
Ему нет дела до дождя, раз он все равно еще несколько часов проведет в редакции. Что касается второго, то Горка так привык к терактам, которые устраивала ЭТА, что новость его ничуть не удивила. С годами он оброс защитным слоем безропотности. Да разве я один такой? И дело вовсе не в том, что убийства оставляли его равнодушным, а в том, что они превратились в рутину, и это притупляло восприимчивость тех органов, которые отвечали за возмущение и боль. За исключением случаев, когда теракт оставлял многочисленные жертвы, как после взрыва в гипермаркете “Иперкор”[99], – тогда новость испортила ему весь день, – или когда среди погибших были дети. А так он принимал известие к сведению и старался держать при себе свои мнения.
А вот когда до него доходили сообщения об аресте кого-нибудь из боевиков, сердце у него начинало колотиться как бешеное, и он спешил удостовериться, что его брата среди задержанных нет. На самом деле Горка просто мечтал, чтобы брата как можно скорее отлучили от вооруженной борьбы. Он много раз повторял Рамунчо (но больше никому):
– Когда его схватят, я буду только рад. Рад за него, но также и за нашу семью. Он испортил жизнь родителям.
Без чего-то семь Рамунчо приехал на радио. Плащ на плечах был покрыт мокрыми пятнами.
– Ты слышал про сегодняшнее убийство?
– Нет пока.
– Застрелили предпринимателя из твоего поселка.
– А фамилия?
– Фамилии я не запомнил, но если хочешь, узнаем в одну секунду.
– Нет, не стоит, не стоит.
Такой ответ сам по себе означал: я сам узнаю, когда рядом никого не будет и никто не станет следить за моей реакцией. И хотя он перебирал в уме разные имена и лица, ему никак не удавалось представить, кто же на самом деле мог стать жертвой террористов. Горка словно предчувствовал, что имя убитого будет для него горькой неожиданностью.
Он подумал о хозяевах предприятий и мастерских, о торговцах, о тех жителях поселка, у которых был какой-нибудь бизнес. Вспомнил нескольких – все они без исключения считались ярыми националистами, все разговаривали на баскском. На них ЭТА, пожалуй, могла бы немного надавить, как и много раз прежде, в первую очередь чтобы вытянуть деньги, но не покушаясь на их жизнь, потому что в таком случае организации пришлось бы держать ответ перед Баскской националистической партией. Короче, придумать он так ничего и не смог, однако его мучило любопытство, и он, выбрав момент и ни с кем не попрощавшись, спустился в бар на углу.
Чато. На стойке стоял кофе без кофеина, который ему только что приготовили. Но он к нему даже не притронулся. Чато. Черно-белая фотография на экране телевизора. Какой ужас, какое несчастье. Чато. И, возвращаясь на радиостанцию в лифте, он чувствовал ком в горле. Ему было невыносимо вспоминать, что именно Чато научил его в детстве кататься на велосипеде. Отец тоже участвовал, но на самом деле именно Чато дал нужные советы и объяснил, как надо правильно крутить педали, чтобы не свалиться. И он бежал рядом со мной на стоянке недалеко от его фирмы, то держа, то отпуская седло велосипеда Шавьера, и был готов поддержать меня, как только я слишком наклонялся вбок. Он пообещал, что, если я научусь, подарит мне велосипед – и подарил, первый велосипед в моей жизни. А теперь Чато мертв, его убили.
Рамунчо, едва увидев Горку, сразу прочитал по его лицу, откуда тот пришел и что услышал.
– Выходит, ты его знал.
– Они, скорее всего, ошиблись. Им наверняка нужен был кто-то другой, и они убили не того, кого хотели.
– Судя по всему, он был из тех, кто отказывается платить “революционный взнос”.
– Они с моим отцом составляли пару, когда играли в мус, всю жизнь дружили, хотя, как рассказала мне по телефону сестра, в последнее время что-то между ними произошло, и они даже разговаривать перестали.
– Может, это связано с политикой.
– Вряд ли. Он не интересовался никакой политикой и вообще был хорошим человеком, много кому давал работу, с местными всегда ладил и, разумеется, говорил на баскском.
– Ну, знаешь, хорошим он был или плохим, но в чем-то, видно, проштрафился. ЭТА не убивает просто так. Только не думай, я вовсе не защищаю вооруженную борьбу. Не приписывай мне, чего у меня и в мыслях нет.
– Не знаю, не знаю. Я уже давно в поселке не был и наверняка многого не знаю.
– Хочешь, съездим туда на выходные и возьмем с собой Амайю?
– Нет, не стоит.
Вскоре Рамунчо пошел в студию, чтобы поработать над программой о музыкальных новостях Страны басков. Горка воспользовался случаем и позвонил домой по здешнему телефону. Трубку взял Хошиан.
– Матери дома нет. Пошла на площадь, там собрался народ, чтобы потребовать амнистию.
– Всего через несколько часов после того, как убили человека из вашего же поселка?
– Я ей так и сказал: ты что, совсем сбрендила? К тому же на улице льет как из ведра. Но она у нас теперь неистовый борец за свободу. Ее не остановишь.
Голос Хошиана звучал тускло, испуганно, неуверенно. Он сказал, что не хочет выходить из дому. Чтобы не услышать подробностей случившегося? Нет, просто дождь все никак не уймется. И еще ревматизм. Но наконец он позволил себе быть искренним:
– А еще я не хочу никого видеть.
Разговор получился каким-то бессвязным и вскоре перетек в стоячие воды молчания. Нарушил молчание Горка:
– Где его убили?
Он не уточнил кого. Ни отец, ни сын ни разу не произнесли имени или прозвища жертвы.
– Рядом с его же домом. Уже известно, что его там поджидали.
– Вы с ним вроде бы перестали общаться.
– Откуда ты знаешь?
– Aita, я все-таки время от времени разговариваю с кем-нибудь из прежних друзей.
– И с Аранчей тоже?
– Да, и с ней тоже.
Хошиан считал убитого своим другом. Несмотря ни на что. Он здесь, у меня в сердце. Да, они не разговаривали. Хошиан боялся делать это при людях, а также из-за Мирен, которая Чато не выносила. Только не вздумай встречаться с этим, говорила она мужу. Не дай бог, кто увидит. Наверняка так на нее подействовала история с Хосе Мари. Совершенно перекрутила ей мозги. А может, из-за гибели сына мясника. Его смерть накалила обстановку в поселке. Никто из местных не поверил, что он сам наложил на себя руки. Что касается Хошиана, то он хотел бы выразить свои соболезнования Биттори, потому что приличия велят поступить именно так – после стольких-то лет дружбы, но это было невозможно. Хошиану не хватило духу пойти к ним. Пойти тайком – а как же иначе? – и посмотреть ей в лицо. Кроме того, бедная женщина, конечно, страшно переживала, а он, насколько сам себя знает, не большой мастер справляться с подобными ситуациями. Может, Горка пошлет ей из Бильбао открытку – ну, такую, в черной рамке? И подпиши: Горка и вся семья.
– А почему бы это не сделать тебе самому? Тогда ведь не придется смотреть ей в глаза. Просто подпиши: Хошиан и вся семья.
– Сынок, ну чего тебе стоит черкнуть пару строк? Раз в жизни прошу тебя об одолжении.
– Ладно, посмотрим.
Вечером Горка делал Рамунчо массаж на раскладной кушетке, купленной специально для этой цели. Кушетку покрывали полотенцем, чтобы не испачкать, так как обычно для массажа они пользовались маслом. Разминая спину Рамунчо, Горка в подробностях пересказывал телефонный разговор с отцом.
– Ну и что, ты напишешь вдове?
– Нет, конечно. В крайнем случае скажу отцу, что написал. Все равно он не сумеет проверить. Ну почему я так себя веду, интересно знать?
– Потому что ты трус.
– Твоя правда. Потому что я такой же трус, как и он, как и многие другие, как те, кто сейчас там, в поселке, скорее всего, говорят себе под нос, чтобы, не дай бог, никто не услышал: какая дикость, они напрасно проливают кровь, такими методами свою страну не построишь. Но никто ведь и пальцем не шевельнет. Там уже небось и улицу из шланга вымыли, чтобы даже следа от преступления не осталось. И завтра какие-то слухи еще будут носиться в воздухе, но по сути ничего не изменится. Люди явятся на следующую акцию в поддержку ЭТА, понимая, что нужно, чтобы их увидели вместе со всем стадом. Такова дань, которую приходится платить ради спокойной жизни в стране молчунов.
– Ладно, ладно, не заводись.
– Ты прав, разумеется. Какое право я имею кого-то в чем-то упрекать? Я такой же, как и все. Ты можешь себе хотя бы вообразить, что завтра по радио мы осудим сегодняшнее убийство? Уже к полудню нам, скорее всего, откажут в субсидии или нас с тобой уволят к чертям собачьим. И с книгами то же самое. Посмей сделать хоть шаг в сторону – сразу на тебя станут пальцем показывать как на прокаженного, а то и как на врага. У того, кто пишет по-испански, еще есть какие-то возможности. Их печатают в Мадриде и Барселоне, и если человек талантлив и если ему повезет, он пробьется. А мы, пишущие на баскском? Перед нами закрывают все двери, нас никуда не приглашают, мы просто не существуем. Я вот уверен, что всю жизнь буду писать только для детей, хотя уже сыт по горло ведьмами, драконами и пиратами.
– А что с тем романом, который ты задумал?
– Что-то набрасываю. Может, и напишу. Но тогда сделаю так, чтобы половина истории происходила в Канаде, а вторая половина – на каком-нибудь далеком острове.
– У тебя сегодня слишком плохое настроение. Лучше давай заканчивать с массажем, и пошли спать.
94. Амайя
Раз в две недели Рамунчо получал на выходные Амайю. Забота о дочери, которую он обожал, приносила с собой сорок восемь часов страхов, сомнений, стресса, разочарований. Он был убежден, что с ролью отца не справляется и что все выходит у него из рук вон плохо. Да и девочка, кстати будет сказано, со своей стороны ничего не желала сделать, чтобы облегчить ему задачу. Горка не сомневался: у этой паршивки не все в порядке с головой. И как только он слышал, что она приехала, сразу приводил себя в боевую готовность. Посмотрим, что она устроит/расколотит/сломает на сей раз.
После развода мать с девочкой уехали жить в Виторию, поэтому Рамунчо вынужден был в “свои” дни дважды гонять на машине туда-сюда: в пятницу после обеда – чтобы забрать девочку, в воскресенье, тоже после обеда, – чтобы отвезти обратно. При этом он страшно злился на себя самого. История – за редкими исключениями – неизменно повторялась. Туда он ехал полный надежд, с которыми дочке удавалось быстро покончить. Рамунчо был до самозабвения покладистым, баловал ее и исполнял любую прихоть, за что ни разу не удостоился радостной улыбки, уж не говоря хотя бы о намеке на восторг. Как может маленькая девочка таить в себе такое равнодушие, такую холодность? Рамунчо находил единственное объяснение: видно, бывшая жена имеет привычку плохо о нем отзываться.
Когда Горка познакомился с Амайей, ей было восемь лет. Уже тогда это было существо непостижимое, девочка с вечно насупленными бровями. В любой момент от нее можно было ожидать какой-нибудь каверзы, она грубила со зловредным спокойствием, умела у любого прицельно отыскать самую уязвимую точку, чтобы вывести из себя. Вдруг делала или говорила что-то такое, что заставляло подозревать у нее олигофрению, но уже минуту спустя проявляла исключительный ум. Со временем ситуация не улучшилась. По мере того как Амайя взрослела, она становилась все менее управляемой и все более непредсказуемой, а главное – все труднее было ее ублажить. Шантажистка, по мнению Горки.
Рамунчо:
– Ради бога, не говори мне таких вещей, ты меня просто убиваешь.
Внешне девочка была совершенно очаровательной. Куколка с черными-черными глазами, в локонах, с тонкими и длинными губками, которые преждевременно добавляли ее милому лицу что-то женское. Были дни, когда она почти не разговаривала. Часами напролет молчала, уйдя в себя, безразличная ко всему. В другой раз никакими силами невозможно было заставить ее умолкнуть. Если ты обращался к ней на баскском, отвечала на испанском, если продолжал разговор на испанском, переходила на баскский. Что касается еды, то и тут никогда невозможно было угадать, что ей захочется. То она с аппетитом съедала две тарелки макарон с томатным соусом и сыром, а в следующий свой приезд даже смотреть не желала на блюдо, которое так понравилось ей в прошлый раз. И так со всем: с играми, с местами для прогулок, со сказками, которые рассказывал ей Рамунчо перед сном, прежде чем погасить свет, когда она уже лежала в постели. Сегодня это, завтра совсем другое – и так далее. А иногда безо всякой видимой причины она принималась реветь. В таких случаях Рамунчо впадал в панику. Что делать, что делать? И у него самого на глаза наворачивались слезы. Удрученный, измученный, он признавался Горке, что не умеет обращаться с девочкой и что, если так оно пойдет и дальше, он ее потеряет.
– А ты никогда не пробовал дать ей хорошую затрещину?
– Не пробовал и пробовать никогда не стану. Она расскажет матери, и та добьется от судьи запрета на мои встречи с дочкой.
– А мне кажется, что Амайя на свой манер постоянно напрашивается: aita, ну отлупи же меня наконец как следует, помоги выйти из лабиринта.
– Сразу видно, что у тебя нет детей. Никогда не слышал от тебя более дикой глупости.
Приезды девочки раз в две недели имели и прямые последствия для Горки. Какие? Ну, во-первых, ему приходилось спать в своем кабинете на раскладушке. Пока она находилась рядом, не было ни массажей, ни близости между двумя мужчинами. Рамунчо не мог ни на минуту отвлечься от дочки. А Горка старался поменьше времени проводить дома. Иногда целый день сидел на радио, читал книги, писал сказки и стихи, готовил материалы на следующую неделю. Или до отвращения смотрел фильмы в разных кинотеатрах. Или, если позволяла погода, шел пешком по берегу реки до Эрандио и даже еще дальше, до Альгорты, а назад возвращался уже на автобусе. Иногда пользовался случаем и навещал сестру в Рентерие – тайком от родителей. В поселок он почти не ездил. Только когда этого нельзя было избежать. Скажем, на Рождество и так далее. Чтобы не выслушивать потоки материнских упреков. Чтобы никто не приставал к нему на улице:
– Kaixo, Монах. Сколько лет, сколько зим.
Он предпочитал терпеть выкрутасы девчонки, хотя ему было жалко Рамунчо. Вот типичная ее выходка. Все спокойно сидят дома, Амайя смотрит телевизор, и вдруг – дзынь – со звоном разбивается какой-то стеклянный или фарфоровый предмет. Взрослые испуганно вскакивают со своих мест. Глазам открывается картина, которую ни в коем случае нельзя назвать исключительной: равнодушное лицо Амайи и усыпанный осколками пол вокруг нее. Рамунчо не решается отругать дочку, так как боится, что она пожалуется матери. Он объясняет ей, просит, делает вид, что все это ерунда, приводит в порядок пол – или незаметно просит Горку, чтобы этим занялся он, а сам старается отвлечь внимание девочки на что-то другое. Точно так же она разбила будильник Горки. Рамунчо поспешил купить ему новый, сделав вид, что ничего особенного не произошло.
Ни один из них не рискнул бы утверждать, что Амайя нарочно швыряла предметы на пол. Но и сами собой выпасть у нее из рук они не могли. И разумеется, совершенно немыслимо было уловить на ее лице признаки злой воли.
Однажды Горка застал ее в тот миг, когда она вилкой расцарапывала себе тыльную сторону ладони – пока не появились параллельные кровоточащие полоски. А еще она с увлечением выстраивала разные фигуры из всяких вещей – на ковре, на столе, в ванне. Разложенные в ряд морковки, которые она вытащила из холодильника, круги из кофейных ложек, башни из книг, из компакт-дисков – из чего угодно.
Эта девочка ненормальная, у нее чердак не в порядке. Беда в том, что об этом нельзя сказать Рамунчо, потому что он страшно расстроится.
Однажды в субботу Горка вернулся из поселка, куда отправился еще накануне вечером. Не поехать туда он просто не мог. Аранча позвонила ему на работу:
– Надеюсь, ты уже в курсе.
– Да. И скажу тебе только одно: я рад.
– Но ему, надо думать, здорово досталось.
– Я, конечно, не это имел в виду.
– Мне тоже кажется, что ему же будет лучше, если его выдернут из этого круга, но ты должен навестить родителей. Мы не можем бросить их одних сейчас, в таких обстоятельствах. Я съезжу к ним вечером, после работы.
Гражданская гвардия арестовала Хосе Мари. А вместе с ним и двух других членов группы “Ориа”. В тот день этим сообщением открывались все сводки новостей. У Горки всегда имелся заранее записанный на пленку материал для непредвиденных случаев, так что ему разрешили отлучиться с радио. Правда, взяли обещание, что на следующий день после обеда он непременно явится на работу. Он, как обычно, поехал в поселок на автобусе, побыл с родителями, ночь проспал на своей старой, времен юности, кровати и в субботу утром вернулся в Бильбао. Разве ты не останешься на акцию? Не могу. Но ведь речь идет о твоем брате.
Он нашел Рамунчо в страшном волнении.
– Амайя.
– Что с ней такое?
– Ее нет, она убежала. Я на минуту вышел за хлебом, а когда вернулся, дверь квартиры была распахнута, а дочка исчезла.
Горка обнял его, стараясь утешить. Рамунчо дал волю воображению. Он рисовал себе самые страшные картины. Девочка, убегая, могла попасть в руки банды преступников. А если представить себе, что это могут быть торговцы органами или те, кто занимается секс-бизнесом? Он уже предвидел, что его лишат права видеться с ней или даже посадят в тюрьму на долгие годы.
– А на улице искал?
– Да, спрашивал и в лавках, и в барах. Никто ее не видел. Что делать? Звонить в полицию? Но если я позвоню, новость попадет в газеты, дойдет до моей бывшей жены, дело будет раздуто до немыслимых масштабов.
– Давай пройдемся по округе, поглядим как следует. Ты иди по одному тротуару, а я пойду по противоположному.
Далеко они не ушли. Соседка, встреченная у подъезда, сообщила, что девочку видели на крыше. Там она действительно и была. Спокойно сидела в центре квадрата, выложенного из фотографий, взятых из отцовского альбома. Счастливый Рамунчо схватил ее на руки. Ни слова упрека. Горка принялся собирать снимки. Амайя же, которой было в ту пору одиннадцать лет, вернувшись в квартиру, заявила с обычной своей серьезностью, что хочет уехать к маме.
95. Вино из оплетенной бутыли
JOSE MARI ASKATU[100]. Это было первое, что бросилось в глаза Горке, едва он вышел из автобуса. Огромное полотнище, растянутое между двумя домами. И дальше, тут и там, плакаты с фотографиями брата и тем же требованием освободить его. Вот таким образом создаются герои. Таким образом манипулируют человеческим сознанием. Знали бы здешние люди, какое отвращение все это у меня вызывает. Горка шел быстро, подгоняемый желанием/надеждой, что никто не встретится ему по дороге к родительскому дому.
У дверей бара его остановила компания парней. Он застыл посреди тротуара – с вялой улыбкой на губах, лениво прикрыв веки, – и вытерпел пять-шесть объятий, при этом некоторые тела были влажными от пота.
– Мы с вами.
– Если что надо, только свистни.
Он выдавил из себя скупые слова благодарности и больше не знал, что сказать. Пусть думают, что он сильно расстроен из-за ареста Хосе Мари. Они пригласили Горку выпить с ними. Слышь, пошли! Он нацепил на физиономию самую грустную из своих масок, пока объяснял – не столько озабоченно, сколько робко, – что должен как можно скорее повидать родителей. Говорил по-баскски хорошо модулированным голосом, и это всегда производило на слушателей впечатление, о чем он знал. В других обстоятельствах его, наверное, все-таки затащили бы к барной стойке, хотел он того или нет. На сей раз они отнеслись к отказу с пониманием и быстро от Горки отстали. А тот пошел своей дорогой, хотя спина у него горела от дружеских похлопываний.
Подъезд с привычным запахом и в привычном полумраке. И вдруг кто-то обнял его у самой первой из трех ступенек. Кто? Человек в черном, у которого отвратительно пахло изо рта. Дон Серапио только что вышел из родительской квартиры.
– Приехал, чтобы быть рядом со своей семьей в столь трудный для всех вас миг? Похвально, сын мой, похвально. Как вижу, ты уже превратился в настоящего мужчину и при этом в мужчину здравомыслящего. Твоя мать держится отлично. Железная женщина, так ведь? Об отце я тревожусь больше.
Очень скоро глаза привыкли к скудному освещению. И Горка увидел елейную физиономию священника, водянистый блеск его глаз. Теперь дон Серапио казался ниже, чем прежде. Как будто начал усыхать.
– Бедный Хошиан. Остается надеяться, что Господь будет милостив к нему. Уж и не знаю, как он со всем этим справится. От твоей матери я узнал, что он весь день торчит у себя на огороде. Даже обедать не приходил.
– Тогда я сразу пойду туда к нему.
– Ступай, сын мой. Я неустанно молюсь и за вас, и за Хосе Мари. Молюсь и прошу, чтобы с ним там обходились по-человечески. Не падай духом. Крепись. Ты нужен своим родителям. А как идут у тебя дела в Бильбао?
– Хорошо.
Священник на прощанье легонько похлопал его по руке, ближе к плечу, что Горке напомнило жест, которым выражают соболезнования. Исполнив ритуал, дон Серапио, с ног до головы облаченный в черное, хотя и без сутаны, надел на голову берет и вышел из подъезда.
Из квартиры доносились голоса. Спокойные женские голоса. Один, вне всякого сомнения, принадлежал матери. Второй? Второй показался Горке знакомым. Он прижал ухо к двери. Вряд ли это Аранча, тем более она сказала, что приедет сюда после работы. Хуани? Он напряг слух – да, там находилась жена мясника. Он посмотрел на часы, хотя видно было плохо. Еще не слишком поздно. Как поступить? Стоя на лестничной площадке, Горка живо вообразил: вот он входит в родительскую квартиру, мать тотчас принимается упрекать его за то, что давно к ним не приезжал или редко звонил, и все это на глазах у женщины, чей сын покончил с собой. Или его убили? Никогда никто настоящей правды не узнает. Горка сказал себе, что сейчас туда ни за что на свете не войдет. Он высунул голову из двери подъезда, чтобы убедиться, что священник отошел уже достаточно далеко. И тогда Горка направился в сторону отцовского огорода.
Хошиана он нашел в сарае, босым, пьяным.
– Ну что, явился?
– Как видишь.
Хошиан соорудил себе временный стол, положив доску на клетку для кроликов, а с помощью другой клетки таким же образом – сиденье. На доске, заменяющей стол, сын увидел стакан и старую плетеную бутыль, покрытую пылью и паутиной.
– Пока все не выпью, домой не вернусь.
Хошиана, судя по всему, визит сына не удивил. Он лишь выключил транзистор. В сарае стоял резкий запах. Пахло сыростью, перегнившей травой и очень крепким вином. Кролики тихо сидели в своих клетках. Некоторые нервно дергали носами, словно что-то пережевывали. У отца на тыльной стороне ладони выступали толстые вены. Сами ладони были распухшие, мозолистые, с первыми признаками артроза.
– О брате что-нибудь известно?
– Твой брат – убийца. Вот и все, что о нем известно. Тебе этого мало? Теперь его накажут по заслугам и даже строже, чем надо, потому что эти судейские сволочи пожелают устроить показательную порку нашим недоумкам, схватившимся за пистолеты. Мать права. Я был слишком мягким отцом. Надавал бы ему в свое время подзатыльников – и сейчас все было бы в порядке. А ты как считаешь?
– В этой стране слишком многие вещи пытаются привести в порядок с помощью подзатыльников. Вот так мы и живем. Значит, пока ничего не известно?
– Пока его не забьют до смерти, мы ничего нового не узнаем.
Хошиан напивался совсем не так, как напиваются пьяницы, попавшие в рабство к ежедневной дозе дешевого вина. С юности он выпивал постоянно, но умеренно. Время от времени принимал на грудь, пожалуй, и чуть больше положенного. Но сегодняшнее – как это назвать? Желанием отгородиться от реальности, попыткой взбунтоваться, наложенным на самого себя наказанием за то, что не был хорошим отцом? Правда, если учесть, сколько он выпил, язык у него ворочался вполне прилично. Мысли свои он формулировал без затруднений. И даже бок не почесывал. Правда, уставив взгляд в одну точку, долго его от этой точки не отводил – и снова залпом, не смакуя, выпивал стакан, иногда неодобрительно покачивая при этом головой. Горка, так и стоявший в дверях, смотрел на отца, и грудь его сжималась от жалости, но к жалости примешивалось и отвращение. Этот человек вольет в себя сегодня море вина. Потом перевел взгляд на его босые ноги – отекшие, фиолетовые, искривленные.
– Слушай, а ты-то, часом, с этой бандой не связался?
– Нет, aita, я работаю на радио, мне за это платят, и я никому не причиняю зла.
– Смотри, не дай бог тебе пойти по стопам братца, понял? Сам видишь, к чему это приводит. А сколько ему годков припаяют – это и подумать страшно. На нем слишком много крови. Слышал, сколько ему всякого-разного приписывают? Вряд ли я до своей смерти увижу его на свободе. Прибавь-ка к тем, что я сейчас имею, еще лет двадцать, а то и тридцать. Вот и подумай сам. К той поре я уж буду в земле лежать.
И чтобы не зарыдать, он поспешил сделать еще один щедрый глоток вина. Отец с сыном долго молчали, но при этом не смотрели друг на друга. Вдруг Хошиан сказал:
– Слышь, ты мать-то видал?
– Нет, я пришел прямо сюда.
– А откуда узнал, что я на огороде?
– Священник сказал.
– Священник? Лучше при мне даже не упоминай про него. Та еще птица. Из самых худших, уж поверь мне. Он рассказывает молодым ребятам сказки, вбивает им в головы разные идеи и науськивает. А когда случается то, что случается, его тут вроде как и не было, читает свои проповеди и причащает прихожан с ангельским видом. При матери-то этого, конечно, нельзя сказать – сразу взовьется. Ты что, совсем дура? – говорю я ей. Сама не видишь, что священник разрешает нашим ребятам пользоваться церковным подвалом, чтобы хранить там плакаты, флаги и банки с краской? Она отвечает: а это, дескать, тут при чем? А все при том, очень даже при том. Хосе Мари, насколько мне известно, с пушкой в руке не родился. На плохую дорожку его направили священник, дурная компания и уж не знаю кто еще. А так как здесь у него, – Хошиан ткнул себя пальцем в лоб, – маловато, он и клюнул.
Сразу после этих слов он предложил сыну выпить. Горка чуть было не согласился – лишь бы поскорее опустела бутыль. Но не увидел на импровизированном столе второго стакана – только тот, которым пользовался отец, и потому от вина отказался.
– Aita, я хочу, чтобы ты знал одну вещь.
– Мне вот недавно сказали, будто бы Хосе Мари был в поселке, когда убили Чато. Только об этом я все время и думаю.
– Это касается моей личной жизни.
– Не слишком ли много совпадений, а? Скажи, какого хрена делал в поселке этот дуболом в тот день, когда убили моего лучшего друга? Если окажется, что виновата его группа, я ему этого в жизни не прощу.
– Я живу в Бильбао с одним мужчиной. – Хошиан закуривал новую сигарету и не слушал его. – То есть мы живем вместе. Его зовут Рамон. Ну а я зову его Рамунчо.
– Вот об этом я и спрошу его при первой же встрече. Прямо спрошу. И пусть не вздумает врать – мне, своему отцу, потому что я прочитаю правду в его глазах.
Горка решил не продолжать свое едва начатое признание. Неужели сразу было не ясно, что момент он выбрал неподходящий и отец не в том состоянии, чтобы выслушать его и понять? Место-то как раз было подходящим. Горка не раз рисовал в воображении разные варианты этой сцены. Например, что они, как и сейчас, окажутся наедине с отцом в сарае и Горка откроет ему свою тайну по секрету от матери. У отца он мог бы найти понимание. В худшем случае тот просто смирится с фактом. Осудит? Нет, никогда. Этот человек либо хвалит, либо молчит. И наверняка будет хранить тайну, как ее хранит Аранча, которая, кстати сказать, неожиданно, когда уже стемнело, тоже явилась сюда, к отцу на огород.
– В этом твоем сарае вонь стоит такая, что дышать невозможно. Ну ты и наклюкался, отец. – Потом повернулась к брату: – А ты что здесь делаешь? Мать там злобой вся уже изошла – думает, что ты в Бильбао. Она послала меня спросить, готовить ужин или как. Накупила сардин на целый полк.
Горка помог отцу подняться, пока Аранча, не переставая говорить, пыталась отыскать его ботинки среди кроличьих клеток.
– Идти-то сможешь?
– Смогу, мать твою…
– А что скажешь про нашего gudari?
– Теперь мы хотя бы знаем, где он.
– Вот-вот, и я то же самое сказала Гильермо. А мать у нас – прямо революционерка, все в бой рвется. Не удивляюсь, что вы от нее спрятались. Хуани ей подпевает, и вынести это просто нет никакой возможности. Два сапога пара.
96. Нерея и одиночество
Биттори сама позвонила в одну из адвокатских контор Сан-Себастьяна. Дочь… нельзя ли принять ее… чтобы поучилась профессии… Нерею приняли, но без договора и с более чем символическим жалованьем, да и то только потому, что один из адвокатов был чем-то обязан Чато, царствие ему небесное, или в знак сочувствия семье погибшего. Работы полно, скука смертная, начальники черствые и спесивые, денег кот наплакал. Так описала Нерея матери через несколько месяцев свою трудовую деятельность.
Ответ Биттори:
– Это лучше, чем ничего. Все мы когда-то начинали с самой нижней ступени.
Мечта Биттори: как Шавьер сумел стать известным хирургом, так и Нерея должна стать адвокатом или судьей. О том же, разумеется, мечтал при жизни и Чато.
Через год и три месяца после начала работы в адвокатской конторе Нерея оттуда ушла. Когда она объявила о своем уходе, тут же – да, конечно, непременно – ей посулили куда лучшие условия, договор и постоянное место. Мне жаль, друзья мои, but it’s too late[101]. И она с ними распрощалась, а Биттори пришлось навсегда распрощаться со своей мечтой.
Все это время Нерея тайком изучала предложения работы и нашла, пройдя строгий отбор, место в налоговой инспекции на улице Окендо. Позднее ее перевели в офис в районе Эрротабуру. Руководствовалась она отнюдь не материальными соображениями. На самом деле отец, хоть и не был слишком образованным, очень ловко справлялся с бюрократическими и административными проблемами и в денежном плане дочь вполне обеспечил. Кроме того, Шавьер, ее здравомыслящий брат, дал полезные советы, связанные с наследством. Нерея экономила, приобретала акции, инвестировала – и в результате жить могла безбедно. Но ведь жизнь, само собой разумеется, надо наполнить смыслом, надо установить порядок ступеней и направление – просыпаясь каждое утро, ты должен видеть перед собой важную цель, которая заставит тебя вскакивать с постели если не с пылкой надеждой, то хотя бы с энергией, которая помешает закостенеть мыслям от лени и бездействия.
– Ох, дочка, ты у нас прямо философом стала.
Зато Нерея за наличные купила себе трехкомнатную квартиру в районе Амара. Сделала в ней ремонт, обставила. Мать: зачем тратить столько денег, если и в моей квартире нам вдвоем вполне хватало места.
– Скажешь тоже. Да ведь мы с тобой ссорились день и ночь.
Приходили и уходили дни, с ними ушел и ХХ век. Нерея знакомилась с разными мужчинами. Вернее, мужчины знакомились с ней. Вернее, подкатывались с неотразимыми улыбками, льстиво ухаживали, изображая из себя донжуанов, настойчиво добивались встреч. За ней пытался приударить даже некий адвокат из их конторы – кто бы поверил? – женатый, отец троих детей. Да, он тоже стал к ней подруливать. Но она, несколько дней понаблюдав за его похотливыми маневрами, поспешила положить этой игре конец. В ее планы не входило разрушать чужие семьи.
У нее завелись приятельницы. С кем-то она познакомилась в спортивном зале, с кем-то на работе. Не осталось только подруг из поселка. Нет уж, спасибо. И если ее спрашивали, откуда она родом, отвечала: из Сан-Себастьяна. Появилась женская компания, куда входила даже одна вдова тридцати одного года. Они с ней иногда разговаривали – во время субботних ужинов в ресторане, на пляже или в кофейне – о том, как горько терять дорогого тебе человека и как трудно бывает некоторым пережить подобное несчастье. Нерея больше слушала, потому что твердо решила никому не говорить, что ее отца убили.
Если не считать случайных сексуальных приключений, она пару раз испытала что-то вроде любви, как сама ее понимала.
– А как ты ее понимаешь?
Она признавалась своим подругам, что мечтает о такой семейной жизни, чтобы это было на долгие годы и обязательно с детьми, но пусть их будет ни в коем случае не больше двоих. Чтобы все было очень спокойно, чисто и буржуазно и начиналось со свадьбы, устроенной по старым традициям.
– И чтобы отец под руку вел тебя к алтарю.
– Это не получится. Мой отец умер два с половиной года назад от рака. Он много курил.
Когда Нерее исполнилось тридцать, она сочла, что отмеренную ей судьбой квоту любовных увлечений она исчерпала. Спасибо, с нее довольно. Получился даже некоторый перебор. И, сидя в окружении улыбающихся подруг, она рассказывала про свой роман с белокурым красавцем, за которым как последняя дура поехала в Германию, и о том, какую плюху там получила. Подруги уже знали всю историю в мельчайших подробностях, но им не надоедало выслушивать ее снова и снова. Почему? Потому что она давала повод для неиссякаемых и забавных комментариев и над ней можно было от души посмеяться. А вот о том, что случилось во Франкфурте, о пешеходе, попавшем под трамвай, Нерея не упомянула ни разу.
Попытки, все более редкие, найти прочную и долговечную любовь – любовь с уютным домашним очагом, мягким диваном и креслами, с ковром и домашними тапочками – неизменно заканчивались неудачей. Разочарованная и уставшая от мужиков, она говорила себе: нет уж, девушка, больше никто и никогда тебя не зацепит. Но проходили недели, месяцы, и в самый неожиданный момент Нерея вновь ощущала – где? внизу, сверху, между ног? – зуд восторга и радужных надежд. Это можно было сравнить с возвращением зависимости, которую она уже считала побежденной. Новый мужчина, новый облик, новый тембр голоса врывались в ее жизнь – и мигом освобождали ее от того необоримого чувства одиночества, которое она ежечасно носила в себе. Они порождали эйфорию и приятные тревоги, пока через определенное время иллюзии по той или иной причине не рассеивались и Нерея в очередной раз не убеждалась, что и этот привлекательный мужчина, рядом с которым у нее с каждым днем все меньше трепетало сердце, был всего лишь отражением ее мечтаний, а на самом деле отличался несносной вульгарностью и не менее несносным эгоизмом.
Желанным исключением стал Энеко, бывший на восемь лет старше ее. Они часто виделись в баре “Танжер”, где Нерея в полдень обычно пила свой биттер в ту пору, когда еще служила в офисе на улице Окендо. Они часто оказывались там в одно и то же время, потому что Энеко работал поблизости, в агентстве недвижимости на площади Гипускоа. Обмен взглядами, кивки в знак приветствия, снова обмен взглядами – и наконец Энеко набрался храбрости и подошел к ней. Привет, меня зовут так-то, я работаю здесь недалеко, давай наконец познакомимся, надеюсь, ты не против? Вот так все и произошло. Он был человеком простым, прямодушным, незатейливым. Из тех мужчин, которые, еще не успев обжечься кислотой брачной жизни, приходят на свидание с розой или книгой в подарок. Недостатки? На первый взгляд ничего непростительного: явно маловато вкуса в одежде, излишек килограммов, увлечение футболом.
Нерея привыкла к его присутствию, к тому, что он относился к ней по-отцовски заботливо. Рядом с ним она начинала чувствовать себя спокойно, а кроме того, он умел рассмешить ее, а это мало кому удавалось. Энеко был человеком-диваном – мягким, уютным, удобным для отдыха. В дождливые дни он раскрывал над ней свой зонт, а сам промокал. Между прочим, такого рода мелочи имели для Нереи огромное значение. Через несколько месяцев она сама стала раздумывать, не предложить ли ему что-то большее, чем совместное времяпрепровождение, потому что этот мужчина ей по-настоящему нравился. Подруги, естественно, спросили: а как с любовью? Любовь, разумеется, была, но была еще и дружба, что не одно и то же. Нерея утверждала, что именно дружба помогает паре сохранить хорошие отношения и когда любовь начинает угасать.
Однако их разделяла черная и бездонная трещина. На самом деле она появилась сразу и ежеминутно сопровождала этих двоих на протяжении почти десяти месяцев, пока длилась их связь, но они не видели ее, а он так никогда и не увидел. Иначе говоря, если Энеко еще жив – а что с ним могло случиться? – наверное, продолжает мучиться вопросом: чем он перед ней провинился? А причина была в том, что как Нерея молчала про своего отца, так и Энеко молчал про брата, который получил срок за терроризм и сидел в тюрьме в Бадахосе. Любовь, дружба, смех, мужчина-диван, роза или книга в подарок – все это в считанные секунды поглотила бездонная пропасть.
А дело было так. Девяносто пятый год, дождливые январские сумерки. Нерея с Энеко договорились, как обычно, прогуляться по Старому городу, съесть по паре пинчос, запить их вином, а потом отправиться к нему, или к ней, или же разойтись по своим квартирам, потому что завтра, дорогой, у нас рабочий день. Они переходили из бара в бар, укрывшись под одним зонтом, и оказались на улице Тридцать первого августа. Нерея непрерывно хохотала над шутками Энеко. Но когда они дошли до бара “Ла Сепа”, ей стало не до смеха. По радио среди прочих новостей она уже слышала, что часов за пять-шесть до этого боевик из ЭТА убил в баре вице-мэра, который обедал там вместе с несколькими товарищами по партии.
– Это здесь убили Грегорио Ордоньеса?
– Ну, о нем я ни одной слезинки не пролью. Из-за таких типов, как он, мой брат сидит в тюрьме.
Они прошли мимо бара. Нерея чуть отодвинулась от своего спутника – а значит, высунулась из-под зонта – и уже чувствовала капли дождя на руке, а еще она вдруг обнаружила ту самую трещину.
– Твой брат в тюрьме?
– В Бадахосе. Разве я тебе не говорил? Срок ему впаяли нешуточный.
– И за что он туда попал?
– За что, за что… Боролся за то, что любил.
Они подошли к церкви Святой Марии. Энеко снова принялся шутить, но его подруга больше ни разу не засмеялась. А еще она тихонько освободилась от его руки под тем предлогом, что ей понадобилось что-то отыскать в сумке. Ну и как теперь поступить? Броситься бежать? На лице ее застыло притворное спокойствие, губы кривила фальшивая улыбка. На самом деле она так сильно нервничала, что не смогла удержать немалое количество мочи. Дорога до бульвара показалась Нерее вечной. Энеко весело болтал, она молчала. И на автобусной остановке простилась с ним, даже не позволив поцеловать себя в щеку – она испытывала смесь отвращения и ужаса.
Хотя имелись свободные места у тех окошек со стороны тротуара, где стоял под зонтом он, ожидая от нее привычного взмаха руки, Нерея выбрала сиденье в другой части салона. По пути в Амару ей пришло в голову, как можно оправдать их разрыв. Она позвонила ему по телефону, как только добралась до дому. Сказала, что в ее жизни есть другой мужчина. Такая ложь в подобных случаях действует безотказно. Она не стала ждать ответа и повесила трубку. Могла бы, конечно, сказать правду, но тогда пришлось бы упомянуть про отца. Ни за что на свете.
Подругам она что-то наплела по поводу конца этой любовной истории. Да их, собственно, похождения Нереи не слишком и волновали. Ее женская компания, кстати сказать, в ближайшие годы почти что распалась, хотя раз в год по обещанию они все-таки встречались в ресторане, чтобы вместе поужинать – но ни разу в полном составе. Причины были самые обычные: одна встретила подходящего мужчину, вторая получила работу в Барселоне, вдова снова вышла замуж. И так далее.
А Нерея? Все то же самое – по-прежнему жила в обнимку со своим одиночеством. Она пыталась возмещать потери, путешествуя на край света – на Аляску, в Новую Зеландию, в Южную Африку. А еще заполняла свободное время разного рода занятиями: записалась в академию языка, чтобы подтянуть свой английский, чаще стала ходить в спортивный зал, посещала кулинарные курсы. Иногда, случалось, отправлялась куда-нибудь вместе с одной из подруг – разведенной или на грани развода, и та часами выливала на Нерею свои семейные проблемы и просила совета – это у нее-то, хотя Нерея не имела никакого опыта ни в качестве жены, ни в качестве матери.
И вот так, переживая один дождь за другим, она достигла тридцати шести лет. Тридцати шести! Как же быстро это происходит. Но я не стану грустить, не дождетесь. А поскольку день ее рождения пришелся на праздник Сан-Себастьяна, она отправилась с подругой на площадь Конституции посмотреть на подъем флага. Они танцевали, выпивали, снова выпивали, и наступил момент – уже глубокой ночью, – когда Нерея обнаружила, что едет в такси в обществе мужчины с прекрасными зубами, от которого великолепно пахнет. Он тискал ее груди и делал много чего еще, но что именно, лучше меня не спрашивайте, потому что я попросту этого не помню. В голове сохранились лишь какие-то смутные воспоминания. Знаю, что на рассвете он принимал душ – я слышала звук льющейся воды. Потом пришел и раздел ее. Нерея, пьяная до потери сознания, лежала на животе на какой-то странной кровати. О том, что он ею овладел, она догадалась только утром, обнаружив у себя между ног остатки спермы. Он ждал ее в роскошно обставленной гостиной. Очень красивый, в темно-синем шелковом халате. Стол уже был накрыт к завтраку – с цветами, свечами и кучей всякой чудесной еды и чудесных напитков. Ну просто не описать словами! И только тогда, усевшись напротив, Нерея узнала его имя – Энрике.
– Хотя друзья зовут меня просто Кике.
97. Шествие убийц
Уже через несколько часов после знакомства матери с Энрике та в телефонном разговоре тоном, не терпящим возражений, заявила Нерее, что этот мужчина слишком много о себе воображает. Более самонадеянного типа свет не видывал. И свое зеркало, как легко догадаться, он уже до дыр проглядел. Весь надушенный… А еще он из тех, кто слышит только себя самого. И, явно желая уколоть Нерею, спросила: небось и в кровать ночью ложится в костюме и при галстуке? Дочь в ответ сказала, что матери придется к нему привыкать, поскольку он вошел в ее жизнь, чтобы остаться там навсегда.
– Неужели ты находишь его красивым?
– Даже более того.
– Ну, знаешь! И смотри, как бы его у тебя не увели. Такого мужика придется караулить двадцать четыре часа в сутки.
Биттори и ведать не ведала, что этот вопрос Нерея с Кике уже заранее обсудили. И договор, к которому они пришли, стоил Нерее многих бессонных ночей и потоков слез, но, оставшись наедине с собой, она прикинула и так и сяк, взвесила все за и против, послушалась совета подруги и решила противопоставить его эгоизму свой собственный. А пошел бы он… Иными словами, она уступила. И в тот же миг почувствовала, как внутренняя часть ее существа словно выросла. Что, почему? Ну, скажем так: я почувствовала себя освобожденной. Было и еще одно: между нею и Кике родилось некое взаимопонимание/сообщничество, которые все эти годы помогали им создать прочную основу для отношений, несмотря на повторяющиеся – а на самом деле скорее постоянные – ссоры и разрывы.
Пытаясь объяснить подруге ситуацию, Нерея рассказала такой случай:
– Вряд ли существует на свете пара, которая разбегалась бы чаще, чем мы с ним. Однажды, когда мы находились у него дома, я сказала, что на сей раз ухожу от него навсегда, то есть окончательно и бесповоротно. Но так как на улице шел сильный дождь, а я перед этим несколько часов провела в парикмахерской и у меня не было с собой зонта, я решила все-таки остаться – и другой такой чудесной и романтической ночи, какую мы провели с Кике тогда, мне не припомнить.
Кике никогда даже не пытался ее обмануть. Ему это и в голову не приходило. Как-то раз, например, явился на свидание с опозданием и со свежей царапиной на подбородке. Он извинился, откровенно и без смущения объяснив:
– Радость моя, прости, что опоздал. Понимаешь, был с одной девчоночкой, и дело у нас слишком затянулось.
В голове у Нереи яркой вспышкой загорелось одно слово: “хватит”. И после пиротехнического взрыва во мраке ее мыслей осталась россыпь искр, в каждой из которых можно было прочесть: “все кончено”. Этот тип не только откалывает такие вот номера, но в довершение всего еще и нагло хвастается этим прямо мне в лицо. К тому времени они были знакомы едва ли больше месяца. И вот вам пожалуйста… А ведь Нерея была влюблена в него каждой своей жилкой и готова была поклясться, что Кике, такой нежный, такой милый – до чего хорош мерзавец! – отвечает ей тем же. Она в растерянности стала оглядываться по сторонам, словно ища скрытую камеру, которая подтвердила бы, что это всего лишь шутка.
– Что с тобой? – Он выглядел искренне удивленным. – Нерея, дурочка, неужели я должен объяснять тебе такие вещи? – И он объяснил: – Радость моя, кто-то увлекается теннисом, кто-то коллекционирует марки или монеты. А мне, честно должен тебе признаться, нравится секс. Я не могу обойтись без ощущения, какое дает обладание женским телом. Сотнями, тысячами тел – сколько я сумею отходить, пока у меня будут оставаться силы. Это своего рода вид спорта, к которому у меня имеются особые способности, понимаешь? Но это никак не касается наших с тобой отношений – они ведь и вправду сложились просто чудеснейшим образом. Я очень тебя люблю. Ты моя Нерея, only one[102]. Можешь в этом не сомневаться. А вот те поставщицы оргазмов, с которыми я сплю, не зная даже ни где они живут, ни как их зовут, ничего для меня не значат в смысле чувств. Повторяю: ни-че-го. Это инструмент для получения удовольствия. Разве ты не ходишь в спортзал? Ну вот и я точно так же – только вместо того, чтобы заниматься на бегущей дорожке, упражняюсь, пользуясь очередным привлекательным телом. И мне будет очень жаль, если ты не сумеешь принять меня таким, какой я есть.
– А ты согласишься на то, чтобы я точно так же начала относиться к мужским телам?
– Подожди, подожди, а разве я хоть раз говорил тебе, что ты не должна делать то или это?
– Ладно, дай мне время. Я должна подумать.
Нерея встала – они сидели на террасе “Каравансарая”, синий день клонился к вечеру, вокруг сновали детишки и голуби – и пошла вдоль собора, серьезная, растерянная, спрашивая себя: ну почему я не могу послать его ко всем чертям? Хорошо, допустим, я его туда пошлю, а как потом заполучить обратно? Она рисовала в воображении разные ситуации – самые унизительные для себя, самые постыдные и оскорбительные, – и любая из них шла вразрез с тем, как она понимала супружескую жизнь. Ну, не знаю, чтобы это были нормальные, разумные отношения, чтобы непременно имелся мягкий диван и тапочки. Чтобы один жил ради другого. Верность и все такое прочее. Но понятно ведь и то, что я в свои тридцать шесть лет не должна пропустить последний поезд, особенно если поезд такой привлекательный, как этот.
Она в срочном порядке встретилась со своей задушевной подругой. Под глазами черные круги после бессонной ночи. На столе – кофе с молоком и круассаны. Выслушав подробный отчет, подруга напрямую спросила Нерею, любит ли она Кике.
– Знаешь, боюсь, что не могу ответить нет. В противном случае, думаю, я бы давно прогнала его к чертовой матери. Беда вот в чем: я не хочу его ни с кем делить. Хочу, чтобы он целиком и полностью принадлежал мне одной.
– А что ты дашь ему взамен? Тебе ведь уже тридцать пять.
– Тридцать шесть.
– Нерея, детка, а вот мне кажется, что ты попала не в такую тяжелую ситуацию, как описывала ее вчера по телефону. Если ты и вправду любишь его, у тебя не так много вариантов для выбора. Или ты немедленно с ним расстаешься, то есть теряешь все и остаешься одна со своими тридцатью семью годами…
– Тридцатью шестью.
– Или ты все ставишь на карту и терпишь его фокусы. Да, это не может не бесить, знаю, но главное – выиграть партию.
– А если он влюбится в другую?
– На мой взгляд, куда рискованнее было бы иметь дело с человеком мрачным и всем недовольным.
– А если он подцепит какую-нибудь болезнь? СПИД, например? И меня тоже заразит?
– Хорошо, позвони ему и скажи, что между вами все кончено.
– Ты с ума сошла?
– Тогда тебе придется принять его таким, каков он есть.
– Думаешь, это так легко?
– Нелегко, но ты справишься.
– Он просто свинья.
– Но это твоя свинья, Нерея. Так что обращайся с ней получше.
Нерея отказалась встретиться с ним в одном из привычных для них мест. Почему? Ну, чтобы не выглядеть чрезмерно покладистой. Кике говорил по телефону очень ласково, не задал ни одного вопроса, на все соглашался. Нерея спряталась за эстрадой на бульваре и видела, как он минута в минуту явился, тщательно одетый и причесанный, и сел за столик на террасе кафе “Барандиаран”. А она тем временем выбрала уличную скамейку, где Кике не мог ее увидеть, и около двадцати минут забавы ради разглядывала публику. Пусть подождет. Прежде чем подойти к нему, она, глядясь в маленькое зеркальце, подправила тени на веках и капнула на запястья по капле непристойно дорогих духов, которые только что купила.
Вот так-то, стоит мне только захотеть, и этот самодовольный тип не переплюнет меня ни в элегантности, ни в хорошем аромате. Она шла сквозь толпу походкой манекенщицы – цок-цок – в туфлях на высоком каблуке, с распущенными волосами, зная, что то один, то другой мужчина провожают ее взглядом, что Кике тоже смотрит на нее с террасы кафе. Где-то в середине пути губы перестали слушаться Нерею. И появившаяся на них улыбка – не отрицай этого, Нерея, – означала капитуляцию. Одну из?.. Нет, полную капитуляцию. Кике встал, чтобы поцеловать ее, восхититься ею, и отодвинул для нее стул, как и положено хорошо воспитанному кавалеру.
Нерея сразу взяла быка за рога:
– Только не у меня на глазах.
Больше она ничего не сказала. Кике едва заметно кивнул в знак согласия, потом сделал официанту заказ, вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький кожаный футляр и молча протянул Нерее. Внутри лежала цепочка с подвеской в виде листочка гинкго, все из золота. Нерея не стала ломаться и сразу призналась, что подарок ей нравится. После чего Кике приблизил свои губы к ее губам, и она не отказала ему в поцелуе.
Разговор шел на самые разные темы. Он пил виски со льдом, время от времени поднося стакан к глазам, чтобы посмотреть сквозь него. Она попросила принести ей тоник, так как через час у нее начинался урок английского. И тут они увидели, как с улицы Майор, всего в нескольких метрах от того места, где они сидели, выходит уже ставшая привычной манифестация родственников попавших в тюрьму членов ЭТА.
Мужчины и женщины шли ровным шагом, образовав два параллельных ряда, одни беседовали с соседями, другие молчали. Каждый нес в руках длинную палку. К палке был прикреплен плакат. На нем – портрет осужденного члена ЭТА с написанным снизу именем. На портретах были исключительно молодые лица – сыновья, дочери, братья, сестры или мужья тех, кто участвовал в шествии. Люди расступались, чтобы дать им дорогу.
Бывая в Старом городе, Нерея то и дело встречала подобные манифестации, иногда натыкалась на них внезапно, просто завернув за угол. Она не обращала на такие шествия никакого внимания, независимо от того, видела их вблизи или издалека. Словно их и не было. Отворачивалась – и точка. В ближнем к террасе ряду она узнала Мирен, та с угрюмым, но гордым видом несла фотографию сына. Нерее случалось видеть ее и раньше.
Кике:
– Шествие убийц.
– Говори потише. Мне не нужны лишние неприятности.
Тут он нагнулся и зашептал на ухо Нерее:
– Шествие убийц. – Потом опять выпрямился и заговорил обычным голосом: – Так тебе больше нравится? Но от того, громко или шепотом я это скажу, мнение мое не изменится.
На сей раз уже Нерея протянула ему свои губы, а он ответил ей поцелуем.
98. Свадьба в белом
Была назначена дата свадьбы. Через несколько дней на улице Амара к Нерее подскочила какая-то женщина:
– Я наложу на себя руки, и виновата будешь ты.
Судя по всему, она поджидала Нерею. Та не была с ней знакома, да и сейчас не спросила имени. Просто попыталась обойти, но женщина (лет тридцать, довольно привлекательная) преградила ей дорогу:
– Ты никогда не сделаешь его счастливым, как могла бы сделать я.
До Нереи вдруг стало что-то доходить. На этом лице, оказавшемся сейчас так близко, отпечаталось отчаяние, глаза горели злобой и ненавистью, они покраснели, словно из них совсем недавно пролились реки слез. Женщина продолжала говорить, но уже спокойнее, не стараясь оскорбить, просто с угрозой/предостережением подняла вверх указательный палец. Было очевидно, что она страдает каким-то душевным заболеванием.
– Не воображай, что в твои годы ты сумеешь дать то, что ему нужно.
Терпи, Нерея. Терпи. Нерея не вытерпела:
– Так почему ты, черт бы тебя побрал, не делаешь того, о чем тут талдычишь? Пойди и наложи на себя руки, тогда и меня оставишь в покое.
Было понятно, что женщина не ожидала ничего подобного. Она опешила и словно приросла к месту. Нерея воспользовалась ее оторопью/растерянностью, чтобы решительным шагом – цок-цок – продолжить свой путь. Больше она никогда ту женщину не встречала. Может, и на самом деле покончила с собой, как обещала? Обещала? Не будь такой злой, девушка.
Поначалу ей очень хотелось рассказать Кике об этой встрече. Только вот зачем? Вероятно, женщина была одной из многих, переспавших с ним. Бедняжка. Наверное, ее не устраивала роль члена АОПО (Анонимного общества поставщиц оргазмов), и она решила свергнуть меня с трона.
Нерея посоветовалась с Шавьером. Совместное или раздельное владение имуществом она должна выбрать? Как он считает? Брат без малейших колебаний высказался за второй вариант. И добавил, что советует это не потому, что настроен против Кике:
– Ведь он, в конце-то концов, человек вполне обеспеченный. Но никто не знает, что может случиться в будущем, поэтому хорошо бы тебе оставить за собой последнее слово в том, что касается твоей личной собственности.
Так она и поступила, когда они отправились к нотариусу, а Кике и не думал возражать. Они обвенчались – он атеист, она с большими сомнениями в вопросах религии – в соборе Доброго Пастыря. Биттори поставила условие: она явится в собор только при условии, что таинство венчания не будет совершать епископ. По ее словам, этот сеньор проявляет милосердие к одним только убийцам, поэтому она даже имени его спокойно слышать не может, ее от него с души воротит, к тому же в первую очередь из-за епископа сама она утратила веру. А вот родители Кике, уроженцы Наварры из Туделы, свою веру сохранили. И прежде всего ради них – а еще, конечно, чтобы придать церемонии нужный шик, – Нерея с Кике решили венчаться оба в белом.
А потом на протяжении нескольких месяцев улыбки новобрачных (на фоне дворца Мирамар) украшали собой витрину фотоателье, расположенного в крытой галерее на площади Гипускоа.
Свадебный банкет, устроенный в ресторане рядом со смотровой площадкой Улиа с видом на море, растянулся до вечера. Биттори на прощанье – под хмельком? – сказал одну вещь, которая заинтриговала Нерею:
– Желаю тебе большой удачи, а она тебе очень даже пригодится.
Чуть позже Нерея потихоньку рассказала об этом Шавьеру.
– Прошу тебя, не придавай ее словам никакого значения. У нашей матери жизнь сложилась так, как сложилась. И в такие особенные дни, как нынешний, на нее наверняка накатывают воспоминания.
Дело было в субботу. В понедельник новобрачные на поезде отправились в Мадрид. Там они гуляли, что-то посещали, неустанно занимались любовью, поскольку Кике был одержим мечтой – поджимало время? – побыстрее стать отцом. Так что, едва переступив порог гостиничного номера, они брались за дело, даже покрывало с кровати не успевали снять. В таких случаях Нерея вдруг видела мысленным взором искаженное злобой лицо той женщины, которая сказала ей на улице, что она никогда не даст своему мужу того, что ему надо. Услужливо и покорно Нерея выполняла повеления Кике: повернись вот так, а теперь вот эдак, прижмись крепче. Затем, не успев отдышаться, он уже прикидывал, какое имя дать будущему ребенку, что огорчало Нерею, потому что это, как говорят, приносит несчастье.
Из Мадрида они на самолете полетели в Прагу. Там планировалось провести остаток медового месяца. Такая мысль пришла в голову Нерее. Одна подруга рассказывала ей про Прагу чудеса. Ах, это, ах, то, ах, какой-то там мост, ах, какой-то там собор немыслимого века. Значит, в Прагу? Да, в Прагу. Как ты скажешь, радость моя. Кике владел половиной предприятия, которое занималось производством и продажей спиртных напитков, поэтому счел, что поездка даст великолепную возможность на месте изучить перспективы ведения дел в Чешской Республике, там у них до сих пор клиентов не было. Ему хотелось попытать счастья, и он сунул в чемодан пачку рекламных проспектов на английском языке, где была представлена их продукция, а еще – картонную коробку с двадцатью бутылочками разных напитков. Он говорил, что:
– Германия и Австрия каждый год покупают у нас чертову прорву пачарана[103]. Почему бы и чехам не распробовать то, что так нравится их соседям?
– И что ты собираешься делать с этими проспектами? Раскладывать в пражских супермаркетах?
– Это уж мое дело, что с ними делать, такие вопросы я давно научился решать.
В Праге, как и в Мадриде, они бродили по улицам, фотографировались, посещали достопримечательности, глазели по сторонам и занимались любовью, думая о продолжении рода. Правда, здесь с ними случилась одна неожиданная история, которая до сих пор всплывает у обоих в памяти, когда речь заходит об их медовом месяце. А дело было так. Через пару дней после приезда они решили дойти пешком до Малой Страны, пообедать там, а также перефотографировать все исторические места и занятные приметы городского быта. Солнечная погода располагала к такого рода прогулкам. Как и очень доходчивая карта города, которой их снабдили в гостинице.
По мощенным булыжником улицам они спустились к Карлову мосту. И, ежеминутно обмениваясь восторгами, прошли между двумя башнями у входа. Нерея – в солнечных очках – захотела сфотографироваться рядом с одной из статуй. Бросила сумку к парапету и стала приводить в порядок распущенные волосы. И тут откуда ни возьмись появился парнишка лет четырнадцати-пятнадцати, но не больше шестнадцати, схватил сумку за ручки и со всех ног кинулся прочь. Нерея тотчас поняла, что случилось. Она закричала, обращаясь одновременно и к мужу, и к каменным фигурам, а также ко всей Европе и произнеся одно-единственное испанское слово bolso[104], а потом еще успела назвать главное из того, что там лежало: паспорт и Visa. Что оказалось очень эффективным способом подтолкнуть Кике к решительным действиям.
Он кинулся вдогонку за воришкой. Впервые Нерея видела мужа бегущим. Да еще как быстро бегущим! К тому же обстоятельства складывались в его пользу, поскольку мальчишке приходилось пробивать себе путь среди лениво бредущих или даже стоящих туристов, а пока до них добегал Кике, они уже расступались, давая ему дорогу. Тут вор натолкнулся на мужчину с восточными чертами лица и понял, что ему не скрыться, к тому же прыткий иностранец запросто мог как следует отколотить его. Выхода у парня не было, и он швырнул сумку в реку, наверное решив отвлечь от себя внимание преследователя, то есть поставить его перед выбором.
И действительно отвлек. Кике тотчас забыл про него и рванул к парапету. Нерея, отставшая от него метров на тридцать, увидела, как он мгновенно разулся и что-то сунул в ботинок. Часы Patek Philippe? А что же еще! Река Влтава в этом месте выглядела более чем солидно. Только этого нам еще и не хватало! Нерея хотела крикнуть ему: бога ради, не вздумай прыгать, но он уже прыгнул, выставив ноги вперед, а она поспешила встать поближе к его ботинкам со спрятанными там роскошными часами.
Кике был там, внизу, в своей белой рубашке за сто двадцать евро, он плыл в мутной воде и показывал жене спасенную сумку. Плыл спокойно, с улыбкой, очень по-мужски – к ближайшему берегу. Группа азиатов аплодировала ему с моста. А Нерея, держа в одной руке ботинки Кике и Patek Philippe в другой, чувствовала себя переспелым фруктом, который вот-вот лопнет он переизбытка любви. Они встретились на берегу. Не боясь вымокнуть, и даже наоборот, желая быть такой же мокрой, как он, Нерея кинулась в объятия Кике. И многочисленные фотоаппараты, появившиеся вокруг, запечатлели их объятие. Мокрый муж и счастливая жена прежним путем вернулись в гостиницу. Пока они, взявшись за руки, шагали по мосту, Нерее вспомнилась женщина из Анонимного общества поставщиц оргазмов, которая за несколько недель до того пристала к ней на улице.
99. Четвертый член группы
Долгие годы тюрьмы даром не проходят. Нет, не проходят. Споры с товарищами утомляют, доводят до отчаяния, как и столкновения с тюремщиками или голодовки протеста. Одиночество, с одной стороны, служит убежищем/укрытием, а с другой – отдает тебя во власть самых жестоких фантазий и выматывает душу. Хосе Мари лежит на своей койке, пребывая в сомнениях. Может, было ошибкой отвечать на письмо жены Чато? Ох, не дай бог, проведает об их переписке матушка. Лучше про последствия даже не думать. Но он с некоторых пор только обо всем этом и думает, а после того, как написал Биттори, думает еще неотступнее. Так и сяк прокручивает в голове свои сомнения и словно из мешка вытряхивает к собственным ногам воспоминания – короче, изводит себя. Здесь, в тюрьме, если ты слишком много думаешь, это лишает последних сил. Ты видишь перед собой горькую истину. Вот она, твоя жизнь, парень, кучей мусора валяется в четырех стенах тюремной камеры.
Поглощенный своими мыслями, он переводит взгляд на пол – и что видит? А что он может там увидеть? Тюремный пол внезапно превращается в пол той самой квартиры на проспекте Сараус. Это было в августовскую субботу много лет тому назад, когда город отмечал свой праздник. Пришла пора устроить генеральную уборку. Раньше они трое делали это по очереди. Из-за чего и возникали споры. Моя очередь? Твоя очередь? Чья очередь? И так из раза в раз. На несчастную жертву падала вся работа. Хотя, если честно, многого и не требовалось: протереть тряпкой там, пройтись пылесосом сям, только чтобы совсем не зарасти грязью. Решение принял Хосе Мари: ребята, по субботам делаем уборку все вместе. Этим они тогда втроем по-казарменному и занимались. Тебе – санузел, тебе – гостиная, мне – кухня. Раз-два и готово – всего какой-нибудь жалкий час.
У них было включено радио. Как обычно. Радио всегда должно работать. Мало ли что случится. А так можно сразу узнать, была вчера полицейская облава или нет, устроили очередной теракт или нет, и не накрыли ли какую-нибудь оперативную группу. Впечатление такое, что чем более закрытой по всем правилам должна считаться информация, тем быстрее распространяет ее пресса. А для всех, кто участвует в вооруженной борьбе, это, само собой, только на руку. Почему? Потому что можно вовремя принять нужные меры или даже сняться с места, если возникает реальная опасность. Кто знает, как оно там обернется.
Примерно часа в три дня они уже знали, что в районе Морланс произошло что-то по-настоящему серьезное. Диктор рассказал/сообщил, что район оцеплен. Журналистов туда не пускают. Кто не пускает? Гражданская гвардия. Откуда-то издалека доносились выстрелы, много выстрелов, был и один взрыв. Подробности выглядели не слишком правдоподобными, их было маловато, но все же достаточно, чтобы понять: полиция проводит в Сан-Себастьяне крупномасштабную операцию.
У Хосе Мари с самого начала появились дурные предчувствия:
– Чопо, бросай все и давай следи за улицей.
Где-то около шести вечера они получили первое подтверждение. Полицейские засекли группу “Доностия”. Сообщалось о трех убитых в одном из жилых домов Морланса. И еще: были произведены аресты и в других местах, но, где именно, диктор не сообщил.
Хосе Мари, обращаясь к Чопо, который по-прежнему не отходил от окна:
– Ну, что там?
– Да ничего пока.
Но Хосе Мари не успокоился. Стоит нам зазеваться, как эти сволочи будут тут как тут – глядишь, уже и дверь вышибают. Обращаясь к Пачо:
– Думаю, нам с тобой лучше уйти, а этот пусть остается.
– А какое отношение мы имеем к тем, из “Доностии”? Мы их знать не знаем и не являемся для них группой поддержки.
– Скорее всего, в руки гвардии попала вся наша информационная база. К тому же мы, полагаю, имеем общие каналы связи с руководством, но тут трудно сказать что-то наверняка. Надо уходить – хотя бы на одну только ночь. А Чопо завтра утром нам сообщит, было на улице что-нибудь подозрительное или нет.
До той поры их было трое, а теперь вдруг стало четверо. С ними поселилась подозрительность: они непрерывно гадали, не следят ли за ними. Да, да, она стала еще одним членом их группы. И достаточно влиятельным, надо заметить. Этот вопрос они обсуждали в темноте на склоне горы Игуэльдо, где провели ночь, забравшись в спальные мешки. У Пачо были свои сомнения:
– Ладно, а как ты тогда объяснишь, что за нами до сих пор никто не явился?
– Объясню так, что они ждут, когда можно будет потянуть за ниточку и заполучить весь клубок.
– А у тебя, ненароком, паранойи нет?
– Вчера я встретился в лифте с нашим соседом. Привет, привет. За последнее время я вижу этого типа уже во второй раз. Не знаю, как тебе, а мне такие вещи случайными не кажутся. Не забывай про сегодняшние события в Морлансе. Полицейские сумели напасть на чей-то след. И сказали: вот и хорошо, если мы последим за этой птичкой, рано или поздно накроем всю стаю. Только так и делаются дела на этой войне, Пачо. Можешь даже не сомневаться.
– Если бы все было настолько просто, они бы давно покончили с ЭТА.
– С ЭТА даже самому Господу Богу не справиться. Да, мы теряем бойцов. Но на место каждого павшего встают двое-трое новых. Сил у нас еще надолго хватит.
Где-то вдалеке раздался взрыв.
– А это еще что такое?
И сразу же в той стороне, где лежал город, ночь вспыхнула сверкающими фонтанами и огромными розетками из многоцветных искр. Это был фейерверк “Большой недели”[105] над заливом. Хосе Мари и Пачо сидели на краю леса и смотрели туда, разом забыв про недавний спор, и оценивали каждую новую пиротехническую фигуру.
– Гляди, гляди.
– Ни хрена себе! Вот красотища-то.
Когда спектакль закончился, они вернулись в темноту под деревья и снова залезли в свои спальники.
Летняя ночь в горах. Начали свой концерт сверчки. Пачо ворчал:
– Все эти люди там, внизу, веселятся, у них, туда-растуда, праздник, они выстроились в очереди в кафе-мороженое, а мы шкурой рискуем, борясь за их свободу. Иногда мне очень хочется схватить автомат и – трам-тарам-там-там – полоснуть по ним, чтобы получили по заслугам.
– А ты не бушуй, когда мы станем здесь настоящими хозяевами, тогда все запляшут уже под нашу музыку.
В семь утра они встретились с Чопо на задах корпуса юридического факультета.
– Ну?
– Чисто.
Но Хосе Мари – черные круги под глазами, растрепанные волосы – не мог отделаться от мрачных предчувствий. Он поручил Чопо подыскать им с Пачо временное пристанище. А пока они поспят под открытым небом в своих спальниках. Пачо начал было возражать. Тогда Хосе Мари превратил свое предложение в приказ – и не о чем тут больше говорить. Приказ он подкрепил парой крепких ругательств. Нелегко было спорить с Хосе Мари. У него были сильные, накачанные руки… и он испытывал страх.
В понедельник Чопо сообщил им, что они могут на время поселиться в квартире его товарища по университету, где тот живет со своей девушкой. Но у них есть условия. Какие? Чтобы вы сидели дома – никто не должен видеть, как вы входите или выходите, поскольку квартира расположена в восьмиэтажном доме на окраине Аньорги, жильцы вечно снуют туда-сюда. И пересидеть там можно только до пятницы, не дольше. Хосе Мари посчитал такой срок вполне разумным. Правда, как всегда, озаботился проблемой еды. Чопо: со жратвой никаких проблем не будет, просто хозяева вместо одного батона будут покупать пару.
– Ну, тогда ладно.
Когда стемнело, они сели на автобус до Ласарте. Вышли в Аньорге, где на остановке их дожидалась девушка. Она проводила их до квартиры, дом стоял совсем рядом с железнодорожными путями. Девушка была пухленькой, симпатичной, разговорчивой, с типичной для сторонников abertzale челочкой. А вот парень оказался молчаливым и желчным, под носом у него имелся кривой шрам, как будто когда-то его оперировали, исправляя заячью губу. По взаимной договоренности настоящие свои имена ни гости, ни хозяева не называли, что в данном случае для нас было выгодно, ведь они нас не знали, а вот мы запросто могли узнать их имена у Чопо или просто посмотреть внизу на почтовом ящике. Но какая разница? Главное было сделать наше приключение более необычным.
За ужином они от души повеселились, подбирая друг другу клички. Порой забывали их или путали, и получалось очень смешно. В конце концов, чтобы справиться с этой неразберихой, придумали новые: хозяева – Дама и Валет, Хосе Мари и Пачо – Хлеб и Шоколад. Идея исходила от девушки, но на самом деле это было не более чем способом занять время в первый день, и клички, по сути, им не пригодились, поскольку впредь, обращаясь друг к другу, они не пользовались этими прозвищами, а говорили просто: послушай, ты. К тому же Пачо то и дело ненароком называл Хосе Мари его настоящим именем, и тот отвечал ему тем же.
У Валета с самого начала вид был угрюмый. Как показалось Хосе Мари, что-то с ним было не так. Ночью, когда они с Пачо шепотом обменивались впечатлениями, лежа на своих кроватях, Пачо тоже предположил, что хозяин недоволен их пребыванием в его квартире. Зато она – болтушка и хорошая кулинарка – все время старалась разогнать тучи. Может, в этом и была проблема?
– Ревнует?
– Еще как.
– С чего бы это? По-моему, нет никаких поводов.
Теперь Хосе Мари лежал на своей койке в тюремной камере, уставив взгляд в потолок, и не смог сдержать улыбки, хотя находился не в лучшем настроении. Валет был не таким уж дураком. В летний сезон он работал на пляже, распоряжаясь зонтами и лежаками, поэтому ему приходилось прощаться с ними утром, чтобы исчезнуть на целый день. Уже во вторник Дама, почти полуголая, выставив груди наружу, заскочила в ванную, будто не знала, что Пачо принимает душ, а ведь звук льющейся воды разносился по всей квартире. Когда она переступила порог (ой, прости ради бога), Пачо сразу сообразил, что у нее на уме, и позвал к себе в кабинку. А что ему оставалось делать? Девушку, понятно, долго уговаривать не пришлось.
До Хосе Мари, который читал газету в гостиной, стали доноситься их стоны и пыхтение.
Ночью:
– Как я понял, ты ее трахнул.
– Теперь готовься и ты, спорим, что завтра придет твоя очередь.
Однако, когда она явилась к Хосе Мари, тот решительно дал ей понять, что с ним у нее ничего не выгорит. Как он объяснил потом Пачо с глазу на глаз: такого рода ситуации меня всегда сильно смущают. Я для таких подвигов не гожусь. Хошуне, она ведь себя всегда очень строго держала и ничему меня не обучила. Кроме того, Хосе Мари не доверял Валету. Тот бесится от ревности и вполне способен донести на них. Такие мысли держали Хосе Мари в страшном напряжении, а постоянные попытки толстушки соблазнить его делали ситуацию невыносимой. Так что в четверг, даже не дожидаясь завтрака, они поблагодарили хозяев за приют и вернулись в квартиру на проспекте Сараус – сначала один, а через полчаса и другой. Чопо заверил их, что все минувшие дни наблюдал за улицей и ничего подозрительного вроде бы не заметил.
100. Провал
Для них началась полоса активных действий, и если не удалось сделать еще больше, то только потому, что вышла задержка с поставкой нужных материалов. Они возмущались: в чем дело? Связной раздраженно ответил, что они не одни такие. К тому же у них не сработало взрывное устройство с использованием аммонала, которое они подложили на пути следования нескольких машин с гвардейцами. Если бы взрыв прогремел, этих гадов разбросало бы по соседним крышам, а авторитет группы “Ориа” среди боевиков ЭТА сильно бы вырос.
Группа разгромила автосалон, про хозяина которого ходили разные слухи. Был ли он действительно в чем-то виноват? Какая разница! Разгромили – и точка. Пришлось даже эвакуировать людей из здания. Налет на отделение одного из банков помог им улучшить свои финансовые дела, а с деньгами у них были серьезные проблемы. Трудно сказать, как и на что они жили. Потом, когда уже было спланировано в мельчайших деталях покушение на одного отставного полицейского, пришло известие, что руководство ЭТА в полном составе арестовано на какой-то вилле, или в доме, или в коттедже под Бидаром[106].
Полная растерянность. Более того, ощущение сиротства и беспомощности. Что делать? Хосе Мари, изъеденный тревогой, ожидал самого худшего. Он вспомнил, что когда-то при аресте Патроса у того обнаружили длинный список членов организации. Интересно, этих недоумков тоже взяли вместе со всем их багажом? Пачо сразу предупредил:
– В горы ты меня больше не затащишь.
Они решили выждать и отказаться от любых действий до прояснения ситуации. Все трое старались в течение дня в квартире не оставаться. Из осторожности, а также потому, что на этом настаивал Хосе Мари, которому даже облака казались переодетыми в штатское полицейскими. Они обзавелись удочками. Независимо от погоды отправлялись к скалам Чимистарри. Правда, вдвоем, без Чопо, который предпочитал пойти в кино или в библиотеку, а не сидеть часами и ждать, когда же дернется поплавок. Прежде чем выйти из квартиры, они помещали между дверью и косяком еле заметные ниточки и кусочки скотча, чтобы сразу увидеть, если что-то не так. А под коврик клали осколок тонкого винного бокала, который, если на него наступить, будет обязательно раздавлен. Вечером первый из вернувшихся все это проверял. Затем входил в квартиру и включал свет так, как было условлено.
Несколько месяцев неопределенности. Когда, черт побери, будет восстановлено руководство? Они остались без связных. Им не поставляли оружие. Чопо пришлось просить помощи у родителей, чтобы заплатить за аренду квартиры. А между тем государство с помпой провело и Всемирную выставку в Севилье, и Олимпийские игры в Барселоне. Однажды утром Хосе Мари сказал: а пошли они все на хер, я рискну. Отправился на вокзал Амара, сел в поезд “Топо” и уехал в Эндайю. Проведя три дня во Франции, вернулся голодный, грязный, раздавленный.
– ЭТА никогда больше не будет такой, какой была. Мартовские события – слишком жестокий удар для нее.
– А кто теперь у главного руля?
– Да ходят там какие-то. Но с ними пока все неясно. Сами не знают, где у них правая рука, а где левая нога.
При всем при том съездил он все-таки не впустую. Сумел договориться о встрече в районе Грос с членом организации, который выполняет функции связника, если я правильно понял, или с кем-то из нового руководства, или с кем-то близким к руководству, или хрен знает с кем еще. У Хосе Мари доверия к этому типу не было никакого. Он послал Пачо за час до назначенного времени, чтобы тот выпил в баре стаканчик пива.
– Ну и что?
– Чисто.
Только тогда пошел сам Хосе Мари и передал типу письмо, которое Чопо напечатал на машинке. В письме они трое просили, чтобы их перевели на какое-то время в Ипарральде – в резерв. И объясняли свою просьбу так: мы действуем не слишком эффективно, нам надо познакомиться с новыми способами изготовления взрывных устройств, да и в стратегических вопросах мы слабоваты. Ответа им пришлось ждать несколько недель. Их просьбу удовлетворили. Выделили проводников через границу. Чопо присоединился к ним еще через несколько месяцев.
Пачо определили работать на птицеферму, которой владели французские баски, убежденные националисты. Хозяева и их дети при помощи учебника стали учить его баскскому языку. Неужели он совсем на нем не говорил? Нет, не говорил, знал пару десятков слов, которые волей-неволей западают в память, и товарищи часто и сурово его за это упрекали. Раз ты не говоришь на эускера, значит, ты никакой не баск, твердили они, даже если ты стал членом ЭТА. Он в ответ нажимал на то, что активно участвует в борьбе за независимость. Они посылали его куда подальше.
Что касалось Хосе Мари, то он выразил большое желание расширить свои познания в области взрывчатых веществ. Неудавшееся покушение на конвой гражданской гвардии занозой засело у него в голове. А Чопо? Чопо наконец-то прошел огневую подготовку. Когда некоторое время спустя они снова включились в борьбу, все трое были убеждены, что теперь составляют более сильную и лучше, чем раньше, подготовленную группу, смертоносную группу.
Через пять месяцев их арестовали. И до сих пор, хотя прошло столько лет, Хосе Мари не перестает раздумывать над вопросом: где случился прокол и кто из них прокололся? Неужели и вправду организация, как утверждали некоторые, была напичкана предателями? Или это они трое пренебрегали мерами безопасности? Только не я, а вот Пачо – наверняка. Другого объяснения нет. И то, что поначалу выглядело подозрением, постепенно переросло в уверенность. Их схватили всего за несколько дней до того, как все у них было готово для особенно мощного удара: назначен час, выбрано место, в машину заложена взрывчатка. Поэтому у Хосе Мари не осталось ни малейших сомнений, что кто-то на них донес. Пока шел судебный процесс и Хосе Мари попадал в одну клетку с Пачо, он не удостаивал того ни словом. И взглядом не удостаивал. Много чести было бы. Словно того и не существовало.
Прошло немало времени, прежде чем он изменил свое мнение, хотя до сих пор был уверен, что взяли их по вине Пачо. Да, я готов согласиться, что если бы тот сотрудничал с полицией, вряд ли загремел бы на столько лет в тюрьму, а ведь Пачо сидит до сих пор. Иными словами, он не был предателем, нет, не был, но вел себя неосмотрительно.
Однажды вечером они заметили: Пачо ходит сам не свой, что-то его гложет.
– Ну, что там у тебя случилось?
– С отцом совсем плохо. Вряд ли долго протянет.
У Хосе Мари в голове замигали красные сигналы тревоги:
– А как ты об этом узнал?
Поняв, что проболтался, Пачо вынужден был признаться, что тайком навестил родителей. Когда? Если честно, даже несколько раз. Это было серьезным нарушением дисциплины. Товарищи попросили/потребовали подробностей. Они их получили – самые неутешительные подробности. Отец исхудал так, что стал похож на скелет, у него ужасные боли. Никого уже не узнает. Отец…
– Ладно, хватит.
И месяца ведь не прошло, как они, чтобы подстраховаться, поменяли квартиру. И вот на тебе, еще и это. Хосе Мари всю ночь не сомкнул глаз. Несколько раз вставал с постели. Стоял в темной комнате у окна и шарил взглядом по пустынной улице, смотрел на горящие фонари, на припаркованные внизу машины. Пять, десять минут, потом снова ложился. Утром он с глазу на глаз поговорил с Чопо.
– У меня предчувствия самые хреновые. А ты что думаешь?
– Скорее всего, никто его не заметил и ты зря психуешь.
– Наши имена наверняка были в каких-нибудь бумагах, перехваченных полицией. Или, например, кто-то из задержанных назвал нас, когда его как следует поприжали. И тогда им достаточно поставить полицейского в штатском у домов наших родителей. Если возьмут одного – все мы тотчас отправимся следом. Ну что, заметаем следы?
– Опять? Подожди несколько дней. Выполним задуманное, а потом – ищи нас свищи.
И он дал себя уговорить, он, такой предусмотрительный, такой недоверчивый. Видать, устал. Устал от чего? От бесконечных переездов, от того, что надо постоянно быть начеку, от того, что тревога и напряжение не отпускают ни на секунду, да и от необходимости скрываться, черт побери. Все это понемногу изводит человека. У него была возможность оказать сопротивление, потому что от того мгновения, когда прогремел взрыв у двери их квартиры, до того, как в его комнату ворвался с дикими воплями первый полицейский, он вполне успел бы схватить пистолет, но… какого черта, я ведь еще такой молодой, и когда-нибудь меня выпустят. Оставалось пять минут до половины второго ночи. В первый миг я почувствовал облегчение. Наверное, потому что был наивным простаком и даже не представлял, что меня ждет.
101. Txoria txori [107]
Как только он замечал/угадывал/унюхивал, что с пола начинает подниматься пыльца тоски, сразу принимался насвистывать любимую мелодию. Она приходила к нему сама собой. Он бесконечно благодарен этой песне. И на то у него есть веские причины. Иногда, направляясь в столовую или во внутренний двор либо после прощанья с матерю в комнате для свиданий, он шепотом ее напевал, чтобы побыстрее прийти в себя: Hegoak ebaki banizkio[108], – настолько тихо, будто только воображал, что поет, и всегда подражал голосу Микеля Лабоа[109]. Хосе Мари сам себе пообещал: в тот день, когда он получит свободу, сразу по приезде в поселок поднимется на гору и споет Txoria txori, но чтобы не было других свидетелей, кроме травы и деревьев.
Когда его вытаскивали из квартиры, взгляд случайно натолкнулся на CD с песнями Лабоа. Он уже давно его не слушал. Диск лежал на столе, там и остался. Для Хосе Мари он был последней деталью того мира, который навсегда ушел в прошлое.
Обыск продолжался несколько часов. Их держали по отдельности, каждого в своей комнате, руки застегнуты наручниками за спиной. Оружие? Ну да, кое-что из оружия в квартире имелось. Основной запас – в тайнике, но об этом полицейские узнают уже много позже. Вопросы ему задавали в присутствии судебного секретаря. А это? А то? Где храните? Где лежит? Потом их посадили в разные машины. Хосе Мари вывели на улицу последним.
– Ну, давай шевелись, амбал.
Уже начинало светать. Сизая утренняя свежесть, пение птиц, соседи у окон. Когда он поднялся в фургон, его резко вывел из дремотного и заторможенного состояния сильный удар по лицу – одному из полицейских показалось, что арестованный на него смотрит. Нечего на меня пялиться! И сразу же второй сказал с издевательским безразличием:
– Доигрался ты, gudari.
По дороге его заставили опустить голову между ног, как и тогда, когда он ехал на встречу с Пакито. Именно в такой позе на ум ему в первый раз пришла песня Hegoak ebaki banizkio / nirea izango zen[110]. Машина мчалась с бешеной скоростью. На краткий миг он очутился внутри песни и почувствовал себя спасенным. Песне предстояло стать его убежищем, его глубоким логовом. Я забиваюсь туда, а этих заставляю поверить, что нахожусь в их полной власти.
Цель поездки – казарма в Инчауррондо. Сначала у него взяли отпечатки пальцев, потом сфотографировали, потом раздели, и кто-то ему сказал: здесь мы будем обращаться с тобой хорошо, но ты должен это заслужить. Подарки мы не делаем. У него из уха вынули серьгу. Здесь нам педики не нужны. На голову натянули черную маску. И, судя по всему, повернули маску так, что отверстия для глаз оказались на затылке, во всяком случае, он ничего не видел. Его заперли в камере. Ни одного грубого слова, ни одного тычка, ни одного удара. Часы текли. Он слышал шаги, приглушенные голоса. И вдруг – крики боли из-за перегородки. Пачо? Хосе Мари, все еще в наручниках, старался одолеть холод и опять вспомнил ту же песню.
Утром, но уже довольно поздно, его повели на допрос. Будет лучше, если он проявит благоразумие, ведь его приятели уже во всем признались и ему теперь деваться некуда. Его обзывали трусом, предателем, придурком и еще по-всякому.
– Хороши у тебя друзья – тебя же и обвиняют в том, что мы вас взяли.
Гвардейцы припирали его к стенке вопросами, ответы на которые прекрасно знали заранее. Вопросами самыми банальными: как его зовут, как зовут его товарищей, сколько ему лет, где находилась квартира их группы. И эти вопросы, вопросы, вопросы повторялись с такой скоростью, что Хосе Мари просто не успевал на них отвечать. Иногда один голос звучал перед ним, другой сзади или сбоку, и одновременно ему задавали два разных вопроса. Сам он никого не видел, но по голосам, шагам и прочим звукам понимал, что гвардейцев вокруг собралось много. Вдруг на голову ему обрушилось шесть, семь, восемь ударов подряд. Кто-то что-то орал ему в ухо. Он воспринимал только разрозненные слова: терпение, отрицаешь, устал, сотрудничать. Крики. И угрозы. И снова удары. И ругань. Он упал – его свалили? – со стула. Били лежачего: вонючий убийца, удары ногами куда придется, а он – руки в наручниках за спиной – не мог даже прикрыться.
Его снова посадили. Кто-то заговорил тихим голосом. Что сказал этот человек? Совершенно непонятно. Какое-то бормотание. Теперь вопросы стали другими. И он заметил, что, когда чуть медлил с ответом, его не били, поэтому он старался тянуть с ответами или пускался в подробности, чаще бессмысленные. Было ясно, что из Чопо и Пачо уже выжали кучу информации. Поэтому вопросы теперь касались деталей повседневной жизни трех членов ЭТА, конкретных деталей терактов, поставки материалов, о чем, вне всякого сомнения, гвардейцы и без него уже многое знали.
Им были нужны имена. Стоило ему замяться, следовал удар. А еще был один гвардеец, где-то чуть поодаль, который предлагал пристрелить эту гадину, этого гребаного террориста, и выкинуть в море. У Хосе Мари под маской горело лицо. А песня? Она не приходила, он ее не мог вспомнить, он вообще ни о чем не мог думать. Его били два или три часа, но про тайник по-прежнему не спрашивали. Возможно, тут крылась какая-то ловушка. Он решил показать им точное место. Может, тогда перестанут бить. Сказал: оружие находится там-то и там-то. Правда? А почему же ты не сообщил об этом раньше? А как они узнали, что он не соврал? С него сняли маску. Чья-то рука варварски схватила его за волосы, чтобы пригнуть голову вниз – ему запретили смотреть на лица присутствующих. Потом показали карту провинции. И даже дали воды. Теплой, но все-таки воды. И в тот миг, когда он кончиком пальца указал нужное место, понял, что место уже было помечено крестиком. Значит, они и так знали. Его даже не повезли туда. Наверняка уже побывали у тайников с кем-то из товарищей или сразу с обоими. И откопали бидоны.
Ночью его затолкали в машину, там было трое гвардейцев, которые продолжали задавать ему вопросы, но главным образом для того, чтобы унизить. Например, что он думает про испанский флаг. Есть ли у него девушка и сколько раз он ее поимел. В таком вот духе. Если не считать нескольких ударов по лицу в самом начале пути, больше его не трогали до самого Мадрида. После вчерашнего ужина у него крошки во рту не было. Однако не голод мучил его больше всего. Ему страшно хотелось спать. Но как только у него закрывались глаза и голова под грузом усталости падала на грудь, гвардейцы резко дергали его за волосы:
– Кончай дрыхнуть, gudari.
Потом они принялись болтать о чем-то своем. А его оставили в покое, хотя по-прежнему следили, чтобы он не закрывал глаз. А глаза у него то и дело закрывались. Было просто невозможно держать их открытыми. Его с силой пинали, опять дергали за волосы. Наконец позволили немного поспать. И вдруг ко мне пришла та самая песня. Ez zuen aldegingo[111]. А может, она ему только приснилась. Пустяк, всего несколько секунд, всего несколько слов без зрительных образов. И это здорово меня поддержало.
Когда его разбудили, была еще ночь и машина на бешеной скорости мчалась по улицам Мадрида. Конечный пункт? Главное управление гражданской гвардии на улице Гусмана эль Буэно. Он не знает, что его ждет. Откуда, черт возьми, мне это знать, если я считал, что того, что на мою долю досталось в казарме Инчауррондо, вполне достаточно, что это вполне соответствовало обычной норме побоев. Когда он вышел из машины, его заставили долго стоять, повернувшись лицом к стене. Как потом стало известно, его товарищей тоже только что туда доставили, но они не должны были видеть друг друга. Кирпичное здание. Кабинеты и служебные помещения. Но Хосе Мари отвели в камеру, расположенную в подвале. И предупредили: он должен с ними сотрудничать. И еще: нельзя никому смотреть в лицо, нельзя заговаривать с другими задержанными, если где-то с ними встретишься.
Так начался для Хосе Мари адский круг – из камеры в комнату для допросов, оттуда на осмотр к тюремному врачу, снова в камеру – и опять все сначала. Четыре дня в одиночке плюс один день в казарме Инчауррондо. Он должен сотрудничать со следствием, не должен оказывать сопротивления, не должен пытаться водить их за нос, должен сотрудничать, и никаких глупостей. На него надели полумаску. Поверх нее камуфляжную маску, потом сразу же еще одну – всего три. Он потеет, его бьет дрожь. Здесь от него тоже требуют имен. Встречался ли он с тем-то, знаком ли с таким-то. Его обвиняли в совершении терактов. Он все отрицал, и его били по голове резиновыми дубинками или обмотанными чем-то палками, не знаю, чем именно обмотанными – то ли пенопластом, то ли изоляционной лентой. Опять вопросы, опять удары. Чтобы он не тешил себя надеждами, его заставили взять в скованные за спиной руки пистолет и обойму патронов. Держи крепче, чтобы отпечатки пальцев были четкими. Вот и славно, сеньор террорист. Теперь ты превратился в убийцу, хотя пока непонятно, кого именно ты убил.
– Это мы и называем вескими доказательствами.
И вдруг: ну-ка давай сделай десять наклонов. Вопросы про его личную жизнь, про родителей, приятелей, бары в поселке, школу, местных abertzale. Еще наклоны, а теперь лифт. Он не понимает, что от него хотят. Сейчас ему покажут. Его поставили перед стенкой, там он должен сесть на корточки, встать, опять сесть на корточки – и так, потея, проделать много-много раз.
Ему надели на голову целлофановый пакет. Нехватка воздуха довела его до исступления. Удушье толкало к сопротивлению. А так как он обладал немалой силой, то, чтобы справиться с ним, потребовалось несколько агентов. Двое или даже трое навалились на него, пока еще один затягивал пакет у него на шее. Есть такой момент, после которого человек оказывается по другую сторону. Тогда уже никакой кислород не вернет его к жизни, и им придется просто избавиться от трупа. Открытый рот пытался любым способом глотнуть хоть немного воздуха, хоть каплю воздуха. Но губы натыкались только на целлофан. Им известна критическая точка. Хосе Мари чувствовал, что у него вот-вот взорвутся легкие. И когда начинал терять сознание, ему позволяли сделать вдох, прежде чем опять оставить без воздуха, доводя до удушья. И так восемь или девять раз. Под конец он на самом деле потерял сознание.
Он рассказал судмедэксперту, что его пытали. А тот со скучающим видом возразил, что может зафиксировать в протоколе только реальные повреждения или увечья и ни в коем случае не должен опираться на субъективные суждения или на личные впечатления. Есть хоть одна сломанная кость? Есть синяки? Нет? В любом случае ты можешь сделать заявление судье, хотя вряд ли тебе это сильно поможет. У Хосе Мари лицо было распухшим, но явные повреждения отсутствовали, и он решил не настаивать. Впредь он обращался в санитарную часть только для того, чтобы справиться о дате и времени, а еще чтобы выпить воды.
На вторую – или третью? – ночь его пытали током. Голого, в камуфляжной маске бросили на пол и прикасались электродами к ногам, гениталиям, к каким-то точкам за ушами. Он корчился, отбивался, кричал. Иногда его тело резко дергалось, когда к нему близко подносили искрящиеся провода, чтобы попугать. И снова вопросы, и снова удары, удары палкой по лбу, по спине, по плечам. Они хотят знать, когда он присоединился к ЭТА, кто его завербовал, как проходили тренировочные занятия, кто их вел, кто всем руководил. И опять удары, и опять электрический ток. Хосе Мари отвели к тюремному врачу – все его тело было покрыто красноватыми пятнами, маленькими ожогами и кровоточащими ранами. Врач помазал их какой-то мазью. И сказал, что сейчас шесть часов вечера.
На следующий день программа изменилась. Его вывели из подвальной камеры. Один из сопровождавших по дороге сказал:
– Не вздумай менять показания, не то снова отправим тебя в подвал, и живым ты оттуда уже не выйдешь.
Наверху – мягкое обхождение, вежливость в присутствии официального защитника. Вопросы не отличались от тех, которые ему задавали во время допросов в подвале, но задавали их без криков, и теперь это напоминало обычную беседу. Он помнил о полученных наставлениях. Ему было все равно, лишь бы избежать повторения жутких допросов. Он подписал бумаги, посчитав ниже своего достоинства читать, что там было написано.
Больше его не мучили. Утром заставили вымыться. Пока он одевался, полицейский заговорил с ним вполне по-доброму. Неужели он думает, что в его возрасте стоило присоединяться к ЭТА, чтобы провести в тюрьме прорву лет, погубить, ко всем чертям, свою молодость, заставить страдать родителей, вместо того чтобы наслаждаться жизнью, завести семью и так далее. Угостил сигаретой.
– Я не курю.
Тем же утром его отвели к судье из Национального суда. В груди у Хосе Мари вырос ком ненависти. Плотный и горячий. Я никогда раньше ничего подобного не чувствовал, даже во время терактов. Он отказался от назначенного ему официального адвоката. Потребовал другого – человека близких политических взглядов, опытного защитника, который работал с арестованными членами ЭТА. После долгих пререканий пригласили женщину-адвоката, и начался допрос. Едва ему задали первый вопрос, как Хосе Мари заявил, что его подвергли пыткам. Судья закатил глаза:
– Начинается. – И недовольным тоном предложил, перелистывая бумаги, подать в суд соответствующую жалобу.
Потом добавил, что здесь не время и не место обсуждать такие проблемы. И Хосе Мари ощутил себя совершенно беспомощным, а ком ненависти продолжал расти у него в груди, хотя на самом деле ему уже все было безразлично. Он отрицал предъявленные ему обвинения и, чтобы раз и навсегда покончить с этим цирком, сказал, что готов давать показания, и начал отвечать на вопросы – сухо, коротко, с заметным баскским акцентом.
Затем Хосе Мари спустили в следственный изолятор. И там надолго оставили одного в ожидании фургона, который должен был отвезти его в тюрьму. Пахло сыростью, воздух был затхлым. На стене – вот неожиданность! – обнаружились надписи на баскском, и буквы ЭТА, и очертания Страны басков вокруг лозунга: Gora Euskadi askatuta. Как жаль, что у него не было ручки. Он почувствовал что-то похожее на эйфорию, наверное, потому что был теперь вроде как не один, хотя и был один. И начал петь, сначала шепотом, а потом в полный голос: Hegoak ebaki banizkio…
102. Первое письмо
“Дорогой Хосе Мари”. Дорогой? Ужасно! Она зачеркнула это слово, едва увидев его написанным. Прямо перед Биттори, на стене, висел портрет Чато. Ты можешь не беспокоиться, я ведь только примериваюсь. Лист бумаги оказался испорченным этой неискренней формулой приветствия. Биттори взяла другой из пачки, которая лежала на краю стола. Она писала, нагнувшись вперед и сидя в неестественной позе. Но только так можно было терпеть боль в животе, которая ни на миг не оставляла ее с той поры, когда день еще только начал клониться к вечеру. Кошка чутко спала совсем рядом, на диванной подушке. Время от времени она открывала глаза. Принималась вылизывать лапу. Стрелка часов перешагнула за половину первого ночи.
“Привет, Хосе Мари”. Пошло. “Kaixo, Хосе Мари”. Она скривилась. Можно подумать, будто она хочет изобразить доверительность, которой между ними нет и в помине. В конце концов Биттори ограничилась именем адресата, а после него поставила двоеточие. Ее одолевало искушение, объясняя, кто ему пишет, назваться Чокнутой – из самолюбия? – ведь только так ее называли в той семье. Она знала это от Аранчи, с которой часто встречалась на улице, всегда в присутствии сиделки. Именно эта похожая на индианку женщина вывозила больную на прогулку. “Для моих родителей ты с некоторых пор стала Чокнутой, но ты не переживай”. Но Биттори посчитала, что если она назовется Чокнутой, то тем самым выдаст Аранчу и поссорит брата с сестрой. Поэтому она выбрала другой вариант: “Тебе пишет Биттори, ты наверняка меня помнишь, я не собираюсь надоедать тебе, и поверь, никакой ненависти к тебе не испытываю”, – и так далее. Она перечитала первый абзац – он ей не понравился. Ну да ладно. Давай пиши дальше, а в случае чего, потом поправишь.
На отдельном листе она составила список вопросов, которых хотела коснуться в своем письме. Их было не так уж много. К тому же Биттори не собиралась слишком распространяться. К чему такие усилия, если он мне все равно не ответит? И тем не менее эти вопросы вот уже несколько дней держали ее в напряжении, постоянно крутились в голове, вызывали сомнения и не давали спать по ночам. Она решила сразу взять быка за рога. Объяснить, что движет ею вовсе не злоба. Зачем она вообще пишет это письмо? Чтобы во всех подробностях восстановить обстоятельства смерти мужа. Главное – узнать, кто стрелял в Чато. И еще: она готова простить его, но с одним условием. Каким? Чтобы он сам попросил у нее прощения. И речь идет не о требовании, а о просьбе. Биттори вдруг задумалась. Не слишком ли она роняет свое достоинство? Ладно, на это ей начихать. Потом она добавила, что болезнь не позволит ей прожить долго. И сразу же зачеркнула последнюю фразу. Как раз в этот миг у нее случился новый приступ боли. Кошка, видно, что-то почуяла, во всяком случае, сразу проснулась.
“Я уже в таком возрасте, когда вряд ли стоит рассчитывать на долгие годы жизни”. Перечитала. Да, так звучит уместнее. На ее взгляд, скажи она правду, это могло бы показаться слишком грубым давлением. Если я напишу все как есть, он решит, будто я лгу. Еще того хуже: что я хочу разжалобить его. Правду знала только она одна. Даже своим детям ничего не сообщила, хотя вряд ли Шавьер не подозревал, что на самом деле с ней происходит. Иначе почему он так настойчиво отправляет ее на консультацию к онкологу? Нет, лучше сослаться на возраст, это будет выглядеть более нейтрально. Наверняка, прочитав эту фразу, он подумает о своей матери, такой же пожилой, как и Биттори. И смягчится. Естественно, она будет ему очень благодарна, если, прежде чем ее опустят в могилу, он расскажет, при каких обстоятельствах погиб Чато. Ей необходимо это знать, только и всего.
И тут она подступила к самому деликатному пункту. Теперь надо написать – зачем скрывать? – что Чато, явившись домой к обеду в тот день, когда они его убили – вернее, вы его убили, – рассказал ей, что видел Хосе Мари и даже остановился, чтобы переброситься с ним парой слов. Хотя Биттори не присутствовала на суде – потому что ее, собственно говоря, даже не известили о нем, – из приговора она узнала, что участие Хосе Мари в убийстве ее мужа было доказано. Биттори зачеркнула фразу. Лучше так: “В смерти ее мужа”. “От всего сердца прошу тебя рассказать мне твою версию тех событий”. Если ему не хочется писать, она готова приехать в тюрьму на свидание – тогда не останется никаких следов на бумаге, ведь, возможно, именно это его останавливает. Ее единственное желание, повторила она, перед смертью узнать правду и простить. Она зачеркнула фразу. И чтобы он попросил у нее прощения, а она сразу его простит – тогда и умереть можно будет спокойно.
Дин-дон – стенные часы пробили два. Биттори перечитывала испещренное исправлениями письмо. Утром перепишу начисто. И тут ее затошнило. Ох, господи! Опять приступ. После третьего ее вырвало прямо на стол, она не смогла сдержать рвоту, и, естественно, брызги попали на письмо и немного – на чистые листы бумаги. Отодвинувшись от стола, Биттори упала – или нарочно сползла на пол, понять она уже не могла. Помнит только – и точно помнит, – что боль в животе была такой острой, что заставила ее сжаться в комочек на ковре. Даже теперь она не была готова уверовать в Бога, как случается с другими, когда они подступают к черте, за которой начинается мрак. Зачем ей это? Если я умру, то умру. Она попыталась доползти до телефона – он стоял совсем близко, метрах в трех от нее на комоде, но вместе с тем и очень далеко. Далеко? Да, не достать. На сей раз я не выкарабкаюсь. Прямо тут – ох! – и останусь лежать. Мои дети. Последнее, что она увидела, теряя сознание, была кошка Уголек, которая подошла, чтобы потереться о ее лицо. Коснулась лба хозяйки сперва своим черным боком, потом мягким хвостом. Молчаливая, черная, красивая. Неужели именно ты станешь последним из увиденного мною в жизни?
Проснулась Биттори около десяти в залитой утренним светом гостиной. Боль? И следа не осталось. Вот вам загадки человеческого тела. Биттори занялась уборкой, но делала все медленно, стараясь не утомляться. Не дай бог, опять… Открыла двери и окна, чтобы проветрить квартиру. Позвонила Шавьеру. Мать с сыном минут пять поболтали о всякой ерунде. Потом она позвонила Нерее. Мать с дочерью полчаса поболтали о всякой ерунде. До полудня Биттори не смогла проглотить ни крошки. Боялась. Потом откусила кусочек свеклы, съела немного вареной картошки, оставшейся со вчерашнего дня, но съела главным образом потому, что не любила выбрасывать еду. Но она опасалась отправлять в свой несчастный живот что-либо твердое. И в конце концов, чтобы обмануть голод, приготовила чашку ромашкового отвара.
Может, стоит поехать в поселок пораньше, еще до пяти? А какой в этом смысл? Хошиан имеет привычку устраивать себе сиесту, поэтому на огороде, как правило, появляется ближе к вечеру. В первый раз Биттори дожидалась его, прячась за деревьями на другом берегу реки. Потом сообразила, что огород не хуже виден и с моста, хотя лишь в просветы между зарослями орешника. Если она будет стоять на мосту рядом с автобусной остановкой, это сэкономит ей большой отрезок пути. Главное – убедиться в том, что он пришел. Хошиан, чтобы избежать встречи с ней, стал больше времени проводить в сарае, словно прятался там. Меня он, конечно, не обманет, но не стану же я кричать, чтобы проверить, там он или нет. Только этого еще и не хватало!
Она вдруг подумала, что Хошиан, скорее всего, не возьмет ее письмо. Не хватит духу? Да, он ведь очень трусливый. Таким был и в молодости. Она вытащила из сумки конверт. Положи вон туда. Куда? На кроличью клетку. Словно ему было противно до письма даже дотрагиваться.
– Ладно, я отдам письмо Мирен и скажу, что оно от тебя, понятно? Пусть сама этим займется. Ездит туда она, а не я.
– А ты что, не встречаешься с сыном?
– Я-то? Редко.
Поначалу, когда Биттори приходила к Хошиану на огород, он держался враждебно, и она не знала, чем объяснить его грубость – робостью или злобой. Правда, злым он никогда не был. И не был способен на ненависть. А на что он вообще был способен? Но Биттори разговаривала с ним по-доброму, и, хотя бедняга чувствовал себя не в своей тарелке, ей удалось постепенно смягчить его.
Хошиан с пунцовым лицом (от вина?) мотнул подбородком в сторону письма:
– Мне за это достанется.
– Послушай, я бы и сама отдала письмо твоей жене, но, насколько могу догадаться, она мне навстречу не пойдет, хотя уж и не знаю, что плохого я ей сделала.
– Вряд ли она повезет сыну твое письмо.
– Почему? Намерения у меня самые добрые.
– Потому, черт тебя побери, что ты ворошишь то, что ворошить нельзя.
Отдал Хошиан письмо Мирен или нет? Как узнать, если два дня подряд он не появлялся на огороде, во всяком случае в привычное время? Может, потому что шел дождь и не требовалось заниматься поливкой. А кролики, как с ними? Их ведь надо кормить. Биттори решила, что Хошиан, чтобы избежать встречи с ней, ходит на свой участок в самом конце дня, или даже вечером, или рано утром.
На третий день Биттори слонялась по поселку, почти потеряв надежду увидеться с Хошианом. Пройдясь туда-сюда, она зашла в “Пагоэту” выпить кофе без кофеина. К тому времени ее почти ежедневное присутствие на улицах уже перестало привлекать к себе внимание. В баре ни один из посетителей не сказал ей ни слова, но и смотрели на нее без раздражения. Она заплатила, и у двери те, кто еще только заходили, поздоровались с ней легким кивком.
Дождя не было, и Биттори решила пересечь площадь, повернув в сторону своего дома, а потом сделать небольшой круг, чтобы пройти мимо дома Хошиана. Вскоре она увидела инвалидную коляску и низенькую женщину с индейскими чертами лица, которая сидела рядом на невысокой каменной ограде. Биттори без малейших колебаний направилась к ним, стараясь держаться в тени под липами. У Аранчи, как всегда, когда она видела Биттори, лицо повеселело. Резко взмахнув здоровой рукой, она потребовала свой айпэд. Сиделка тотчас его подала. Биттори наклонилась и поцеловала Аранчу, та ответила привычной вспышкой бурной и беззвучной радости. И, словно подгоняемая нетерпением, принялась нервно стучать одним пальцем по клавишам. Ясно, что ей хотелось поскорее поделиться какой-то новостью. Биттори прочитала: “Мать разорвала письмо”.
– Разорвала?
Аранча кивнула. И снова стала писать: “Не передавай больше писем через нее. Она их не отвезет. Она злая”.
– Послушай, зря ты так про свою мать.
Тонкий бледный палец перелетал от одной буквы к другой. Сиделка молчала, не отводя глаз от экрана. Биттори прочла: “Если ты хочешь написать нашему террористу, есть один вариант”.
– Какой?
Пиши прямо в тюрьму. В тюрьму? Аранча дважды решительно кивает головой. Пытается что-то произнести. Но у нее получаются только резкие нечленораздельные звуки. Иногда бывает, что ей удается сказать что-то внятное, но сегодня – почему? – как она ни старается, ничего не выходит. Аранча огорчается и попытки не повторяет. Она пишет: “Он в Пуэрто-де-Санта-Мария-I, блок 3. Отправь письмо на его имя, наверняка дойдет”.
– А как ты считаешь, он прочтет письмо?
Аранча делает рукой жест, означающий сомнение. Другую руку, неподвижную, она постоянно прижимает к животу.
103. Второе письмо
Теперь в лице Аранчи не было и намека на радость, на нем не осталось вообще никаких узнаваемых чувств, его черты словно заледенели, когда она смотрела, как Биттори уходит от них через площадь. Хорошая женщина. Вокруг что-то клевали голуби, между ними скакали воробьи, на боковой улице чумазый здоровяк, занимавшийся доставкой газовых баллонов, поднимал на плечо баллон – невесть который за этот день.
Селесте дождалась, пока Биттори скроется из виду, и сказала, что:
– Мирен рассердится, если узнает, что мы останавливались поговорить с этой сеньорой.
Больная шея не позволяла Аранче повернуть голову, поэтому она не смогла посмотреть в глаза своей сиделке, которая стояла сзади за коляской. Тогда она выстукала решительным/сердитым пальцем: “А ты что, собралась ей об этом докладывать?”
– Нет, конечно, Аранча. За кого ты меня принимаешь. Только ты оглянись вокруг – вон сколько людей могли нас увидеть.
Аранча не захотела притворяться и спрашивать у Биттори про содержание ее письма. Зачем, если она и так его знала? Успела прочитать? Разумеется. И хранила заляпанный жирными пятнами листок в коробке.
А было это три дня назад. Мы как раз собирались сесть ужинать, и мне казалось, будто вся провинция Гипускоа пропахла жареной рыбой с чесноком, которую приготовила мать. Окно распахнуто настежь. Через него выходят на улицу запахи и чад. Вдруг послышался знакомый скрип ключа в замке. Через порог шагнул, почесывая бок, Хошиан в чуть съехавшем на затылок берете. Он принес в полиэтиленовом пакете салат, стручковую фасоль и другие овощи со своего огорода и поставил пакет рядом со стеклянным ларцом, где хранилась небольшая скульптура Девы Марии, которая по традиции переходила из дома в дом, и в тот день очередь как раз дошла до них. Освободив одну руку от пакета – другой он не переставал чесаться, словно играл на арфе из собственных ребер, – Хошиан вытащил из внутреннего кармана куртки белый конверт.
– Эта дала мне письмо, чтобы ты отвезла его Хосе Мари.
Мирен, сжав губы и бросив на него злобный взгляд, решила уточнить:
– Кто, говоришь, тебе его дал?
– Кто-кто? Чокнутая.
– Ты с ней разговаривал?
– А что мне оставалось делать, если она приперлась ко мне на участок? Палкой ее прогонять?
– Давай сюда.
Мирен схватила письмо. И разорвала пополам – хрясть! Потом быстрыми руками, скривив презрительную мину, сложила две половинки вместе и снова разорвала – хрясть! Обрывки она швырнула в помойное ведро, которое стояло за дверцей под мойкой.
– Пошли ужинать.
Они поссорились? Нет. Единственное, что он услышал, было: не смей в ближайшие несколько дней даже показываться на огороде. А как же кролики? Неужто оставить их подыхать с голоду?
– Значит, пойдешь с утра пораньше и покормишь.
– Эта запросто может перелезть через забор и сунуть письмо под дверь.
– Сюда никаких писем больше не приноси. Лучше сожги.
На следующий день, чтобы заняться своими зверьками, он встал почти так же рано, как во время наводнения. И застал Аранчу на кухне. Что ты тут делаешь? Ее коляска стояла перед мойкой, дочь подняла мусорное ведро себе на колени. Приложив палец к губам, она велела отцу помалкивать. Это случилось в ту пору, когда, опираясь на палку, держась за мебель или за что угодно еще и проявляя железную волю, Аранча уже могла самостоятельно встать и сделать несколько коротких, неровных, неуверенных шагов, несмотря на свою конскую стопу. Пару раз она падала, но без серьезных последствий. Наконец испачканными пальцами здоровой руки Аранча вытащила из ведра последний, нещадно воняющий обрывок письма.
Хошиан шепотом:
– Если мать прознает, шум поднимет такой, что только держись.
Аранча пожала плечами, угрюмо качнула головой, словно говоря: а мне-то что, я ее не боюсь. Потом немного обтерла сверху разорванное письмо материнским фартуком, висевшим за дверью. И неловко поехала на своей коляске. Отец попытался ей помочь. Она нахмурилась и сделала отталкивающий жест, давая понять, что в помощи не нуждается. Но его, как всегда, одолевала жалость. Как дочка сумеет одной рукой выкатить свою коляску из кухни? Да точно так же, как она прикатила ее сюда.
– Ладно тебе, перестань.
И, стараясь не шуметь, чтобы их не услышала Мирен, еще не вставшая с постели, Хошиан торопливо отвез Аранчу обратно в ее комнату.
Оставшись одна, она устроилась на кровати, как могла разгладила сбитые простыни и сложила на них обрывки письма. “Хосе Мари, пишет тебе Биттори. Тебя удивит, что…” Вот так и получилось, что тем утром, когда они с Биттори встретились, Аранча содержание письма уже знала. Она немного посомневалась, отправлять обрывки опять в мусорное ведро или сохранить. Сохранить для чего? Ну, там будет видно. До поры до времени она спрятала их в ящик комода.
В час дня Селесте привезла Аранчу домой. Отец, мать и дочь обедали, уставившись в телевизор, где шла передача “Колесо фортуны”. Вернее сказать, Хошиан, на экран почти не смотрел, погруженный в свои мысли, полусонный, и вообще у него эта программа никакого интереса не вызывала. Кроме того, его выводили из себя вопли молодых участников.
– А потише сделать никак нельзя?
После еды, дожидаясь санитарной машины, которая отвозила ее на физиотерапию, Аранча набрала на айпэде письмо брату. Она ему рассказала/объяснила/предупредила, что Биттори, жена Чато, напишет в тюрьму письмо. “Я была бы рада, если бы ты ей ответил, тебя просит об этом твоя сестра, которая не забывает тебя, а нашей матери незачем об этом знать”. И дальше все в таком же сердечном/решительном, строгом/ласковом тоне. Закончила она так: “Она хорошая женщина. Muxu[112]”. Вот ведь какое невезение: у женщины-левши действовать перестала именно левая рука. Аранча попыталась было – скорее со злостью, чем ловко – переписать текст на лист бумаги, хотя и предвидела неудачу. Неудачу? Да, полную.
До субботы – а дело было в четверг – она не рассчитывала увидеть своих детей. И как теперь быть? Кто перепишет письмо и сразу же бросит его в почтовый ящик? Вопрос деликатный, ведь тот, кто за это возьмется, неизбежно его прочитает. Отца она сразу исключила. Селесте? До завтрашнего дня я ее не увижу. Кроме того, я ей не доверяю. И дело не в том, что она пойдет и наябедничает Мирен, нет. Но наверняка у себя дома Селесте в подробностях рассказывает, что случилось за день, проведенный с инвалидкой (или параличной, не знаю, какое слово в ходу у этих людей), и кто мне поклянется, что потом ее близкие не проболтаются?
Час физиотерапии. Приехав, Аранча поздоровалась – и так, что присутствующие ее поняли:
– Привет!
Аранчу сразу же окружили белые халаты, и она услышала похвалы и поздравления. Пациентов надо всегда подбадривать. Так здесь принято, хотя Аранче ужасно не нравится, когда с ней разговаривают как с ребенком или как со старухой. Я ведь еще в своем уме.
План реабилитации: упражнения для снятия напряжения в левой кисти и во всей руке. Потом они будут заниматься ногами. Врач спросила, не стала ли больная снова чувствовать в них легкое покалывание. Аранча сказала, что нет. Хороший знак. Прогресс очень медленный, но это все же прогресс. А под конец ее попытались поставить на ноги, чтобы она не только устояла, но и прошла несколько метров – конечно, с чужой помощью.
В кабинете физиотерапии вечно царила суета, постоянно кто-то входил или выходил – пациенты, сопровождающие их люди. И еще шум, голоса. У Аранчи под рукой не было айпэда. Так что она не имела возможности обратиться к кому-то с просьбой. Однако позднее, оставшись наедине с логопедом, обо всем ей написала. Врач:
– А письмо длинное?
Нет, конечно. Всего четырнадцать строк. Тогда будет лучше, если Аранча прямо отсюда отправит ей текст по электронной почте, а врач, как только вернется домой, перепишет его от руки и бросит в ближайший почтовый ящик.
Так она пообещала. И выполнила обещание? Аранча в этом сомневалась, но через месяц получила открытку в заклеенном конверте – чтобы не прочитала мать? – от Хосе Мари. Шутки и ласковые слова, а внизу приписка: “Она мне написала”. Брат не объяснил, кто ему написал, да в этом и не было нужды. “И я ей ответил”.
104. Третье письмо – и четвертое
Он получил – вот ведь неожиданность – письмо от сестры. В распечатанном конверте, разумеется. Хосе Мари приговорили к особому режиму заключения. Что предполагало ограничение выходов на прогулку, перевод примерно раз в две недели в другую камеру и проверку писем – с них снимались фотокопии, которые хранились в архиве.
Это было первое за более чем пятнадцать лет письмо от сестры. Не считая, конечно, новогодних открыток с дежурным текстом, которые заканчивались неизменно: “…и счастливого Нового года – шутка, что ли, такая? – желает тебе семья, которая тебя не забывает”.
Однажды, еще в самом начале, сестра приписала несколько ободряющих строк к родительскому письму – вот и все. Аранчу, хоть она и вышла замуж за испанца, он все равно любит. По мне, так пусть хоть заворачивается в испанский флаг. Никому другому из близких он этого не простил бы, в том числе и младшему брату. Ему особенно. Но с Аранчей все иначе. Аранча – моя сестра, черт побери. Вышла замуж за негодяя, который ее бросил. Это ей в наказание за то, что стала испанкой.
Хосе Мари вдруг вспомнил, как мать очень-очень озабоченным тоном рассказала ему во время телефонного разговора, на которые он имел право, что с сестрой случилась большая беда, когда она отдыхала на Майорке. А что она делала на Майорке? Поехала туда в отпуск с дочкой. Потом Мирен, которая никогда особой деликатностью не отличалась, добавила:
– Я поговорила с одним тамошним врачом. И как я поняла, она навсегда останется дурой.
Полученное теперь письмо было написано чужим почерком. Понятно, что кто-то написал его от лица Аранчи, поскольку сама она сделать этого не могла. Сестра сообщала: скоро ты наверняка получишь некое письмо. От кого? От Биттори, жены Чато. Только этого ему и не хватало. Пожалуйста, ничего не говори матери. Первый порыв радости у Хосе Мари как рукой сняло. Так вот в чем дело? Он уже знал от матери – она сказала ему во время последнего свидания, – что ту женщину давно пора отправить в сумасшедший дом в Мондрагоне, потому что:
– Она нас просто преследует. Отца не оставляет в покое. С тех пор как прекратилась вооруженная борьба, враги Страны басков сразу стали храбрыми. Видать, считают, что только они одни страдали. И теперь, понятное дело, мечтают отомстить. Хотят раздавить нас, унизить, хотят, чтобы мы попросили у них прощения. Это я-то должна просить прощения? Скорей утоплюсь в реке.
Еще через пару дней ему вручили письмо, о котором предупреждала сестра. Первое его желание? Разорвать сразу же, прямо на глазах у тюремщика. Теперь-то он понял, зачем Аранча написала ему, явно стараясь не опоздать. Чтобы удержать от этого. Чтобы он не поддался первому порыву и сразу же не отправил письмо Чокнутой в унитаз. Однако он прочел его, как только остался один.
Это уловка, чтобы лишить меня моральных сил. Как будто, сидя в испанской тюрьме, в тюрьме уничтожения, я и так не унижен и не хлебнул горя. Тон извиняющийся, дескать, боится ему докучать, у нее смешная просьба… Да что эта старуха себе воображает? Что я предоставлю ей информацию про то покушение? Чтобы мои признания дошли до тюремщиков? Чтобы она показала мое письмо какому-нибудь борзому журналюге?
Раз-два – и он разорвал листок. “Она хорошая женщина”. Вот вам, съешьте. Но много ли толку от того, что он поспешил избавиться даже от клочков, если теперь он все равно знал содержание письма. “Пишет тебе Биттори. Ты, наверное, помнишь…” Даже через неделю в голове у него постоянно всплывали тщательно выписанные ею строки. Мало того, эти строки даже обрели голос. Голос жены Чато, каким он ее голос помнил. Теперь он слышал голос Биттори постоянно. В столовой, во дворе, ночью в постели, дожидаясь, пока его сморит сон. Наваждение. Призрак, который его повсюду преследовал. Иногда он видел себя таким, каким был давным-давно, – стоит у входа в “Пагоэту”, облизывает лимонный или апельсиновый шарик, который им всем, ему и брату с сестрой, а также своим детям купил Чато. Тогда они еще были маленькими, улица залита солнцем, люди одеты по-воскресному. И бой церковных колоколов. И запах, доносившийся из бара, – запах жаренных на решетке креветок, запах сигар и сигарет.
Прошло какое-то время, и ему уже осточертели и воображаемые замороженные шарики, и запах креветок – там, в неподконтрольной глубине его сознания. И он сказал себе: ответь ей, напиши любую чушь, чтобы избавиться от наваждения. Пусть знает, что ты в такие игры играть не намерен. Он тотчас сел и написал ответ в самом непримиримом и враждебном тоне. Очень коротко – четыре строчки. Что он ни в чем не раскаивается, что мечтает о независимой, социалистической Стране басков, где все будут говорить на родном языке, что он по-прежнему считает себя бойцом ЭТА и больше ни на какие ее письма отвечать не будет. Потом сочинил открытку сестре и отдал оба конверта, чтобы их проверили, прежде чем отправят по назначению, – или пусть засунут себе в задницу, или сожрут, обмазав томатным соусом.
Хосе Мари продолжал сопротивляться. Другие узники, бывшие члены ЭТА, все чаще сдавали позиции, и он тяжело это переживал. Даже сам Пакито, провались он пропадом. А ведь именно Пакито дал ему первый пистолет и сказал: убивай всех, кого только сумеешь. Пакито, который, когда все мы объявляли голодовку, втихаря ел в своей камере. И Потрос, и Арроспиде, и Хосу де Мондрагон, и Идойя Лопес. Исключили их из организации или не исключили? Какое это имеет значение, если тебя выгоняют на берег из севшего на мель корабля? Его самого где-то с год назад тоже спрашивали – и не в первый раз, – поставит он или нет свою подпись под письмом, где сорок пять узников объявляют, что отказываются от насилия и просят прощения у своих жертв. Как дети, которые раскаиваются в совершенной шалости. Раскаиваются – именно сейчас? А главное – зачем? И по-настоящему ли раскаиваются? Вряд ли. Им хочется одного – вернуться домой. Предатели. Слабаки. Эгоисты. Тогда ради чего все мы жертвовали собой? Все псу под хвост. Он уже давно раздумывал над этим. На самом деле уже много лет раздумывал – всякий раз, когда видел во время свиданий свою мать постаревшей, сильно сдавшей, или когда узнал о том, что случилось с сестрой, или когда вспоминал племянников и понимал, что совсем их не знает и не может поиграть с ними, или когда до него доходили слухи, что отец превратился в изъеденного тоской никчемного старика. По его вине? Не исключено. А государство стало сильнее, чем было когда-либо прежде. Осмелевший враг призывает нас к ответу. Организация отказывается от борьбы, а нас, заключенных, отшвыривает прочь как ненужное тряпье. Внезапно на него накатили ярость/отчаяние, отвращение/горечь, и он шарахнул кулаком по стене, да с такой силой, что до крови ободрал костяшки пальцев, а потом долго плакал в одиночестве своей камеры – сначала молча, упершись руками в стену, как во время обыска, потом, не меняя позы, зарыдал в полный голос, стоило ему вспомнить про замороженные апельсиновые и лимонные шарики из далекого детства. Его наверняка слышали снаружи, но ему это было безразлично. Ему все было безразлично.
Следующим утром он сел писать письмо на тетрадном листе в клеточку:
Биттори,
забудь мое прежнее письмо. Я написал его по злобе. Такое со мной порой случается. Сейчас я спокоен. Буду короток. Это не я выстрелил в твоего мужа. Неважно, кто это сделал, потому что твой муж стал для ЭТА объектом. Время нельзя повернуть вспять. Я был бы рад, если бы этого не случилось. Просить прощения трудно. Я еще недостаточно созрел для такого шага. По правде сказать, я вступил в ЭТА не для того, чтобы стать злодеем. Я защищал некие идеи. Беда в том, что я слишком любил свой народ. И неужели теперь должен раскаяться в этом? Больше мне нечего сказать. Прошу тебя впредь не писать мне. И еще прошу не искать встречи с моей семьей.
Желаю тебе всего самого лучшего.
Простился он коротко: agur. Ну а что теперь? Ему не хотелось, чтобы письмо прочитал кто-то из тюремщиков. Не потому что там содержалась важная и компрометирующая других информация, нет, ничего подобного в письме найти было нельзя. Причина была иной. Письмо получилось слишком личным. В нем я, хотя и не вдаюсь в подробности, но все равно словно бы обнажаюсь.
Он уже слышал о неком Пекасе, заключенном из уголовников (тяжкое убийство второй степени), наркомане со сломанным носом. Когда этот тип говорил – с сильным андалусским акцентом, – был виден его язык, потому что и сверху и снизу у него не хватало зубов. За определенную плату он оказывал целый ряд услуг. Хосе Мари подошел к нему во дворе:
– Пекас, когда тебя выпустят из тюрьмы на прогулку?
– В субботу.
– Хочешь заработать пять евро?
– Зависит. А что надо-то?
– Бросить письмо в почтовый ящик.
– Это стоит десять.
– Ладно.
105. Примирение
Итак, Мирен и Аранча целых пять лет не разговаривали. Не звонили друг другу, не обменивались открытками на Рождество или поздравлениями с днем рождения. Ничего. И все это время Мирен не видела своих внуков, ее не пригласили даже на первое причастие ни одного из них. Какое там пригласили! Она даже не получила по почте обычного извещения об этом торжественном событии. Ровно столько же она не видела и своего зятя, хотя на это ей было плевать, поскольку уважения к нему она никогда не испытывала.
Упрямые они обе, как телеграфные столбы, – что мать, что дочь, говорил Хошиан. Как телеграфные столбы? Он любил завернуть что-нибудь такое, заковыристое. Сам Хошиан вел себя иначе, время от времени садился на автобус, ехал до Сан-Себастьяна, а там пересаживался в тот, что шел до Рентерии, и навещал Аранчу с Гильермо, отвозил им овощей и фруктов со своего участка, а иногда и кролика (поначалу живого, но потом решил, что лучше его прежде освежевать, чтобы сразу можно было пустить в дело, ведь детям, поигравшим со зверьком, было невыносимо даже представить, что его убьют). Вторую половину дня Хошиан проводил с внуками, покупал им всякие мелочи и при прощании давал каждому по несколько монеток. Короче, каким бы замкнутым и скучным – ну совсем без изюминки – он ни был, обязанности деда исполнял от всей души.
Чтобы избежать скандала, Хошиан навещал дочку тайком от Мирен. Делал вид, будто шел к себе на огород, и возвращался только к ужину. На третий или четвертый раз Мирен избавила его от необходимости так по-детски хитрить:
– Думаешь, я не знаю, куда ты собрался?
Как она догадалась? Трудно сказать. Впредь Хошиан уже не врал. Если шел на огород, так прямо и говорил, что идет на огород. Если ехал к своим в Рентерию, говорил, что уезжает.
Когда он возвращался, Мирен ограничивалась вопросом:
– Ну что там?
– Все в порядке.
Вот и весь сказ, если только Хошиан, печально сдвинув брови, не продолжал этот короткий диалог и не спрашивал, не надумала ли и она тоже поехать наконец повидать своих внуков.
– Я? А они сами что, не знают, где я живу?
Чего Хошиан не рассказывал Мирен, так это что Аранча с Гильермо жили теперь хуже кошки с собакой. Иногда, приехав к ним, он останавливался на лестничной клетке перед дверью и слышал, как они орут друг на друга. Мало того, постоянные ссоры происходили на глазах у детей. Хошиан заходил в квартиру с сумкой яблок или пучком лука-порея и находил дочку в слезах, испуганных внуков и Гильермо с безумным лицом, который, даже не поздоровавшись с ним, выскакивал из дому, хлопнув дверью.
Аранча шепотом рассказывала отцу, что:
– Я терплю только ради детей.
Она уже давно отказывала Гильермо в супружеской близости. Не позволяла дотронуться до себя, даже когда он просто проходил мимо. А так как квартира была маленькой, после той ночи, когда Аранча решила, что больше секса между ними не будет, они продолжали спать на одной кровати спиной к спине. Но недолго, дней десять – двенадцать, пока Аранча не купила себе тонкий матрас, который складывался втрое, и, стеля его на пол, спала в комнате дочки.
О последней их близости она вспоминала с омерзением. Как два насекомых. Ни одного ласкового слова, ни жалкого поцелуя под конец. В тот раз за ужином они ссорились из-за любой ерунды, буквально по любому поводу и без всякого повода. А когда легли в постель, ему вдруг приспичило. Ну что ж, давай. Он кончил в мгновение ока. И она сказала себе: все, это последний раз. Я не его собственность. К тому же теперь она ненавидела запах мужа, тот самый, который раньше так ей нравился, и с трудом выносила его манеру говорить в нос, а также привычку разглагольствовать и безапелляционно судить обо всем на свете.
Гильермо с обидой и вызовом:
– Ну, раз так, мне придется иметь дело со шлюхами.
– Ага, значит, я до сих пор была твоей шлюхой, да еще и бесплатной.
У Аранчи имелось одно-единственное желание, и оно делалось с каждым днем все сильнее, но оставалось неисполнимым. Почему? Потому что она слишком мало зарабатывала в своем обувном магазине. От матери какая помощь, если они с ней даже не разговаривали? От отца помощь была, да, была: салат, орехи и порой неуклюжие слова утешения. От свекров, которые были хорошими людьми, то же самое: мелкие услуги и доброе отношение, за которые она испытывала к ним благодарность и которые делали ее жизнь чуть более сносной, но не облегчали материального положения семьи, о чем Аранча мечтала.
Она понимала, что попала в западню. Нельзя сказать, чтобы Гильермо зарабатывал намного больше, чем она, но, естественно, на две зарплаты семья могла жить не бедствуя. По дороге на работу и обратно, а также дома, иными словами, абсолютно везде и абсолютно в любой час, она вела подсчеты, прикидывая, сможет или нет пойти на разрыв с мужем. Ипотека, еда, одежда, школа. К этим расходам неизбежно добавлялись и другие, и, уйдя от Гильермо с детьми, она не сможет платить за все это из своего скромного заработка продавщицы. Потом Аранча эти подсчеты бросала. И говорила себе: я все равно уйду, уж что-нибудь да придумаю, перестрою свою жизнь. Но тут на кухню являлся Эндика с какой-то просьбой, следом за ним Айноа, которой тоже что-то было нужно, и Аранча опять приходила к мысли, что попала в западню, что сидит на дне колодца, из которого ей никогда не выбраться, пользуясь лишь своими слабыми силами.
Меньше всего ее волновало то, что Гильермо (она перестала звать его Гилье, он того не стоил) встречался с другими женщинами. Иногда он не ночевал дома. Аранча ни о чем его не спрашивала. Ревность? Наоборот, ей страшно хотелось, чтобы он нашел себе другую, потребовал развода и исчез из ее жизни.
Как-то на выходные он уехал с любовницей в Хаку. Аранча узнала об этом от Эндики.
– Aita поехал в Хаку с девушкой.
– А ты-то откуда знаешь?
– Я спросил, возьмет он меня с собой или нет, и он сказал, что не возьмет, потому что едет с девушкой.
– Небось завел себе подружку.
– Конечно.
По крайней мере денег на семью он меньше давать не стал. Но дома палец о палец не желал ударить. Ни о какой помощи ни в уборке, ни на кухне речь идти уже не могла. Да он и раньше никогда ничего такого не делал. Тут включалась его мать. Анхелита, которой с каждым днем становилось все труднее двигаться из-за ревматизма и болей в тазобедренном суставе, приходила к ним часто – гладила, мыла окна, готовила детям еду. Можно было рассчитывать и на Рафаэля – он отводил внуков в то или другое место, потом шел за ними и доставлял домой. Так что тут Аранче не на что было жаловаться. Главной ее бедой оставалась денежная зависимость. Получай я побольше, давно бы развелась. Но квартира, но дети… Зависимость, цепи, неуверенность в будущем. Страх? Да, пожалуй, и страх. А наедине с собой она утешалась, строя планы на то время, когда дети повзрослеют и будут жить отдельно, сами по себе.
Однажды в мае, в пятницу, между Гильермо и Аранчей вспыхнула такая жестокая ссора, какой никогда раньше, насколько она помнила, не случалось. Ссора не переросла во что-то более серьезное только потому, что Аранча в приступе ярости/паники схватила сумку и прямо в тапочках выскочила из дому. Как раз в тот день ЭТА убила в Сангуэсе двух агентов национальной полиции, прикрепив бомбу под машину.
А несколькими днями раньше исполнилось пять лет со дня убийства Маноло Самарреньо. Гильермо до сих пор не мог смириться с его смертью. Мало того, больше никогда не покупал хлеб в той булочной. Однажды вечером он вышел на улицу, прихватив банку с краской, чтобы замазать лозунг ETA HERRIA ZURREKIN[113], который появился в конце дня рядом с их подъездом. Аранча пыталась отговорить его: послушай, лучше с ними не связываться, – но он все равно сделал по-своему – это вопрос принципа! – и на следующее утро на стене красовалось огромное белое пятно.
Можно на что угодно поспорить: Гильермо сорвался только потому, что сильно переживал и сильно негодовал после последнего теракта. А он действительно сорвался, да еще как сорвался. После долгого перерыва муж и жена договорились сходить куда-нибудь всей семьей. Взяли детей и пошли к мессе, чтобы помянуть погибшего друга. Несколько дней спустя – бах! – бомба, и два человека расстаются с жизнью почти таким же образом и почти в тот же час, что и Маноло. Кем были погибшие? Двумя простыми полицейскими, приехавшими в Сангуэсу, чтобы на месте оформить удостоверения личности. И Гильермо буквально взбесился. Наверняка причина была только в этом. Другие объяснения Аранче в голову не приходили. Целый день они с мужем не виделись. Она вернулась с работы под вечер. Они поспорили из-за какой-то ерунды – и тут Гильермо понесло. Какие у него стали глаза, как он себя вел, как кричал! Два мужика, у них дети, повторял он. Два несчастных мужика, которых убили за то, что они носят форму.
– Убили такие же типы, как твой братец.
Мой братец? Они никогда о нем не упоминали. Зачем он вспомнил про него, зная, до какой степени меня это ранит? И пошел, и пошел: да пусть он сгниет в тюрьме! Кто? Хосе Мари? Аранча попросила/потребовала, чтобы он оставил ее брата в покое. Гильермо решил, что она брата защищает, защищает этого проклятого убийцу. Эндика сидел тут же и делал уроки, Айноа не выходила из своей комнаты, но тоже наверняка все прекрасно слышала. Слышала, как орет отец, как несет черт знает что и проклинает тот час, когда согласился дать детям баскские имена. И ради чего? Чтобы доставить удовольствие бабушке, этой abertzale, с которой они сейчас даже не разговаривают.
– Мои дети – испанцы, и сам я тоже испанец.
– Не дай бог, кто-нибудь тебя услышит.
– И пусть слышат. Неужели это преступление – быть испанцем в Испании?
Аранча сорвала с себя фартук. Швырнула на пол. Не удержавшись, сказала что-то грубое. И сама готова это признать. Но ведь она чувствовала себя оскорбленной. Из-за своей принадлежности к баскам? Да нет же, нет, плевать я хотела на эти ваши корни – хоть на баскские, хоть на испанские, будь они прокляты. Но она не желала терпеть от мужа оскорблений в адрес брата. Поэтому и сказала то, что сказала, а он, это ничтожество, этот зануда, возомнивший себя мудрецом, вдруг замахнулся на нее, хотя никогда раньше и пальцем ни разу не тронул.
Хотел ударить? А зачем же еще? И тогда она, увидев чудовище, проглянувшее сквозь ненавистные ей черты, в страхе попятилась. Огляделась по сторонам. И если бы увидела нож, половник, ножницы – хоть что-то, годное для защиты, – наверняка схватила бы. Вместо этого она схватила свою сумку с вешалки в прихожей и выскочила на улицу с бешено бьющимся в груди сердцем. Выскочила прямо в тапочках. А сумку, сумку она взяла, потому что машинально вспомнила, что там лежит кошелек. В тот миг, когда закрывала за собой дверь, успела услышать, как Гильермо назвал ее националисткой. В его устах это было страшным оскорблением.
Первая ее мысль? Переночевать у свекров. Они жили неподалеку и всегда были, что называется, под рукой. Но по пути туда она вдруг засомневалась. К своему ужасу, представила, как объясняется с ними, как предлагает на их суд правду о своей бурной супружеской жизни. И, между прочим, не могла исключить возможности, что они встанут на сторону сына (единственного сына, полновластного хозяина в их доме) или попросят (в первую очередь Анхелита), чтобы она смирилась и вела себя покорно, как подобает супруге, матери и невестке. Поэтому Аранча при свете витрины стала пересчитывать деньги в кошельке – на автобус вполне хватало.
Через час Мирен открыла ей дверь. Казалось, она ничуть не удивилась, словно давно ждала этого. Опустила взгляд на тапочки. Но не сказала ни слова. И вот тут-то, по прошествии пяти лет, мать с дочерью расцеловались – без особой теплоты, но и без явного холода.
– Ужинать будешь?
– А что на ужин?
– Овощное рагу и треска.
– Ну, если ты допускаешь меня до стола…
– Перестань говорить глупости. А как же иначе?
Ужинали они на кухне втроем. Аранча ничего не сказала родителям про ссору с Гильермо, а они не спрашивали о причинах столь неожиданного визита. Каждый молча тыкал вилкой в кружки помидора с рубленым чесноком и растительным маслом, разложенные на блюде. Хошиан улыбался, опустив голову.
Мирен:
– Интересно знать, чему ты радуешься?
Аранча не дала отцу ответить:
– Оставь его в покое. Хорошо, что хоть кто-то в нашей семье еще способен радоваться.
106. Синдром пленника
Как ей стало известно много позже, в больнице ее соборовал священник, хотя сама она этого тогда не осознала. Больше всего Аранча боялась, что ее сочтут умершей. Что в палату войдет неопытный врач (или опытный, но плохо относящийся к баскам) или слишком молодая медсестра, возможно недовольная своим жалованьем, из-за чего относится к работе халатно, и, увидев совершенно неподвижную женщину, кто-то из них скажет, не затрудняя себя дополнительной проверкой: эта пациентка скончалась, пусть ее отвезут в морг, койка нужна для нового больного.
Аранча, похожая теперь на лежащее каменное изваяние, могла только поднимать и опускать веки. Никакое другое движение было ей не под силу. Поэтому, как только в палату кто-нибудь входил, она начинала непрестанно моргать – чтобы знали, что я не умерла. Она видела, слышала, думала, но не была способна ни двигаться, ни говорить. И с горечью воспринимала все, что произносилось рядом. Из нее торчали трубки, зонды, ее окружали провода, аппараты, и жила она, если это можно было назвать жизнью, только благодаря аппарату искусственного дыхания.
Пленница обездвиженного тела. Разум, заключенный в доспехи из плоти. Вот во что она превратилась. Аранча с тоской вспоминала своих детей и думала о магазине, где раньше работала, о том, что скажет хозяйка – господи, какая глупость, – когда она вернется, если только она когда-нибудь туда вернется. Это надо же, как не повезло. Ведь мне всего сорок четыре. В голову пришла мысль, которая потом посещала ее много раз: наверное, лучше было бы умереть. По крайней мере, покойники не требуют стольких забот – мы не требуем – от других людей.
В поле ее зрения вдруг вплыло лицо матери.
– Kaixo, maitia. Доктор сказал, что ты все понимаешь, и я решила на всякий случай тебя предупредить. Гильермо явился, чтобы забрать Айноа. Вчера прилетел в Пальму. Сейчас строит из себя эдакого милягу, но меня не проведешь. Мы поговорили с ним немного, и я решила тебя предупредить. Он хочет проститься с тобой. Только пойми меня правильно. Проститься навсегда, потому что, само собой, ты ему в таком состоянии не нужна. Раз не сможешь гладить муженьку рубашки… Ладно, уж лучше я промолчу. Maitia, закрой глаза два раза, чтобы я знала, что ты все услышала.
Через полчаса в палату вошел Гильермо:
– Ты меня слышишь?
Аранча никак не могла спастись от поцелуя в лоб. При этом она даже не видела лица Гильермо. Какую мину он, интересно, скорчил? Когда он оказывался за пределами поля ее зрения, ему незачем было изображать на лице огорчение. Если бы не голос, она и не знала бы, кто с ней сейчас разговаривает. Почему он перешел на шепот? Как будто попал в ритуальный зал при морге, где надо вести себя тихо из уважения к мертвым.
– Что касается Айноа, можешь не беспокоиться. О ней я позабочусь. Я искренне сожалею, что с тобой такое приключилось. Твоя мать сказала, что ты слышишь все, что тебе говорят.
Гильермо придвинул к ней лицо, так что наконец-то она смогла его увидеть. Проверяет? Потом он начал понемногу отводить лицо в сторону, и Аранча действительно сумела чуть-чуть – совсем чуть-чуть – проследить за ним глазами. Но как только догадалась, что он таким образом устраивает ей проверку, сразу опустила веки. Как будто заснула. Гильермо и не догадывался, что из самой глубины своего молчания она умоляла его ничего больше не говорить. Пусть отправляется к детям, а ее оставит в покое. Неужели нельзя понять, что его присутствие в больничной палате делает еще очевиднее для Аранчи всю трагедию ее беспомощности? До чего же он тупой. Трудно было бы подыскать слова, чтобы описать ненависть, которую испытывала к нему Аранча.
– Я не хочу уйти, не поблагодарив тебя.
Только этого еще не хватало.
– За многое, о чем тебе известно. За те годы, которые мы прожили вместе. За детей, которых ты мне дала.
Я тебе дала? Господи, цирк какой-то! Он что, пьяный?
– За все хорошие моменты. А за плохие я беру вину на себя. Честное слово. Я чувствую себя виноватым и прошу у тебя прощения.
Аранче казалось, что Гильермо повторял заученные наизусть слова или читал их по бумажке – по школьной шпаргалке. Но повернуть голову и убедиться в правильности своей догадки она не могла. А он продолжал в том же духе:
– Думаю, мать сказала тебе, что я пришел проститься. Это правда. И я готов повторить сейчас то, что вчера объявил ей. Полагаю, ты заслуживаешь того, чтобы узнать об этом без посредников. Во всяком случае, имеешь право. Мое решение никак не связано с тем, что с тобой случилось. Как ты помнишь, мы уже давно обсуждали сложившуюся ситуацию.
Ошибка природы. Ведь она снабдила наши глаза веками, чтобы мы не смотрели, когда не хотим смотреть, а ведь могла бы дать нам какие-нибудь заслонки и для слуховых проходов. Закроешь их – и не придется слушать то, что не желаешь.
– Так будет лучше для всех. В том числе и для наших детей. Эндике всего год остался до совершеннолетия. Айноа – чуть больше. Скоро каждый пойдет своей дорогой, и мы им не будем нужны или будем не так нужны, как когда они были маленькими. Какой смысл нам с тобой стареть вместе, если мы будем продолжать непрерывно ссориться и испортим друг другу оставшиеся годы жизни? Я ухожу сама знаешь к кому. И, если честно, склонен думать, что выполнил свои отцовские функции. Но я буду и впредь их выполнять, не беспокойся. Потому что всей душой люблю наших детей. Но имею право и на каплю счастья.
Неужели он никогда не заткнется? Аранча так и лежала с закрытыми глазами. Ее волновало только одно – чтобы Гильермо не бросил детей без присмотра. Остальное ей было безразлично. Но вот дети… Бедные их дети. А если та, другая, будет плохо с ними обращаться?
– Разумеется, ты получишь причитающуюся тебе часть того, чем мы владеем. Половину стоимости квартиры и так далее. У меня нет ни малейшего желания чем-то навредить тебе. Хватит и того, что есть. А если случится так, что когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, всегда на нее рассчитывай. Поверь, мне очень горько, что на тебя свалилась такая беда.
Но тут раздался еще один голос. Где? Рядом. Суровый, громкий, сердитый. Медсестра? Нет, мать. Что она там говорит? Что мы не нуждаемся в его сочувствии. Ага, значит, подслушивала. А еще она принялась упрекать Гильермо за то, что явился в больницу в черном:
– Гляжу, ты поспешил в траур раньше времени обрядиться?
Аранча не могла видеть ни ее, ни его. Гильермо молчал – он все еще здесь? – и даже не подумал оправдываться. Мать продолжала обвинять зятя и в том и в сем: оделся не так, как надо, не сразу прилетел на Майорку и весь груз взвалил на нее. Ama, уймись! Но Мирен уже перескочила и на самые деликатные вопросы: деньги, любовь, на то, каким плохим мужем он был. Господи, могли бы выйти в коридор и там ссориться, так нет же. А медсестры? Почему они позволяют устраивать в палате весь этот тарарам? Или шли бы на улицу. Нет, судя по всему, Мирен решила преподать дочери урок. Вот как надо вести себя с мужем, если он оказался эгоистом и негодяем.
Тут уж, само собой, Гильермо смолчать не смог, он ответил. Судя по всему, уже выходя из палаты, по крайней мере, голос его доносился откуда-то издалека. Он говорил строго, вежливо, наставительно. И закончил тем, что их окончательный развод с Аранчей никак не связан с нынешней ее болезнью. Они уже давно все обсудили между собой.
– Дети об этом знают и принимают наше решение. Так что нечего винить во всем меня одного. Можно было бы, кстати, вести себя и повежливей. Если не со мной, то хотя бы со своей дочкой, я никогда в жизни не назвал бы ее грузом. А ты назвала. Вот, возьми, это в счет того, что тебе, возможно, пришлось потратить на мою дочь.
И ушел. Мирен продолжала что-то бормотать себе под нос. Потом показала Аранче руку с зажатыми в ней двумя купюрами по пятьдесят евро. И потрясла ими в воздухе:
– Вот, швырнул мне деньги. Невежа.
Гильермо не был жадным. Как муж – катастрофа, но как отец… Тут Аранче не на что было пожаловаться. И она не сомневалась: что бы ни случилось, он никогда не бросит своих детей. Кроме того, черт побери, с какой радости он должен взваливать груз на себя? Да, именно груз. И я вела бы себя точно так же, если бы что-то похожее произошло с ним.
По-настоящему огорчило Аранчу, черт бы их всех побрал, только то, что, хотя она особой любви к мужу не испытывала и слишком много всего между ними стояло, он ушел из больницы, так и не поцеловав ее в последний раз – исключительно из-за несвоевременного вторжения Мирен.
Мирен. Она по-прежнему была тут и все никак не могла утихомириться. Аранча же, закрыв глаза, раздумывала, как хорошо было бы иметь возможность, когда приспичит, закрыть еще и уши.
107. Встречи на площади
На углу площади, напротив стены для пелоты, прямо над общественным туалетом, имеется небольшое пространство, огороженное каменным бортиком. С некоторых пор каждое утро Аранча ждала там Биттори – или, наоборот, Биттори ждала Аранчу, если приходила первой. Иначе говоря, встречи их ни в коем случае не были случайными. Они договаривались? И да и нет. Им в общем-то и незачем было договариваться.
В поселке все хорошо знали про утренние беседы Биттори с Аранчей.
– А что, интересно, говорит ей Биттори?
– Да какая разница. Ведь бедная Аранча все равно ничего не соображает…
Поначалу свидания были совсем короткими. Насколько короткими? По нескольку минут. Обмен поцелуями, недолгий разговор с помощью айпэда, поцелуи при прощаньи. В барах, у дверей магазинов, в амбулатории и на автобусной остановке люди судили и рядили: очень, мол, все это странно, если Аранча не хочет видеть эту женщину, то зачем позволяет каждый день привозить себя на одно и то же место?
– А может, ее сиделка заставляет?
– Ну, это уж вряд ли.
Встречи с каждым разом становились все длиннее. На лицах у обеих светились улыбки, и они явно радовались друг другу, а Селесте просто молча стояла сзади за инвалидной коляской. Их было видно издалека. Хошиану то и дело сообщали об этом, а Мирен наседала на мужа с жалобами и сетованиями, но ему было все равно. Как это все равно? Он резко отвечал, что:
– Если это доставляет моей дочери удовольствие, зачем ее удовольствия лишать? А люди пусть себе пялятся и болтают, хрен с ними. Кому от этого плохо?
Мирен исходила злобой:
– Дурак ты.
И пошла, и пошла… Но прежде распахнула окно, чтобы все слышали, чтобы все знали, как ее предали, как оставили одну-одинешеньку. Временами на нее накатывали приступы ярости – она срывала с себя фартук и, прежде накричавшись как следует, спешила в мясную лавку. Уходила из дому решительным шагом, хлопнув дверью, чтобы излить душу перед Хуани, которая сегодня советовала ей одно, а завтра совсем другое. У нее всегда были печально сдвинуты брови – из-за сына, который то ли сам убил себя, то ли был убит, – и еще из-за мужа, который умер от рака, от опухоли, такой же большой, как его горе. А потом кто-то будет говорить, что у других были жертвы, а у них нет.
В одном пункте подруги всегда сходились:
– Теперь, когда нет больше ЭТА, идешь по улице словно голая. Никто нас уже не защищает.
Все попытки Мирен помешать дочери встречаться с Чокнутой ни к чему не привели. Если Мирен начинала вопить, кончалось это плохо. Если подступала с угрозами, не лучше. Если старалась показать, до какой степени обижена, оскорблена, огорчена, – то же самое. Что бы она ни сказала, Аранча выходила из себя. Писала в ответ на своем айпэде всякие жестокие слова, нервничала, отказывалась есть, переворачивала тарелку, выплевывала еду.
– Господи, ну и характер у тебя! Как же с тобой трудно.
Пытаясь проявить строгость и даже нагнать страху, Мирен попробовала воздействовать на Селесте, без чьей помощи в этом деле Аранча обойтись просто не могла бы, ведь сама-то она хрена с два куда уйдет. И вот, когда Аранча уже собиралась отправиться на прогулку, Мирен позвала Селесте к себе на кухню: надо поговорить. Но тут нельзя не пояснить, что эта вежливая/послушная сиделка, эта безропотная женщина, милая уроженка Анд, воплощение старания и услужливости, говорить умела лучше любого архиепископа, несмотря на скудное образование. Так вот, на сей раз Селесте почти что взбунтовалась:
– Сеньора Мирен, если вас не устраивает моя работа, вам придется впредь обходиться без меня. Я полюбила Аранчу и полагаю, что должна делать все для ее блага. У меня просто душа разрывается на части, когда Аранча сердится или грустит.
Мирен глянула на нее мрачно, по-хозяйски – и уволила. Пусть не воображает себе, другую служанку будет нетрудно сыскать. Служанку? Да, так она ее назвала, постаравшись унизить ту, что столько делала для ее дочери. Однако Селесте, по крайней мере внешне, обиды не показала.
Спокойно, с чувством собственного достоинства эта маленькая женщина наклонилась и поцеловала на прощанье Аранчу. Аранча резко отдернула лицо – насколько позволила непослушная шея. И, протянув здоровую руку, дернула за скатерть, свалив на пол все, что находилось в этот миг на столе: вазу с фруктами, солонку, подставку для яиц, журнал “Скоро”. И больше ничего – только потому, что больше там ничего и не было. По полу покатились груши, яблоки, виноградины, бананы; с треском разбились четыре или пять яиц, у остальных скорлупа пошла трещинами. Соль же как-то нелепо рассыпалась среди осколков солонки прямо по свадебной фотографии тореро с некой знаменитой девицей. Аранча раскрывала рот, кривила губы, но ни звука издать не могла. Побагровев, она трясла головой. Хотя голос ее не слушался, казалось, что она громко кричит. И такое молчание звучало пронзительно. Она не была способна выразить лицом все, что чувствовала, и тем не менее трудно было не увидеть страшную муку и ярость, сковавшие ее черты.
Мирен с силой выдохнула. И сразу же вместе с воздухом изнутри у нее словно бы выплеснулась вся злость, переполнявшая легкие. Она еще успела поднять удивленный взор к потолку, словно стараясь хоть на секунду отсрочить капитуляцию. Потом повернулась к Селесте и произнесла с намеренной резкостью:
– Послушай, детка, прости меня, я совсем не хотела ничего такого говорить. А вообще, вы меня сообща скоро доконаете.
И тогда вновь принятая на службу Селесте нагнулась, чтобы собрать фрукты и вытереть с пола яичную жижу. Но Мирен остановила ее:
– Ладно тебе, ладно, лучше вези эту на улицу, а остальным я сама займусь.
И Селесте повезла Аранчу на прогулку? Не теряя ни секунды. На площадь? Самой короткой дорогой, но под конец все-таки свернула. Почему? Там нет пандуса, поэтому надо сделать небольшой круг, чтобы подняться в горку по тротуару, вдоль домов. Как только они одолели подъем, по асфальту толкать коляску стало заметно легче.
Биттори ждала на обычном месте. И, едва завидев их, вместо приветствия чем-то замахала – листком бумаги? обрывком листа? Издалека это могло показаться носовым платком. Но нет. К тому же по выражению ее лица было понятно, что в руке она держит что-то хорошее. Они подъехали. Аранча подставила щеку, и Биттори чмокнула ее, не забыв при этом отметить, как та хорошо выглядит – и цвет лица просто замечательный. Биттори очень ласково провела рукой по коротким волосам Аранчи:
– Я думала, вы уж не появитесь.
– Дома вышла неожиданная задержка, – поспешила объяснить Селесте.
Аранча, нахмурившись, написала на айпэде: “Скажи ей правду”. И тогда Селесте позволила себе забыть о привычной для нее вежливости и сдержанности:
– Мирен отругала меня и уволила, но потом опять приняла. И очень мне было неприятно все это. Ей не нравится, что вы с Аранчей встречаетесь.
Аранча кивком головы подтверждала каждое слово сиделки, как будто говорила: да, точно, именно так оно и было. А бумага в руках Биттори, когда та ее развернула, оказалась тетрадным листом в клеточку – вторым письмом Хосе Мари. И это письмо оказалось совсем не таким, как первое – мрачное, написанное несгибаемым борцом, обиженным, злым, упрямым и…
Аранча с заметным нетерпением протянула руку – ту, которую только и могла протянуть, – ей хотелось поскорее прочитать письмо брата. И она прочитала его, покачивая головой. С огорчением? Скорее с ласковым одобрением и по-родственному мягким упреком: этот дурачок выбрал правильный путь, но до цели ему осталось пройти еще порядочное расстояние. Она вернула листок Биттори. Потом отстукала твердым пальцем на айпэде: “Он чертовски растерялся и совсем пал духом, но ты не беспокойся. Я заставлю его попросить прощения”.
– Он тут говорит, чтобы я больше ему не писала. А ты как думаешь?
Аранча с улыбкой ответила: “Рыбка заглотнула крючок. Теперь осталось вытащить ее на берег”.
Биттори была не сильна по части толкования метафор, поэтому попросила пояснений. “Ты должна опять ему написать. И я тоже напишу”. После этого Аранча сразу же попросила, чтобы Биттори обвезла ее на коляске вокруг церкви, и напечатала приказание Селесте: “А ты подожди здесь”. Биттори просьба удивила и даже немного испугала. Она догадывалась, что задумала Аранча. Это была провокация. Более того – вызов. Когда об их прогулке узнает Мирен – а она узнает, потому что в их поселке ничего нельзя утаить, – скандал разгорится нешуточный!
Биттори стала толкать коляску вперед под густыми ветвями росших на площади лип и направилась прямиком к стене для игры в пелоту, которую еще несколько лет назад покрывали лозунги в поддержку ЭТА, а также левацкая символика. Теперь стена была выкрашена в ровный зеленый цвет. После того как прекратились теракты, мэрия велела покрасить стены, потому что пришла пора перевернуть эту страницу и подумать о будущем, показав, что нет больше ни победителей, ни побежденных. Биттори с коляской шла вокруг церкви очень медленно, и не столько потому, что хотела быть замеченной – в любом случае народу в такой ранний час было мало, – а главным образом потому, что к Биттори возвращалась боль. Боль с каждой минутой усиливалась, терпеть ее не было мочи, и Биттори уже теряла контроль над собой, когда наконец смогла передать коляску Селесте.
Потом она простилась с ними, подождала, пока они скроются из виду, и стала спускаться по лестнице, ухватившись за перила, но, спустившись, прошла не больше тридцати – сорока метров. Ей пришлось сесть прямо на пыльные плиты, потом лечь, и, пока кто-то, какие-то прохожие, суетились вокруг нее, она услышала/узнала сердитый голос Мирен в нескольких шагах от себя:
– Оставь мою дочь в покое.
Второй раз Мирен этого не повторила. И вообще ничего больше не добавила. А Биттори, когда через несколько минут стала приходить в себя, уже не была уверена, на самом ли деле слышала эти слова или они ей только пригрезились.
108. Медицинское заключение
Нерея позвонила брату, чтобы сообщить, что его имя появилось в газете.
– В какой именно?
– В “Эгине”. Они пишут, что ты был тем врачом, который осматривал боевика ЭТА, арестованного накануне. Пишут, что, согласно твоему заключению, к нему, скорее всего, применялись пытки.
– Я никому не давал интервью – и уж тем более этой газетенке.
Мое заключение? Скорее всего, применялись пытки? В голове у него все это никак не укладывалось. Было девять часов утра. Он поздно лег спать. Насколько поздно? Ну, он уже не помнит. Между тремя и четырьмя ночи. И то только потому, что выпил весь коньяк, иначе просидел бы перед компьютером до рассвета. Сухость во рту, и немного болит голова. А спать хочется? Наверняка захочется днем в больнице.
Он вышел, чтобы купить газету. Даже не позавтракал. По правде говоря, звонок Нереи вытащил его из постели. Обычно он покупал газеты и журналы в ближайшей от дома книжной лавке. Не каждый день, но часто. “Диарио баско”, иногда “Паис”. А когда случается что-то особенно важное, и ту и другую.
Он уже несколько лет был знаком с продавцом. И теперь ему было неудобно просить у него “Эгин”. Продавец, всю свою жизнь бывший социалистом, обычно называл “Эгин” крикливым листком. И Шавьер перенял у него это определение.
В нескольких метрах от книжной лавки он остановился. Нет, туда я не пойду. А так как утро было жарким, дул южный ветер и небо сияло, Шавьер прогулочным шагом дошел до киоска на проспекте. Прочитав нужную заметку, швырнул газету в урну и заглянул в ближайший кафетерий, чтобы позавтракать.
Ложь, что он сделал какое-то заявление.
Террорист, двадцать три года, в прошлый понедельник явился в больницу на собственных ногах под охраной нескольких гвардейцев. Жаловался на сильные боли в боку. Шел согнувшись с гримасой боли на лице, а также испытывал боль в груди при вдохе. Капитан знаком дал понять Шавьеру, что хочет переговорить с ним наедине.
– Послушайте, доктор, не обращайте внимания на то, что вам скажет этот тип. Он убийца. Он оказал сопротивление при задержании, и пришлось применить к нему силу. С такими по-хорошему не получается. Сами знаете, насколько они опасны.
Он сослался еще и на то, что террорист в момент задержания был вооружен, а кроме того, все боевики получили инструкции от своих главарей: непременно заявлять, будто их пытали. А что Шавьер? Он молчал. Знал бы этот гвардеец, чей я сын. Врач смотрел ему в глаза, пока тот не сказал все, что хотел. И тогда – спокойно? нет, скорее невозмутимо – развернулся и вошел в кабинет, где его ждал пациент.
– Доктор, меня пытали. Очень болит вот тут. Наверняка что-то сломано.
Знал бы этот парень, как люди из его банды поступили с моим отцом. В голове у меня словно пронесся ураган. Потому что я, понятное дело, не каменный. И Нерея на другом конце телефонного провода сказала, что понимает его и не знает, как бы сама поступила на месте брата, наверное, точно так же.
Он видел перед собой больного. Вот кем был для Шавьера парень, чье тело требовало врачебной помощи. А что успели натворить это тело, эти лицо, грудь, руки и ноги, доктора не касается. Сейчас не касается. А когда он сделает свое дело – или через несколько часов после того, как сделает, или завтра, – этот вопрос наверняка живо его заинтересует. Более того: лишит сна.
За открытой дверью были слышны голоса и шаги гвардейцев. Шавьер спросил того, кто был ближе других, нельзя ли закрыть дверь. Из коридора ответили, что нет, нельзя. Вполне вежливо, надо сказать, ответили. Судя по всему, белый халат внушал им уважение.
– Поймите нас правильно, мы не должны спускать с него глаз.
Как только Шавьер увидел пациента голым до пояса, любые соображения личного порядка отодвинулись на задний план. Раздеться больному помогали две медсестры. Сам он этого сделать не мог. Оставили его в одних трусах. Террориста, боевика ЭТА и, вне всякого сомнения, убийцу. Так Шавьер думает сейчас. А в тот миг он думал только о том, что должен как следует выполнить свою работу.
Нерея:
– Черт тебя побери, Шавьер, ну и выдержка у тебя.
– Зря ты так думаешь. Я всего лишь выполняю свои обязанности. За это мне и платят.
Синяк под глазом у террориста подготовил Шавьера к тому, с какими травмами и повреждениями ему придется иметь дело. Когда боевик остался совсем голым – а в конце концов пришлось снять и трусы, – на теле обнаружилось множество ушибов. По левому боку тянулась огромная опухоль – от верхней части лопатки до бедра, что сразу заставляло заподозрить серьезное внутреннее повреждение. Происхождение? Шавьеру не вменялось в обязанность выяснять это, хотя только слепой не догадался бы, откуда взялись болячки и ссадины на коленях и лодыжках. Доктор велел незамедлительно отправить больного в центр интенсивной терапии.
Капитан:
– Вы уверены?
А чего он ждал? Что мы тут налепим ему несколько полосок пластыря и опять отдадим им?
– У него подкожная эмфизема. Возможно, сломано ребро и обломок проткнул легкое. Придется провести соответствующее обследование, но заранее могу сказать, что состояние больного тяжелое.
– Как вам хорошо известно, этот больной – террорист и находится под арестом. И требует строжайшего надзора. Но это в равной степени причинит неудобства и всем тем, кто будет заходить в палату, куда его поместят.
А мне-то какое дело? Но Шавьер, естественно, не сказал ни слова. Как если бы ему и в самом деле было безразлично. Он протянул вперед открытые ладони, словно доказывая свою невиновность:
– Я всего лишь выполняю свои обязанности.
– А мы – свои, и пошел бы ты к такой-то и такой матери.
Такая наглая, казарменная грубость, которая сопровождалась еще и пронзительным взглядом, напугала Шавьера. Больше ему разговаривать с капитаном не хотелось. Он уже думал о том, как, оставшись один, примет свой обычный антидепрессант. Машинально глянул на часы. Этот жест словно возводил незримую стену между ним и гвардейцем. И вдруг Шавьер вспомнил про Биттори. Почему? Если бы не она, он сейчас занимался бы медициной за много километров отсюда, может, даже на другом континенте, в тех неведомых землях, куда уехала Арансасу. Но я не могу оставить мать одну.
Ему было доподлинно известно, что по указанию дежурного суда Сан-Себастьяна проводится расследование на основании заключения судебно-медицинской экспертизы. Шавьер написал и свое заключение по результатам обследования: множественные ушибы, перелом девятого левого ребра, ушиб легких, гемопневмоторакс с левой стороны, гематома левого века с выраженным отеком, подкожная эмфизема в области таза; множественные кровоподтеки и ссадины на обеих ногах. Все это он изложил с помощью коротких, равнодушных фраз. Подчеркнул, что пациент был доставлен агентами гражданской гвардии, чтобы в больнице были оценены повреждения, полученные после задержания. Пациент заявил, что повреждения получены в результате ударов кулаками и ногами по голове, груди, животу и нижним конечностям. Закончив писать и решив не перечитывать (против своей привычки) готовый текст, он поставил дату и подпись.
Три дня спустя состояние пациента стабилизировалось. Тогда же Шавьеру сообщили, что с ним желает поговорить какой-то мужчина. Шавьер не хотел принимать его в своем кабинете. Там бывает труднее избавиться от всякого рода навязчивых типов. Кроме того, на столе стоит фотография отца, и Шавьеру неприятно, когда ее видят посторонние. А еще не исключено, что в кабинете попахивает коньяком. Короче, он вышел в коридор.
Его ждал мужчина тридцати с лишним лет с багровым лицом, крупного сложения и, пожалуй, страдающий диабетом – в этом я был почти уверен. Брат террориста, явившийся поблагодарить меня. Шавьер: не за что. Как и капитану гражданской гвардии, визитеру он сказал, что всего лишь выполнил свои обязанности.
Шавьер сразу же понял, что толстяк пришел в больницу не только ради благодарностей. Он добивался, чтобы врач подтвердил, что его брат подвергался пыткам:
– Как вы считаете?
И Шавьер всего лишь повторил в более доходчивой форме содержание своего заключения, и его ответ на следующий день появился в “Эгине” и был преподнесен как заявление, сделанное специально для газеты.
Нерея по телефону:
– Ты должен был сказать, что ЭТА убила нашего отца. Представляешь, какую бы рожу он скорчил?
– Я был тогда слишком усталым. Мне это не пришло в голову.
– Еще остается под вопросом, был он или нет братом террориста.
– Знаешь, у меня сразу появилось подозрение, что никакой он не родственник. Но матери мы не скажем ни слова, ладно?
– Разумеется. Мы же не сумасшедшие.
109. Если на угли подует ветер
Как-то раз они обсуждали этот вопрос, сидя втроем за столом, через несколько лет после гибели Чато. Какой вопрос? Посещать или нет встречи жертв терроризма? Нет, никогда. В этом пункте между матерью, братом и сестрой царило полное единодушие.
Биттори:
– Я свое горе выставлять напоказ не собираюсь. А вы поступайте как знаете.
Именно Нерее пришло в голову сравнить это с тлеющими у них в душе углями:
– И каждый должен сам выбрать способ, который поможет постепенно эти угли остудить.
А мать добавила: если на угли подует ветер, пламя разгорится снова. На самом деле каждый из них троих, хоть они и не признавались в том друг другу, после очередного теракта с новой силой чувствовал внутренний ожог.
Однако, как правило, этой темы в своих разговорах они не касались. И старались, словно подчиняясь негласному договору, оставлять без комментариев преступления ЭТА. Зато нередко говорили про Чато, хотя в основном не про его убийство. Они любили вспоминать – весело, с улыбками, – каким он был упрямым, какие большие у него были уши, каким он был добрым. И Биттори время от времени просила сына и дочь не забывать отца. А еще никто из них троих не хотел прожить остаток жизни, чувствуя себя в первую очередь жертвой и только жертвой. Утром – жертва, днем – жертва, вечером – жертва.
Шавьер:
– Хотя вы не станете отрицать, что мы все-таки жертвы.
Биттори, опустив половник в кастрюлю:
– Да, только давайте наконец займемся обедом, не то суп совсем остынет.
Один за другим проходили годы, проходили дожди, одна за другой взрывались бомбы, гремели выстрелы. Наступил новый век, и как-то раз, ноябрьским утром, Шавьер узнал из газеты, что в Сан-Себастьяне намечено провести Дни, посвященные жертвам терроризма, – в знак протеста против террора. Организацию взяла на себя Ассоциация жертв терроризма Страны басков. Но Шавьер участвовать в Днях не собирался, он никогда не посещал такого рода мероприятия, так как боялся/знал, что потом совсем раскиснет и долго будет бродить в полном мраке по лабиринту своих мыслей.
Между тем он обнаружил в списке предполагаемых участников имя судьи, который вел дело об убийстве их отца, и стал над этим раздумывать, и почувствовал любопытство, и в голову ему пришло, что было бы интересно послушать судью, оставаясь простым зрителем. В конце концов, никто меня там не знает, прошло уже много лет, и я могу выбрать место подальше от стола, за которым будут сидеть выступающие.
Еще и за час до начала встречи Шавьер продолжал колебаться: его одолевали страх, сомнения и мучительная тревога, от которой он попытался избавиться с помощью таблетки. Из дому он вышел, так окончательно и не решив, в каком направлении двинется. Небо уже почернело, улицы были забиты машинами. Он зашагал, предоставив собственным ногам право выбрать путь. И ноги – после довольно долгих блужданий – привели его к главному входу в гостиницу “Мария Кристина”, где в одном из залов первого этажа будут по очереди выступать судья, писатель и другие участники встречи – каждый в течение нескольких минут.
Итак, ноги решили этот вопрос за меня. Шавьер с сильно бьющимся сердцем зашел сначала в бар “Танжер”, расположенный поблизости, и выпил порцию коньку, следом вторую. Зачем? Ну, чтобы успокоить нервы. Чтобы набраться храбрости. Узнает меня кто-нибудь или нет? Чтобы потянуть время и дождаться начала, когда внимание присутствующих будет приковано к сцене.
Он сел поближе к одной из дверей – в предпоследнем ряду среди незнакомых ему людей. Впереди – спины и затылки, однако немало и свободных мест. Сколько людей собралось здесь, человек сорок – пятьдесят? Не больше. У задней стены стол с микрофонами, за столом сидят главные участники. Но судьи среди них нет. Кто-то закончил свое выступление и передал слово писателю, раздались вялые, дежурные аплодисменты. Писатель поздоровался с публикой, поблагодарил за приглашение. А потом сказал, что:
– Бывает, книга зреет внутри у человека на протяжении долгих лет, дожидаясь подходящего случая, чтобы быть написанной. Моя книга, о которой я хочу сегодня вам рассказать, именно из таких. Изначальная идея…
Стараясь остаться незамеченным, Шавьер разглядывал присутствующих и пытался понять, кто есть кто. Но так как он смотрел сзади, задача оказалась нелегкой. К тому же он лично не был знаком ни с одной жертвой ЭТА, как и с родственниками жертв. Он знал тех, кого знали абсолютно все, часто видя на экране телевизора или на фотографиях в газетах.
– И то, что я поставил перед собой подобную цель – составить с помощью литературного вымысла свидетельство об ужасах, которые творила здесь банда террористов, в моем случае объяснялось двумя причинами. С одной стороны, это солидарность с жертвами террористов. С другой – безусловное неприятие насилия и любых агрессивных действий, направленных против правового государства.
Потом писатель задал себе вопрос: почему сам в юности он не присоединился к ЭТА? Казалось, все присутствующие в зале от неожиданности затаили дыхание.
– В конце концов, я ведь тоже был баскским парнем и, как многие и многие молодые ребята того времени, испытывал на себе действие пропаганды, а она оправдывала и терроризм, и питающие его идеи. Знаете, я много раздумывал над этим и вроде бы нашел ответ.
Там, впереди, в первом ряду, зарезервированном для приглашенных, сидел судья, ожидая, когда наступит его черед взять в руки микрофон. Судью было легко узнать по лысой, словно отполированной голове. К тому же как раз в те дни он вел какое-то важное – не помню, какое именно, – дело, и поэтому его портрет часто появлялся то в газетах, то на экране телевизора. Насколько было известно Шавьеру, судья уже не был членом Верховного суда.
– Короче, я писал, чтобы выразить свой протест против того, что одни люди причиняют страдания другим, я пытался показать, в чем именно заключались эти страдания и, само собой разумеется, кто их причинял и какие физические и психические последствия вызывали они у выживших.
Тут где-то в третьем или четвертом ряду женщина, на которую Шавьер обратил внимание, немного повернула голову, и он узнал этот профиль.
– А еще я хотел выразить свой протест против преступлений, совершаемых во имя тех или иных политических идей, во имя родины, когда кучка вооруженных людей при постыдной поддержке определенной части общества решает, кто для этой родины свой, а кто должен покинуть ее или вообще исчезнуть. Я писал без ненависти – против риторики ненависти и против забывчивости, на которую сильно рассчитывают те, кто старается придумать такую историю, какая будет служить их планам и их тоталитарным убеждениям.
Шавьер еще не был до конца уверен. Другая женщина, в бежевом шерстяном берете, сидевшая сзади, за той, на которую он смотрел, мешала ему разглядеть ее как следует. Да, конечно, лицо знакомое. Ну да, разумеется, это сестра Грегорио Ордоньеса. Как же ее зовут? Мария Ордоньес, Эстер Ордоньес, Майте Ордоньес… Он никак не мог вспомнить, как зовут женщину на самом деле. И вдруг: Консуэло Ордоньес. Черт, надо же, ведь с каким трудом всплыло в памяти.
– А еще я написал эту книгу, потому что хотел предложить близким мне людям что-то позитивное – и показать, как много доброго несут в себе литература и искусство, иными словами, как много доброго и благородного несет в себе человек. Показать, с каким достоинством ведут себя жертвы ЭТА – как отдельные личности, а не как некое статистическое целое, где теряется имя каждой из жертв, теряются конкретные лица и неповторимые черты.
Да, вот именно этого и не желает моя мать: чтобы ее страдание и страдание ее детей послужили материалом для какого-нибудь писателя, который сочинит об этом книгу, или для режиссера, который снимет об этом фильм, а потом им станут аплодировать, они получат премии, в то время как мы по-прежнему будем нести свой крест, будем продолжать жить внутри своей трагедии.
– Я старался избежать двух ошибок, которые представляют главную опасность для тех, кто берется за тему такого рода: с одной стороны, не впадать в патетику и сентиментальность, а с другой – не поддаться соблазну делать остановки в повествовании, чтобы напрямую изложить свою политическую позицию. Ведь для этого, на мой взгляд, существуют интервью, газетные статьи или встречи вроде нынешней.
Во втором ряду с краю – рыжая шевелюра. Шавьер узнал Кристину Куэсту, чьего отца убили, как и его собственного. Это была, вне всякого сомнения, она. А слева от нее – Кати Ромеро, вдова сержанта муниципальной полиции Сан-Себастьяна, того самого – не знаю, где-то я об этом читал, – который хотел очистить полицию от сотрудников, работающих на ЭТА, и, естественно, в конце концов террористы выпустили в него пару пуль.
– Я хотел ответить в своей книге на конкретные вопросы. Как в душе переживают свое горе те, кто потерял отца, мужа или брата? Как выстраивают свою жизнь после совершенного ЭТА преступления вдовы, сироты, покалеченные люди?
Писатель говорил спокойно. Шавьер верил в его благие намерения, однако не верил, будто что-то может всерьез перемениться только потому, что кто-то напишет книгу. Как ему казалось, до сего дня баскские писатели мало внимания уделяли жертвам терроризма. Куда больший интерес вызывали палачи и убийцы, их внутренний мир, потаенные чувства и так далее. Кроме того, терроризм ЭТА трудно использовать для атаки на правых. Для этого куда выгоднее тема гражданской войны.
– …Стараясь дать достоверную панораму общества, которое захлестнула волна террора. Может, я и преувеличиваю, но у меня есть твердое убеждение, что дело идет к тому, что разгром ЭТА будет довершен средствами литературы.
Тут женщина, сидевшая прямо за спиной Консуэло Ордоньес, та, в бежевом берете, слегка повернула голову – всего лишь на доли секунды, но и этого оказалось достаточно, чтобы у Шавьера екнуло сердце, так как он узнал хорошо знакомые ему черты. Что делает здесь моя сестра, ведь она как-то раз сказала, что не пойдет на встречу жертв терроризма, даже если ей хорошо заплатят? А делает она здесь то же, что и он сам. Шавьер раздумывал над абсурдностью вопроса не больше секунды, потому что его занимали уже другие, более срочные проблемы. Какие? Ну, например, как уйти так, чтобы Нерея его не заметила. Он прикинул, что от дверей его отделяют где-то шага три. Времени на колебания не осталось. Воспользовавшись тем, что публика начала аплодировать писателю, а значит, шаги его не будут слышны, Шавьер встал и выскользнул в коридор, а потом быстро, почти бегом, двинулся к выходу.
110. Разговор в сумерках
Они уже давно не виделись. Как давно? Какая разница. Недели две или три. И за это время появились новости, касающиеся Биттори. Ничего хорошего, а одна так даже по-настоящему тревожная. Шавьер с Нереей дружно решили, что телефон – не лучшее средство для обстоятельного разговора о той опасности, которая нависла над их матерью. Что мы можем сделать? Тебе не кажется, что?.. Они договорились немедленно встретиться где-нибудь в центре города. День был холодным, но солнечным. Нерея предложила пройтись по Пасео Нуэво вдоль синего бескрайнего моря. Шавьер охотно принял предложение сестры.
Взрослые, дети, вставшие в ряд продавцы всяких безделушек. Народу было столько, что с трудом удавалось пробить себе дорогу. Чуть поодаль рабочие из мэрии при помощи аппаратов высокого давления смывали с торцовой стены рыбного ресторана “Ла Бреча” надписи в поддержку ЭТА. Брат с сестрой, чтобы на них не попали брызги, старались держаться как можно ближе к фасаду здания на другой стороне улицы.
– Остается не слишком долго ждать того дня, когда мало кто вспомнит о том, что здесь происходило.
– Не злись, братец. Таков закон жизни. В конце концов всегда побеждает забвение.
– Но нам не обязательно становиться его, этого закона, последователями.
– А мы ими и не станем. Из нашей памяти таким вот аппаратом ничего не смоешь. И поверь мне, нам, жертвам, еще бросят в лицо, что мы отказываемся думать о будущем. Скажут, что мы жаждем мести. Кое-кто уже завел эту песню.
– Потому что мы им мешаем.
– И ты даже не представляешь, до какой степени.
Только у музея Сан Тельмо они наконец заговорили о том, ради чего встретились. Заодно Шавьер попросил Нерею рассказать и про кошку. Что там с ней случилось? Что за история?
– Кошка погибла, но мама этого не знает. Думаю, лучше ей об этом и не знать.
– А ты-то сама как узнала?
– Вчера я поехала к матери. Кике довез меня на машине до улицы Сан-Бартоломе. А так как он вечно опаздывает и поэтому нервничает, то всю дорогу ворчал: у него важная встреча с клиентом, из-за меня он заставит того ждать. Тогда я сказала: останови здесь, дальше я дойду пешком. Вообще-то у меня были нехорошие предчувствия. Понимаешь, звоню матери, а она не берет трубку. Опять звоню – то же самое. И так два дня подряд. Поэтому я решила, что лучше будет съездить к ней и убедиться, что все в порядке.
– Она целые дни проводит в поселке.
– Да, а иногда едет на кладбище. Ей по-прежнему необходимо постоянно бывать на отцовской могиле. Наша мать просто жить без нее не может. Но меня удивило то, что в обычные для нее часы ужина трубку тоже никто не брал.
Так вот, поднимаясь на холм Альдапета, Нерея обратила внимание на лежавшее на дороге раздавленное машинами животное с черной шерстью. Она остановилась на тротуаре и сразу же узнала ошейник. Потом пошла к матери. Пробыла у нее около часа, а когда уже собралась прощаться, словно ненароком спросила про кошку:
– Где же она, что-то ее не видно?
– У нее своя жизнь. Вернется, когда ей заблагорассудится, и принесет мне в зубах птичку.
Закрыв рукой рот и нос, Нерея стала убирать с дороги дохлую кошку. Когда рядом не было машин, она толкала палкой кровавое месиво в сторону придорожной канавы, туда, где не было тротуара, в надежде, что там-то мать кошку не заметит. Наконец, подцепив острым концом палки грязный ошейник, Нерея зашвырнула труп за ограду.
Когда она рассказывала об этом брату, лицо ее исказила гримаса отвращения.
– Вот и правильно, что ты ничего не сказала матери.
– Меня чуть не вырвало, пока я спускалась вниз к Сан-Бартоломе. А там я зашла в первый попавшийся бар, чтобы выпить чего-нибудь крепкого. И это при том, что я не любительница угощаться спиртным в неурочное время, но мне было просто необходимо поскорее избавиться от мерзкого привкуса во рту.
Они шли плечом к плечу и вдыхали свежий морской воздух, а взору их открывалась длинная, затянутая туманом береговая линия. Внизу волны ритмично, с пенными брызгами разбивались о каменные блоки волнореза. Нерея повернулась к брату:
– А теперь расскажи поподробнее, о чем начал говорить по телефону.
– Ты помнишь Рамона Ласу?
– Шофера “скорой помощи”? Конечно.
– Неделю назад он заявился ко мне в кабинет, потому что ему передали, ему сказали… Что? Что люди видели, как наша святая матушка шла по площади, толкая перед собой инвалидную коляску, в которой сидела Аранча. Ты только вообрази эту сцену: они вдвоем среди бела дня прогуливаются там, где их просто никак нельзя не заметить. Зачем, спрашивается? И кому это взбрело в голову? И почему рядом не было той женщины, сиделки Аранчи, которая никогда от нее не отлучается? А теперь представь себе, какие разговоры пошли после этого по поселку.
– Да, все это немного странно. Уж сколько лет мы не разговариваем с той семьей. Я, например, не видела Аранчу со времен моего студенчества. И тем не менее продолжаю считать ее своей подругой. Из них всех только она одна вела себя с нами по-человечески. Скажи, а ты потом ничего не спросил у матери?
– Подозреваю, что у нее что-то не в порядке с головой. И мне не хотелось еще больше усложнять ситуацию. Но будь уверена, по лицу Рамона сразу было видно, насколько он удивлен.
– А что, интересно знать, думают об этом родители Аранчи?
– Ну, по-моему, Хошиан остался таким же мямлей и простофилей, каким был всегда, и легко проглотит что угодно. Но она-то, она?
– Да уж, для Мирен такая история – все равно что удар под дых.
– От того же Рамона я узнал, что после прогулки с Аранчей нашей маме стало плохо прямо на улице, она потеряла сознание и ей понадобилась посторонняя помощь. Именно тогда, как и сказал тебе по телефону, я решил вмешаться.
Солнце, уходя, прочерчивало на поверхности моря полосу из суетливых бликов. Корабли? Ни одного. Катер у входа в залив – вот и все. Шавьер и Нерея стояли, облокотившись на парапет. У него уже наметившаяся лысина была прикрыта клетчатой шотландской кепкой, у нее голова оставалась непокрытой, хотя еще несколько лет назад она обычно носила шерстяные береты. За их спинами скучала, дожидаясь следующей бури, проржавевшая скульптура Отейсы[114]. Неподалеку от них рыбак с удочкой сосредоточенно следил за движениями белого поплавка в беспокойной воде.
– И я буквально заставил ее сесть ко мне в машину. Куда мы едем? Скоро узнаешь. Ведь до этого я несколько раз договаривался с Арруабарреной о консультации. Она обещала сходить, но так ни разу и не сходила, только тянула время, а я, глядя на результаты анализов крови, уже не сомневался, что с ней не все в порядке. Арруабаррена ее обследовал. И позавчера позвонил мне. Попросил как можно скорее приехать. Едва увидев выражение его лица, я понял, что он собирается сообщить мне плохие новости.
– Все-таки рак?
– Да, шейки матки. Очень запущенный. Если бы диагноз был поставлен раньше, можно было бы принять надлежащие меры, которые дают надежду на выздоровление, но она вела себя на удивление беспечно, а я не отнесся к этому с должным вниманием, и вот теперь у нее уже поражены другие органы, в том числе печень. Не стану вдаваться в клинические подробности. Ничего приятного, можешь мне поверить.
– Сколько ей осталось?
– Прикидывая с большим запасом, Арруабаррена дает ей от двух до трех месяцев, но она может умереть и сегодня же ночью. После операции и при инвазивных процедурах, скажем инъекциях, протянула бы, пожалуй, и до конца года. Но вряд ли в этом есть какой-то смысл.
– Она знает?
– Арруабаррена с ней еще не беседовал. Он спросил меня, не считаю ли я, что лучше это сделать мне самому, в конце концов, я сын, к тому же врач. Думаю, он прав. Вероятно, на мне лежит большая вина за то, что я не забил тревогу, когда еще было время, чтобы с болезнью справиться.
– Сейчас уже поздно рвать на себе волосы. По-моему, мама знает о своей болезни больше, чем дает нам понять.
– В машине она спорила со мной и говорила, что ей незачем ехать к врачу, что всю жизнь у нее тяжело проходили месячные и были боли внизу живота.
Брат с сестрой снова зашагали. Спустились по лестницам Аквариума, дошли до порта. Город усеяли точки первых электрических огней.
– В любом случае я договорился с Арруабарреной о паллиативном лечении. Будет сделано все возможное, чтобы мама не страдала.
Нерея положила руку Шавьеру на плечо. Так они и шли какое-то время – не разговаривая, не глядя друг на друга, пока она снова не подала голос. А что он сам собирается делать, когда мама уйдет?
– Ты ведь знаешь, что я живу в этом городе только из-за нее. Такое обещание я дал отцу в день его похорон. Сказал: не тревожься, я о ней позабочусь, одна она не останется. И как видишь, под конец ужасно оплошал. А планы у меня такие: выполнить давнее желание родителей – они ведь хотели лежать в одной могиле на кладбище в поселке. Потом я уеду. Куда? Понятия не имею. Далеко, это точно. Туда, где от меня будет польза тем, кто в ней нуждается. А ты?
– Я останусь здесь.
Им не хотелось идти по слишком многолюдным улицам Старого города. Разговор они продолжили у стойки в кафетерии на бульваре. Затем расстались – серьезные, спокойные, по-родственному соприкоснувшись щеками. Он пошел в одну сторону, она – в другую. К этому часу небо уже сделалось совсем темным, и на смену вполне сносному дневному холоду пришел гораздо более суровый ночной. Шавьер шел по улице Элькано, погрузившись в свои мысли, и вдруг нос его радостно уловил горячий аромат жареных каштанов. На углу площади Гипускоа стоял ларек продавца каштанов. Два с половиной евро за дюжину. Пока он платил, пробило восемь на здании городского совета. И Шавьер, чувствуя в ладонях приятное тепло бумажного кулька, сел на скамейку под убывающей луной, которую было видно сквозь голые ветви дерева. Он без труда очистил первый каштан. Очень вкусный. То, что надо, не жесткий и не пережаренный. Благодаря блаженному теплу, разлившемуся у него во рту, вылетавший оттуда при дыхании пар сгущался. Второй каштан – тоже очень вкусный. Слишком вкусный. Шавьер встал. Высыпал в урну содержимое кулька, еще почти полного, – каштаны падали один за другим на мусор, скопившийся за день. Потом Шавьер зашагал в сторону проспекта и смешался с людским потоком.
111. Ночь в Каламоче
Как правило, Мирен ездила на свидания с Хосе Мари на автобусе, который принадлежал организации “Мы за амнистию”. Время от времени ее сопровождал Хошиан. Но только поначалу, с годами он присоединялся к ней все реже и реже.
Эта неприятная история случилась с ними довольно давно, в зимнюю субботу, на дороге в нескольких километрах от Каламочи. После чего у Хошиана и вовсе пропало желание куда-то ездить. Но это была не единственная причина. Вторая, и главная, – Мирен. Она слишком привыкла командовать, и они без конца ссорились – не дай бог сказать что-то против ее сына, потому что Хосе Мари для нее – как нога у самого паха. Чуть дотронешься – сразу дергается. Вот ведь какая женщина.
В тот день они выехали на личную встречу с Хосе Мари в тюрьму в Пикассенте с самого утра, но не на автобусе, а вместе с Альфонсо и Каталиной на их машине. Сын у них сидел там же.
Нельзя сказать, чтобы две их семьи объединяла тесная дружба. Втихаря Мирен тех двоих даже поругивала – в основном за то, что не говорили по-баскски. Хошиану было все равно, на каком языке они разговаривают. Тем не менее он тоже не испытывал к ним особой симпатии. Почему? Он только пожимал плечами: а бог его знает почему.
Ладно, в конце концов, Альфонсо и Каталина тоже жили в поселке, хотя и переехали туда в шестидесятые годы откуда-то из нижних краев. На взгляд Мирен, баскского в них не было совсем ничего, ну ни капли. А по акценту, особенно у Каталины, сразу можно было определить, откуда они родом. Зато сынок стал членом ЭТА и в те годы отбывал наказание в одной тюрьме с Хосе Мари, к тому же парни вроде бы неплохо ладили между собой.
Дон Серапио подловил Мирен на улице. Вот ведь прилипчивый какой! Священник как раз беседовал с Каталиной в арке у мэрии. Он обычно останавливался поговорить со всеми, кого встречал. Руководил душами и телами. Или пытался руководить. Ведь к мессе, за исключением особых случаев, являлось обычно полтора человека. Дон Серапио сразу заметил Мирен, которая собралась было купить у торговки домашнего сыра, и позвал: kaijo, Мирен, а она не могла притвориться глухой, поскольку стояла от него всего в нескольких шагах. Она махнула рукой на сыр и подошла. Оказалось, Каталина и ее муж собирались ехать на свидание к сыну в тот же день, что и Мирен с Хошианом, как только что узнал священник.
Хошиан:
– А нечего тебе было языком трепать.
– Да он ведь мой исповедник.
– Значит, впредь ходи на исповедь в другой поселок.
Итак, в присутствии дона Серапио Мирен и Каталина договорились – а что им оставалось? – ехать в Пикассент вместе на машине Альфонсо. А кончилось дело тем, что дону Серапио едва не пришлось отпевать всех четверых.
Авария произошла на обратном пути. Через несколько дней сообщение о ней появилось в “Эгине”, после того как Альфонсо прямо из Теруэля побеседовал по телефону с каким-то журналистом. По дороге туда Хошиан сел на переднее сиденье рядом с Альфонсо, который был страшным занудой. Может, поэтому Хошиан его и недолюбливал. Тот обо всем имел собственное мнение. И не замолкал ни на минуту. Говорил про футбол, про моторы, про кулинарию, про грибы – и про все со знанием дела. В какой-то момент он поставил кассету с сарсуэлой[115]. Мирен шепотом, когда они, уже прибыв в тюрьму, расстались:
– Это у них в крови. Еще немного, и начали бы кричать “Да здравствует Испания!”.
Когда пришла пора возвращаться и Хошиан собрался сесть в машину, он увидел, что на этот раз место впереди заняла Каталина. Пришлось устраиваться сзади, рядом с Мирен, которая, едва они тронулись в путь, ущипнула мужа за ногу, чтобы он не вздумал рассказывать что-то связанное с Хосе Мари, когда Хошиан уже собрался этим чем-то поделиться.
Два дня спустя дома:
– Возблагодари святого Игнатия, что вперед села Каталина.
– Да уж, выходит, мой ангел-хранитель оказался ловчее, чем ее.
Альфонсо, ведя машину, никому рта не давал раскрыть. Он нахваливал своего сына, который в тюрьме много занимается спортом и даже начал учить английский. Только вот, на беду, говорить с ним приходится с одного бока, потому что другим ухом он почти не слышит. Альфонсо нажал на газ, обгоняя грузовик, и добавил:
– Его сильно избили, когда задерживали.
Мирен время от времени вставляла свое слово:
– И вы что, жалобу не подавали?
– Да кто тут будет обращать внимание на жалобы… Наши дети попали в лапы государства.
– Моего Хосе Мари тоже били. Целой кучей навалились. Он ведь такой сильный и большой, что в одиночку к нему никто бы не сунулся.
Хошиан, грустный и погруженный в свои мысли, как всегда после встречи с Хосе Мари (ну, сын, пока, всего тебе доброго), казалось, не прислушивался к разговору и смотрел в окошко. Но что-то все-таки до него доходило.
Они успели проехать довольно большой отрезок пути, и теперь уже Хошиан незаметно пихнул Мирен в бок, чтобы думала, прежде чем говорить. К концу дня они пересекали провинцию Теруэль. Безлюдные поля, пятна снега, горная цепь вдали, почти поглощенная мраком, и жуткий холод снаружи. Вдруг Каталина по наивности своей решила пуститься в откровения. Видно, посчитала, что между ними установились достаточно доверительные отношения, хотя ничего подобного на самом деле не было. Или она просто не представляла себе, до какой крайности может довести Мирен политико-патриотическая лихорадка.
Боевикам, сидящим в тюрьме в Пикассенте, передали приказ объявить голодовку. Появился адвокат и сказал: голодовка. Хосе Мари, который как в этом, так и в других вопросах проявлял предельную требовательность, следил за поведением товарищей. Кремень человек. Чем Мирен откровенно гордилась и потом в поселке рассказывала, что ее Хосе Мари никому не согнуть.
В ответ Каталина сообщила, что им разрешили взять с собой в комнату для свиданий пакет кексов, которые она сама испекла дома. Вообще-то, все зависит от того, как отнесется к тебе тюремный персонал: то разрешают пронести еду, то нет, однажды, было дело, им запретили, а сейчас – пожалуйста.
– И он их все съел у нас на глазах.
Мирен взорвалась:
– Неужели не понятно, почему они разрешили тебе пронести кексы? Знают, что заключенные объявили голодовку, а если кто-то ее прервет, начнутся раздоры.
– Да ладно тебе, никто ведь не узнает.
– Но я-то узнала. Голодовка имеет смысл, когда ее либо держат все, либо не держит никто.
Однако больше Мирен ничего не добавила, потому что как раз в этот миг получила тычок в бок от мужа. В машине тотчас повисло напряженное молчание, и Альфонсо воспользовался случаем, чтобы поставить кассету с сарсуэлой, но не с той, что вчера, хотя и в том же духе, так что их ожидало много километров испанской музыки. Говорилось там, скажем, про касторку и ее чудодейственный эффект. Особенно если принимать ее в капсулях.
Тут-то это и случилось. Как именно? Мирен не помнит. Хошиан, занятый своими печалями и размышлениями, клевал носом, сложив руки на груди. Он как будто ничего и не заметил. Проснулся от того, что Альфонсо громко выругался, а следом завизжала Каталина. Что такое? Машина съехала в кювет. Мирен выбралась первой. Дверца со стороны Хошиана не открывалась. А те двое, что сидели впереди, молчали. Исполнитель сарсуэлы – тоже.
Мирен, стоя снаружи, тянула Хошиана:
– Давай-давай выходи.
Она вытащила его за руку, и они тотчас почувствовали укусы холода. Хошиан спросил жену, цела ли она.
– Цела-цела. Теперь надо этих вытаскивать.
Вокруг ни души. Чистое небо, усеянное первыми звездами, обещало холодную ночь. Они поспешили на помощь к Альфонсо. Тут они справились легко. С его стороны не осталось даже двери. Так что Хошиан просто схватил его под мышки и вытащил из кресла. Все лицо у Альфонсо было залито кровью. Хошиан попытался было уложить его на каменистую землю, но этого не понадобилось. Раны не были серьезными. Во всяком случае, так утверждал сам Альфонсо. Порез на лбу и еще один на голове, из-за которого седые волосы окрасились в красный цвет. Вот и все. Он боялся за жену. Каталина по-прежнему сидела молча, склонив голову на плечо. Мирен безуспешно пыталась открыть дверцу с ее стороны.
– Идите сюда. Может, у вас получится.
И Хошиан, работавший у печи в плавильном цеху – мозолистые ладони, крепкие руки, – прибежал и стал тянуть за ручку – мать твою так и разэдак! – сжав зубы и уперев ногу в какой-то выступ на помятом кузове, пока не открыл/выдрал чертову дверь. Он не увидел у Каталины никаких ран, крови тоже – ох, до чего хорошо пахло от этой женщины! – но она все время повторяла шепотом, жалобно, словно в предсмертном бреду:
– Мои ноги, мои ноги…
Между тем Мирен, выйдя на середину шоссе, остановила белый фургон, который ехал в противоположном направлении. Водитель предложил отвезти раненую женщину в Теруэль и помог осторожно уложить ее на пустое место среди груза, но рядом с ней мог поместиться только Альфонсо, который намотал себе на голову свитер на манер тюрбана, чтобы остановить кровь. Фургон быстро исчез в почти уже полном мраке. Мирен и Хошиан достали из багажника свои вещи, а также вещи Альфонсо и Каталины – на всякий случай, как бы кто не украл.
– Ты видел ноги Каталины?
– Обе сломаны. Сразу понятно, тут и врачом быть не нужно.
– Ей остается только молить Бога, чтобы в больнице сделали все как следует.
Теперь в этом неприютном месте воцарилась полная тишина. Мирен с Хошианом поспешно натянули на себя еще какую-то одежду. Ужас до чего холодно, и как теперь быть? Они понятия не имели, где находятся. Между Теруэлем и Сарагосой – это точно. Не было видно ни домов, ни огней, ни дорожных знаков. И никакого укрытия среди этой пустыни – ну, не знаю, ни какой-нибудь пастушеской хижины или хотя бы кучки деревьев, где можно было бы спрятаться от холодного ветра.
Мирен:
– А ты-то сам точно ничего себе не повредил? Скажи правду.
– Да нет же, черт возьми, нет.
– А вон сколько крови.
– Это кровь Альфонсо.
– Намотай что-нибудь на шею, а то простудишься. Вообще-то, такое случается, только когда человек отвлекается и не смотрит на дорогу.
– Лучше не заводись. Надо бы известить гражданскую гвардию.
– Да я лучше умру, чем буду о чем-то разговаривать с палачами моего сына.
– Тогда что прикажешь нам делать?
– Думай сам.
Мирен вспомнила, что вроде бы недавно они проезжали мимо какой-то деревни, но не была в этом твердо уверена. Хошиан никакой деревни не заметил, так как был сильно расстроен. Лучше всего остановить машину. Вскоре появилась одна с зажженными фарами. Знаков подавать они не стали, будучи уверенными, что водитель и так все поймет, увидев рядом разбитый автомобиль. Но он не остановился.
– А чего ему останавливаться, если ты не машешь руками?
– Раз ты такая умная, сама и махала бы.
Вторая машина, появившаяся через пару минут, остановилась. Вы не ранены? Они, дрожа от холода, сказали, что нет. Водитель сообщил, что едет в Каламочу, свой родной поселок, это здесь недалеко, и, если они хотят, он их туда отвезет. И отвез. Сказал, что зовут его Паскуаль. Пятьдесят лет с хвостиком, огромное пузо, любитель поговорить: еще до третьего поворота он успел рассказать им и про свою сердечную аритмию, и про свой диабет.
– А это все еще провинция Теруэль?
– Да, сеньора.
– Значит, до дому мы сегодня не доберемся.
– Это уж вряд ли. Последний автобус в Сарагосу давно прошел.
Мирен подробно рассказала ему и откуда они приехали, и с кем, и что с ними случилось.
– В отпуск ездили?
– Да, в Бенидорм.
Мужчина еще раньше увидел пятна крови на одежде Хошиана. Их было невозможно не увидеть. И еще раз спросил, не ранен ли тот. Хошиан объяснил, что кровь не его. Паскуаль, говоривший с заметным арагонским акцентом, как только показались первые дома Каламочи, предложил:
– А почему бы вам не заехать ко мне? Дети у меня в Сарагосе, старший работает в банке, двое других учатся в университете, а дочка в Париже, замужем за французским музыкантом. Прекрасный человек. Воспитанный такой, спокойный. Правда, ни слова не говорит по-испански, но мы отлично друг друга понимаем. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но в моем доме можно целый полк разместить. Отдохнете, смоете кровь, а утром я спокойно отвезу вас на вокзал в Сарагосу, мне туда по-любому надо будет ехать. Я вдовец и живу, как уже сказал, один в большом пустом доме.
Он приготовил для них плотный ужин, отвел в комнату с деревянными балками, где стояла кровать, покрытая холодными и тяжелыми простынями, а рано утром после завтрака заботливо и весело отвез на машине в Сарагосу. Мирен и Хошиан хотели заплатить ему. Он наотрез отказался взять деньги. Они настаивали – но как-то неуклюже, смущенно. Паскуаль на это ответил, обхватив руками живот, что даже знаменитое арагонское упрямство ни в какое сравнение не идет с его собственным. По дороге он хвалил басков. Благородный и работящий народ. Плохо только, что ЭТА устраивает свои теракты. Они распрощались у вокзала Портильо. Было воскресенье, и дул жутко холодный северный ветер. На следующий день Мирен отправилась на почту в Сан-Себастьян. Она же не совсем спятила, чтобы делать это у себя в поселке. Зачем кому-то знать, что у нее появились дела с человеком из провинции Теруэль? В коробку она положила килограмм черной толосской фасоли, хорошо завернутую в полиэтилен банку хильд, круг сыра из Идиасабаля в вакуумной упаковке – а больше ничего уже и не влезло.
Хошиан смеялся:
– Ты все-таки решила переупрямить арагонца из Каламочи.
– Я не упрямая, я благодарная.
– Так ты скоро превратишься в испанку.
– Пошел ты к черту, дурак, одно слово – дурак.
112. С внуком
Такая вот картинка, Хошиан. Плохая? Хуже не бывает. Один сын в тюрьме, и его ты уже вряд ли увидишь на свободе, потому что как пить дать помрешь раньше; второй – в Бильбао, не звонит им, не пишет, не навещает, а все потому, как подозревает Мирен, что стыдится своей семьи; и еще дочка, которая не разговаривает с матерью больше года, да и с мужем они живут как кошка с собакой. Сидя в автобусе, который ехал в Рентерию, Хошиан прокручивал маховик своих бед и несчастий – и чего нам так не везет? Разве не могли бы мы быть хоть чуточку понормальнее? И вдруг он по взглядам других пассажиров понял, что, кажется, рассуждает сам с собой вслух. Видать, крыша совсем поехала от старости. Да ведь я старик и есть. Он, кстати сказать, и сидел на месте, отведенном для стариков и беременных.
Хошиан вышел из автобуса где всегда. Было это в те времена, когда он навещал внуков тайком от Мирен. Стоя на пороге, говорил, что идет к себе на огород. Он туда и на самом деле шел – набирал какой-нибудь зелени или фруктов, а иногда добавлял кролика, которого там же на месте убивал и снимал с него шкуру, потому что при детях этого делать было никак нельзя. Потом садился в автобус на остановке у промышленной зоны.
Он уже собирался нажать на кнопку звонка, держа в руке пакет с луком-пореем, цикорием и горстью орехов, когда ему захотелось повернуть назад. Крики Гильермо, крики Аранчи, плач маленькой Айноа – одним словом, сумасшедший дом. Он позвонил. Услышал свой звонок, и те, внутри, сразу примолкли – кроме девочки, которая продолжала плакать. Прошло еще секунд десять-двенадцать, прежде чем ему открыли дверь. В нос ударил резкий запах – запах еды, человеческих тел, затхлости. Гильермо сухо и коротко поздоровался с ним и вышел из квартиры.
Такая вот картинка. Повсюду беспорядок и грязь. Злые/заплаканные глаза Аранчи, обведенные черными кругами, ранили Хошиана в самое сердце. Пятилетняя Айноа, увидев деда, прекратила реветь и подбежала посмотреть, какие подарки таятся в его сумке. Семилетний Эндика тоже подбежал к нему, и с той же целью. Он оттолкнул сестру, которая, защищаясь, в свою очередь толкнула брата. Потом дети дружно выразили свое разочарование, увидев только зелень и орехи.
Аранча:
– А вы не хотите пойти погулять с дедушкой?
Оба в один голос:
– Нет, не хотим.
– А почему? Он ведь всегда покупает вам какие-нибудь штучки.
Мальчик решительно замотал головой, объясняя свой отказ:
– Мне, мама, с ним скучно.
И Хошиан не знал, что на это ответить. Он не умел увлечь детей, пообещать им что-нибудь особенное. К тому же выглядел усталым, безразличным и в конце концов, переведя взгляд на Аранчу, вяло спросил, как у нее дела.
– Сам видишь. Кошмар. Полно работы, дом, дети и муж, который обращается со мной хуже, чем с какой-нибудь ненужной тряпкой. У меня нет времени даже на то, чтобы почувствовать себя несчастной.
– Помнишь Каталину?
– Какую еще Каталину?
– Ну, ту, жену Альфонсо.
– А, ту, что осталась хромой после аварии, когда вы ехали вместе с ними? Да, я уже читала в газете сообщение о ее смерти.
– Она долго хворала. Завтра отпевание.
– А что с их сыном?
– Сидит, как и прежде. Теперь, кажется, в Бадахосе. На нем крови-то много.
– Больше, чем на моем брате?
– Куда как больше.
Эндика вмешивается в их разговор:
– Ama, я есть хочу.
– Возьми в холодильнике йогурт.
– А там йогурта больше не осталось.
Аранча стала уговаривать сына – как это умеют только матери – пойти пополдничать куда-нибудь с дедом. И попросила отца: ради бога, уведи его из дому. А как же Айноа? Та наотрез отказалась идти с ними, как ни старались ее чем-нибудь соблазнить: пончиком, пирожным, кремом. Девочка только сердито надувала губы. Она так и не сказала, почему не хочет. Не сказала и не пошла.
– Ладно, aita, иди с мальчиком.
– А хочешь, я и тебе тоже что-нибудь принесу, maitia?
Но девочка опять отказалась, дважды сердито тряхнув маленькой головкой.
Дед с внуком вышли на улицу. Эндика не позволил взять себя за руку. Он считал себя уже достаточно взрослым, чтобы его вели как маленького. Они зашли в ближайшую булочную, и Эндика попросил два пончика, один в сахаре, другой в шоколаде. Пока Хошиан пересчитывал монетки, голодный мальчишка с ненасытной утробой уже принялся за еду. Когда они снова вышли, от пончиков не осталось и следа.
У Эндики губы были вымазаны шоколадом. Вдруг он остановился и сказал:
– Вот здесь была бомба. А мы с папой были в булочной.
– Какая еще бомба?
– Ну, бомба, от какой тогда разбилось окно у меня в комнате. Умер один дядя, он был другом папы, и звали его Маноло. Он вон там лежал, aitona, где сейчас черная машина стоит. Я сам видел.
– А зачем ты смотрел?
– Я не смотрел.
– Тогда как же ты мог его видеть?
– Ну ладно, я и вправду чуть-чуть посмотрел вот этим глазом.
– Хочешь, пойдем на качели?
– Пошли.
Мальчик уже не в первый раз вспоминал про бомбу. Страшный взрыв не стирался у него из памяти. Кроме того, он взрослел и начинал интересоваться взрослыми делами, задавать вопросы.
В детском парке дед и внук сели на скамейку. Вокруг с громкими криками бегала детвора, взрослые катали в колясках младенцев. Вроде бы ни с того ни с сего Эндика заявил:
– Папа говорит, что бомбу подложили плохие люди.
– Надо полагать, что так оно и было. Хочешь, куплю тебе чего-нибудь попить?
– Когда гвардейцы их схватят, они их отправит в тюрьму, как osaba Хосе Мари.
– Это тебе тоже твой папа сказал?
– Нет, это мне сказала бабушка Анхелита.
Хошиану очень хотелось выразить свое согласие. Чтобы потом не рассказывал всем, что… А также чтобы поскорее покончить с этой темой. Кроме того, любое упоминание о сыне он воспринимал как удар дубинкой.
– А ты покажешь мне фотографию дяди?
Мальчик уже очень давно не просил об этом деда.
– А зачем тебе?
– Ну, дедушка, покажи.
Хошиан достал из кошелька затертую, помятую фотографию. На ней сыну было восемнадцать лет – улыбающийся, с бородой и длинной шевелюрой. Еще немного – и стал бы профессиональным гандболистом.
– У него серьга.
– А ты тоже будешь носить такую, когда вырастешь?
– Нет, потому что, чтобы надеть серьгу, тебе вкалывают иглу в ухо, и это ужас как больно. А правда, что osaba Хосе Мари сидит в тюрьме, потому что он очень-очень плохой?
– Так говорит твоя бабушка Анхелита?
– Нет, так говорит папа.
– Ну, что-то нехорошее он, наверное, сделал. Вряд ли его посадили в тюрьму за то, что он носил серьгу.
Вскоре Хошиан вернулся вместе с мальчиком домой. Вручил каждому внуку по монете в сто песет, дочери – купюру в пять тысяч, чтобы хоть немного, по его словам, помочь ей с домашними расходами, и уехал. В автобусе по пути в Сан-Себастьян с ним произошло точно то же, что и по дороге оттуда. Что именно? А то, что он вдруг заметил, с каким удивлением поглядывают на него другие пассажиры. Видно, опять разговаривал вслух сам с собой.
113. Под горку
Он сказал себе: если идет дождь, никуда не поеду. Было восемь часов утра. Хошиан посмотрел в окно. Шел дождь, но он поехал. Надену ветровку, непромокаемые брюки – и ничего, как-нибудь переживу.
Мирен, видя, что он собирается уходить:
– Ну кому еще, кроме тебя, пришло бы в голову садиться на велосипед в такую погоду? Ты что, думаешь, тебе все еще двадцать лет?
Аранча, сидя в своей коляске, показала отцу поднятый вверх большой палец, хотя он не совсем понял, в знак одобрения или с подначкой.
– Вон и дочка твоя тоже смеется над тобой.
Если он поначалу и колебался, то не из-за опасения за свое здоровье и не из-за сомнений в собственных силах. Подумаешь, делов-то, сколько раз он откатывал запланированные этапы даже в самые дождливые дни? Правда, теперь при любой погоде – дождь ли, ветер ли, солнце ли жарит – он заявляется только на короткие дистанции, не больше пятидесяти – шестидесяти километров. Оно и понятно: возраст, болячки да и подъемы, которые с годами почему-то становятся все круче. Года три назад он отправился вместе с товарищами до Ондарроа. Вот и получил свое. На обратном пути грудь ходуном ходила. Будь осторожен, Хошиан, очень осторожен. Сколько раз тогда тебе пришлось устраивать передышки. Опоздал к обеду. Дома получил нагоняй.
Сейчас его колебания были скорее связаны с велосипедом. Намокнет, изгваздается, да и сломаться может, а ведь у него велосипед не какой-нибудь там плохонький (рама из углеродного волокна, автоматическое переключение передач). Какую кучу денег стоил! К тому же Хошиан потом понемногу еще и усовершенствовал его, заменяя то одну, то другую деталь на те, что получше и подороже. Поэтому, прежде чем тронуться в путь, он заглянул в “Пагоэту”, чтобы выпить чашку кофе с молоком, взбодриться и поглядеть, не расчистилось ли небо, так как все еще окончательно не решил, ехать ему или нет.
И все-таки поехал, а тут и дождь утих. Мало того, на небе появились просветы, и прежде чем Хошиан добрался до Сан-Себастьяна, где-то неподалеку от Мартутене выглянуло солнце. На Хошиане был клубный костюм: бело-зеленая майка и черные трусы, но шлем и перчатки он выбрал уже на свой вкус. Правда, сейчас он собрался в такое невеселое место, что непонятно, стоило ли… Но он боялся, как бы Мирен чего-нибудь не заподозрила и не начала донимать его вопросами и попреками.
Хошиан без особого труда одолел подъем в районе Эгиа. И на последнем отрезке увидел справа гомонящих детей, которые в школьном дворе разбились на группы для какой-то игры, а слева – цветочную лавку. И тут ему пришло в голову купить простой, дешевый букетик – потому что мне не нравится никакая пышность. Но, сойдя с велосипеда, тотчас обнаружил, что цепь с замком забыл дома.
Он поставил велосипед так, чтобы видеть его из лавки. А потом, то и дело поглядывая на улицу, объяснил продавщице, что ему нужно и для чего. В общем и целом он пробыл внутри не больше пары минут. Наотрез отказался выбирать из разных букетов. Вот этот мне вполне подходит. Заплатил и вышел, потом минут двадцать ждал перед кладбищенскими воротами, но шлема не снял, потому что руки были заняты: в одной был букет, другая вела велосипед.
На стене у ворот, рядом с черной вывеской, где были указаны часы посещений, висело объявление поменьше: запрещен вход с собаками и на велосипедах. Мать твою… И что теперь делать? Тем временем на остановке притормозил автобус. Из него вышла Биттори в черном пальто. Заметив, что Хошиан растерянно смотрит на объявление, пояснила:
– Можешь не беспокоиться, запрещено разъезжать на велосипеде между могилами, а если поведешь рядом с собой – пожалуйста.
– Точно?
– Пошли, Хошиан, тут и говорить не о чем.
Они миновали ворота. День был рабочий, и в этот утренний час на кладбище почти никого не было, только чуть повыше они заметили какое-то движение. Два дворника шли следом за шумной уборочной машиной. Так неужели кому-то помешает его велосипед, он ведь и не шумит, и не дымит?
Пока они поднимались по пологой дорожке между могилами и деревьями (соснами, кипарисами), увидели еще несколько одиноких посетителей среди густо усеявших землю серых пятен мрамора и цемента. Хошиан со своим велосипедом занимал половину дорожки. Биттори шла на один-два шага впереди, указывая путь. Но иногда оборачивалась, и он видел ее улыбку. Чему улыбается эта женщина в таком совсем не подходящем для веселья месте? Чокнутая, это уж точно.
– Я не знала, приедешь ты или нет.
– Как видишь, приехал.
– Значит, ты человек слова.
– Вы с моей дочкой меня подловили. Вот я и выполняю свое обещание. Остается надеяться, что и ты выполнишь свое – ничего не расскажешь Мирен.
– Тут ты можешь быть спокоен. Аранча ведь не случайно говорит, что у тебя доброе сердце. Достаточно взглянуть на букет. Чато будет ему страшно рад.
Хошиан изо всех сил старался спрятаться за щитом из сухой вежливости, но ее шуточки и похожие на бред заявления обезоружили его.
– Ладно тебе, ладно.
– А еще он позавидует, когда увидит тебя в клубной форме.
– Перестань.
– Почему? Я ведь сразу подумала, что ты специально так оделся – в память об его увлечении.
Наконец они дошли. Вдалеке, со стороны моря, сгрудились в одно огромное пятно тучи, сулившие неминуемый дождь, но над Польоэ по-прежнему сияло солнце. На покрытой асфальтом дорожке пятна от высохших луж становились все шире. Хошиан мрачно – или смущенно? – смотрел на могильную плиту: простой крест и четыре имени, выбитые одно под другим. Он не знал, кем были эти покойники, хотя по датам смерти (одна, например, относилась к 1963 году) и по общей для всех, за исключением одного случая, второй фамилии сообразил, что речь идет о родственниках старшего поколения. Самым последним стояло имя его друга. Без прозвища, конечно.
– Вот здесь он и лежит. Уж сколько лет дожидается, пока его перенесут на наше кладбище в поселок. Но мы до сих пор этого не сделали, опасаемся, как бы с ним не случилось то же, что и с Грегорио Ордоньесом – он похоронен вон там, чуть пониже. Если хочешь, я потом покажу тебе его могилу. Одно время плиту Ордоньеса то и дело исписывали всякими гадостями. Да ты, может, и сам читал об этом в газетах. Вы, abertzale, не оставляете в покое даже мертвых.
Хошиан понуро стоял рядом и молчал. Размышлял, молился? И вдруг он устремил взгляд на имя друга, на дату смерти. Смерти, которая настигла его на углу. На том углу, что отделял дом Чато от гаража, где он держал машину и велосипед. После даты смерти – возраст. Столько ему было в тот дождливый день, когда прозвучали выстрелы.
А Биттори все говорила и говорила:
– Вчера я сообщила ему, что твой сын наконец-то написал мне. И поверь, я страшно обрадовалась, узнав из письма, что стрелял не Хосе Мари.
Хошиан по-прежнему молчит. Этот человек весь пропитан робким, сосредоточенным молчанием, молчанием, которое обволакивает его снаружи и уходит внутрь, которое тянется из давних времен в день нынешний – в противовес говорливости Биттори, вдребезги разбивающей сокровенную атмосферу этого места и этого мига.
– А ты не хочешь теперь и ему сказать, что сказал мне там, на своем участке? Я думала, ты для того и пришел.
Наконец-то Хошиан позволил себе хоть какое-то движение. Какое? Он поворачивается лицом к Биттори. Брови нахмурены, вид печальный и глуповатый. Глаза слегка остекленели, и в них сгустилось что-то вроде тусклой мольбы: утихомирься, зачем ты меня так унижаешь.
– Пожалуйста, оставь меня на минуту одного.
Он смотрел, как она медленно удаляется по той же дорожке, по которой они недавно поднялись сюда вдвоем. Смотрел, пока не убедился, что она отошла достаточно далеко, чтобы не слышать его шепота, не видеть выражения его лица. И только тогда Хошиан снова перевел взгляд на могилу.
Биттори остановилась шагах в тридцати от него между двумя большими фамильными склепами и спокойно стояла на дорожке, поднеся руку козырьком ко лбу, чтобы защититься от солнца. Она наблюдала за Хошианом – тот застыл перед могилой ее мужа и являл собой странную и немного комичную фигуру – мужчина в ярком велосипедном облачении стоит среди могильных плит и надгробий рядом со своим велосипедом, к которому он относится с такой же нежной заботой, с какой относился к своему Чато.
Она увидела, как он кладет букет на могильную плиту. Где он его, интересно, взял? Неужто привез с собой из поселка? Вряд ли рискнул бы, ведь про это могла прознать его жена. Хошиан, держа в одной руке шлем, другой перекрестился. Если он что-то и сказал, Биттори не могла расслышать его слов, но уже сам по себе факт, что он пришел на кладбище, как пообещал накануне в сарае у себя на участке, по-настоящему ее обрадовал.
– Ладно, мне пора.
– Как я рада, что ты приехал.
Хошиан ничего не ответил. Куда это он вдруг так заторопился? Прямо сорвался с места. Ответ на свой вопрос Биттори получила очень скоро. Всего на четыре шага отошел Хошиан от могилы, когда послышались его первые всхлипывания. Он прибавил шагу. И быстро двинулся к выходу, опустив голову, ведя за руль свой велосипед, и при этом плечи у него заметно вздрагивали.
114. Через стекло
Незадолго до того, как Хосе Мари из-за серьезного конфликта с одним из тюремных служащих перевели из тюрьмы в Пикассенте в тюрьму Альболоте, его – наконец-то! – навестил брат.
Он часто жаловался матери. Скажи, что там творится с нашим Горкой, почему он не приезжает, мне так хотелось бы его увидеть. И Мирен на это отвечала, что он и к ним тоже не приезжает, хотя живет достаточно близко, и что ни Хошиан, ни она сама знать не знают, в чем тут причина и почему он словно прячется от них.
Во время одного из редких телефонных разговоров с Горкой Мирен попыталась уговорить его. Как она действовала? Ну, естественно, на свой манер, то есть принялась упрекать и отчитывать сына, что только испортило все дело. И прошло несколько месяцев, прежде чем они снова о нем услышали.
Аранча завела разговор на ту же тему во время одного из тайных визитов Горки к ней в Рентерию. Сама она однажды все-таки съездила на свидание с Хосе Мари. Возможно, главным образом потому, что Гильермо категорически запретил ей навещать брата, как раньше запрещал знакомить сына и дочь с дядей-террористом. Только этого им и не хватало!
Просьба Аранчи, высказанная по-родственному, очень мягко, без нажима, не убедила Горку:
– Я подумаю.
Но когда он говорил, что подумает, на самом деле это означало отказ. И тем не менее аргументы сестры заронили в его душу сомнение. Более того, внутри у него поселился назойливый шепоток. Угрызения совести? Наверное. Дело в том, что, желая от этого наваждения избавиться, он поделился проблемой с Рамунчо, и тот – что ты тут поделаешь! – решил все за него. Иными словами, не теряя времени даром, взял и договорился с братом Горки об их встрече в зале для свиданий. Горка спорить не стал, хотя согласился скрепя сердце. И вот в следующем месяце они поехали в Пикассент втроем: Рамунчо за рулем, рядом с ним Амайя, подкупленная отцовским обещанием походить по магазинам в Валенсии, а сзади Горка – одинокий, сникший, с первого же километра начавший раскаиваться в своей податливости.
– Как бы ты определил ваши с братом отношения?
– Я бы сказал, что никаких отношений между нами вообще нет.
– Ты его боишься?
– А ты что, пытаешься взять у меня интервью?
– Я думаю о тебе. Так ты боишься его или нет?
– Раньше боялся. Сейчас не знаю. Я уже давно с ним не виделся.
– Тебе неприятно говорить о таких вещах?
– Мне тяжело, сам знаешь. Поэтому я не понимаю, зачем ты решил окончательно испортить мне настроение.
– Прости. Конец интервью. Уважаемые радиослушатели, несколько минут рекламы, и мы вернемся к вам с новыми темами.
Горка простился с Рамунчо и Амайей на тюремной парковке. И вошел в здание тюрьмы – высокий, неуклюжий, расстроенный. Как на бойню. После положенного контроля ему назвали номер комнаты для свиданий. Узкое помещение, неудобный стул из твердого пластика, невыносимая духота, грязновато, особенно грязным оказалось стекло; справа и слева орут во всю глотку люди, прижимающие свои рты к микрофонам – сколько там, внутри, скопилось микробов, интересно знать.
Он увидел брата раньше, чем тот увидел его. Сразу бросилось в глаза, как Хосе Мари похудел, но особенно – что на голове у него почти не осталось волос. Горка задержал взгляд на руках – руках игрока в гандбол, когда-то очень сильного, крепко сбитого парня, которым в детстве он так восхищался – и которого так боялся; позднее этими самыми руками Хосе Мари лишал жизни людей – скольких? это знает только он один. И Горку бросило в дрожь, а потом он почувствовал острую, невеселую радость при мысли, что не он сам находится сейчас там, за стеклом.
Что-то, видно, Хосе Мари угадал по лицу Горки, прежде чем сел, и улыбка, с которой он вошел, тотчас стерлась с его лица. Несколько секунд они серьезно и пристально смотрели друг на друга через разделявшее их стекло. Первым заговорил Хосе Мари:
– Как понимаешь, обнять тебя я не могу.
– Тут уж ничего не поделаешь.
– Мне до смерти хотелось увидеть тебя, брат.
– Вот он я, смотри.
– Ты держишься как-то холодно. Неужели не рад нашей встрече?
– Что ты, конечно рад, хотя предпочел бы увидеть тебя в другом месте.
– Мать твою… Я бы тоже.
Без ругательства он мог бы и обойтись. Так он обращался много лет назад с тем, другим Горкой – с тощим, замкнутым подростком. Тогда он смотрел на младшего брата сверху вниз, а себя держал задиристо и выражался грубо и нагло. Сейчас Горке это не понравилось, он дернулся назад и откровенно отодвинулся от микрофона, тем самым словно говоря брату: а вот так лучше не надо, я не принадлежу к вашей боевой группе, и ты не мой командир. И если уж говорить начистоту, Горка не находил в Хосе Мари ни одной черточки, совсем ничего, что не вызывало бы в нем отвращения. Кроме того, в помещении стоял невыносимый запах. Они что, никогда здесь не проветривают? А жалость к брату? Ни капли жалости. Его глаза, пожалуй, меньше всего изменились за минувшие годы, но эти глаза когда-то смотрели на тех, кому предстояло умереть. А такой чистый сейчас лоб был лбом убийцы, а еще у него были брови убийцы, нос убийцы, рот убийцы (с совсем испорченными теперь зубами). Да, именно так я думаю, но вряд ли стоит произносить подобное вслух. Впрочем, у меня и духу на это не хватило бы.
Они обменялись кое-какими подробностями о своей жизни. Очень коротко и не слишком откровенно. Два чужих друг другу человека, которые изображали искренность/чистосердечие, каких между ними уже давно и в помине не было. Не стоило даже пытаться разговаривать так, как они разговаривали, когда делили одну комнату на двоих в родительском доме. Горка, чтобы не говорить о себе, задавал брату вопросы, словно воздвигая защитную стену. Сорок минут, которые ему предстояло провести в этой западне, казались ему вечностью.
Вне всякого сомнения, Хосе Мари тоже начал чувствовать себя не слишком хорошо. Почему? Потому что с той стороны стекла до него не доходили сочувствие/любовь, расположение/понимание. Не говоря уж об улыбках. Что, черт побери, происходит? Хосе Мари пытался что-то прочитать в глубине глаз своего брата, и, судя по всему, то, что он там видел, его огорчало. Он не любил ходить вокруг да около. Лицо его вдруг напряглось.
– На самом деле ты осуждаешь меня за то, что я участвовал в борьбе, так ведь? И презираешь.
Этого Горкак никак не ожидал. Он насторожился:
– С чего ты взял?
– Ясно ведь, что родители надавили на тебя и заставили приехать. Меня трудно обмануть.
– Это было мое собственное решение.
– А теперь послушай. Я тебя не задерживаю, особенно если ты собрался испортить мне настроение. Думаешь, я слепой?
– Я приехал в такую даль вовсе не для того, чтобы что-то тебе испортить. Но и не для того, чтобы исполнить роль младшего брата. И разумеется, я не одобряю тех твоих дел, которые привели тебя в это место. И никогда не одобрял.
– Ты, выходит, тоже считаешь, что я получил по заслугам?
– Об этом ты лучше спроси у своих жертв.
– Мне много чего довелось вытерпеть, с тех пор как меня арестовали. Но то, что ты говоришь, мучительнее всего остального. Ведь ты мой родной брат, черт тебя раздери.
– Именно потому, что я твой родной брат, я и говорю тебе, что думаю. Хочешь, чтобы я врал, чтобы восхвалял тебя за то, что ты принес столько зла многим и многим семьям? Скольким – это только тебе одному известно. И ради чего?
– Ради освобождения моего народа.
– Проливая чужую кровь? Отличная идея.
– Кровь угнетателей, которые каждодневно травили нас, не давали жить свободно.
– Это относится и к детишкам, которых вы убивали?
– Не будь тут стекла, я бы сумел объяснить тебе все так, чтобы ты понял.
– Ты мне угрожаешь?
– Понимай как хочешь.
– Если есть такое желание, пусти в меня пулю. Во всяком случае, с другими вы расправлялись от лица народа, забыв, правда, поинтересоваться мнением этого самого народа.
– Ладно, оставим это. Я вижу, что нам друг друга не понять.
– Ты сам начал.
– Мы ответили на призыв родины. А другие предпочли жить в свое удовольствие. Наверное, оно и всегда так было. Одни жертвуют собой, а другие этим пользуются.
– И кто же это живет в свое удовольствие?
– Уж в любом случае не я.
– Я работаю на радио и веду программы на баскском языке, пишу книги на баскском, помогаю создавать нашу культуру. Это мой способ что-то сделать для нашего народа, что-то реальное и конструктивное, не оставляя за собой толпы сирот и вдов.
– Говорить ты силен. Сразу видно, что работаешь диктором. И дела у тебя вроде идут неплохо, да?
– Не жалуюсь.
– Мне говорили, что ты живешь с каким-то мужиком. И ты еще смеешь меня в чем-то обвинять. Ты всегда был немного чудным, парень, но я никогда и вообразить не мог, что дойдет до такого.
Горка молчал, он словно окаменел, только резко покраснел от гнева. А его брат продолжал свою грозную речь:
– Мать считает, что ты нас стыдишься. А вот я и вправду стыжусь, что брат у меня педик, которому наплевать на то, что он втаптывает в грязь нашу фамилию. Именно поэтому ты и перестал появляться в поселке, правда?
– Кто тебе сказал, что я живу с мужчиной?
– Какая разница? Ты думаешь, что, если я сижу в испанской тюрьме, в настоящей тюрьме уничтожения, до меня не доходят новости?
– Я живу с человеком, который любит меня и которого люблю я сам. Не сомневаюсь, что для тебя это звучит так, словно я говорю по-китайски. Да и вообще, что может знать о любви убийца?
С этими словами Горка резко поднялся со стула. Он в последний раз приблизил губы к микрофону, но счел за лучшее проглотить то, что было готово сорваться у него с языка. Развернулся и, когда уже выходил из душного и грязного помещения, услышал за спиной голос Хосе Мари, который просил с новым, никогда раньше не свойственным ему смирением, чтобы брат вернулся: не уходи вот так, прямо сейчас, нам надо погово…
Дверь захлопнулась, оборвав его последнюю фразу.
По дороге обратно в Бильбао – много часов пути, красно-желтый летний закат, Амайя, спящая на заднем сиденье, – Рамунчо спросил, как прошло свидание и собирается ли Горка поехать к брату еще раз.
– Там будет видно.
Больше он ничего не сказал. Потом задремал или сделал вид, что дремлет.
115. Сеанс массажа
Горка уговорил Рамунчо лечь на кушетку, но это ничего не меняло, потому что с массажем или без массажа, но тот твердо решил свести счеты с жизнью. Что с ним такое случилось? А случилось то, что его бывшая жена, эта мерзавка, эта змея, у которой главная цель в жизни – выпускать свой яд, сыграла с ним злую шутку.
Шла четвертая неделя с того дня, как Рамунчо ездил в Виторию за Амайей. Ей уже исполнилось шестнадцать. Горка: не самый подходящий возраст, чтобы проводить выходные с отцом, сколько бы подарков он дочери ни покупал и как бы ни потакал любым ее капризам. Девочка (хотя девочкой назвать ее было трудно – с такой-то грудью и таким дерзким язычком) растолстела. Полнота ее портила, но еще больше, к несчастью, портили прыщи. И характер стал гораздо хуже. Чувствуя себя обиженной судьбой, она держалась довольно агрессивно.
Горка старался ни во что не вмешиваться, но бывало, что, переживая за Рамунчо, все-таки не выдерживал:
– Ты что, не понимаешь, что она тебя тиранит?
– Еще бы я не понимал. А что мне, по-твоему, делать?
Раз в две недели Рамунчо на машине привозил дочку в Бильбао, а в воскресенье вечером отвозил обратно домой. Вот и в тот раз в обычный час он нажал кнопку домофона. Ему не открыли. Он немного посидел в ближайшем баре. Вернулся. Снова позвонил. С улицы было видно, что свет в квартире не горит. Не обнаружил он нигде поблизости и машины жены, этой змеи/мерзавки. Рамунчо воспользовался тем, что из подъезда выходил кто-то из жильцов, чтобы войти туда. У двери нужной ему квартиры не было коврика. Очень странно. Рамунчо позвонил, стал стучать – бум, бум, – никакого ответа. Но, надо заметить, что такое случалось и раньше. Он вышел из себя и стал осыпать проклятьями стерву, которая вот уже сколько лет мешает ему встречаться с дочерью.
Но делать было нечего, и в конце концов, так ничего и не добившись, Рамунчо вернулся в Бильбао один, злой как черт, кляня на чем свет стоит бывшую жену. А куда теперь девать купленные заранее билеты в кино? Наверняка матушка с дочкой решили на выходные попутешествовать (они обожают Мадрид), а предупредить Рамунчо им и в голову не пришло. Или пришло, но они решили его помучить.
Для Горки это стало большим облегчением. Спокойные и мирные выходные. Ведь от девчонки была одна морока. Насколько возможно, Горка старался держаться от нее подальше – допоздна просиживал на радиостанции, подолгу гулял, или встречался с кем-нибудь из знакомых, или шел с кем-нибудь в ресторан. Главное – поменьше времени проводить дома.
Прежде он пользовался случаем, чтобы навестить Аранчу, и на несколько часов превращался в любящего дядю для своих племянников. Иногда даже оставался там ночевать, кое-как устраиваясь на диване в гостиной, но потом с этим было покончено. Он уже давно не видел Эндику и Айноа, хотя сестра и попросила прощения за то, что распустила язык. Это ведь она – а кто же еще? – как Горка сразу и заподозрил, рассказала Хосе Мари, что он живет в Бильбао с мужчиной. Значит, вот как она умеет хранить секреты! Горка чувствовал себя преданным единственным членом их семьи, которому доверял и которого по-настоящему любил. Но он даже не упрекнул сестру за бестактность. Простился с ней с обычной для него сдержанностью – без лишних слов, без лишних жестов, – но с тех пор в Рентерие бывать перестал и по телефону туда больше не звонил.
Рамунчо:
– Твоя беда в том, что ты не умеешь прощать.
– А я считаю, что моя беда в том, что ко мне относятся без должного уважения.
Прошло несколько дней, а Рамунчо так и не получил никаких известий о своей дочери. С самыми дурными предчувствиями он среди недели опять отправился в Виторию.
– Ты поедешь со мной?
– Мне надо записать интервью.
– Я очень тебя прошу.
Они поехали вдвоем. И опять повторилась та же история: напрасные звонки, темные окна и отсутствие у дома машины этой змеи/мерзавки. Ее имя по-прежнему значилось на почтовом ящике. Но в нем не накопилось ни писем, ни рекламных проспектов, как обычно бывает, когда жильцы какое-то время отсутствуют. А может, она просто договорилась, чтобы кто-то регулярно забирал почту из ящика? Тревога, подозрения, страхи – они порождали с каждым разом все более диковинные версии. Горка предложил подняться на этаж, где обитала бывшая жена Рамунчо, и расспросить соседей из квартиры напротив.
– Приехали рабочие из фирмы по перевозкам и все вынесли. Мебель, холодильник, матрасы.
– Когда?
– Где-то пару недель назад.
– И с тех пор вы не видели ни мою дочь, ни ее мать?
– Не забывайте, что сейчас август. Наверняка уехали в отпуск, как и большинство здешних жильцов.
Да разве кто-нибудь берет с собой на море всю мебель, холодильник или матрасы? Последняя надежда: позвонить в школу и навести справки там. Надежда не оправдалась, так как в эту пору учителя, скорее всего, беззаботно разгуливали по привлекательным для туристов местам. Пока они ехали назад, Рамунчо заговорил о том, что можно, наверное, подать заявление в полицию. Горка его отговорил. Надо немного подождать, скорее всего, этим двум внезапно пришло в голову воспользоваться предложением какого-нибудь туристического агентства. В любом случае это было похоже на спонтанное решение.
– А почему они не известили меня?
– Потому что подумали, что ты будешь против. Скажи честно, ты был бы против?
– Если речь шла о тех днях, когда я забираю к себе Амайю, то да.
– Ну видишь?
– Хорошо, а что ты скажешь про мебель?
– Для этого у меня нет объяснения, но наверняка оно существует. А может, они просто переехали в другую квартиру там же в Витории. Ты же не станешь спорить, что в городе есть районы и получше, чем тот, где они жили до сих пор.
В сентябре пришло письмо. Почту из ящика поздним утром достал Горка. Увидев на конверте штемпель Нью-Йорка, он заподозрил неладное. На конверте значилось имя отправителя, но только имя – Амайя, и больше ничего. Ни фамилии, ни адреса. А так как в те дни атмосфера в доме была тяжелая, Горка счел за лучшее до поры до времени не показывать письмо Рамунчо. Мало того, подумывал, не уничтожить ли его вообще, чтобы избавить друга от лишних огорчений. Он прятал письмо целую неделю. Но в конце концов все-таки отдал, сделав вид, что только что вытащил из ящика.
Прочитав его, Рамунчо кинулся в туалет, где его вывернуло наизнанку, потом оттуда донеслись какие-то жалобные причитания, похожие на тоскливый вой, прерываемый икотой. Скомканный листок бумаги валялся на ковре. Горка прочитал:
Aita,
маме предложили работу в Штатах, и теперь мы останемся тут жить навсегда. Пожалуйста, не ищи нас. Если я заработаю денег, когда стану взрослой, сама приеду повидаться с тобой.
Пока.АмайяЭта девчонка даже издалека умудрялась создавать проблемы. К тому же она никогда не любила отца, совсем не любила, я своими ушами однажды слышал, как она сказала:
– Aita, оставь меня наконец в покое, посмотри на себя, ты ведь типичный растяпа и тюфяк.
Но об этом, само собой, ни в коем случае нельзя было напоминать Рамунчо, он умер бы с горя. Горка предложил ему пойти в душ и там привести в порядок свои мысли. А потом он сделает ему массаж, такой, какой ему больше всего нравится, сам знаешь, со счастливым завершением, хотя Рамунчо, этот растяпа и тюфяк, в тот миг был готов к чему угодно, но только не к удовольствиям. Горка настаивал до тех пор, пока друг не подчинился, приговаривая, что ему все равно, поскольку в любом случае он собирается уйти из жизни.
– Сегодня же. Пока только не знаю как. Что-нибудь придумаю. Но ты не беспокойся, я это сделаю далеко от дома, чтобы к тебе потом не приставала полиция.
Он трагическим тоном произносил свой монолог, стоя под душем. Горка тем временем еще раз перечитал письмо. От этого листка бумаги веяло холодом. А еще его насторожило, что там не было орфографических ошибок. В школе Амайя училась из рук вон плохо, была туповата, экзамены сдавала с большим трудом, а в последнем классе даже осталась на второй год. Или письмо писала мать? Горка зачем-то понюхал конверт, а потом и листок с текстом.
Рамунчо вышел из ванной, даже не вытершись как следует. Столь очевидное горе и нагота его слегка сутулого тела, к тому же бледного и покрытого волосами, придавали ему вид старого, несчастного ребенка. Он улегся лицом вниз на кушетку и собрался было снова поплакать, но, видно, слезные железы его уже опустели. Поэтому он опять заладил прежнюю песню про то, что сегодня же убьет себя и сделает это подальше от дома. Горка между тем ласковыми, смазанными маслом руками массировал ему шею, плечи, спину.
– Я не вижу никакого смысла подавать заявление в полицию. Потому что уверен: Уголовный кодекс не рассматривает подобный случай как похищение малолетнего. Ее мать может сослаться на то, что постоянно живет в другой стране по причинам, связанным с работой, и что она никогда не запрещала мне встречаться с дочерью. Мне всего лишь надо раз в две недели садиться на самолет.
– Насколько я понимаю, кроме всего прочего, неизвестно и где они поселились.
– Давай оставим эту тему. Проклятая баба нарочно увезла Амайю как можно дальше от меня. Ты что, не понимаешь, ее просто бесило, что мы с Амайей отлично ладили?
– А если это письмо – обман, хитрая уловка, что тогда?
– Пошел ты ко всем чертям, Горка, не хватало мне сейчас только твоих писательских фантазий. Это тебе не роман. Это реальная жизнь, как она есть.
Горка велел ему повернуться на спину. Стал массировать грудь, живот, занялся тем, что было ниже, и привел в боевую готовность, потом перешел к бедрам, сказав, что:
– В романе я бы сделал так: разведенная женщина только притворяется, будто перебралась со своей дочерью в Штаты. Некая подруга или коллега по службе, которая собирается туда поехать, готова отправить из почтового отделения в Чикаго или Сан-Франциско заранее написанное письмо. А мать с дочерью тем временем перебрались жить, например, в Мадрид, если учесть, что и Амайе, и твоей бывшей так нравится столица нашего государства. Что касается отца, то я бы придумал для его линии подходящий финал, после того как он справится с невероятными душевными терзаниями, ему поможет психиатр. Только не самоубийство. Это было бы слишком просто. Пожалуй, герой мог бы отправиться в Америку. Там он, пока разыскивает свою дочь, знакомится с женщиной, Самантой, соблазнительной блондинкой, имеющей за спиной бурное прошлое – проституцию и наркотики.
– И чего ты, интересно, ждешь? Иди и пиши.
– Может, и пойду. Пока я занят здесь.
И Горка продолжал делать массаж, продолжал говорить ласковые и утешительные слова, продолжал и после того, как Рамунчо поспешно и скудно изверг семя.
116. Арабский салон
Они вдвоем отпраздновали это событие в ресторане “Гран отель Домине”. Сидели друг против друга, влюбленные, душевно близкие, за столиком у огромного окна, выходящего на блестяще-серые изгибы музея Гуггенхайма. Дело было в июле – приятная температура, синее небо, прекрасный день. Рамунчо пребывал в эйфории, отчасти, правда, из-за выпитого вина.
Что они праздновали? А то, что накануне Конгресс депутатов (нижняя палата парлемента) проголосовал за принятие закона, разрешающего однополые браки, – исключительно стараниями Социалистической рабочей партии, хотя Рамунчо издавна испытывал к ней стойкую неприязнь, но теперь он еще подумает и, возможно, на ближайших выборах даже отдаст им свой голос – из чувства благодарности, хотя в дальнейшем, пожалуй, голосовать за них больше не станет.
А вот Горка принципиально не участвовал ни в каких выборах. Не благодарил, не поддерживал, не выражал протеста. Все, что попахивало партийностью и политикой, внушало ему… Отвращение? Нет, скорее он был ко всему этому безразличен. Теперь же с очень серьезным видом поднял свой бокал, поддерживая тост Рамунчо, который всю первую половину дня не закрывал рта. Наконец он заявил:
– В один прекрасный день я попрошу твоей руки.
– Сразу видно, что ты выпил лишнего.
– Я говорю совершенно серьезно, bibotza[116]. Хотя пока еще рано. Сперва надо посмотреть, как будет работать новый закон.
– Ну, тогда ладно, значит, капля здравого смысла у тебя еще осталась. Главное, чтобы ты ее не потерял.
– Как мне кажется, надо проявлять осмотрительность. Ну скажи, по-твоему, наше общество, где до недавнего времени каждый день непременно завершался молитвой, готово к перемене такого уровня? “Я отдал бы тебе весь мир, мальчик, возникший из закатных лучей…”[117] Вот я смотрю на тебя, смотрю на тебя, не перестаю смотреть на тебя… И знаешь, о чем думаю?
– Ну уж давай, поэт, говори.
– Готов поклясться, что на самом деле и ты не исключаешь мысли о нашем браке.
– Это ты должен еще заслужить, красавчик.
– Да и ты тоже, само собой.
Алькальд Аскуна поженил их пять с половиной лет спустя в Арабском зале мэрии. Он провел церемонию, закрывая лицо великолепным букетом белых роз, но все равно были уже заметны первые разрушительные следы страшной болезни. Речь алькальда звучала то взволнованно, то шутливо, она была пересыпана цитатами из литературных произведений и забавными воспоминаниями, которые иногда относились и к его старой дружбе с Рамунчо, хотя он называл его исключительно Рамоном. Присутствующие охотно смеялись, а под конец глаза у некоторых повлажнели. Горка и Рамунчо были при галстуках, оба в светло-серых костюмах. Словно близнецы, как сострил кто-то. Традиционный финальный поцелуй был скомкан по вине Горки, который никак не мог побороть сковавшую его робость. Так что Аскуна пустил в ход все свое красноречие и потребовал повторить поцелуй, но чтобы на сей раз он был настоящим. Веселый хор гостей подхватил требование алькальда, и тогда новобрачные крепко обнялись и подчинились гласу народа (два десятка друзей и товарищей по работе). Их губы соединились с такой безудержной страстью, что раздался взрыв аплодисментов и даже свист.
Поздравления, объятия, слова поддержки, а один шутник, без которых такие события никогда не обходятся, пожелал им многочисленного потомства. И каждый видел, что женились они с любовью, а не только по любви. Но если кто-то из пришедших на церемонию решил, что в тот день в Арабском зале произошло некое из ряда вон выходящее событие, которое явилось результатом спонтанного решения, и весь спектакль был разыгран по воле каприза, то он ошибался. Рамунчо и Горка поженились, как и многие другие пары, руководствуясь вполне практическими соображениями. Не последнюю роль тут сыграли и страхи Рамунчо, которому годом раньше удалили одну почку.
Вскоре после того, как ему исполнилось сорок, у него обнаружилась опухоль. Пока дела обстояли вроде бы неплохо. Он прошел процедуру гемодиализа, но не очень верил в благоприятный результат. Как, впрочем, и сами врачи. Метастазы? Пока даже намека на них обнаружено не было. Оставшись вдвоем в больничной палате, они с Горкой решили узаконить свои отношения. И Горка, который сперва сопротивлялся – да зачем нам это, к чему? – признал справедливость доводов Рамунчо: наследство, собственность, начиная с квартиры, которой мы станем владеть вместе, как только меня выпустят отсюда, если, конечно, выпустят, а еще, например, пенсия, не забывай про пенсию, которую ты сможешь получать, когда меня не будет. Вернувшись наконец домой, Рамунчо поспешил составить завещание в пользу Горки. И потребовал у того обещание оказать материальную поддержку Амайе в случае чего.
Вот уже больше десяти лет Рамунчо не имел известий о дочери. Своим чередом проходили знаменательные дни – день его рождения, Рождество.
– Неужели она так и не вспомнит обо мне?
Ничего – ни письма, ни открытки. Рамунчо страдал. Не раз он самостоятельно или с помощью Горки пытался отыскать хоть какой-нибудь след Амайи в интернете, используя разные поисковики. Не оставлял без внимания и социальные сети. На всякий случай интересовался также ее матерью. Ведь хоть в каких-нибудь списках пользователей, в подписях под фотографиями, ну, не знаю, хоть где-нибудь должно появиться имя той или другой. Или теперь они зовутся совсем иначе?
Ни один день рождения девочки – теперь уже, разумеется, взрослой женщины, – ни одно Рождество не обходились без покупки подарка для нее. Пакеты с пестрыми лентами и поздравительными открытками заполнили шкаф и с каждым годом занимали все больше места. А когда Горка спрашивал, к чему все это, зачем ты травишь себе душу, Рамунчо отвечал:
– Сердце мне подсказывает, что она вернется. И я хочу, чтобы она знала: ни на секунду я не переставал думать о ней. Обещай мне, что, если я умру, ты вручишь ей все это.
Для Горки любые матримониальные планы наталкивались на одно препятствие – родители. Не потому что они могли не одобрить его решение – конечно, не одобрят, кто бы сомневался, – а из-за стыда, который они испытают (или только он считал, что испытают), как только новость о такой свадьбе пойдет гулять по поселку.
Он примерно раз в год разговаривал с матерью по телефону. Правда, несколько чаще это случалось в первые месяцы после того, как заболела Аранча. Темы были всегда одни и те же: Аранча, погода, еда, сплетни о соседях. Разговор почти никогда не касался Хосе Мари или личной жизни Горки, который в лучшем случае сообщал какие-нибудь пустяки о своей работе на радио. Хошиан страдал аллергией на телефон и редко брал трубку. Он ограничивался тем, что велел Мирен передать сыну привет и от него тоже, а еще спросить, когда он наконец их навестит.
Горка боялся огорчить родителей, боялся, что они устроят ему страшный скандал, и поэтому отговаривал Рамунчо от затеи с женитьбой. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы тот особенно и настаивал. Для него это была некая красивая романтическая возможность в будущем, не предполагавшая никакой спешки. Потом Рамунчо заболел. И вроде бы даже находился на шаг от смерти, как потом признались врачи. Значит, ситуация изменилась. И, словно расписываясь в своей трусости, которой он никогда не скрывал, Горка задумал заключить брак тайком от родственников. Рамунчо возмутился:
– Об этом не может быть и речи. Не хочешь – не приглашай их. Моей матери тоже ведь не будет, ей уже под девяносто, и она саму себя в зеркале перестала узнавать. Но ты должен по крайней мере поставить родителей в известность.
– Сам знаешь, что у меня на это духу не хватит.
– Послушай, надеюсь, ты не намерен построить свою жизнь на лжи и умолчаниях. Хуже ничего быть не может, поверь мне.
– В любом случае я отправлю им письменное извещение, ладно? Даже по телефону ничего сказать не смогу – сразу грохнусь в обморок.
И он написал им письмо. Оно было совсем коротким, но Горка потратил на него полдня, не меньше. Рамунчо прочитал его за ужином и одобрил, предложив кое-какие незначительные поправки. За неделю до свадьбы Горка наконец-то решился отправить письмо по почте. Но ответа не получил. Из чего сделал вывод, что родители от него, скорее всего, отреклись и, видно, нос на улицу боятся высунуть от страха или стыда.
Сразу после регистрации Горка и Рамунчо, взявшись за руки, счастливые, спустились по лестнице мэрии. Там новобрачных, как и положено, осыпали рисом. Некоторые машины, проезжавшие мимо, приветствовали их гудками. Гости кричали: пусть поцелуются, пусть поцелуются (горько), – и подняли такой шум и гам, что это стало привлекать взгляды прохожих. Снова начались поздравления и объятия. Несколько зернышек риса запутались у Горки в волосах. Ему об этом сказали, и он попытался стряхнуть рис рукой. И вдруг, случайно глянув в сторону реки, он их увидел. Кого? Да кого же еще? Свою семью, они стояли на противоположном тротуаре, отдельно от всех, и словно боялись присоединиться к ним. Мать держалась за ручки инвалидной коляски, отец в берете и наброшеном на плечи свитере.
Рамунчо сразу заметил странную перемену в поведении Горки, в выражении его лица, и понял: с ним происходит что-то серьезное.
– Что ты?
– Они здесь.
И оба тотчас направились в ту сторону. Рамунчо веселый, Горка – ошеломленный, серьезный, смущенный.
– Приехали?
Мирен, привыкшая всегда быть за главную, решительно тряхнула головой:
– Как же мы можем не приехать на свадьбу сына? Это и есть мой зять?
Она приняла важный вид и вытянула шею, подставляя ему щеку. И при этом успела спросить что-то у Рамунчо на баскском, наверняка с единственной целью – проверить, знает ли он язык. Рамунчо ответил так, что вызвал общий смех. Не смеялся, разумеется, только Горка, у которого на лице застыло похоронное выражение. Почему? Потому что он не мог не посочувствовать отцу, который стоял с натянутой улыбкой, глаза на мокром месте, стоял рядом с парапетом, не зная, как себя вести, что сказать, словно его вдруг взяли и перенесли на другую планету.
Мирен быстро вмешалась, желая и тут навести порядок:
– Слушай, Хошиан, ты, надеюсь, не собрался всплакнуть?
Зато Аранча, сидящая в своей коляске, была беззвучным источником радости. Она взмахивала здоровой рукой, что-то беззвучно кричала и смеялась глазами. Рамунчо нагнулся и от всей души поцеловал ее в лоб. Потом решительно обнял и похлопал по спине Хошиана, лоб которого находился лишь на несколько миллиметров выше узла его галстука. И наконец элегантный зять сделал ловкий тактический ход, заявив, что очень рад иметь такую красивую свекровь.
Мирен, пыжась от удовольствия:
– Я приехала в Бильбао, чтобы похвастаться своим сыном. Вон, даже туфли новые купила.
И все разом посмотрели на ее ноги.
Тут подъехали такси. Как только машины довезли их до места, Мирен вышла, взяв Горку под руку. Так они и ступили в ресторан. Значит, семья Горки тоже приняла участие в свадебном пире? Что за вопрос? Разумеется.
Когда все расселись, справа от Рамунчо стул остался свободным – он предназначался для его дочери. Об этом Рамунчо сказал гостям, произнося короткую приветственную речь. Слева от Горки села Мирен, которая нашла подходящий момент и под столом вручила сыну конверт с тысячью евро – это наш подарок тебе на свадьбу. Меньше никак нельзя, пояснила она. Потом шепнула ему на ухо:
– Хосе Мари просил поздравить тебя.
117. Невидимый сын
Кике принарядился. Костюм, галстук и шокирующее, кричаще нелепое дополнение – кеды известной марки. У Нереи юбка на десять сантиметров выше колен. Розовая помада на губах, тени на веках, сетчатые чулки и туфли на высоком каблуке. Что, люди на них оглядываются? Ну и пусть оглядываются. Со времени своего знакомства, еще в конце минувшего века, эта пара с большим удовольствием устраивала такие вот выходы, чтобы показать себя свободными – вызывающе свободными – и богатыми. А еще оба распространяли вокруг резкий запах духов.
В ресторане они заняли столик – знай наших! – между двух деревянных столбов, поддерживающих балки. Удачное место – далеко как от кухни, так и от входной двери. В какой день это было? В субботу, в половине десятого вечера. После обеда Кике узнал, что те деньги, которые год назад он вложил в производство консервов из якобы лодосского перца[118] (почему якобы? потому что на самом деле этот перец по дешевке закупают в Перу), по сути, пропали. Он рассказывал об этом Нерее, прикрываясь циничной улыбкой и демонстрируя свои безупречные зубы.
Стейк-хаус “Портуэче” был полон.
Кике, держа меню в руке, начал неспешно рассказывать:
– В пору моего детства здесь была деревня. Мы, мальчишки, приходили сюда ловить рыбу, прихватив ореховые удочки с самыми простецкими снастями. В качестве наживки – крошка хлеба. Однако прямо тут мы никогда не удили, потому что вода доходила до деревни совсем белая, прямо белая-белая, клянусь. Из-за молочной фермы. Мы устраивались повыше, за свалкой металлолома, где хозяйничали Чильвети. Там попадалась даже форель.
Нерея выбрала какие-то закуски, и Кике, не слушая, что она предлагает, кивнул. Когда на столе появилось блюдо с салатным цикорием, лососем и крабом, он удивленно спросил:
– Ты что, заказала эту мерзость?
И Нерея ответила: да, дорогой. Сам он решил удовольствоваться омлетом с грибами. Бутылку красного вина – сорок пять евро – Кике велел унести. Понюхал, слегка покачивая, бокал, пригубил с закрытыми глазами и презрительно отверг. Ему принесли другую. Он повторил все то же – понюхал, попробовал – и в конце концов одобрил вино, правда, прежде с видом знатока прочитал официантке многословную лекцию о виноделии. Они с Нереей подняли бокалы и чокнулись.
Она:
– Я умею читать твои мысли. Первая бутылка была хорошей.
– Само собой. Даже лучше этой. Но надо уметь устанавливать дистанцию в отношениях с прислугой, показать им их место. Они там, у себя на кухне, теперь небось как следует засуетились. И расстараются для нас. Вот и пусть себе. Зато все, что мы заказали, будет лучшего качества.
– Ага, или плюнут в тарелку. Смотри, тут в соусе какая-то подозрительная пена. Я к этому не притронусь.
– А на что похож твой эндивий?
– На эндивий. А твои грибы?
– На грибы.
Со дня их свадьбы прошло почти двенадцать лет – в бесконечных разрывах и страстных примирениях, но они до сих пор жили каждый в своей квартире. Это твоя территория, а это моя. Там твоя грязь, а здесь моя. И теперь, жуя и макая хлеб в соус, Кике с Нереей разговаривали именно об этом. Кике страшно развеселился, вдруг открыв для себя одну вещь. Какую? В первые шесть лет их брака он очень настойчиво просил жену переехать к нему (общий кров, общая постель – пусть, но ведь еще и общий туалет), а вот после этого и до сих пор, то есть следующие шесть лет, плюс-минус месяц, уже она уговаривала его жить вместе, а он отказывался.
– Ты прекрасно знаешь, почему поначалу я этого не хотела. А вот почему теперь упрямишься ты, понять не могу.
– Мне нравилось, что у тебя есть тайна. Я ведь, конечно, ни о чем не догадывался, то есть это была настоящая тайна. Меня приводит в восторг мысль, что ты скрываешь от меня нечто важное из твоей личной жизни, а потом я тайну беру и раскрываю. Это все равно что украсть у тебя трусы после изнасилования. И заметь, если рассудить по уму, то я оказываюсь тут в проигрыше. Меня постигает такое же разочарование, как ребенка, сломавшего любимую игрушку. Поэтому я и не хочу, чтобы мы жили вместе. Мне будет жаль узнать тебя настолько, что между нами не останется никакой разделительной черты, а значит, и повода, пусть и совсем ничтожного, для неожиданных открытий.
В тайну жены ему по неосторожности помогла проникнуть Биттори. И, поняв, что совершила промашку, скорчила простодушную мину:
– А ты разве не знал?
Это был не самый приятный момент для Нереи, которая сидела рядом с Кике на диване. Раньше она не раз говорила мужу, что ее отец умер от рака легких. И, чтобы сделать ложь более правдоподобной, добавляла какие-то красочные детали.
После того как правда выплыла наружу, Нерея больше не видела смысла в раздельном проживании. В своей квартире – my palace[119], как она ее называла, – Нерея устроила музей памяти отца, и ей меньше всего нужны были там свидетели, расспросы, суждения или, скажем, руки, которые будут что-то трогать, хватать, пачкать. Реликвии отчасти были выставлены на видном месте, отчасти (таких было больше) спрятаны – за дверями, в папках, ящиках и шкафах: фотографии, вырезки из газет и журналов (“ЭТА убила предпринимателя в …”, “ЭТА взяла на себя ответственность за преступление, все партии, кроме “Эрри Батасуна”, выступили с осуждением”), одежда покойного, его личные вещи. Какие, например? Свеча в виде кактуса, которую я подарила отцу еще в детстве, авторучка, награды от клуба велотуризма или полученные за победу в “турнире Мус”, рубашка с пробитыми пулей отверстиями, какие-то предметы, привезенные из конторы, несколько пар ботинок, в том числе та пара, которая была на нем в день убийства. Иными словами, вещи, имевшие для Нереи большую сентиментальную ценность. Что-то она получила от матери, что-то от Шавьера. Был там и пистолет.
Мысль отнести рубашку в прачечную пришла в голову ее брату. Если бы он спросил Нерею, она сохранила бы ее как есть – с пятнами крови. И после того как Кике узнал, каким образом погиб тесть, которого он никогда не видел, Нерея уже не видела смысла и дальше скрывать от него все эти вещи, но вот беда: оказалось, что теперь уже он сам не желал терпеть рядом подобный хлам. Ну, в крайнем случае фотографии. Остальное производило на него жуткое и зловещее впечатление. А Нерея не собиралась ни от чего избавляться. Ни за что. Поэтому каждый продолжал жить в своей квартире. Встречались они часто, почти ежедневно, но случались, разумеется, и перерывы.
Кике по привычке положил мобильник на стол, рядом с тарелкой, и постоянно поглядывал на него. Хоть и суббота, но дела выходных не знают. Пока он расправлялся с приготовленными на гриле морским чертом с моллюсками (Нерея ела фирменную треску), треньканье известило о полученном по WhatsApp сообщении. Ничего особенного, обычные шуточки Элисальде, который на сей раз прислал видеоролик, так, для смеха: лысому футболисту то и дело попадают мячом по лицу. Кике с Элисальде раньше были партнерами, теперь остались просто друзьями и любили посылать друг другу всякие забавные послания. У Нереи было свое объяснение:
– Это он проверяет, хочет узнать, не свободен ли ты, чтобы завинтиться с тобой куда-нибудь на всю ночь.
– Если бы ты не поссорилась с Марисой, сейчас мы сидели бы тут вчетвером и посмеялись бы от души.
– До сих пор не пойму, как я удержалась и не выцарапала ей глаза.
В общем и целом, Нерея с Марисой умели найти общий язык. И были подругами? Нет, до этого дело не дошло. Их отношения ограничивались приятной болтовней, совместными поездками в “Корте инглес” в Бильбао, а иногда и обменом некоторыми альковными тайнами. Правда, они никогда не позволяли себе углубляться в личные проблемы, по-настоящему личные. Только потому, что у них были разные характеры, разные вкусы и разные интересы. И вот как-то раз, когда обе сидели в кафетерии “Корте инглес” в Бильбао, Мариса, которая, по мнению Нереи, бывала завистливой, вдруг ни с того ни с сего сказала:
– Я, конечно, не люблю совать нос в чужие дела, но на твоем месте я бы получше приглядывала за своим мужем. Он ведь ни одной юбки не пропускает.
В Сан-Себастьян они вернулись по отдельности. Нерея на автобусе, Мариса на своей машине. И до сих пор не помирились.
– Она попыталась разрушить наш брак, и этого я ей никогда не прощу.
– Ну и как твоя треска?
– Хорошая, только к ней плохо подходит красное вино.
– Давай закажем белого.
– Ты мне лучше вот что скажи: Элисальде, он изменяет этой идиотке?
– Постоянно.
– Обычная дура, а изображает из себя невесть что.
Официантка принесла бутылку белого вина. Желаете попробовать? Кике попросил/приказал оставить бутылку на столе. Если вино окажется плохим, они ее позовут.
– А помнишь ту золотую цепочку с листиком гинкго, которую я тебе подарил? Ты ее что, больше не носишь?
– Я швырнула ее в Темзу в тот день… ну, когда психанула. Но можешь не беспокоиться, я хорошо запомнила место, где она упала, и в любой момент смогу достать.
– Я подарю тебе другую. А то еще простудишься.
Нерея, конечно, сильно тогда разозлилась, оставшись в своем утреннем гостиничном одиночестве, и разозлилась скорее на себя, чем на него. Дело в том, что, во-первых, она совершенно не выносила, когда Кике, идя по улице, изображал, будто ведет за руку сына, которого у них нет. В Лондоне он повторил свой фокус. И не один раз, а несколько. В последний раз она увидела это из окна гостиницы. Кике направился на деловую встречу – в костюме, элегантный. И вот, собираясь переходить улицу, он схватил за ручку своего невидимого сына. Мог ли он подумать, что она следит за ним из окна пятого этажа? Я уже стала похожа на свою мать, которая непременно смотрит, как мы с братом уходим. Эта мысль окончательно вывела ее из себя.
От десерта Нерея отказалась. Кике – нет. Флан, черный кофе и рюмка пачарана, заказанная после того, как он убедился, что у них есть именно та марка, которой торгует он сам.
На протяжении первых нескольких лет Нерея была уверена, что Кике бесплоден. И он тоже, к огорчению своему, так считал. Потом она уговорила его пройти обследование. Зачем? Не знаю, иногда у мужчины бывает мало сперматозоидов, или они не двигают своим хвостиком, и тогда толку от них никакого. Результаты анализа показали, что семя у Кике хорошего качества. А значит, бесплодием страдала она. Нерея в свое оправдание говорила:
– Может, ты просто плохо прицеливаешься?
После этого она перестала искать мужчин, внешне похожих на Кике, чтобы зачать от них. Ведь ясно как день, что, если у тебя родится белокурый или чернокожий младенец, объяснить это будет трудно. Она хотела подложить своему мужу кукушонка, но не сумела. Притом что желающих помочь ей в этом деле было хоть отбавляй.
В какой-то момент у Кике появилась причуда – водить за руку сына, которого у него нет и которого никогда не будет, по крайней мере от меня. Он прекрасно знает, что его чудовищная игра – или это такая изощренная форма упрека? – доводит меня до бешенства. Кике страдал, и она тоже страдала и злилась из-за того, что он страдает.
– Счет, пожалуйста.
Нерея опередила его в тот миг, когда надо было протянуть официантке кредитку. Чаевых она дала ровно столько, сколько стоила бутылка вина, которую отверг Кике. Выйдя из ресторана и прежде чем сесть в машину, они повели себя как пылкие влюбленные и кинулись целоваться и оглаживать друг друга в полумраке под усыпанным звездами небом.
– Черт, на тебе ведь нет трусов.
– Это чтобы ты их у меня не украл.
– Я схожу с ума от того, как у тебя оттуда пахнет. Трахнул бы прямо здесь.
– Это не лучшее место. Сюда ведь река спускается совсем белой.
– Так было раньше.
– Я бы лучше отправилась вон туда, за свалку металлолома, о которой ты рассказывал.
И вместо того чтобы вернуться в город, они двинулись по шоссе в сторону Игары, в сторону холмов, в сторону лесистого, сгущающегося мрака.
118. Неожиданный визит
От брата Нерея знала, что Биттори и Аранча почти каждый день встречаются на площади. А еще Шавьер сообщил ей, в какие дни и в какие часы ее бывшая подруга приезжает в больницу на сеансы физиотерапии. Подразумевалось, что Нерея могла бы туда заглянуть. И неожиданно для себя она решила и вправду отправиться в больницу. Но имей в виду: иногда Аранчу привозит низенькая женщина, эквадорка, а иногда мать.
– Она что, меня укусит?
– Я тебя предупреждаю на всякий случай, вдруг ты не хочешь с ней встречаться.
Сколько же они с Аранчей не виделись? Уф, с тех самых пор, как Нерея еще училась на юридическом в Сан-Себастьяне. Дай-ка прикину. Больше, гораздо больше двадцати лет, ведь это было еще до того, как она уехала доучиваться в Сарагосу. Аранча уже была замужем, по-прежнему работала продавщицей в обувном магазине и жила с мужем в Рентерии. Потом Нерея потеряла ее из виду, прошло десять дет, двадцать, а значит, катит третий десяток. Через много лет после последней их встречи у Аранчи случился удар. Через сколько? Кто ж его знает. О ее болезни Нерея узнала тоже от Шавьера.
– Хочу честно тебя предупредить: смотреть на Аранчу сейчас, в нынешнем ее состоянии, нелегко.
– Ты, брат, все хочешь меня защитить. А поговорить с ней получится?
– Она все понимает. Отвечает с помощью айпэда. Ты спрашиваешь, она пишет ответ. Насколько я знаю, с ней занимается логопед, но, кажется, сейчас она вряд ли способна произносить слова так, чтобы их можно было разобрать.
И как-то в среду Нерея действительно явилась в больницу. Следуя инструкциям Шавьера, она представилась тому человеку, который обещал проводить ее до места. Аранча в одиночестве сидела в своей коляске, дожидаясь, пока за ней выйдет физиотерапевт.
Господи, как мне стало ее жалко. Короткая стрижка, много седых волос, одна рука скрючена и совсем не действует, шея как-то неловко повернута, черты лица хоть и несильно, но искажены. Нерея не сразу узнала в этой подурневшей женщине подругу юности. И первое, что она подумала: черт, вот ведь какие подлянки устраивает нам судьба. Второе: надеюсь, она не обидится на то, что я не предупредила ее о своем приходе.
– Аранча, красавица моя, посмотри-ка, узнаешь меня?
Где-то с полсекунды, повернув голову, та глядела с удивлением/сомнением. А потом на ее лице сразу вспыхнула бурная радость. Получив непременный поцелуй, Аранча протянула правую руку, чтобы дотронуться, коснуться, попытаться – вот беда-то! – обнять подругу, которая уже отодвигалась от нее. Аранча старалась что-то произнести, но у нее ничего не получалось, и столько сил было вложено в эту попытку, что на миг показалось, будто она задыхается.
– Я оставлю вас вдвоем, наверняка вам есть что порассказать друг другу.
Нерея с нежностью – состраданием? – провела костяшками пальцев по щеке Аранчи. Та бросила на нее взгляд, в котором читалась покорность судьбе: сама видишь, каким боком все для меня обернулось. Или что-то вроде того.
Нерея сочла, что лучше ей побольше говорить самой, что-то рассказывать, чтобы снизить драматический накал их встречи. Она, дескать, обо всем узнала от брата, ей, дескать, стало известно, ей, дескать, передали. И очень искренне воскликнула:
– Все это какое-то непотребство, а!
Аранча между тем успела достать свой айпэд из укромного места между боковиной кресла и собственным бедром и печально кивнула. Положив айпэд на колени, написала: “Я очень рада тебя видеть”.
– И я тоже. Как ты?
“Плохо”.
– Дурацкий вопрос. Прости.
И, видя, что Аранча смеется, последовала ее примеру, хотя губы Нерею не очень-то слушались.
“Я развелась”.
Бледный, тоненький указательный палец ловко прыгал по клавишам. Нерея быстро прочитала только что написанную на экране фразу:
“Мой бывший меня бросил. Но мне плевать”.
Нерея спросила, есть ли у нее дети. Хотя прекрасно знала, что есть и сколько их. Ей сказал Шавьер, но Нерее было трудно освоиться с такой формой беседы – устно-письменной, и хотя она рассчитывала вот-вот привыкнуть и начать вести себя естественней, задавала дежурные и вполне предсказуемые вопросы.
Аранча подняла вверх два пальца, что напоминало знак победы.
“Их я люблю больше всего на свете. Дети живут с ним, но мы часто видимся. Может, они чуть попозднее приедут, и я тебя с ними познакомлю”.
Потом буква за буквой, но очень быстро, Аранча пояснила, сколько им лет, как их зовут, написала, что они умные, красивые, ласковые.
“В меня пошли”.
– Ты ими гордишься, да?
Она охотно и радостно закивала головой. Потом спросила Нерею про ее жизнь. Та объяснила в общих чертах: замужем, детей нет, работаю в налоговой инспекции. И, когда снова наклонилась, чтобы посмотреть на экран, не могла сдержать волнения, прочитав, что подруга находит ее очень красивой.
– Да ладно тебе. Для меня годы тоже не проходят даром.
“Я живу с родителями. Часто вижусь с твоей матерью”.
– Да, она мне уже рассказывала.
“Очень жаль, что она так больна”.
Ага, значит, знает.
– Мы с Шавьером стараемся побольше времени проводить с ней. Особенно Шавьер. Если ты помнишь, он всю жизнь был маменькиным сынком.
“Биттори страшно горюет, что она может умереть, а мой брат так и не попросит у вас прощения”.
– Да, ты права, ее бы это здорово утешило.
“Я стараюсь повлиять на Хосе Мари. Постоянно”.
– Ты ему пишешь?
Она подтвердила, несколько раз соединив и разведя подушечки пальцев, чтобы показать, что отправила ему уже много писем, или записок, или чего-то там еще.
“Мой брат боится”.
– Боится?
“Что Биттори отдаст газетчикам письмо, где он просит прощения. Ведь об этом могут узнать его товарищи”.
В глубине коридора появились улыбающееся лицо и белый, безупречно чистый халат – юная женщина, врач-физиотерапевт, которая бойко затараторила:
– Ну что, красавица наша, у тебя, как я вижу, гости?
Аранча быстро что-то написала. Врач сразу же кивнула в знак согласия. Потом попросила Нерею посидеть здесь и никуда не уходить – ее позовут. Нерея осталась ждать в одиночестве. Что они там задумали? Если судить по их физиономиям, что-то забавное. Очень скоро ее действительно позвали. Она вошла в реабилитационный кабинет. Ей приготовили сюрприз: Аранча стояла сама, с каждого бока – по врачу. И тогда больная неуверенно, с большим напряжением сумела сделать один шаг – без посторонней помощи, без поддержки, короткий неуверенный шажок. Господи, сейчас упадет! Потом второй, третий – всего четыре. И тотчас сзади Аранче пододвинули инвалидное кресло, чтобы она могла сесть. Похвалы, аплодисменты всех присутствующих. Нерея тоже захлопала. Хотя еле сдерживала слезы.
Через несколько минут она простилась с Аранчей, пообещав, что непременно придет снова. Нерея шла по коридору, погрузившись в свои мысли, а скорее – в тревоги. О матери, понятное дело. И когда она почти дошла до лестницы – я рада, что побывала тут, – чей-то голос сухо и отрывисто с ней поздоровался, а Нерея ответила, не успев понять, кто это был. Потом обернулась. И увидела спину Мирен, удалявшейся по коридору. Неужели Мирен? Конечно она. Ее сопровождали паренек, который был на две пяди выше, и очень миленькая девочка с заплетенными в косичку длинными волосами. По возрасту, по тому, что они шли вместе с Мирен, – да и вообще это было сразу яснее ясного, – Нерея угадала в них детей Аранчи.
119. Терпение
Вечером Нерея позвонила брату. Как и обещала. И рассказала, не вдаваясь в подробности, про свою встречу с Аранчей. Не забыла упомянуть и о том, что Мирен с ней поздоровалась.
– Не может быть. Ты уверена?
– Рядом со мной никого больше не было, так что здоровалась она наверняка именно со мной. Очень быстро так бросила: “Здравствуй”. Я даже не успела рассмотреть ее лица.
Под конец Нерея заговорила о том, что больше всего ее тревожило:
– Аранча, между прочим, знает про болезнь нашей матери.
– Интересно, откуда у нее такие сведения. Во всяком случае, я до сих пор не сказал матери правды про ее диагноз.
– Она же не круглая дура. Понимает, что никто не ходит к онкологу, чтобы лечить фарингит. Наверняка у нее есть свои подозрения, хотя назвать вещи своими именами она и не может.
– Я был бы тебе благодарен, если бы ты навестила ее и подготовила почву. Понимаешь, сам я сейчас слишком всем этим расстроен.
– Будь спокоен. Завтра же к ней и съезжу.
– Очень тебя об этом прошу. И даже если она начнет спорить с тобой по любому пустяку, потерпи.
Нерея купила букет цветов. И напрасно, как сама вскоре убедилась. Мысль пришла ей в голову неожиданно – уже по пути к дому матери, когда она оказалась рядом с цветочным магазином: принесу-ка я ей цветы в знак моих благих намерений. Но Биттори, едва увидев их, заявила:
– Слушай, я ведь еще не померла.
Терпение. Прежде чем войти, стоя перед дверью, Нерея спросила про коврик, который привезла из Лондона.
– Да ты уже сколько раз спрашивала. Могла бы догадаться, что он мне не понравился.
– Ты мне никогда об этом не говорила.
– Есть вещи, которые произносить вслух не обязательно.
Терпение, терпение. Нерея помнила просьбу брата: только не спорь с ней, пожалуйста, не спорь.
– А твой муж? Вы снова разбежались?
– Где-то ходит.
– Он у тебя вечно где-то ходит.
– Мама, у Кике много работы. Не будь такой подозрительной.
Биттори поставила букет в вазу с водой. Сказала, что цветы хорошо пахнут и что в субботу, если дочка не возражает, она отнесет их Чато. Нерея мягко пожаловалась, что в гостиной холодновато. И при этом глянула на распахнутую настежь балконную дверь.
– Это на случай, если вернется кошка. Но боюсь, что с ней приключилась какая-то беда.
– Вчера я была в больнице и виделась с Аранчей.
– Она мне об этом рассказала нынче утром.
– А, ну и хорошо. На самом деле я специально пришла, чтобы рассказать тебе о нашей встрече, но раз ты уже знаешь…
– Я знаю версию Аранчи. А не твою.
Терпение. Они сидели друг против друга у низкого столика, между ними стояли ваза с цветами и две чашки растворимого кофе без кофеина. Нерея рассказала, с какой целью отправилась в больницу и как прошло их свидание. Биттори то и дело перебивала:
– Да, я уже знаю.
И это еще больше нервировало Нерею. Терпение. Дыши глубже, девушка. Спокойствие и терпение. Она стала рассказывать дальше.
Биттори:
– Да, и это я тоже уже знаю. А сейчас ты скажешь, что Аранча сделала шесть шагов без посторонней помощи.
– Четыре.
– Мне она сказала, что шесть.
– Уходя, я столкнулась с ее матерью. Про это тебе Аранча тоже рассказала?
– Нет, про это не рассказала.
Через балконную дверь в комнату проникала вечерняя свежесть, которую делала все более и более ощутимой примесь морской влажности. Освещение? В гостиной было темновато. Но Биттори это устраивало. Нерею же преследовало ощущение, будто она оказалась внутри пещеры, устроенной прямо в квартире. Знала бы, принесла бы с собой фонарик. А на стене часы с маятником лениво и привычно пробили восемь. Обстановка была странная – тусклое освещение и будто повисшая в воздухе густая печаль. Все в квартире – и стены, и мебель – было пропитано неким характерным запахом, который был если не отталкивающим, то и не слишком приятным. Такой же запах исходил от одежды и тела моей матери, когда я ее обнимала.
– И ты остановилась, чтобы поговорить с ней?
– Да нет. Когда до меня дошло, кто со мной поздоровался, она уже далеко ушла со своими внуками.
– Так она была с внуками? И какие они?
– Мальчишка высокий, девочка милая. Но я видела их только со спины. Да, кстати, Аранча рассказала кое-что, о чем ты мне ни словом не обмолвилась.
– Это еще о чем?
– По ее словам, она переживает из-за твоей болезни. Меня удивило, что она знает про нее больше, чем я.
– Тебе наверняка все уже прекрасно известно. Как я понимаю, вы с Шавьером время от времени беседуете. Правда, он не знает, что я позвонила Арруабаррене. Врач сказал, что все объяснил Шавьеру и уже сын должен объяснить мне то, что следует объяснить. Это было в пятницу на прошлой неделе, и я до сих пор жду. Хотя твой брат каждый день непременно звонил мне. Думаешь, он сказал хоть что-нибудь про результаты обследования? Ни слова. А теперь являешься ты со своим букетом. Вы с ним словно сговорились!
– Цветы – это чтобы показать, как я тебя люблю. И ничего больше.
– Если бы мы не общались по-семейному, было бы понятно, почему одни не знают, что происходит с другими.
– Ну, теперь у тебя есть возможность пообщаться со мной. И я была бы благодарна тебе, если бы ты включила свет. Сидишь рядом, а я практически не вижу твоего лица.
– Если я зажгу свет, налетят комары.
Терпение. Нерея с насмешкой спросила мать, не помнит ли та, куда поставила ее чашку с кофе. И притворно стала шарить руками по поверхности стола. Черт с тобой, зажги свет, только сперва закрой балконную дверь. Нерее только это и было надо. Она поспешно сделала и то и другое. Потом снова села, и тогда Биттори спокойно и решительно сказала, что:
– Я прожила достаточно, может, даже чуть дольше, чем мне было отмерено. Я знаю, что у меня там внутри. И не собираюсь ни проходить химиотерапию, ни подвергаться другим пыткам. Хочу наконец-то соединиться с мужем – уже пришла пора, и никто не запретит мне сделать это. Прожить еще год? Или два? Зачем? Меня ведь уже давно убили. С тех пор я была всего лишь призраком. Ну, может, получеловеком. Да и то только потому, что должно же у человека остаться что-то, чем чувствовать боль, которую ему причинили, и, кроме того, имея двух детей, нельзя позволить себя сломать. – Нерея хотела было что-то возразить, но Биттори не позволила: – Сейчас буду говорить я. Вам с братом не придется беспокоиться о наследстве. Все сделано как надо. Спорить вам будет не из-за чего. Каждый получит свою половину, пятьдесят процентов. А теперь внимательно послушай, что я скажу. Скажу именно тебе, поскольку с твоим братом о таких вещах толковать нет никакой возможности. Он тотчас раскисает.
Нерея смотрела на спокойное, полное решимости и здравомыслия лицо матери. Ей казалось, что она видит его впервые в жизни. И опять перевела взгляд на цветы. Они на самом деле представились ей сейчас неким атрибутом смерти.
– Вот моя воля. Похороните меня на кладбище Польоэ в одной могиле с Чато, так чтобы мой гроб стоял на его гробу. Там вполне хватит места еще для одного покойника. Пожалуйста, оставьте у меня на пальце обручальное кольцо, ведь и отец тоже похоронен со своим. Не забудь про белые туфли – те, что были на мне в день свадьбы. Ты их сразу увидишь, когда откроешь шкаф в моей комнате. Твоего брата я об этом попросить не могу. Он моей просьбы не поймет и не сумеет ее выполнить. Ты женщина, тебе некоторые вещи объяснять не требуется. Пожалуйста, напечатайте в “Диарио баско” два извещения о моей смерти – одно на испанском, другое на эускера. И пусть в обоих будут указаны не только имя и фамилия, но и прозвище моего мужа. Отпевать меня не надо. А теперь самое главное, хотя тут важно все. Если вы увидите, что через год, или два, или через сколько угодно лет политическая обстановка стала спокойной, что у нас и вправду покончено с терроризмом, перенесите нас с отцом на кладбище в поселок. Больше я ничего не прошу.
– А ты уже поговорила с Шавьером об этом или хотя бы об отдельных твоих пожеланиях?
– Как же, поговоришь с ним! Он вон уже сколько дней у меня не был. А по телефону я на такие темы разговаривать не желаю.
– Ладно, раз уж у нас пошел откровенный разговор, скажи мне вот еще что. Мне стало известно, будто ты добиваешься, чтобы сын Мирен попросил у тебя прощения и в этом тебе помогает Аранча. Так?
– А почему, по-твоему, я все еще жива? Да, мне нужно, чтобы он попросил прощения. Я хочу этого и требую этого, и пока не дождусь, умирать не собираюсь.
– Гордыня тебя замучила.
– Нет, не гордыня. Как только вы опустите на могилу плиту и я останусь вместе с Чато, скажу ему: этот идиот попросил у нас прощения, теперь мы можем упокоиться с миром.
120. Девушка из Ондарроа
Тюремные условия его не согнули. А они, уж поверьте мне, были тяжелыми. В одних тюрьмах помягче, в других более жесткими. Посмотрим еще, что уготовило ему будущее. Но выносить такую жизнь с каждым днем становилось все труднее. Годы, понятное дело, свое берут, но, как сам он считает, вовсе не время переломило его как сухую палку, хотя и оно поработало на славу, глупо это отрицать. Тут главная причина в другом. В чем? Свое моральное крушение Хосе Мари напрямую связывает с девушкой из Ондарроа. Он в этом уверен. После той истории, которая поначалу была такой красивой, его стала разъедать тоска – ты сам этого вроде и не замечаешь, черт возьми, а она грызет тебя и грызет, и под конец оказывается, что от тебя остались одни сплошные дыры.
Он видел, как плачет отец за стеклом в комнате для свиданий. Ему было жаль старика, но это была жалость – как бы получше объяснить? – жалость, которая оставалась где-то снаружи, и по окончании свидания отец уносил ее с собой. В ту пору в душе у Хосе Мари не было места для жалости. Превыше всего – Эускаль Эрриа. Дело, ради которого он пожертвовал всем, смысл его жизни, самое для него главное. И, глядя, как уходит отец, он чувствовал – что? – разочарование, вот что, черт побери, он чувствовал. Разочарование от того, что у него такой малодушный отец, что жизнь ему дал такой слабый человек.
– Ama, пусть он лучше не приезжает.
– Не беспокойся, в следующий раз он подождет меня дома.
Оставшись один, Хосе Мари искал в себе признаки слабости, совсем как человек, который тщательно осматривает свое тело, охотясь, скажем, на блох или вшей. Он искал эти признаки с бешеным желанием истребить их – чтобы не заразили, не дай бог, какой-нибудь психологической гадостью. И если в прогулочном дворе, в комнате с телевизором или в любом другом месте он замечал павшего духом товарища с глазами на мокром месте, устраивал ему разнос, требовал соблюдать дисциплину: не забывай, мы и здесь не перестали быть бойцами, мать твою туда и растуда. Дать слабину, выглядеть слабым? Скорее он позволил бы отрезать себе руку.
Не сломили его и голодовки. А это вам не хрен собачий. Если надо объявить голодовку, ее объявляют. Требуя, скажем, чтобы выпустили из тюрьмы тяжелобольного заключенного, или в знак протеста против тюремной политики, или потому что ЭТА через свою тюремную сеть отдала такой приказ, да по какой угодно причине. И Хосе Мари следил, чтобы никто из товарищей не приближался без особой нужды к тюремному магазину. Чтобы не послал кого-то из уголовников купить ему шоколадку или пакет жареной картошки. Самая долгая его голодовка растянулась на сорок один день, и было это в Альболоте. Я выпил тогда тонны воды. И потерял девятнадцать кило весу, так что мать, увидев меня во время свидания, не на шутку перепугалась:
– Слушай, а у тебя, часом, не рак?
Он ответил, что чувствует себя божественно. Ложь. У него постоянно кружилась голова, ни на что не было сил. А еще он не сказал ей, что вот уже несколько дней как моча у него идет красная. Хотел было пожаловаться врачу, но потом раздумал из опасения, что придется выслушать какой-нибудь неприятный диагноз. Потом состоялось общее обсуждение, и все проголосовали за прекращение голодовки – уже через два-три дня моча у меня стала нормальной. Хосе Мари считает, что именно голодовкам он обязан и постоянными запорами, и геморроем, который до сих пор временами его изводит.
Даже долгие месяцы, проведенные в одиночке, не сломили его. По двадцать часов в сутки он проводил в камере. Летом – невыносимая жара, хоть в петлю лезь. Тюремщики орут как бешеные. Время свиданий сокращено до восьми – десяти минут. Да еще эта подлянка с ночными обысками – каждые два часа или когда им в голову взбредет. А между делом колотили в стальную дверь, чтобы он не спал, или внезапно врывались в камеру. Крики: раздевайся, отжимайся. И так далее. Привычные оскорбления. Но даже такими средствами они не смогли переломить мне хребет.
Потом случилась история с Мигелем Анхелем Бланко[120]. Трое полицейских били Хосе Мари кулаками. Вернее, бил только один. А двое других держали. Новость о похищении Бланко дошла до тюрьмы тремя днями раньше. Как только стал известен ультиматум ЭТА, Хосе Мари шепотом сказал кому-то из товарищей:
– Этому парню живому не быть.
Под вечер 12 июля стало известно, что ему пустили две пули в голову. Бланко был доставлен в медицинский центр в Сан-Себастьяне. Он находился между жизнью и смертью. Рано утром среди прочих новостей пришло сообщение о его смерти. В случаях, когда дело заканчивалось чьей-то гибелью, в тюремном воздухе сгущалось напряжение. Взгляды делались злыми. Один из тюремщиков:
– Ну что, довольны теперь?
Хосе Мари не помнит, чтобы он улыбнулся в ответ. Может, и улыбнулся, но совсем не потому, почему подумал тюремщик. Ночью, изобразив, будто хотят провести обыск, за ним пришли. Черт с ними, не в первый и не в последний раз!
– А это тебе за твои улыбочки, говно собачье. Если мало, только скажи.
Несколькими годами раньше, еще в Пикассенте, он подрался с уголовниками. Схватились они во время ужина. Из-за чего? Из-за какой-то ерунды. На самом деле бывает достаточно, чтобы паре мужиков не понравилась твоя физиономия. И хотя он без особого труда их образумил – бац туда, бац сюда, – один все-таки застал его врасплох и шарахнул стулом, разбив голову. Кровищи было море, и пришлось наложить восемь швов. Явился начальник тюрьмы – в результате одиночка. Ладно, обычное дело. Бывает и хуже, иногда и на тот свет отправляют. Прошло какое-то время, Хосе Мари перевели в другую тюрьму, он начал лысеть и однажды, глянув в зеркало, обнаружил: волос осталось так мало, что и шрам нечем прикрыть.
Что ж, бывает и не такое. О многом никто за порогом тюрьмы не узнает. К тому же человек предпочитает поменьше рассказывать родственникам, чтобы не расстраивать. Но в любом случае Хосе Мари сохранял твердость – кремень, а не человек, мачта, крепко стоящая под штормовым ветром, потому что, кроме физической силы, были у него и другие источники, помогавшие противостоять невзгодам, терпеть любые беды и все, что сыпалось на его голову. Какие именно источники? В первую очередь – коллектив. Коллектив – это основа, товарищеская спайка. Он так и говорил матери:
– Здесь они – это моя семья.
Нельзя забывать и о его верности определенной идеологии. Сейчас, кстати сказать, он ко многому стал относиться иначе, чем на свободе. Интересовался политикой. Раньше ему казалось, будто вся эта брехня и теоретическая мутотень только отвлекают, заставляют сворачивать с прямой дороги, ведущей к достижению цели. Вооруженная борьба – кратчайший путь. Теперь он вдумчиво читал статьи, брошюры, любые агитационные листовки или заявления, выпущенные организацией. Ему было уже мало просто подпитываться мыслью, что он продолжает участвовать в борьбе, и с некоторых пор он стал упорно подбирать аргументы, которые оправдывали бы их борьбу и с очевидностью доказывали бы, что она справедлива и необходима. Да, и еще одно: что ее поддерживает большинство баскского народа. Из крепкой веры в последнее он черпал душевные силы. И как только выпадал подходящий случай (например, на еженедельных собраниях, где заключенные боевики ЭТА вырабатывали линию поведения в тюрьме в соответствии с инструкциями, полученными с воли), начинал выступать/спорить – с пеной у рта, фанатично, а пошли бы вы все на…
Особенно подбадривали его часы, когда он мог говорить на баскском с кем-нибудь из товарищей или в своем кружке. Иногда они пели песни – Izarren Hautsa[121], что-нибудь еще из Лете, Лабоя, Бенито Лерчунди, но не слишком громко, чтобы не привлекать внимание тюремщиков, или рассказывали анекдоты. В подобных случаях Хосе Мари чувствовал себя так, словно его перенесли далеко отсюда, туда, где над ними нет охраны, нет вокруг крепких стен и запоров, где он рассказывает те же анекдоты, поет во весь голос те же песни и пьет сидр, калимочо или пиво в компании былых приятелей. Закрывая глаза, он был способен ощутить запах родного поселка и запах лука-порея, который отец приносил со своего огорода, а еще другой запах – тот, что был для него лучше всех на свете, – запах только что скошенной травы. В Альболоте, а потом и с новой силой в 3-м блоке Пуэрто-I Хосе Мари начал писать стихи. Это давало благостное ощущение – у него появилось нечто сокровенное. Он никому не решался их показывать, так как знал, что стихи его немногого стоят, а еще он их стыдился. Сочиняя стихи, вспоминал Горку, его тягу к одиночеству и любовь к книгам. Что, интересно знать, делает брат в этот момент?
Однако самым действенным противоядием из тех, какими располагал Хосе Мари против всей этой отравы – тоски, угрызений совести и чувства жизненного краха, была ненависть. В тюрьме у него в душе поселилось глубокое и вязкое бешенство. Выплеснуть его наружу он не мог, и оно постоянно подогревалось на медленном огне. Ничего похожего он не испытывал даже в те дни, когда пускал в ход оружие. Правда, тогда им двигали совсем другие мотивы. Ну, скажем, сознание своего долга. Надо кого-то шлепнуть? Значит, выпустим в него пару пуль, кем бы он там ни был. Но теперь его ненависть была беспримесной и жестокой – последствие избиений, испытанного унижения, убеждения, что со всем его народом делают то же, что и с ним самим. Ненависть освежала Хосе Мари в летнюю жару, грела в зимние ночи. Блокировала любые проявления сентиментальности. Если бы он мог убивать взглядом, не раздумывал бы ни секунды и в каждой из тюрем, где ему довелось сидеть, убивал бы и убивал.
Но тут появилась Айнчане, девушка из Ондарроа. Она была на два года младше Хосе Мари. Ее родители держали ресторан, где она тоже трудилась. До знакомства с ней Хосе Мари получал письма и от других баскских девушек. Дело в том, что в барах, которые посещали леваки, и в других местах обычно висели плакаты с фотографиями сидевших в тюрьмах боевиков ЭТА. А рядом с каждым портретом, как правило, указывались имя заключенного и название исправительного заведения, где его содержат. Хосе Мари и его товарищам довольно часто писали девушки, для которых они являлись настоящими героями. Письма были полны восхищения, желания морально поддержать, а также помочь сидящим в тюрьме gudaris почувствовать себя менее одинокими. Со временем эти послания нередко превращались в любовные.
Хосе Мари и Айнчане переписывались целый долгий год, прежде чем встретиться. Поначалу они писали друг другу на эускера. Но перешли на испанский, как только поняли, что так почта проверяется быстрее и Хосе Мари вручали письма гораздо раньше. И вот наступил день, когда Айнчане приехала к нему на свидание в Пуэрто-I. Она не была толстой, нет, скорее крупной и крепко сбитой, привлекательной, смешливой, располагающей к себе и очень разговорчивой. Это именно ей пришла в голову мысль ходатайствовать о личном свидании, после того как Хосе Мари, одолевая свою нелепую и толстокожую робость, признался ей в зале для свиданий, что на самом деле он пока еще не… до сей поры еще никогда… хотя у него была девушка в их поселке, но она была такая, что к ней не подступишься.
– На улице поцеловать себя не позволяла.
И вдруг он услышал звонкий смех Айнчане.
Хосе Мари во всем подчинился ей. Он узнал, что такое нежность, ласки, любовные слова, сказанные на ухо, – и ему было очень хорошо. Вот в чем беда. Ночью, лежа без сна, он вдруг совершенно неожиданно понял – словно на него обрушился тюремный потолок, – что лишается самого лучшего в жизни. Нельзя сказать, чтобы он не думал об этом и раньше. Но сейчас у него впервые появилось физическое ощущение, что по его же собственной вине молодость осталась за бортом.
Несколько дней спустя, смотря по телевизору матч между “Реалом” и “Атлетиком”, Хосе Мари следил не за мячом, не за ходом игры, а за людьми, заполнившими трибуны стадиона. Они были такими же басками, как и он сам, в руках держали национальные флаги или плакаты, некоторые с требованием перевести заключенных в тюрьмы Страны басков. Он наблюдал за тем, как они прыгают, и поют, и ликуют. А еще он смотрел картинки в выпуске новостей, сопровождавшие сообщение о том, что на севере полуострова установилась очень жаркая погода. Потом показали пляж Ла-Конча в Доностии, людей в купальных костюмах – отдыхающих басков, почти счастливых басков, которые прогуливались по берегу, плавали и загорали. Влюбленные пары лежали на полотенцах, мальчишки плавали на маленьких лодках, дети копали песок пластмассовыми лопатками. Ни с того ни с сего он почувствовал горечь во рту, и не только во рту – она просочилась в самую сердцевину его убеждений и раздумий.
У них с Айнчане была еще одна интимная встреча, и молнией вспыхнуло блаженство, правда немного торопливое. Сама эта комната с кроватью, на которой совокуплялось невесть сколько пар, мало располагала, по правде сказать, к бурному излиянию романтических чувств. И снова, оставшись в одиночестве, Хосе Мари заметил, будто что-то у него внутри изо всех сил пытается переломить его, что мачта начинает гнуться, а весь корабль вот-вот пойдет ко дну. Некоторое время спустя Айнчане перестала ему писать. Что ж, наверное, нашла кого-то другого. Такое случается нередко. Беда в том, что в тюрьме пережить это тяжелее.
121. Разговоры в комнате для свиданий
Вначале – в самом-самом начале – Мирен ездила на свидания с Хосе Мари два, а то и три раза в месяц. Из дому она выходила решительным шагом, настроенная геройски, и буквально рвалась в бой. Едва завидев здание тюрьмы, хмурила брови и сжимала зубы. Высказывала свое недовольство грязью в комнатах для свиданий. Громко спорила по поводу того, истекли уже или нет отведенные им сорок минут. Ссорилась в зале для свиданий с тюремщиками, к которым обращалась на “ты”, упрекая за то, что “баскские заключенные” разбросаны по разным тюрьмам страны, как будто можно было винить в этом персонал – ведь это было все равно что ругать их за то, что они носят форму. Она, к примеру, спрашивала, почему они заставляют родственников совершать такие долгие поездки. Или: какая разница, пусть бы держали ее сына не в этой тюрьме, а где-то поближе к дому, все равно и там, и там сидел бы взаперти, а стены, они везде одинаковые. Сеньора, если вы желаете подать жалобу, направьте ее в… Здесь враждовали между собой разные языки, акценты, характеры… А однажды в Пикассенте после долгой и тяжелой дороги, когда у них прокололась шина – мы чуть не разбились насмерть! – ей не позволили войти в комнату для свиданий. Просто не позволили, и все. Во всяком случае, так она рассказывала потом в поселке. И она вроде бы поутихла. И вправду поутихла? Если бы! Просто стала выпускать пар в автобусе – как по дороге туда, так и обратно. Но гневу своему все-таки полной воли уже не давала. Со временем она научилась держать при себе свое возмущение, научилась терпеть.
К концу первого года Мирен взяла за правило навещать Хосе Мари только раз в месяц. И продолжала соблюдать такой распорядок до сегодняшнего дня с редкими исключениями – скажем, когда у Аранчи случился удар. Три месяца Мирен выхаживала дочь и не могла приезжать к сыну. А Хошиан? Он сопровождал ее в лучшем случае пару раз в год. Поначалу ездил чаще, но они вечно ссорились.
Хосе Мари и Мирен беседовали на баскском и про некоторые вещи говорили загадками и намеками, боясь, что их диалог записывается на пленку.
– Хосечо покинул нас. Отпевание в понедельник. Сам знаешь, почему так случилось. Быстротечный рак.
– А мясная лавка?
– Там теперь все дела ведет Хуани. А что ей остается? Покупатели-то идут. Мы ей помогаем чем можем.
Хосе Мари не мог не заметить, как старается мать поднять ему настроение. Видел и то, с какой гордостью она рассказывает обо всем, что происходит в поселке, перечисляя имена знакомых, которые спрашивали про него и передавали ему привет.
Однажды, приехав к нему в праздничные дни, сообщила:
– Тот, из таверны, попросил у меня твою фотографию. И теперь я знаю, зачем она ему нужна. Ты вместе с другими – прямо на фасаде мэрии. Огромные портреты. А снизу имена. Посредине плакат с требованием амнистии. Я каждое утро иду туда и здороваюсь с тобой. И как возвращаюсь от мессы, тоже первое, что вижу, твое лицо. Меня то одни останавливают, то другие. Обними, говорят, Хосе Мари от нашего имени. И не нужно ли тебе чего – только, мол, скажи. Кассирши не хотят брать с меня денег. А я им: нет уж, возьмите, пожалуйста. В конце концов все-таки берут, потому что видят, что я не хочу одалживаться. Но все равно, если я прошу два килограмма картошки, дают иногда и четыре за те же деньги. А то и салат сунут в сумку, хотя aita приносит домой с огорода свой. В рыбной лавке то же самое. Недавно подарили мне морского леща. Ну что ты, зачем, говорю я хозяйке. А она ни в какую обратно не берет. Или вот еще: как-то раз перед мэрией собралась толпа молодежи и вас до небес превозносили. У меня аж мурашки по коже побежали. Бродячие музыканты останавливаются перед нашим домом и какой-нибудь номер нам специально посвящают. Я со своей стороны прошу святого Игнатия, чтобы он о тебе позаботился. Часто ему молюсь. Уж ты храни мне его, говорю. Как закончится месса, так я еще на немного остаюсь одна в церкви и беседую с ним. Недавно подошел ко мне дон Серапио. Он, дескать, тоже молится о тебе, а потом передал для тебя благословение.
– Мне написал сама знаешь кто. В мэрии левые abertzale вроде как хотели бы назвать одну улицу в честь нас с Хокином.
– Ой, а я и не знала.
– Здорово было бы, да хрен у них получится. Считается, что это будет самой настоящей пропагандой.
– Да ну их, понимали бы чего.
Годы и морщины. Годы и седина, да и волос все меньше.
Мирен однажды:
– Послушай, а ты питаешься-то нормально?
– Ем, что дают.
– Знаешь, мне показалось, что ты вдруг похудел. А про Пачо, ну, про того, который с тобой был, слышал?
– Последнее, что до меня дошло, будто он сидит в Касерес-Два.
– Предатель.
– С чего ты решила?
– Письмо вместе с другими подписал.
– А, ты про это. Значит, и он тоже?
– Жопу готовы лизать. Лишь бы их на перевоспитание отправили. Хуани тут на днях меня спрашивает: и твой тоже подпись поставил? Совсем с ума сошла, что ли? Чтобы мой Хосе Мари? Я так на нее глянула, что навряд ли она решится во второй раз об этом спросить.
В следующий раз Мирен увидела, что сын просто кипит от бешенства. С чего бы это?
– Аранча рассказала мне по телефону про Горку.
– Да мы ведь про него и сами ничегошеньки не знаем. Совсем редко с ним разговариваем.
– Он педик.
– Откуда ты такое взял?
И он ей рассказал. Горка живет с мужиком, и это будет похуже любого другого греха.
– В первый раз радуюсь, что сижу в тюрьме, не то даже не знаю, что бы я с ним сделал.
– Ох, отец узнает, сильно расстроится. Что тебе сказать, сынок, все у нас выходит как-то наперекосяк. Судьба такая, видать.
– А что люди в поселке скажут? Нет уж, лучше здесь торчать, чем это услышать.
Хосе Мари еще долго, сжав кулаки, поносил брата:
– Он с малолетства был пыльным мешком шарахнутый. А теперь тебя превратил в мать пидора, а меня – в брата пидора и позорит всю нашу семью. Я, кстати, все еще жду, когда он наконец удосужится меня навестить.
Случайные болезни, неурядицы в семье, всякого рода неожиданности иногда мешали Мирен съездить к сыну в тюрьму. Хотя случалось такое редко. И как она поступала тогда? Понятно как, выбирала другой день, чтобы возместить пропущенный, и ездила в тюрьму по выходным два раза за один и тот же месяц. Даже если бы пришлось ползком ползти, она повидала бы сына. А если его переведут на Канары, как эти сволочи однажды пообещали? Ничего страшного, научусь плавать, с меня станется.
Она никогда не показывала своей печали, всегда выглядела сильной и решительной и только один раз, один-единственный раз за долгие годы потеряла в зале для свиданий свою железную выдержку. На глаза накатили слезы, дрогнул голос. И Хосе Мари, увидев это, почувствовал что-то вроде ужаса/сострадания и не знал, что сказать. Он никогда не забудет этой встречи, которая окончательно обрушила у него внутри то, что уже несколько лет как начало расшатываться, после того как девушка из Ондарроа обучила его физической любви.
– Сейчас Аранчу поместили в хорошую клинику в Каталонии. Люди-то наши из поселка расстарались, конечно. У меня просто слов нет. И в “Аррано”, и во всех других барах и магазинах поставили кружки для сбора пожертвований в ее пользу. Так что о деньгах нам думать уже не надо.
– А врачи, они-то что говорят?
– Пытаются нас обнадежить, но я читаю у них в глазах правду. Умереть она вряд ли умрет, но ни говорить, ни ходить – вообще ничего – никогда уже не сможет. Она даже питается через зонд – вот сюда, в живот ей вставили.
Именно в этот миг она зарыдала, и голос у нее сорвался. Она закрывала лицо руками. А по другую сторону перегородки Хосе Мари упер руки в стекло и не знал, что сказать, а только повторял: ama, ama. Такой крепкий на вид, а так растерялся в этой ситуации. В мощном теле таился беспомощный ребенок, хотя сейчас он и отдаленно не напоминал того парня, каким был раньше. Через несколько минут Мирен обрела прежнее спокойствие, заговорила на другие темы и держалась как ни в чем не бывало до самого момента прощанья.
Пробежали годы, одно свидание следовало за другим.
– Я его поздравила. Он был такой довольный. И очень элегантный. В сером костюме, при галстуке. В следующий раз, если не забуду, привезу фотографии. А мы ждали на улице, в мэрию не заходили. Время спустя он вышел оттуда со своим мужем. Знаешь, а муж этот такой симпатяга. У него есть дочка. Но история очень печальная. Расскажу как-нибудь потом. У дверей на лестнице их ждала куча друзей – и давай осыпать рисом. Они увидели, что мы стоим на другой стороне улицы, и сразу к нам, а я ведь совсем не знала, как Горка отнесется к тому, что мы тоже приехали. Да, будь оно все неладно, вот так взяли и приехали. Отец меня то и дело дергал, как только мы выехали из поселка. Он думал, что я начну ругать Горку. А я ему: да замолчи ты наконец. Между прочим, в Бильбао нас отвез на своем пикапе муж Селесте. Он, бедняга, до двенадцати ночи прождал потом на улице. Если бы не он, ни за что не смогли бы посадить Аранчу в машину. Потому что отец твой стал до того неуклюжим, что и описать нельзя. Так вот, все прошло чудесно. Ужин – мы ведь остались на ужин, не отказываться же было? – по первому разряду, и я сидела рядом с Горкой в своих новых туфлях. Хорошо все было, очень даже хорошо. Ну что тебе еще сказать? Да, вот такая с нами со всеми случилась история, но что случилось, то случилось. Хуани говорит, что бывают вещи и похуже. Я это дело много раз обсуждала со святым Игнатием, и он считает, что я все сделала правильно.
– Тебе кажется, что брат счастлив?
– По-моему, да.
– Тогда ставим точку. И не будем больше об этом говорить.
122. Твоя тюрьма, моя тюрьма
Сидя в своей камере, Хосе Мари, которому уже исполнилось сорок три года, семнадцать из которых он провел в тюрьме, вышел из рядов ЭТА. В один из многих и многих дней, перед тем как лечь спать, он бросил взгляд на фотографию, присланную сестрой, и сказал себе: всё, хватит. Да, вот так без лишних затей. Никто об этом не узнал, потому что он никому не сообщил о своем решении. Ни товарищам, ни родным. Никому. И случилось это за полгода до того, как организация объявила об окончательном отказе от вооруженной борьбы.
Он вышел из ЭТА – и хорошо проспал всю ночь. Его убеждения дали трещину еще какое-то время назад. Влияло все: тюремное одиночество, сомнения, которые словно летние комары надоедливо вились вокруг; ряд убийств, которые, как ты ни старайся, не удавалось уложить во все более узкое русло привычных оправданий; товарищи, которых поначалу он считал дезертирами, а сейчас стал понимать и в глубине души даже восхищаться ими.
Всё, хватит. Дальше – без меня. И ни один мускул не дрогнул на его лице, когда несколько месяцев спустя он увидел по телевизору трех типов с опущенными на лица капюшонами. Они объявили, что ЭТА решила окончательно отказаться от вооруженной борьбы. Нет, их слова не оставили его равнодушным. Просто, как он теперь считал, к нему это напрямую не относилось.
Один товарищ, выглядевший смущенным и растерянным, спросил, что по этому поводу думает Хосе Мари.
– Ничего не думаю. Зачем мне про это думать?
– Черт, ты стал совсем другим человеком.
В прежние времена он то и дело затевал споры, обсуждал любую новость то с тем, то с этим. Сейчас же из него лишнего слова было не вытянуть, а случались дни, когда он и вовсе молчал, словно воды в рот набрал. Хосе Мари искал одиночества и все о чем-то размышлял. Выглядел спокойным, но это было спокойствие рухнувшего дерева. А его сознательное одиночество – одиночеством человека, который с каждым днем чувствовал себя все более усталым. И не только усталым, но и во всем сомневающимся. Его раздумья отражали состояние души, а там постепенно переставали звучать лозунги и веские доводы, вся это словесная/эмоциональная галиматья, которая на протяжении долгих лет мешала ему разглядеть подспудную истину. В чем заключалась эта истина? Понятно в чем. В том, что он творил зло, убивал людей. Ради чего? Ответ наполнял его сердце горечью: выходит, что просто так. Столько крови пролито – и ничего, никакого тебе социализма, никакой независимости, шиш тебе с маслом. У него сложилось твердое убеждение, что сам он стал жертвой мошенничества.
Надеюсь, моя мать, большая почитательница святого Игнатия, знает, что тот в молодости был воином. И убивал? Хосе Мари искал сведения об этом в энциклопедии, имевшейся в тюремной библиотеке. Но ничего не нашел, хотя была у него такая уверенность: да, Игнатий убивал – и тем не менее стал святым. Да, убивал, но сейчас, по всей видимости, пребывает на небесах.
Перемены, случившиеся с Хосе Мари, объяснялись не полученными в бою ранами и не чтением богоугодных книг. Сам он считает, что причин было много. А также причин, породивших эти причины, которые, в свою очередь, порождали новые и привели к нынешней ситуации, когда человек, оказавшись запертым в четырех стенах, страдает под грузом того, что он сотворил во имя принципов, которые кто-то другой придумал, а он послушно и наивно подхватил.
Год за годом он цеплялся за надежды (ближайшие выборы, “пакт Лисарра”[122], переговоры с испанским правительством, вмешательство в конфликт международных сил), которым так и не суждено было сбыться. А здесь, в тюрьме, все подчинялось раз и навсегда заведенному порядку: заканчивался один год, и начинался следующий. И вдруг Хосе Мари получил эту фотографию – и впервые увидел сестру в инвалидной коляске. Последний удар топора, сваливший дерево. Или корабельную мачту, сравнивай с чем хочешь.
Аранча прислала ему свою фотографию обычной почтой. В сопровождавшем фотографию письме, написанном, как всегда, старательным почерком эквадорки, Хосе Мари прочитал:
Я уже давно прошу мать, чтобы она отвезла тебе мое фото. Не хочет ни за что. Говорит, что надо подождать, что при последних свиданиях ей показалось, будто настроение у тебя неважное. Но мне хочется, чтобы ты увидел, какой я стала. К чему это скрывать? Если уж говорить начистоту, то я тоже видела тебя на фотографии облысевшим и со вторым подбородком. Ты становишься все больше похож на отца, во всяком случае, у всех мужчин из нашей семьи лица довольно глупые.
Бедная сестра. Он не перестал любить ее, даже когда она вышла замуж за этого чертова испанца из Рентерии, который в конце концов бросил ее. Хосе Мари прошиб холодный пот, едва он вытащил фотографию из конверта. Проклятие, проклятие, проклятие. Теперь-то он понимал: до сих пор голова его отказывалась вживую вообразить то, что ему было известно по описаниям. Сестра. Вот она, горькая, разящая наповал правда: беспомощная больная женщина в инвалидном кресле.
В момент съемки Аранча смотрела прямо в объектив. И теперь она смотрела на Хосе Мари с бумажного квадратика. Из-за улыбки глаза чуть прищурились и казались меньше, чем ему запомнилось по прошлым временам. Рот вроде бы чуть перекошен? А сама манера улыбаться – неестественная, и что бы они мне ни говорили, это типично для тех, кто не способен управлять мускулами лица. Возраст тоже дает о себе знать – морщины, сильно поседевшие волосы. Их, к сожалению, коротко подстригли. Такая прическа сестру еще больше портила. На коленях – айпэд. Одна рука скрючена, на ней браслет, похожий на игрушечный. На одной ступне что-то вроде ортопедического носка, или это повязка – понять трудно.
В том же письме Аранча писала:
У тебя твоя тюрьма, у меня своя собственная. Моя – это мое тело. Мне на долю выпало пожизненное заключение. Ты в один прекрасный день выйдешь на волю. Мы не знаем когда, но ты выйдешь. А я из моей тюрьмы не выйду никогда. Есть еще одна разница между тобой и мной. Ты находишься там за то, что ты сотворил. А я? За что мне такое наказание?
Эта последняя фраза, вернее, несколько последних фраз поразили Хосе Мари в самое сердце. В тот день он отказался выходить на прогулку. Избегал любых разговоров. Почти ничего не ел. Не пошел в библиотеку, ставшую в последнее время для него излюбленным убежищем. Незадолго до того, как лечь спать, снова стал разглядывать фотографию и решил выйти из рядов ЭТА, никому о том не сообщая, ни товарищам по заключнию, ни в организацию.
Ни матери.
Которая, кстати, в следующие свои посещения, уже зная, что Аранча послала ему свою фотографию, показала сыну и другие. Аранча на площади в поселке, Аранча с сиделкой, с отцом у калитки, ведущей на огород, с Горкой и его мужем в день свадьбы; Аранча дома на кухне; а вот она делает несколько неуверенных шажков в кабинете физиотерапии. Эти фотографии Хосе Мари разглядывал, делая серьезные, заинтересованные, иногда шуточные комментарии, но они не произвели на него такого сильного впечатления как та, самая первая.
Сестра продолжала писать ему, но нерегулярно. Иногда он получал от нее два письма за одну неделю, а следующего ждал месяц. Так прошел год. В начале января Аранча прислала новую фотографию. На обороте можно было прочесть: “Здесь я со своей лучшей подругой”. За инвалидной коляской стояла Биттори, хотя и не такая веселая, как Аранча, но все-таки улыбающаяся. Хосе Мари с трудом узнал жену Чато в этой худой женщине, которая выглядела очень неважно. Какая она стала старая. И постарела куда сильнее, чем наша мать. В письме, сопровождавшем фотографию, он нашел объяснение: “Она очень больна”. И двумя строками ниже:
Мне она рассказывает все. Мы видимся почти каждый день. Мы очень подружились. Она знает, что жить ей осталось недолго. И отказывается лечиться. Для чего, если никаких надежд на выздоровление она не питает? Биттори сказала мне, что пока кое-как цепляется за жизнь, потому что ждет от тебя человечного поступка. Больше ей ничего не надо. Твоя неуклюжая и обиженная судьбой сестра просит тебя об этом. Не разочаровывай меня. Иными словам, попроси у нее прощения. Неужели тебе так трудно? Мне будет горько, если ты этого не сделаешь.
Ох уж эти женщины, как здорово они умеют ловить нас в свои сети. Лежа на койке в камере и ни о чем не думая, Хосе Мари смотрел в окно на квадратик голубого неба. Ему не хотелось двигаться, не хотелось вообще ничего делать – только вот так лежать, заложив руки за голову. Наконец появились какие-то мысли. Скорее образы. Время вдруг очень быстро стало прокручиваться назад. Теперь оно превратилось в пленку, которая показывала его жизнь от настоящего к прошлому. Вот он вышел из одной тюрьмы и попал в другую, потом в следующую, его били, потом арестовали, потом он снова включился в вооруженную борьбу. Вот дождливый день, когда Чато глянул ему в глаза, вот паб, где он впервые выстрелил в человека, вот Франция, а вот их поселок, ему самому девятнадцать лет – и тут резвый бег мысленных картинок внезапно остановился. И он нарисовал себе иную судьбу, которая вела к исполнению главной мечты его жизни – он вошел в состав команды по гандболу клуба “Барселона”.
И вдруг Хосе Мари понял: чтобы попросить прощения, надо обладать куда большей смелостью, чем для того, чтобы выстрелить из пистолета или привести в действие бомбу. И то и другое может сделать кто угодно. Достаточно быть молодым, легковерным и иметь горячую голову. А чтобы искренне, хотя бы только в словесной форме, попытаться загладить причиненное тобой зло, надо быть до чертиков смелым. Но на самом деле Хосе Мари останавливало что-то совсем другое. Что? А хрен его знает. Ладно, салабон, давай уж признавайся. Да, меня пугает то, что старуха покажет письмо какому-нибудь журналисту и начнется обычный цирк с раскаявшимся террористом, и в поселке его осудят, а из таверны “Аррано” уберут, к чертям собачьим, его фотографию. Да и мать хватит кондрашка.
123. Круг замкнулся
День был пасмурный. Биттори высунулась на балкон, чтобы проверить, какую погоду нагоняло к ним море. Темнота от одного края неба до другого. Дождь лупил как бешеный, так что сама ты до кладбища не доберешься, давай я отвезу тебя на машине. А ведь еще утром временами проглядывало солнце. Биттори, как обычно, поболтала с Аранчей на углу площади. Ближе к полудню села на автобус и, не успев доехать до дома, увидела, что начался страшный ливень. И с тех пор не прекращался.
Шавьер по телефону:
– И как тебе только в голову пришло ехать на кладбище, погляди, что делается на улице?
– Я должна рассказать Чато очень важные новости.
– Мама, ради бога, оставь эти игры.
Он заехал за ней в четыре. Плащ на плечах мокрый. Она взяла зонтик и сунула в сумку письмо. В глазах у Биттори то и дело вспыхивали искры счастья. А если не счастья, то просто радости. Причину Шавьер знает. Вчера, уже довольно поздно вечером, они с сестрой заехали к матери по ее просьбе. Встревоженная Нерея спросила, что случилось и чем вызвана такая срочность. Тогда Биттори все им рассказала, продемонстрировала и прочитала письмо, едва справляясь с эйфорией, в то время как у сына и дочери лица постепенно мрачнели.
– Значит, именно этого ты так страстно желала?
– Именно этого, дочка.
– Ну вот, твоя мечта сбылась. Можешь успокоиться.
Да, но теперь надо сообщить об этом Чато. На лестничной площадке Шавьер заметил, что мать вышла из квартиры в тапочках.
– Слава богу, что ты вовремя мне сказал.
Время от времени Шавьер отводил глаза от дороги и поглядывал на Биттори. Ею можно было только восхищаться, если вспомнить, как тяжело она больна. Дворники – щелк-щелк – безостановочно делали свое дело.
Биттори:
– Смотрю на этот дождь, и ты даже вообразить не можешь, о чем я думаю.
– О том, что точно так же лило, когда убили отца.
– Как ты догадался?
– С тех пор много раз шел такой же сильный дождь.
Он подвез мать почти к самым кладбищенским воротам. Посмотри, это ведь настоящий потоп. Биттори медленно и не без труда вылезла из машины, наверное, ее мучила боль в животе, в чем она не желала признаваться сыну. Может, она хочет, чтобы он сходил на кладбище вместе с ней? Нет. Ему ждать здесь? Как желаешь, дольше чем на полчаса я не задержусь.
Разговор шел под шум дождя – дождевые капли со вкрадчивой яростью разбивались о землю и с дробным перестуком – о зонтик Биттори. Слава богу, что нет ветра. СКОРО О ВАС СКАЖУТ ТО, ЧТО СЕЙЧАС ГОВОРИТСЯ О НАС: ОНИ УМЕРЛИ!!! Это звучит зловеще и обыденно. Людям не хочется возвращать планете данные им на время атомы. А ведь на самом-то деле странное и исключительное явление – это как раз быть живым. Шавьер подождал, пока мать, одетая, как и положено, в черное, скроется за воротами кладбища, а потом поехал искать, где бы припарковаться.
Биттори несла в сумке кусок пластика и платок, правда непонятно зачем. Не стану же я садиться на залитую водой плиту?
– Чато, Чатито, ты меня слышишь? Дождь такой же, как и в тот день, когда тебя убили. Но сегодня я принесла тебе новости.
И она рассказала ему, стоя под зонтом у края могилы, что без Аранчи, без ее доброго посредничества, она, Биттори, не сумела бы замкнуть этот круг. Аранча смягчила сердце террориста, уговорила сделать нужный шаг. И он его сделал. Зачем это было нужно Аранче? Затем, что она его любит. Он ее брат, и я это понимаю. Она не оправдывает того, что он натворил. Напротив, судит его очень сурово, не миндальничая. Но он ее брат. Она пытается всеми средствами помочь ему освободиться от себя самого, вырваться из чудовищного прошлого. И когда Аранча узнала о муках совести, которые он испытывает в тюремной камере, она написала мне на своем айпэде: “Что-то в душе у него меняется. Он много думает. Это хороший признак”.
Но Хосе Мари испытывал еще и страх.
– И знаешь, что ему пришло в голову?
Послать Биттори нечто символическое, вместо того чтобы напрямую попросить прощения. Наверное, он очень одинок, этот парень. Нет, конечно, он уже давно стал взрослым мужчиной, ведь раньше Хосе Мари вообще ни о чем не думал, а сейчас, судя по всему, думает слишком много. Аранча сразу написала брату, что предложенный им вариант Биттори наверняка не понравится.
– И разумеется, он мне не понравился. Дело было пару недель назад. Прости, что я за все это время ни разу не смогла тебя навестить. На беду, пока накапливались всякого рода новости, мне приходилось еще и бороться с болью, и я просто не добралась бы до кладбища.
Хосе Мари собрался послать ей что-то. Что именно? Она понятия не имеет. Что-то, что может поместиться в конверте. Фотографию, рисунок… Иными словами, он послал бы это что-то в знак того, что просит у нее прощения.
– Тогда я сказала Аранче, что в такие игры не играю, мне не до головоломок. И в ответ она написала на айпэде, что на моем месте тоже не согласилась бы. А причина в том, что этот дурень боится: а вдруг он пришлет мне письмо с просьбой о прощении, а я со всех ног помчусь показывать письмо журналистам. Вот ведь, взбредет такое в голову! Крыша у него, видать, совсем поехала за те годы, что он просидел в тюрьме. У меня и мысли ни разу не возникло, что можно хоть о чем-то говорить с журналистами. Только этого нам и не хватало – засветиться в газетах, а еще – чтобы они лезли ко мне домой, фотографировали и засыпали вопросами.
Короче, Биттори ответила “нет”. Вскоре Аранча спросила, может ли она твердо обещать, что вся история останется в тайне. Биттори обещала, правда, слегка обиделась, что кто-то ставит под сомнение ее честность. И вот вчера утром пришло письмо.
– Хочешь прочитаю?
И она прочитала (хотя знала его почти наизусть):
Kaixo, Биттори!
По совету сестры я решил написать тебе. Я не привык много говорить, поэтому сразу беру быка за рога. Я прошу у вас прощения – у тебя и у твоих детей. Мне горько, что все так обернулось. Если бы у меня была возможность повернуть время вспять, я бы это сделал. Но нет такой возможности. А жаль. Может, ты меня простишь. Свою кару я несу.
Желаю тебе всего самого лучшего.
Хосе МариДождь падал на могилы, на асфальтовую дорожку, на темные деревья по краям дорожки. Мокрые могильные плиты и свежий запах тишины. Над городом и дальше – над горами и далеким морем растянулись тяжелые тучи. На всем кладбище не было видно ни одной человеческой фигуры.
– Хоть ты-то меня понимаешь? Мне были очень нужны эти его слова. Моя причуда. Скоро я встречусь с тобой, Чато. Зато теперь знаю, что уйду спокойно. А ты тем временем погрей мне место в могиле, как раньше согревал постель. Ладно, пока я тебя оставлю, меня ждет Шавьер. Дети знают, что, как только представится такая возможность, они должны будут перенести наш с тобой прах в поселок. В этом отношении ты можешь быть спокоен. И будем надеяться, в день моих похорон такого дождя, как сегодня, не случится. Чтобы не вымокли те, кто придет проводить меня в последний путь. И цветы тоже.
Шавьер вышел из машины, чтобы, помахав руками, дать ей знать, что ждет ее здесь, метрах в тридцати от ворот. Дождь так и не утих. А теперь куда? Никуда, домой.
– Привет тебе от отца.
– Тебе нравится разговаривать вот так, в одиночестве, да?
– Меня это утешает. А главное, вокруг нет людей и никто моих слов не слышит. Так что, если ты ненароком решил, что я рехнулась, можешь успокоиться.
– Я ничего такого не говорил.
– Да, пока не забыла. Чато спрашивает, когда ты наконец женишься. Он считает, что давно пора.
В машине повисло молчание. Они стояли перед красным сигналом светофора на туманно-серой улице. Шавьер обернулся и посмотрел на мать:
– Вот теперь мне и вправду кажется, что ты рехнулась.
Загорелся зеленый свет, и Биттори расхохоталась.
124. Промокла до костей
Ненастный день. Дома у Мирен обычные послеобеденные дела. Она только что закончила мыть посуду, повесила на крючок за дверью фартук и высунулась в кухонное окно, чтобы проверить, не утих ли дождь. Настоящий потоп. И, войдя в гостиную, Мирен сказала дочери: сегодня с прогулкой у тебя ничего не получится:
– Надо небось позвонить Селесте, чтобы зря сюда не тащилась.
Сонный, молчаливый Хошиан остался на кухне и вытирал посуду. Аранча, не обращая внимания на то, что говорит мать, стучала по клавишам своего айпэда.
– Ну, и что ты там все пишешь?
Дочь повернула в ее сторону экран: “Ты должна кое-что узнать, хотя это причинит тебе боль”.
Мирен с опаской:
– Если дело связано с этой Чокнутой, лучше ничего мне не говори. От тебя чего угодно можно ожидать, не хватает только, чтобы в один прекрасный день ты привела ее сюда.
Сердитый палец застучал по клавишам быстрее: “В этом доме ты одна ничего не знаешь”.
– Чего это я не знаю? О чем ты? Может, хватит комедию-то ломать?
“Хосе Мари попросил у нее прощения”.
– Эй, Хошиан, ты знал об этом?
Голос Хошиана из кухни:
– О чем?
– Не валяй дурака. О письме Хосе Мари.
– Ну знал. Мне рассказала Аранча еще перед обедом.
– И какого черта ты молчал?
– Какая разница? Вот она сейчас взяла и тебе все сообщила.
Ах, Мирен, Мирен, вот уж такого ты никак не могла ожидать, – ворчала – ругалась? – она сквозь зубы. Потому что такого просто не может быть, ни за что не поверю. Эти недоумки что-то не так поняли.
– Я была у него десять дней назад. Он и словом ни о каком письме не обмолвился.
На церковной колокольне серо и печально пробило три часа дня. Тук-тук-тук – отбивал раздраженный палец Аранчи по клавишам айпэда, лежавшего у нее на коленях. “Он просто не решается признаться тебе. Он тебя боится”.
Устав все время тянуть шею и предвидя новые откровения, Мирен пододвинула свой стул поближе к инвалидному креслу. Теперь она с самым серьезным видом ждала: пусть Аранча расскажет ей все. В тоне ее не слышалось больше ни злобы, ни желчности. Правда, лицо напряглось и выражало обиду. На экране одно за другим появлялись слова, и каждое новое еще больше ранило Мирен.
“Он просит у нее в этом письме прощения. Биттори прочитала мне его сегодня утром”.
– А вдруг она сама его себе написала, тогда как? Все знают, что она сумасшедшая.
“Я узнала почерк Хосе Мари. Мой брат – не единственный в нашей семье, попросивший у нее прощения”.
– А кто еще?
“А это ты спроси на кухне”.
– Эй, Хошиан, поди-ка сюда. Давай признавайся, что вы там творили за моей спиной.
Хошиан вошел в гостиную, вытирая мокрые руки о свитер. Не повышая тона, он коротко и ясно все объяснил, после чего отправился вздремнуть.
Мирен дочери:
– Что-нибудь еще?
“Это все”.
Чуть позже муж лежал в постели, а дочка, лишенная способности говорить, смотрела новости по телевизору, поэтому Мирен не пришлось ничего им объяснять. И не услышала никаких “куда ты собралась?”, никаких “до свидания”, ничего не услышала. Чтобы не заходить в спальню – а вдруг Хошиан проснется? – она выскочила на улицу в чем была. При этом дверь за ней лишь очень осторожно и скорбно щелкнула – ничего общего с обычным сердитым стуком.
Куда она шла? Дождь лил как из ведра. Совсем как в тот день, когда убили этого. Но ведь раз его убили, значит, было за что. И насколько мне известно, мой сын тут ни при чем. Непонятно, за что он должен просить у нее прощения. Перейдя улицу, Мирен досадливо прищелкнула языком. Надо было взять зонтик, но теперь уж я возвращаться не стану. Она чувствовала себя преданной, жертвой семейной интриги, и, само собой, сейчас ей казалось, что дождевые струи попадают только на нее одну.
Мясная лавка была закрыта. Ничего удивительного – еще нет четырех. Она увидела свет внутри и вошла – не в первый раз – через дверь в подъезде. Уж Хуани-то меня поймет. Если не она, то кто? Глухой полумрак пах жиром, мясом, колбасой. Соседи, видать, к этому уже успели привыкнуть. Она позвонила, звонок прозвучал пронзительно и почему-то противно. Вот сейчас откроется дверь и на пороге появится Хуани, готовая выслушать потоки ее жалоб, ведь Мирен надо во что бы то ни стало выплеснуть все наружу, излить душу.
Так нет же, дверь никто и не думал открывать.
– Кто?
– Это я.
– Кто?
– Я, Мирен.
Пусть минутку подождет. Странно. Если она дома, то почему не открывает сразу? Но как только Мирен увидела ее распущенные волосы, тотчас догадалась: Хуани не одна. Поэтому надолго гостья не задержалась. Поздоровалась с ним. Несмотря на возраст, выглядит он вполне сносно. Значит, эти двое сошлись? Для вида Мирен купила несколько ломтиков одного и сто граммов другого.
– Прости, что заявилась в такое время, просто я слегка закрутилась. Заплачу завтра.
– Да не беспокойся ты.
И Мирен снова вернулась на улицу, вернулась в тот же самый ненастный день, к тем же самым лужам. Прежде чем войти в церковь, швырнула пакет с покупками в урну. Вся мокрая, она села на свое привычное место. У подножия алтаря горели поставленные прихожанами свечи. А сколько свечей зажгла она сама, прося милости у Господа, прося, чтобы в их доме царило благополучие, чтобы Господь защитил ее детей.
В церкви никого не было, кроме промокшей до костей Мирен. Если выйдет священник, я уйду. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Только со статуей святого Игнатия Лойолы, которая стоит вон там на выступе. Так-то, Игнатий, такие наши дела. Удружил ты мне. А ведь в итоге именно я и останусь главной злодейкой.
Мирен осыпала его горькими упреками. Вслух, шепотом? Нет, как всегда, беззвучно. Она усомнилась, что Игнатий и вообще годится на роль нашего главного святого покровителя. Тебя не туда занесло, Игнатий. Вот скажи, почему мы должны у кого-то просить прощения? А преступления тех, из GAL, с ними как быть? Разве кто-нибудь попросил прощения за то, что творили они, за пытки в комиссариатах и казармах, за то, что заключенных раскидали по всей стране, за то, что они угнетали баскский народ? А если мы делали что-то очень уж плохое, почему ты вовремя не остановил нас? Ты позволил нам поступать именно так, а не иначе, но теперь оказывается, что все жертвы были принесены напрасно, что тысячи басков, любивших все свое, национальное, ошибались как последние идиоты. Поставь мою дочку на ноги, вызволи сына из тюрьмы – иначе я никогда больше не скажу тебе ни слова. Черт побери, неужто ты не видишь, что я тоже страдаю?
Она поднялась. На скамейке, там, где она просидела десять или даже пятнадцать минут, образовалось сырое пятно. В церкви было холодно. Мирен внезапно пробрал озноб. Ой, господи, как бы мне не заболеть! Она вышла на улицу – там лил дождь. Темное небо, скудное освещение и пустынные улицы. Мирен держалась поближе к деревьям, чтобы они заменили ей зонтик, но толку от них было мало. Случайно взгляд задержался на урне. Там по-прежнему лежал ее пакет с мясом. Она вытащила его и понесла домой, потому что мы не так богаты, чтобы швыряться продуктами.
125. Воскресное утро
Сколько уж недель Биттори не видела ее? Накануне она приняла решение. Если, проснувшись утром, обнаружит, что мисочки, поставленные с вечера на балконе – одна с водой, другая с кошачьей едой, – остались нетронутыми, то можно будет считать, что Уголек уже никогда не найдется. И что дальше? А дальше Биттори с тяжелым сердцем выбросит в мусорный контейнер не только эти мисочки, но и пуходерку, лоток с наполнителем, щетку – короче, все, что требуется для ухода за кошкой. Сегодня Биттори встала гораздо раньше обычного. И первым делом вышла на балкон. Еще не одевшись, она стояла и смотрела на чистое небо, широкую полосу моря, остров Санта-Клара, гору Ургуль и думала о том, как ей повезло жить именно здесь, в квартире с видом на залив, хотя напротив стоит еще один дом, закрывающий берег. Потом Биттори глянула в угол и убедилась, что к мисочкам никто со вчерашнего вечера не притрагивался.
Еще не было семи, когда Мирен услыхала, что Хошиан завез свой велосипед на кухню. Воскресенье. Что за дурацкая привычка протирать велосипед тряпкой и смазывать прямо в квартире. Как-то раз он спросил жену – в шутку? – не ревнует ли она его к велосипеду. Может, и вправду ревнует, потому что, если уж на то пошло, когда муж приласкал ее в последний раз? Господь свидетель, в жизни такого не было, даже когда он заделывал ей ребятишек! Весь запас любви он приберегает для своего велосипеда, для кувшина с вином в баре и для огорода. Мирен решила пока не вставать с постели, чтобы не столкнуться с Хошианом на кухне. У нее не было никакого желания вести сейчас разговоры. Спала она ужасно. Почему? Из-за музыки и фейерверка, а еще из-за компаний молодежи, которые ночь напролет куролесили на улице. Раньше ей нравились местные праздники. Теперь с каждым разом нравятся все меньше. Бум! Мирен услышала, как хлопнула входная дверь. Хошиан наконец-то убрался. Говорил он ей или нет, куда решил ехать? Нет, не говорил. Мирен еще пять минут пролежала под простыней, свернувшись калачиком, на случай, если Хошиан что-нибудь забыл и вздумает вернуться. Потом неспешно поднялась.
Биттори обнаружила на дне кофейника остатки вчерашнего кофе. И подумала, что если добавить немного молока и воды из-под крана, то на чашку хватит. Подогретый кофе и кусочек черствого хлеба – вот и весь ее завтрак. Убравшись в комнате и приведя в порядок себя саму, Биттори занялась кошачьими принадлежностями – засунула их в полиэтиленовый пакет. За один раз вынести все ей не удалось. Сначала выбросила в контейнер первую порцию, потом вторую. И снова поднялась в квартиру, чтобы прихватить сумку и судок, куда положила порцию вареного мяса с картошкой, перцем и томатным соусом, потому что решила поесть в полдень у себя дома в поселке. Шагая по улице, она почувствовала себя как-то необычно. Болей не было, зато была усталость, и постоянно кружилась голова. Поэтому, прежде чем дойти до автобуса, она несколько раз останавливалась, чтобы собраться с силами и отдышаться.
Селесте вошла в квартиру около девяти. У нее есть ключ. И ей нет нужды звонить в дверь. С годами она стала почти что членом этой семьи. Приходит, здоровается, подбадривает всех своей веселостью и сразу же берется за дело. Первая ее обязанность – душ для Аранчи. С тех пор как та научилась самостоятельно стоять, хотя и держась здоровой рукой за выступ на стене, справляться с этим было легче. Правда, Мирен и Селесте действуют до крайности осторожно. Одна держит Аранчу, вторая намыливает. Работа привычная. На все про все у них уходит не больше пяти минут. Потом они вдвоем же и вытирают ее. Пока они вытирали бледное, располневшее тело, Аранча вдруг произнесла: ama. Мирен быстро выключила фен. Наверное, ей послышалось. Фен слишком шумел, поэтому уверенности у нее не было. Но Аранча повторила то, что сказала раньше. Это был ее и не ее голос, каким он запомнился матери из прежних времен. Но в любом случае – голос. Вполне внятный. Селесте разохалась-разахалась и всплеснула руками. Мирен вспомнила, что в младенчестве Аранча первым тоже произнесла слово ama, во всяком случае раньше, чем aita.
Было десять часов с минутами, когда Биттори сошла с автобуса. Музыка. Откуда? Она играла где-то рядом. А еще от дома к дому тянулись бумажные гирлянды. Ну и что удивительного в том, что люди хотят жить своей обычной жизнью? Сначала Биттори направилась к себе. Надо было поскорее избавиться от судка с едой. На углу она натолкнулась на бродячий оркестр, музыканты толпились на том самом месте, где давным-давно ее муж получил четыре пули. “Ах, красавица, красавица…” Зеленые рубашки, белые брюки. У того, что держит в руках барабан, на лице сияет пьяненькая улыбка, и кажется, будто он нарочно колотит так, чтобы заглушить игру своих товарищей. Чтобы обойти их, Биттори пришлось спуститься с тротуара на дорогу. Из группы зрителей до нее донесся веселый голос: “Привет, Биттори!” Она поздоровалась, не останавливаясь. Быстро обернулась, но так и не поняла, кто с ней заговорил.
Мирен уже начала поторапливать Селесте. Она ждала воскресного звонка от Хосе Мари. Ей нравится быть дома одной во время разговора с сыном. Поэтому она просит Селесте увезти наконец Аранчу. Голубое утро, праздник на улицах. Ступайте, ступайте, повеселитесь. Наконец зазвонил телефон. Пять минут – столько позволено заключенному потратить на разговор. Эх, если бы звонить ему могла она сама! Но это запрещено. Мирен не стала скрывать от Хосе Мари своего радостного возбуждения: Аранча сказала ama, и очень внятно сказала, кто знает, а вдруг еще научится говорить. Мирен все никак не могла справиться с волнением, и Хосе Мари тоже растрогался, хотя, как обычно, держался при этом спокойно. Новости? Никаких. Нет, пожалуй, одна все-таки есть. Он поговорил с врачом и решил оперироваться по поводу своего геморроя. Нет больше мочи терпеть. А теперь, когда начались жаркие дни, он мучился невыносимо. Мирен вскользь упомянула про праздник в поселке, но без подробностей, чтобы потом сына не терзали грустные мысли. Зато Мирен еще раз повторила, что после душа Аранча сказала слово ama. На этом истекли пять минут.
В поселке у Биттори не было микроволновки. Она вывалила содержимое своего судка в старую-престарую кастрюльку – но ведь ею еще можно пользоваться, можно же! – и сказала себе: сейчас я выйду на улицу, а еду подогрею, когда вернусь. Кроме того, она наметила себе купить в булочной полбатона.
Тем временем Мирен, чтобы не терять времени даром, достала противень, распределила на нем фарш, полила соусом бешамель, а сверху разложила разобранную на мелкие соцветия вареную цветную капусту. Когда вернусь от мессы, посыплю все тертым сыром и суну в духовку. А что касается этого велосипедиста, то, если опоздает, будет есть обед холодным.
Праздник, воскресенье, хорошая погода. Народу на площади гибель. Снуют туда-сюда детишки, взрослые собираются группками и болтают, а на выходящих сюда террасах баров и кафе нет ни одного свободного места. Густые липы бросают на асфальт приятную тень.
Биттори отыскала Аранчу с ее сиделкой там же, где и всегда. И нагнулась, чтобы поцеловать свою подружку. Совсем рядом церковный колокол пробил двенадцать, призывая прихожан к мессе. Селесте поспешила рассказать Биттори, что Аранча утром сумела произнести первое слово. Обе женщины посмотрели на нее с явным намерением заставить повторить утренний подвиг. Аранча, хотя и не без труда, доставила им это удовольствие. Растроганная Биттори схватила Аранчу за руку. И сказала, что все у той получится, что она, Биттори, желает ей этого от всего сердца и что надо во что бы то ни стало продолжать борьбу. Аранча улыбнулась своей перекошенной улыбкой и несколько раз тряхнула головой в знак согласия.
Уже почти два месяца как Мирен, являясь к мессе, не садилась на привычное место. Она сердилась на святого Игнатия и поэтому прошла в правую часть церкви, но потом все-таки вернулась на скамью рядом со статуей. Дон Серапио между тем что-то говорил своим старческим голосом – скучно, высокопарно, то и дело повторяясь. Все мессы у нас одинаковые, с этим никто спорить не станет. На скамьях сидели редкие прихожане. Молодежь? Вон там, впереди, две девчонки, вот и всё. Мирен мысленно поблагодарила святого, хотя и сухо, как будто хотела к чему-то его приготовить. Хорошее начало, Игнатий, но, как ты сам понимаешь, произнести одно-единственное слово – еще не значит научиться говорить, то есть по-настоящему говорить, это ведь совсем разные вещи, правда? Подождем немного. И вот что еще: ты уж постарайся, чтобы у него все нормально прошло с его геморроем. Больше ни о чем тебя не прошу, потому что вытаскивать его мне из тюрьмы ты, как вижу, не желаешь. Месса закончилась, и это оборвало ее мысленный монолог.
Биттори простилась с Аранчей и Селесте в их уголке на площади. Мирен вышла из церкви. Первая решила, не теряя времени даром, дойти до булочной, которая могла вот-вот закрыться, если уже не закрылась. Вторая спешила присоединиться к дочери и Селесте и, может, выпить с ними аперитив, а потом вернуться домой и заняться обедом. Две женщины заметили друг друга, когда их разделяло около пятидесяти метров. В этот миг солнце било Биттори прямо в глаза, она козырьком приложила ладонь ко лбу и – вот черт! – сразу поняла, что и я тоже ее увидела. Нет, ни за что не сверну с дороги. Мирен приближалась беззаботной воскресной походкой, держась в тени лип, – а эта, вон, уставилась на меня, смотрит во все глаза, но не дождется, я не сверну. Они шли прямо навстречу друг другу. И множество людей, собравшихся на площади, обратили на это внимание. Дети – нет. Дети продолжали резвиться и шуметь. Зато среди взрослых свился быстрый клубок шепота. Гляди, гляди! А ведь были подругами не разлей вода.
Встреча произошла недалеко от эстрады. Быстрое объятие. Обе секунду смотрели друг другу в глаза, прежде чем разъединиться. Было ли что-нибудь сказано между ними? Нет. Ни та ни другая не сказала ни слова.
Сноски
1
Отец (баск.).
(обратно)2
Мать, мама (баск.).
(обратно)3
Имеется в виду епископ Сан-Себастьяна Хосе Мария Сетьен (1928–2018), который не просто занимал неоднозначную позицию по отношению к деятельности баскских сепаратистов, но и откровенно выражал свою поддержку боевикам ЭТА. Неоднократно высказывался самым пренебрежительным образом о жертвах террора. В 2000 г. под давлением Ватикана был вынужден уйти в отставку “по состоянию здоровья”. В 2007 г. выпустил книгу “Баскский епископ и ЭТА”, где террористы представлены в роли революционеров. (Здесь и далее – прим. перев.)
(обратно)4
Грегорио Ордоньес Фенольяр (1958–1995) – лидер Народной партии, депутат Баскского парламента, один из самых влиятельных политиков Страны басков. Убит боевиками ЭТА.
(обратно)5
В городе Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария (Андалусия) находилась старейшая испанская тюрьма. В 1981 г. ее закрыли, а новый (самый большой не только в Испании, но и в Европе) комплекс исправительных заведений построили в нескольких километрах от города.
(обратно)6
Мус – испанская карточная игра, ведет свое происхождение из Наварры и Страны басков.
(обратно)7
Здесь: красавица (баск.).
(обратно)8
Послушай (баск.).
(обратно)9
Чато, послушай – пиф-паф (баск.).
(обратно)10
Патриот(ка), борец за независимость Страны басков (баск.).
(обратно)11
Змея, обвивающая топор, – символ ЭТА.
(обратно)12
Гастрономическое общество – закрытое мужское гастрономическое общество, существующее в Стране басков. Готовят там только мужчины. Первое появилось в 1843 г. В основном там собирались моряки после долгих плаваний, а также мужчины, решившие отдохнуть от своих жен. Сейчас в Сан-Себастьяне насчитывается около сотни таких обществ. В каждом имеются своя кухня и столовая. Каждый участник имеет свои ключи и может пригласить друзей на обед, приготовленный им собственноручно.
(обратно)13
Аурреску – традиционный церемониальный танец басков. Исполняется на разного рода торжествах.
(обратно)14
Простите (баск.).
(обратно)15
Целую (баск.).
(обратно)16
Привет (баск.).
(обратно)17
Чуррос – традиционный испанский десерт из заварного теста, их обжаривают во фритюре или выпекают; часто подаются в специальном заведении – чуррерие.
(обратно)18
Доностия (Сан-Себастьян) – оба названия города имеют официальный статус.
(обратно)19
Здесь: борцы (баск.).
(обратно)20
Да здравствует ЭТА (баск.).
(обратно)21
Пинчос – испанская легкая закуска, часто – маленькие бутербродики.
(обратно)22
Букв.: “Нет рассеянию” (баск.). Протест против того, что осужденные баскские боевики, как правило, отбывали наказание в тюрьмах, расположенных далеко от Страны басков.
(обратно)23
Доброе утро, красавица (баск.).
(обратно)24
Мк. 5:35–43.
(обратно)25
Бабушка (баск.).
(обратно)26
Дядя (баск.).
(обратно)27
Собаки (баск.) – презрительное название полицейских в Стране басков.
(обратно)28
Казармы гражданской гвардии в Испании представляют собой здания, где имеются и служебные, и жилые помещения, поэтому их называют “дома-казармы”. В отличие от обычных испанских полицейских и военнослужащих, многие гражданские гвардейцы вместе с семьями обязаны постоянно жить в таких домах-казармах, которые часто становились объектом террористов (89 раз).
(обратно)29
Праздник святого Хуана отмечается в ночь с 23 на 24 июня; напоминает славянский праздник Ивана Купалы.
(обратно)30
Букв.: стихотворцы (баск.); исполнители ими же сочиненных стихов и песен на баскском языке, обычно – импровизаторы.
(обратно)31
“Убирайся вон” (баск.).
(обратно)32
Морсилья – сорт кровяной колбасы.
(обратно)33
Лендакари – глава правительства в Стране басков (исп.).
(обратно)34
LAB (от баск. Langile Abertzaleen Batzordeak – Патриотические рабочие комитеты) – баскский профсоюз, считавшийся участником Движения за национальное освобождение басков. Был создан в 1974 г.
(обратно)35
Прощай (баск.).
(обратно)36
Чато стукач (баск., исп.).
(обратно)37
“Народ не простит” (баск.).
(обратно)38
Чаколи – слегка газированное белое легкое вино, производимое в Стране басков.
(обратно)39
Ситуация, когда заключенный отказывается выходить на прогулку и целый день проводит в камере (баск.).
(обратно)40
Инчауррондо – район в Сан-Себастьяне.
(обратно)41
“Батасуна” (баск. Batasuna – Единство) – сепаратистская националистическая социалистическая политическая партия в Испании и Франции, действующая в основном в Стране басков и Наварре; была основана в апреле 1978 г. под названием “Эрри Батасуна” (баск. Herri Batasuna – Единство народа) как коалиция левых политических сил националистического толка. В 2003 г. в Испании партия была запрещена решением суда, установившего ее связь с террористической группировкой ЭТА. “Батасуна” входила в список террористических лиц и организаций ЕС. В 2013 г. представители “Батасуны” во Франции заявили об окончательном роспуске партии.
(обратно)42
Последователи партии Харраи (от баск. jarrai – продолжать), молодежного крыла ЭТА; организация существовала с 1979 г.; в 2007-м была в Испании запрещена.
(обратно)43
Канья – в Испании маленький стаканчик пива.
(обратно)44
Черные (баск.) – прозвище агентов подразделения по борьбе с беспорядками автономной полиции Страны басков, носящих черную форму.
(обратно)45
“Свободу заключенным, полная амнистия” (баск.).
(обратно)46
Да здравствует свободная Страна басков! (баск.)
(обратно)47
КАС (от исп. Koordinadora Abertzale Socialista – Патриотический социалистический координирующий центр) – коллективный орган, объединивший значительную часть левых патриотических сил Страны басков; многослойная структура, состоящая из легальных, полулегальных и подпольных подразделений, сформировавшихся вокруг ЭТА и объединившихся в 1975 г. “Альтернатива КАС” – основополагающая программа Центра (1976), в дальнейшем в нее вносились изменения. В 1995 г. ЭТА заменила ее новой программой под названием “Демократическая альтернатива”.
(обратно)48
Ипарральде – французская Страна басков, Северная Эускади; Эгоальде – испанская, Южная Эускади.
(обратно)49
Девочка (баск.).
(обратно)50
В Испании дети при рождении получают двойную фамилию, которую сохраняют на протяжении всей жизни. Она не меняется даже при вступлении в брак. Записывается фамилия ребенка следующим образом: первая фамилия отца, а затем первая фамилия матери.
(обратно)51
Макето (от баск. maketo или makito – балбес, придурок) – так пренебрежительно называют баски тех, кто приехал в их землю из других областей Испании и не знает баскского языка.
(обратно)52
Икастола – тип государственного либо частного учреждения начального или среднего общего образования в испанской Стране басков, Наварре, а также во французской Стране басков, где обучение идет на баскском языке. Запрет на такое обучение был снят в 1960 г., после чего началось возрождение икастол, многие из которых стали пользоваться покровительством католической церкви.
(обратно)53
“Фортуната и Хасинта” – роман испанского писателя Бенито Переса Гальдоса (1843–1920); Альваро де Лаиглесиа (1859–1940) – кубинский писатель (родился в Испании), мастерски переплетал типичные для модернизма и романтизма элементы с элементами культуры Карибских островов.
(обратно)54
“Баскские солдаты” (баск.) – название народной песни, ставшей гимном левого крыла баскского сепаратистского движения.
(обратно)55
Девиз ЭТА – Bietan jarrai (“Идти двумя путями разом”), отсюда две фигуры в ее символе: змея (олицетворение политики), обернувшаяся вокруг топора (представляющего вооруженную борьбу).
(обратно)56
Имеется в виду площадка для игры в баскскую пелоту, в торце которой ставится фронтон, то есть передняя стена.
(обратно)57
Здесь: почести (баск.).
(обратно)58
Здесь: “Карбуро, добро пожаловать” (баск.).
(обратно)59
“Твоя борьба – пример для нас” (баск.).
(обратно)60
Чалапарта – баскский музыкальный инструмент; традиционно делалась из двух горизонтальных деревянных досок, закрепленных по краям, по которым бьют сверху толстыми ударными палочками. На концах длинных досок, между доской и подставкой, для лучшей вибрации помещена шелуха кукурузных зерен.
(обратно)61
GAL (от исп. Los Grupos Antiterroristas de Liberación – Антитеррористические группы освобождения) – бригады, начавшие действовать в Испании с 1983 г.; наводили ужас на жителей баскских городов и получили название “эскадроны смерти”. Противоправные действия GAL вызвали шумный скандал, который завершился отставкой ряда высокопоставленных чиновников и судебным преследованием.
(обратно)62
Привет, добрый день (баск.).
(обратно)63
Санти Потрос (наст. имя и фам. Сантьяго Арроспиде Сарасола; р. 1948) – один из лидеров ЭТА, организатор самых кровавых террористических актов, проведенных баскскими боевиками. Его обвинили в гибели сорока человек. Был арестован в 1987 г. во Франции и 13 лет провел во французской тюрьме, в 2000-м был выдан Испании. В августе 2018-го вышел из тюрьмы, проведя в заключении в общей сложности 31 год.
(обратно)64
Хильда – нанизанные на шпажку оливки, анчоус и маринованный острый зеленый перчик.
(обратно)65
Чисторра – один из видов колбасы быстрого вяления.
(обратно)66
Hola! (“Привет!”) – испаноязычный еженедельный журнал, специализирующийся на новостях о знаменитостях; второй по популярности журнал в Испании.
(обратно)67
Полицейский (баск.).
(обратно)68
Здесь: будь осторожен (баск.).
(обратно)69
Имя имеет латинские корни, крайне редко встречается в современной Испании.
(обратно)70
Мондрагон (исп. Mondragón, баск. Arrasate) – город и муниципалитет в провинции Гипускоа в составе автономного сообщества Страна басков.
(обратно)71
Чомин Итурбе (наст. имя и фам. Доминго Итурбе Абасоло (1943–1987) – один из лидеров ЭТА, а с 1975 г. ее полновластный руководитель. Неоднократно задерживался полицией, был выслан в Алжир, где и погиб – по официальной версии, в автокатастрофе.
(обратно)72
Кава – испанское игристое вино.
(обратно)73
От исп. chapas – затычка или пробка для бутылки.
(обратно)74
От баск. belarri – ухо.
(обратно)75
Акция, покушение (баск.).
(обратно)76
Доброго вам дня (итал.).
(обратно)77
Домашнее красное вино (итал.).
(обратно)78
Zutabe (“Основа”) – журнал, который ЭТА выпускала для своих членов.
(обратно)79
Колониями в Испании до сих пор называют ее бывшие владения.
(обратно)80
Визитной карточкой гражданских гвардейцев является форма зеленого цвета, а также черная лакированная треуголка. Сейчас треуголки носят лишь в особых случаях, на парадах и во время празднования Дня небесной покровительницы испанской жандармерии Святой Девы Пилар. При несении повседневной службы их заменили на более удобные фуражки с козырьком. Тем не менее треуголки до сих пор остаются символом испанской жандармерии.
(обратно)81
“…Вон отсюда, народ не простит” (баск.).
(обратно)82
“Голос горы” (баск.).
(обратно)83
Народный дом – так в Испании называют штаб-квартиры муниципальных групп Испанской социалистической рабочей партии.
(обратно)84
Политический и социальный центр Националистической баскской партии (баск.).
(обратно)85
Милый (баск.).
(обратно)86
Ласарте-Ория – муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна басков.
(обратно)87
Хосу Тернера (наст. имя и фам. Хосе Уррутикоечеа Бенгоечеа; р. 1950) – один из лидеров ЭТА, перед арестом (1989) занимал первый по важности пост в руководстве группировки. В августе 2018 г. именно он зачитал заявление об окончательном роспуске ЭТА.
(обратно)88
Пакито (наст. имя и фам. Франсиско Мухика Гармендиа; р. 1953) – один из руководителей ЭТА в самый кровавый период ее деятельности (1987–1992). Арестован в 1992 г. В 2004-м Пакито вместе с пятью другими членами ЭТА, сидевшими в тюрьме, направил руководству группировки письмо с требованием прекратить вооруженную борьбу и использовать только мирные методы достижения своих целей. В 2005 г. всех подписавших этот документ исключили из ЭТА.
(обратно)89
Пертур (наст. имя и фам. Эдуардо Морено Бергарече; 1950–1976?) – один из лидеров ЭТА. Обстоятельства его исчезновения до сих пор не прояснены; в качестве причины его убийства называется негативное отношение Пертура к политике жестокого террора, проводимой руководством группировки.
(обратно)90
Йойес (наст. имя и фам. Мария Долорес Гонсалес Катарайн; 1954–1986) – первая женщина в руководстве ЭТА. В 1980 г. вышла из рядов ЭТА, так как была не согласна с ее установкой на “жесткую линию”; эмигрировала в Мексику. В 1985 г. вернулась в Страну басков. По приказу Пакито была застрелена “как предательница”.
(обратно)91
Эль Чопо (наст. имя и фам. Хосе Анхель Ирибар Кортахарена; р. 1943) – испанский футболист, вратарь баскского происхождения. Один из лучших вратарей Европы 60–70-х гг.
(обратно)92
– Он мой бойфренд. А ты кто такая? (англ.)
(обратно)93
– Я думала, он мой бойфренд (англ.).
(обратно)94
“Адокинес дель Пилар” – карамель очень большого размера; производится в Сарагосе; на фантике обязательно изображена Дева Мария дель Пилар, покровительница Сарагосы и Испании.
(обратно)95
“Заключенных – на улицу, всеобщая амнистия” (баск.).
(обратно)96
Один, два, три (баск.).
(обратно)97
Народная партия – оппозиционная политическая партия в Испании правоцентристского толка; одна из двух основных партий страны и одна из самых крупных в Европе. Политики-“испанисты” не раз становились жертвами покушений группировки ЭТА.
(обратно)98
TEDAX (от исп. Técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos) – техник – специалист по обезвреживанию взрывных устройств (исп.).
(обратно)99
19 июня 1987 г. в Барселоне произошел взрыв начиненного взрывчаткой автомобиля, припаркованного вблизи супермаркета “Иперкор”. Жертвами теракта стал 21 человек, 45 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя ЭТА.
(обратно)100
Свободу Хосе Мари (баск.).
(обратно)101
…Но уже слишком поздно (англ.).
(обратно)102
Единственная (англ.).
(обратно)103
Пачаран – алкогольный напиток, традиционный для ряда областей севера Испании; представляет собой спиртовую настойку ягод терна с различными ароматическими добавками.
(обратно)104
Сумка (исп.).
(обратно)105
“Большая неделя” – ежегодный праздник, который отмечают на севере Испании; в Сан-Себастьяне в это время проводится Международный конкурс фейерверков.
(обратно)106
Бидар – маленький городок в 5 км от Биаррица.
(обратно)107
Птичка (баск.).
(обратно)108
“Если бы я подрезал ей крылья” (баск.).
(обратно)109
Микель Лабоа (1934–2008) – исполнитель песен на баскском языке; особой популярностью пользовался среди молодежи.
(обратно)110
“Если бы я подрезал ей крылья, / она была бы моей” (баск.).
(обратно)111
“Она бы не улетела” (баск.).
(обратно)112
Целую (баск.).
(обратно)113
“ЭТА, народ с тобой” (баск.).
(обратно)114
Речь идет о работе баскского скульптора Хорхе де Отейсы Энбиля (1908–2003) под названием “Пустая структура”, которая была установлена в Сан-Себастьяне на набережной в 2002 г.
(обратно)115
Сарсуэла – популярный в Испании лирико-драматический жанр, в котором соединены разговорные сцены, пение и танцы.
(обратно)116
Здесь: сердце мое (баск.).
(обратно)117
Строка из стихотворения испанского поэта Луиса Сернуды (1902–1963) “Андалузский мальчик”.
(обратно)118
Этот сорт перца выращивают в Северной Испании, недалеко от города Лодоса.
(обратно)119
Мой дворец (англ.).
(обратно)120
Речь идет о похищении и убийстве в 1997 г. муниципального советника Мигеля Анхеля Бланко. Цель похищения – заставить испанские власти перевести осужденных членов ЭТА в тюрьмы, расположенные в Стране басков. Правительство не отреагировало на ультматум, и Бланко был застрелен. Убийство Бланко вызвало большой общественный резонанс как одно из самых жестоких и бессмысленных преступлений баскских экстремистов.
(обратно)121
“Звездная пыль” – песня Шавьера Лете (1940–2010), поэта, автора и исполнителя песен на баскском языке.
(обратно)122
В сентябре 1998 г. Баскская националистическая партия подписала вместе с рядом других националистических организаций и профсоюзов “пакт Эстелья” (по-баскски “пакт Лисарра” – по названию городка в Наварре). В документе ставилась задача “достижения суверенитета и территориальности (т. е. институционального союза Страны басков, Наварры и баскских провинций во Франции) как средства решения баскской проблемы”. Таким образом был сформирован националистический блок, пришедший на смену единству демократических сил. Впервые умеренное и радикальное течения баскского национализма объединились на платформе противостояния испанскому государству. Четыре дня спустя ЭТА заявила о прекращении вооруженных действий.
(обратно)



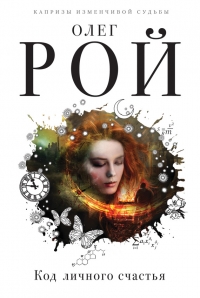



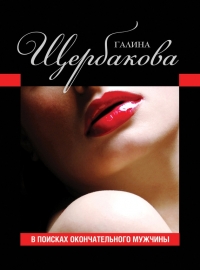
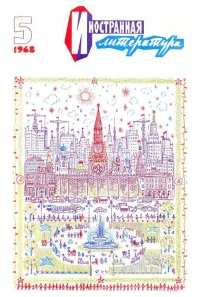

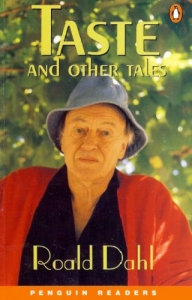

Комментарии к книге «Родина», Фернандо Арамбуру
Всего 0 комментариев