Повести и рассказы писателей Румынии
Предисловие
Современную румынскую литературу представляют в этом томе румынской Библиотеки писатели нескольких поколений: некоторые из них, такие, как Лучия Деметриус, Василе Войкулеску, Джео Богза, начали свой творческий путь еще в межвоенное двадцатилетие, другие — Раду Косашу, Мирча Хория Симионеску, Константин Цою — после второй мировой войны, в период бурного строительства нового общества, а период созидания новой, социалистической культуры и литературы в Румынии.
Несмотря на разнообразие творческих методов и художественных почерков, всех этих мастеров сближает общая идейная позиция: всесторонне изучая и разрабатывая эстетические, этические, фольклорные традиции румынского народа, они в своих произведениях развивают и утверждают нравственные и гуманистические тенденции нового общества.
Об этом ярко свидетельствуют повести и рассказы, собранные в книге. Тематика их весьма разнообразна: писатели обращаются не только к современности, но воссоздают и страницы прошлого, то романтизированные или сатирические, как у В. Войкулеску, то сурово реалистические, как у Д. Богзы, Л. Деметриус, М. Х. Симионеску. Современность в различных психологических ракурсах и нравственных коллизиях находит свое отражение в произведениях К. Цою, Р. Косашу, В. Андру.
Литература национальных меньшинств СРР представлена рассказами и повестями Ференца Паппа и Тибора Балинта, пишущих на венгерском языке, и Арнольда Хаузера, пишущего по-немецки.
Как бы ни были разнообразны темы, проблематика, конфликты и характеры во всех произведениях, включенных в книгу, гуманистическая позиция их авторов всегда обозначена явственно и рельефно. Гуманизм как основа личностного и общественного бытия — таков лейтмотив этой книги.
Сложный узел взаимоотношений завязывается между героями в повести Лучии Деметриус «Зеркало». Давно отгремела вторая мировая война, и крестьяне уже забыли, что когда-то полным владыкой их судеб был помещик. В румынской деревне устанавливаются новые общественные отношения, в людях формируется сознание собственного достоинства, новые нравственные требования. Но вот как-то зимой к одному из крестьян — Яношу Денешу является голодный и оборванный бывший помещик — граф Тибор Бароти. Деликатный и добрый, к тому же когда-то бесконечно преданный своим господам, Денеш не может отказать бывшему хозяину в гостеприимстве, тем более что однажды граф в порыве пьяного сочувствия (у Депеша тогда умерла жена) подарил ему… зеркало в пышной золоченой раме. Зеркало, абсолютно ненужное крестьянину-вдовцу, много лет пылилось на чердаке, пока его не вытащила оттуда подросшая дочь. Теперь граф, вспомнив о своем «подарке», начинает шантажировать Денеша, требуя за него деньги. Так зеркало побуждает героев вступить в отношения купли-продажи человеческой совести. Зеркало — действующее лицо в этой тонкой психологической повести — становится символом: на его холодной бесстрастной поверхности отражаются метания человеческих душ. Тщетна, несостоятельна абстрактная доброта Денеша, ведь в другом человеке она порождает лишь корысть и бесчестие. В сложившихся обстоятельствах Денеш находит в себе силы преодолеть укоренившееся издревле почтение к суверену, способному лишь паразитировать на других. Так Л. Деметриус ставит проблему ответственности за свои поступки перед людьми, именно эта ответственность и определяет степень гуманности каждого человека.
Ответственность не только перед собой, но и перед другим человеком, перед обществом становится объектом художественного анализа в повестях Ференца Паппа «По разные стороны» и Константина Цою «Воскресение немых». Главные герои этих произведений — люди полярно противоположных духовных ориентации. Геза (повесть Ф. Паппа) понимает жизнь как служение людям, как неиссякаемую человечность, герой повести К. Цою предпочитает лишь брать от жизни, ничего не отдавая взамен. «Глядеть на мир независимо, чуть свысока — только так, наверное, и следует ко всему относиться», — размышляет он. Мелкий себялюбец, потребитель, он стремится как-то обосновать и оправдать свою «философию», но, в какой-то момент упустив главное в жизни, он не способен, да и не желает никому помочь, не может помочь и самому себе.
Этому человеку противостоит герой повести Ф. Паппа «По разные стороны» — Геза. Смысл названия не только в том, что Гезу и Кати, женщину, которую он любит, разделяют обстоятельства; человеческая и женская судьба Кати решается в борьбе между двумя диаметрально противоположными пониманиями смысла жизни. Одно представляет ее муж Карой Печи, другое — Геза. Трудный роман, который переживают Кати и Геза, кончается неожиданным разрывом именно тогда, когда, казалось бы, в будущем их ждет лишь счастье. Однако складывается так, что разрыв, который должен принести только страдания, одаряет героя хотя и трудным, но другим счастьем, — счастьем исполненного долга, высокой человечности и самоотверженности. Кати благодаря Гезе вновь поверила в свои силы, а Геза, хотя и остается один, счастлив тем, что спас человека, погибавшего от полного одиночества, от подорванной веры в себя. Подорвать в человеке веру в себя, — размышляет Геза, — значит почти убить человека. Гезе вторит его друг Коша: при коммунизме будут осуждаться те, кто подрывает у людей веру в себя. Глубокое уважение к человеку, к его достоинству, к его предназначению на земле выше личных чувств Гезы и Кати, а потому в ее возрождении к жизни — его счастье; таков гуманистический пафос этой повести.
В интересующей нас проблематике — гуманизм как основа личностного и общественного бытия человека — любопытные повороты представляет творчество одного из старейших румынских писателей Василе Войкулеску, прекрасного знатока фольклора, собиравшего вместе с Г. Мугуром материал для энциклопедии народного творчества румын. «Вся сила воображения и творчества запечатлена в фольклорном материале. В фольклоре мы находим себя… такими, какие мы есть…» — утверждали они в одной из своих работ. Полагая живительный источник своего творчества в фольклоре, писатель создает произведения, неповторимые по замыслу и манере воплощения. Владение фольклорным материалом, проникновение в самые основы народной этики, действенной и жизненной, народного мироощущения, понимания гуманизма как права на человеческое достоинство перед лицом любого угнетения, владение законами фольклорных жанров — вот основы произведений Войкулеску, включенных в предлагаемую книгу. В колорите сказки выдержана блестящая сатира на служителей господа бога — монахов (рассказ «Монастырские утехи»). В собирательном образе тринадцати святош, сластолюбцев и чревоугодников, восседающих за смачной монастырской трапезой вместе… с кобылой Лизой, рельефно выражена раблезианская тенденция, тесно сопряженная с народным пониманием добра и зла.
Поэтичный, романтический рассказ-легенда Войкулеску о судьбе своенравного вольнолюбивого коня — Алкиона Белого Дьявола, порвавшего все узы и преодолевшего все препятствия, чтобы уйти к своему хозяину, продолжает ту гуманистическую тему, которая столь сильно прозвучала в «Холстомере» Л. Н. Толстого, в таких произведениях, как «Изумруд» А. И. Куприна, «Мустанг-иноходец» Э. Сетона-Томпсона.
В контексте гуманизм — фольклор — народные традиции в нравах и обычаях оригинальной балладной нотой звучит рассказ Василе Андру «Вечерами приходит невеста». По народной традиции, невеста, расставаясь со своим прежним избранником, дарит ему накануне своей свадьбы платок в знак того, что не таит на него ни зла, ни обиды и что они всегда добром будут помнить друг друга. Девушка, выходя за другого, нарушила этот обычай, освященный веками, — не подарила тому, кого не дождалась, платка. И вот старика уже на склоне лет снедает неизбывная печаль… Подкупает немудреная мораль этой поэтичной новеллы-баллады: и в счастье человек не имеет права забыть о другом человеке, не подать ему дружеской вести, не утешить в горе и боли.
Трагическую и героическую ноту вносит в книгу рассказ М. Х. Симионеску «География и каша». Герой рассказа — подросток, чье отрочество отравлено войной. Голод, холод, бесконечные бомбежки воспитывают в мальчике недетское понимание жизни, формируют сильный характер, способность к подвигу во имя мира на земле. В контрапунктической композиции этой книги румынской прозы, одна из тем которой — человечность во имя человечества, находит свое место и яркая антифашистская новелла Симионеску.
Хотелось бы остановиться на одном очень важном аспекте нравственно-психологической проблематики современности, на примере одного из произведений, включенных в книгу. Речь идет о научно-технической революции и ее психологических последствиях для людей — этой проблемой немало и небеспричинно обеспокоено искусство наших дней. Гуманизм, который все мы исповедуем, подразумевает не только доброту и совестливость, возвышенно-внимательное отношение к человеку, но и к жизни вообще. Без родственно-чуткого приятия всего, что окружает человека, что является сферой его существования и изо дня в день наполняет его будни, не может быть подлинного гуманизма, а значит, и радостного переживания неповторимой, полной и гармоничной жизни, полноценного чувства собственного достоинства, которое непременно для всех людей. Любопытно решает эту проблему Арнольд Хаузер (рассказ «В пути»), сопоставляя две натуры, два различных восприятия жизни.
В поезде встречаются двое. Чтобы скоротать время, девушка рассказывает даже не эпизод из своей жизни, а лишь одно мгновение, запомнившееся интенсивностью переживания. Стараясь передать ощущение этого мгновения — однажды в лесу ее застал дождь, — она набрасывает этюд. В ее рассказе со всеми оттенками встает картина леса с запахами трав, теплого летнего дождя, и возникает образ человека — открытого, поэтичного, истинно доброго, самозабвенно принимающего жизнь и мир, сознающего свое в нем место. Ее спутник, инженер, человек уже немолодой, в свою очередь рассказывает о себе. Его рассказ — историческая эпопея рода оружейников, которую венчает он, инженер, родивший в свою очередь сына, любимая игрушка которого — металлический конструктор. Рассказ инженера сух и протоколен, лишен доброй человечности даже к своим предкам. Он как бы реконструирует «технологический процесс» истории своего рода; из поколения в поколение представители его занимались своим ремеслом, человеческая жизнь целиком отдавалась «деланию вещей», так что и сам человек становился лишь придатком к ним. В рассказе инженера раскрывается душа человека, пусть не себялюбивого, но жестко ограниченного вещным миром, в котором нет места поэзии, ибо в нем царствует расчет и целесообразность. Конец этой случайной встречи носит почти символический характер. В ответ на неожиданный и дерзкий вопрос девушки, смог ли бы этот человек полюбить ее, не будь у него семьи, инженер молча целует ее в лоб. И этот отеческий поцелуй означает не снисходительное отношение умудренного жизнью человека к порыву юности, этот жест — возможно, первое причащение поэзией и красотой жизни, доброй человечностью бытия.
Зачастую мы понимаем поэзию и красоту как необходимый компонент общей жизненной сферы. Но возможно ли так просто изолировать понятием «компонент» то, что составляет самую сущность человеческого бытия? Человек может быть неудачником, может быть несчастен в личной жизни или в своих профессиональных занятиях, но он «человечен» лишь в той мере, в какой укоренилось в нем понятие красоты. Характерен в этом отношении рассказ Тибора Балинта «Импровизированный спектакль в летнем саду». Герой — пожилой актер-неудачник — твердо убежден в своем таланте и в своих возможностях увлечь сердца зрителей. Красота не оставляет его в покое, он, неудачник на подмостках, вдруг неожиданно за столиком в кафе начинает декламировать монолог чеховского дяди Вани. И настолько искрение, настолько страстно он входит в свою роль, что, гуляющая публика забывает неуместность происходящего, к «дяде Ване» подходят еще несколько актеров, продолжая импровизированный спектакль. Красота ущербна или несостоятельна, если она не входит в нашу жизнь, не изменяет ее, — таков пафос рассказа Балинта.
Книга «Повести и рассказы писателей Румынии» предлагает читателям многоцветное полотно современной румынской прозы малых форм, преобладает в ней морально-психологическая проблематика, разработанная на материале и далекого прошлого, и недавней истории, и на материале дня сегодняшнего. Настойчивое осмысление морально-психологической проблематики отнюдь не случайно: ведь формирование этики, морали человека нового, социалистического общества Румынии, человека, ответственного не только за себя, но и за других людей и за судьбы мира, — насущнейшая необходимость нашего времени. Представляется, что здесь акцент в румынской прозе недвусмыслен: писатели выступают против всех форм человеческой разобщенности и отчуждения, взывают к подлинной и искренней человечности, когда чувства отдельной личности не проявляются односторонне, лишь как выражение собственного «я», а становятся непременной составной частью взаимоотношений между людьми, то есть становятся общественным достоянием, имя которому — гуманизм.
Ю. Кожевников
ПОВЕСТИ
Лучия Деметриус ЗЕРКАЛО
Тереза и Арпад остались в поле, около дуба, копнить высохшее за день сено. Всходила круглая, бледная луна, и вскоре, когда наступит вечер, в ее все ярче сияющем свете ясно обрисуются кустарники; словно вырезанные резцом, выступят на горизонте контуры дальних холмов, и станет отчетливо видно все на земле. Арпад любил работать в такие летние ночи, когда спадает зной, когда на поле пустынно, а тело чувствует свежесть и руки становятся такими легкими, точно они и не держали весь день вилы или косу. Тереза осталась с ним. Молодецки насвистывая, она с силой сгребала сено и иногда украдкой посматривала на спускавшуюся из села дорогу. Она ждала, что Габор пройдет мимо ворот ее дома и, поняв, что она еще в поле, свернет на эту дорогу, будто бы направляясь на мельницу или к Богорфалве. Арпад был на другом конце поля, и они с Габором могли бы на свободе поболтать. Дома приходится вместе со всеми сидеть в тесной кухне, а здесь легче переброситься словами, которые им обоим так хотелось услышать. Ночью, при лунном свете, можно уйти с ним куда-нибудь в сад, к ручью. Только здесь, в поле, он мог радоваться, что она рядом с ним.
Янош возвратился домой один, на доверху нагруженном возу. Он вкатил повозку в сарай и принялся снимать сено. Все кости Яноша ныли, от мушиных укусов гудела спина, но он был доволен — сено оказалось густым, пышным, сочным. Рядом в стойлах протяжно мычали недоенные буйволицы. При голубоватом, прозрачном вечернем свете, лившемся в широко распахнутую дверь сарая, Янош торопливо сгружал сено. Широким движением вытягивая руки, он полными вилами метал сено на чердак сарая и быстро, ловко выдергивал пустые вилы обратно. Услышав шум, захрюкали не кормленные с утра свиньи; птица, сбежавшаяся к сараю, тоже требовала своего.
Янош вздохнул и еще больше заторопился. От каждого движения спина болела все сильнее, словно там кожа стала тесна для костей. Подумать только, приспичило же детям копнить сено именно сегодня вечером! Уж такой у них нрав, у этих ребят, выросших без матери: работают они много, но так, как им в голову приходит, по собственному разумению. Янош даже и не заметил, когда они стали выглядеть как взрослые, когда успели вырасти. Арпад — высокий, всегда с улыбкой на круглом, еще мальчишеском лице; он во всем понимает толк, словно старый, опытный человек. Тереза — проворная, коренастая, крепкая, с твердой поступью, глаза у нее блестящие, как у кошки, а зубы — крупные и белые. Янош не знал, когда его дети стали думать по-своему, когда получили право решать те или иные вопросы, когда заняли свое место и в его доме вдовца, и среди сельской молодежи, и на танцах по воскресеньям в Доме культуры. Ему казалось, что годы прошли в мелких, повседневных заботах о пахоте, посеве, жатве, покосе, о неделях работы на государственной ферме, о вывозе удобрения на поле или свеклы домой — пока ее не затопили дожди. Он хорошо помнил, как купил и пригнал домой буйволиц, как поставил три улья, как и с какими расходами расширил сарай, — он помнил об этом потому, что подолгу носился с этими мыслями и делал все волнуясь, с радостью. Но как выросли его дети — он не помнил. Как будто лишь теперь, разгружая повозку с сеном, в которой он стоял, он вдруг понял, что у него большие дети, что он с трудом припоминает их детские рожицы и что, кажется, в этом доме нынче распоряжаются они. Он выругался и со злостью бросил наверх последние охапки сена. В этом ругательстве было и счастье и досада. «Черт возьми, выходит, командуют они! А мне, стало быть, только и остается, что стареть!»
Все еще недовольный, Янош задал корм свиньям и птице и подоил буйволицу. «Поглядеть только, до чего дошло, — ворчал он, — я дою, словно баба, кормлю птицу, а она, девка, копнит сено, потому что им охота работать при луне. Иней падет, что ли, сейчас, в июле? Дождь польет? Ведь на небе ни облачка! Погодите, я вас образумлю, раз уж вы задурили!» Когда он с полным подойником направился к кухне, уже наступила ночь и в лунном свете во дворе удлинились тени деревьев, раскорячив черные ветви и налепив на земле темные пятна листвы. Янош хотел было разжечь плиту, но ему все так опостылело и взяла такая обида на Терезу, что он поставил молоко на холодную плиту и пошел поискать в сундуке чистую рубашку. Может быть, если сменить рубашку, не так будет гореть спина, а молоко, печка, ужин — всем этим займется дочь, когда придет, ведь не ночевать же они там собрались. Сена еще много, рехнуться надо, чтобы убрать все за один вечер! У них есть отец, которого надо накормить.
Янош пересек двор, вошел в дом и начал ощупью искать спички в шкафу и лампу на гвозде. Подняв фитиль, он принялся так старательно рыться в сундуке, словно искал там вещь, которую кто-то спрятал. Распрямившись, чтобы передохнуть, он вдруг испугался. Перед ним, на стене, возник высокий, небритый загорелый человек с большими усами. Янош стоял перед этим человеком и в страхе глядел на него. Наконец он вспомнил, как позавчера за ужином Тереза сказала, что хочет принести с чердака графское зеркало. Сказала и принесла его, бесовка, хотя Янош не ответил тогда ни «да», ни «нет». Конечно, он не сказал бы «нет», потому что возражать было не из-за чего, но ведь отец не должен так быстро говорить и «да». Зеркало стояло на чердаке давно. В то время, когда Янош получил зеркало, было не до того, чтобы украшать комнату, а потом он и вовсе о нем позабыл, и как-то в голову не приходило взять его с чердака. Теперь, конечно, Терезе приятно глядеться в зеркало, видеть свое отражение. Янош заметил, что она и бусы купила, и по воскресеньям ходит в другом платье. Но он не ожидал, что она так быстро перейдет от слов к делу. Зеркало — вещь дорогая, красивая, барская, может случиться, они его еще и разобьют, эти чертенята! Янош знал, что его дети ничего не разбивают, но сейчас ему хотелось сердиться, находить у них недостатки — слишком уж много воли ребята себе взяли!
Сперва Янош долго смотрелся в зеркало. Он сам не помнил, с каких пор не видел себя во весь рост. По воскресеньям утром, когда он брился, его голова и шея отражались в осколке, перед которым брился и Арпад и причесывалась Тереза. Он созерцал с минуту свою отросшую на палец бороду, а потом, когда лицо становилось гладким, считал, что он красив, и был доволен собою. Но теперь он казался иным, и виною этому была не только борода. Он помнил себя прямым, как свеча, широкоплечим, с густыми волосами. При свете лампы перед ним стоял человек, знакомый ему, но с которым он давно не виделся, — человек с чуть ссутулившимися плечами, немного сгорбившийся, слегка полысевший, руки у него были жилистые, а на шее кожа сморщилась и отвисла.
«Так-то так, — размышлял Янош, — помолодеть я не помолодел. Что поделаешь? Да я и не брит, и не приодет… Впрочем, что уж там? Дети стали большие, теперь — их время. В воскресенье займусь собой».
Потом он начал рассматривать зеркало. Оно словно потускнело, затянулось дымкой, но все-таки было красивое, в широкой раме из золотых цветов, большое, как икона в церкви. И хотя правый верхний угол, который, еще когда граф давал ему зеркало, был чуть надтреснут, пожелтел и там вилась тонкая, как паутина, царапина, но в зеркале отражалась вся комната, с кроватью, ковриками, полками и лавками.
Янош в глубине души был доволен, что у него есть зеркало, что Тереза сняла его с чердака и оно теперь так сияет на стене. Его дочь на собственные деньги, скопленные за два года работы на государственной ферме, купила на барахолке и покрывало — прекрасное покрывало, совсем как новое, — и стаканы с нарисованными на них цветами и поставила их на полку. Где теперь бедная Маргит — вот поглядела бы она на буйволиц в стойле (старых он продал еще при ней, из-за ее болезни), на покрывало, стаканы, зеркало, ульи! Как она удивилась бы! Кое-чего не поняла бы, но многому порадовалась. Она, конечно, и огорчилась бы, как всякая хозяйка, — из-за налога, из-за молотьбы на гумне, еще из-за чего-нибудь, но кое-чему и порадовалась бы. И зеркалу обрадовалась бы. Она сразу принесла бы его в дом, не позволяла бы детям дотрагиваться до него. Но дело-то в том, что граф не дал бы Яношу зеркало, если бы не смерть Маргит. Ну и пусть бы не дал, лишь бы была в живых Маргит, да ведь граф дал зеркало, чтобы утешить Яноша, и Маргит уже не пришлось им полюбоваться.
Янош вспомнил, как после смерти жены он отправился в усадьбу получить плату за тринадцать дней работы на уборке урожая. Управляющий Имре уехал в город. По кухне бродил, как обычно, Лаци, шутил с девушками, поднимал крышки с кастрюль, таскал со двора хворост для пылавшего очага. Янош попросил Лаци доложить графу, что он пришел за расчетом. Он прекрасно знал, что Лаци входит к барину и к барыне, когда хочет, даже если его не зовут, ведь он — их доверенный. Но Лаци, как всегда улыбаясь, стал вилять.
— Янош, дорогой, я-то с удовольствием… — вкрадчиво, таинственным тоном заговорил он. — Разве я не попрошу за тебя господина графа? Разве я не знаю, что ты три дня назад похоронил жену? — И при этом он глубоко вздохнул. — Не знаю, что тебе деньги нужны? Только я не смею, духа у меня не хватает ворваться ни с того ни с сего к господам. Я ведь у них не служу, ты сам знаешь. Что они скажут, если я явлюсь, когда меня не звали?
У Яноша в этот день не хватало терпения смотреть на улыбочки Лаци.
— Коли ты у них не служишь, то чего вечно здесь околачиваешься? Кто ни придет, на тебя натыкается.
Лаци ответил еще мягче, еще таинственнее:
— Может, я прихожу ради какой-нибудь из этих девушек! Может, я хочу ей помочь, она слабенькая! — и засмеялся с ласковой издевкой.
Янош знал, что граф на Лаци не надышится, что без участия Лаци граф не совершает ни одной сделки. Правда, Лаци не получает в усадьбе жалованья, но этак еще удобнее, потому что он из всего извлекает для себя выгоду, а его мать Кати — ключница барыни. Но у Яноша не было ни желания, ни сил просить Лаци. С отсутствующим взглядом он стоял на пороге, прислонившись к косяку, и думал лишь об одном: сегодня же попросить денег. А поискать другой способ проникнуть к барину ему и в голову не приходило. Он готов был стоять на месте и не уходить хоть до конца своих дней — вот и все. Дома его ждали тогда еще маленькие дети, не было молока, потому что он продал буйволиц, не было хлеба, потому что он продал пшеницу, не было мамалыги, потому что он продал кукурузу, — все из-за болезни жены, и последние, деньги ушли на ее похороны. Он знал Лаци, тот никогда не сообщил бы графу, что к нему пришли просить денег. Эта весть не из приятных, а Лаци старался доставлять графу только удовольствие.
Тогда над Яношем сжалилась кухарка Илона.
— Янош, я понесу им сейчас ветчину, они велели подать. И скажу про тебя. А уж там как они захотят…
Разумеется, Янош знал, что баре всегда делают, как хотят, и это казалось ему естественным. Ежели ты большой барин, то ты поступаешь по своей воле. Что ж тут сердиться, ведь никто не может приказать ему, а он приказывает всем. Так уж ведется с тех пор, как свет стоит. Только бы кто-нибудь сказал барину, а там как он пожелает — пришлет ему плату или не пришлет!
Лаци пошел вслед за Илоной, и вернулся, держась на шаг от нее и сияя так, словно ему привалило большое счастье.
— Он сказал, чтоб… — начала Илона.
— Чтоб тебя позвать, позвать тебя, Янош! Как только я его попросил, он сказал, чтоб ты вошел. И барыня тебя зовет! Уж я-то знаю, как с ними говорить!
Илона с отвращением взглянула на Лаци и склонилась над плитой.
— Зачем мне идти туда? — недоумевал Янош.
— Так приказано!
В сопровождении следовавшего за ним по пятам Лаци Янош осторожно переступил порог большого холла, устланного ковром, в котором утопала нога, и вошел в гостиную. Старая графиня в длинном платье из красного бархата сидела за роялем. Перед ней на клавишах криво стоял полный бокал вина, а на крышке рояля, вокруг четырехугольной бутылки из толстого стекла, сверкавшей при свечах, точно драгоценный камень, разлилась целая лужа. Со свечей на серебряные подсвечники стекали потоки желтых слез и застывали на блестящей черной крышке. Ворох брошенных здесь же фотографий тоже залило растопленным воском.
Граф, в сапогах для верховой езды из мягкой, тонкой кожи, сидел развалясь в кресле с бокалом в руке. Его грудь и подбородок были мокры. Когда Янош вошел, граф повернулся и долго непонимающе смотрел на него.
— Это Янош Денеш, господин граф, — вкрадчиво прожурчал Лаци. — Вы велели ему прийти. Вы знаете, у него скончалась жена, и ему нужны деньги. Он работал тринадцать дней на уборке. Изволили сказать, чтоб он пришел.
Граф, приподняв голову, долго смотрел на Яноша, и вдруг все мускулы его лица странно искривились, задрожали, губы сжались, а на глаза выступили слезы.
— Ты потерял жену, Янош! Ох, ох! Бедный малый, как мне тебя жаль! Как жаль!
Янош в эту минуту вспомнил, что жена графа два месяца назад уехала от него. От Лаци в селе стало известно, что граф сам выгнал и ее, и детей, но сейчас Янош чувствовал, что перед ним — муж, также потерявший жену, и забыл обо всем остальном. Граф жалел его, и поэтому Янош еще острее почувствовал свое горе.
Высокий, с тонкой талией, барин встал с кресла, не совсем уверенно ступая своими длинными ногами, направился к Яношу и, охватив его шею нежными, чистыми пальцами, начал целовать в щеку. От него пахло водкой и еще чем-то, напоминавшим аромат лаванды, он весь промок от слез и вина.
— Хочешь получить деньги, Янош? Лаци, принеси шкатулку! Я заплачу тебе, Янош, сию же минуту заплачу, Ах, ах, что за несчастный человек! Бедняга ты, милый мой!
Графиня, которая, казалось, дремала, опустив голову на руку и опершись локтем о рояль, вдруг упала на клавиши. Черная коробка издала протяжный звук, графиня проснулась, выпрямилась и строго взглянула на окружающих.
— Что ему надо? — спросила она. — Что надо мужику?
— У него умерла жена, мама! — простонал граф. — Он остался один, бедненький! Я заплачу ему за работу. Как он несчастен! Как он убит! — И граф опять поцеловал Яноша. — Я всегда тебя любил, Янош Денеш, но сейчас у меня сердце разрывается от жалости к тебе. Что бы мне сделать, мама, что бы мне для него сделать?
Старая графиня глубоко задумалась. Потом взяла бокал и басом приказала:
— Тиби, подари ему что-нибудь!
— Правда! — обрадовался граф. — Я сделаю ему подарок. Погоди, Лаци, давай сюда шкатулку! Сколько ему причитается за тринадцать дней работы, Лаци? Десять форинтов пятьдесят филлеров. У тебя найдется сдача с форинта, если я тебе дам одиннадцать? Нет? Ну, как же нам быть? Лаци, у тебя нет пятидесяти филлеров? Мама, нет пятидесяти филлеров? Ладно, Янош, останется за мной. Я тебе их присчитаю, когда другой раз будешь у меня работать. Держи десять форинтов. Так. Хорошо! А сейчас ты получишь подарок. Такой подарок, какой способен сделать граф. Вот так. За то, что ты несчастен. Что ему дать, мама?
Но графиня уже опять заснула, прижавшись лбом к крышке рояля. Янош изумленно смотрел на деньги, которые держал в руке, на стекающие на рояль свечи, на большие картины по стенам, на неверные шаги графа. Лаци, которого мысль о подарке испугала так, как будто ему предстояло подарить что-нибудь из собственного кармана, потянул Яноша за рукав.
— Идем, чего тебе еще надо? Сам видишь — господа забавляются!
— Не тронь его, я сделаю ему подарок! — вдруг заревел граф так грозно и оглушительно, что Лаци нырнул за печку, а вконец ошеломленный Янош замер на месте.
Граф несколько раз прошелся по комнате, на минуту прислоняясь то к креслам, то к столу, и широкими нетвердыми шагами направился к стене за роялем. Его сильное, гибкое тело протиснулось за рояль, и белые руки сняли со стены огромное зеркало в золотой раме.
Лаци кинулся и подхватил зеркало, ибо руки графа так держали его, что оно чуть не упало на рояль и на голову графини.
— Бери его, Янош! Оно твое! Это господский дар! Дед привез его из Вены. Бери, бедняга, и помни обо мне, который… который… — И граф снова заплакал. — У меня уже нет жены. Она умерла, я похоронил ее! — И рука графа затрепетала в воздухе, точно белый голубок. Янош, который не знал о смерти молодой графини, страдальчески вздрогнул, но Лаци, усмехнувшись, подмигнул ему, и он понял — граф говорит так от огорчения, что остался без жены.
— Ну, иди! — внезапно, словно всхлипнув, коротко отрезал барин.
Янош и Лаци унесли зеркало. В гостиной остались рыдающий в кресле барин и спящая у рояля барыня.
Янош с большим трудом притащил зеркало домой. Он с досадой думал об оставшихся за барином пятидесяти филлерах и в то же время гордился полученной дорогой вещью. Однако, когда зеркало оказалось в комнате, Яношу стало не по себе. Он прислонил его к шкафу и вечером, входя в дом, опасался взглянуть в него. Кто знает, еще увидишь в его глади что-нибудь такое, чего не следует видеть, — тень или, скажем, привидение! Он не привык к зеркалам. Да и дети, которые ползали на четвереньках, то и дело стукались о раму. Кто-то из соседей помог Яношу унести зеркало на чердак…
«Бедный граф, — думал теперь Янош, — где он?» Граф и его мать распродали землю, участок за участком, и пропили деньги, а после войны у них отобрали то, что осталось. Граф уехал в город, хотел что-то предпринять. За что он только не брался! Барыня померла. Где он теперь, никто о нем больше ничего не слышал. Отчаянный пьяница был! И бабник, бедняга, что с ним поделаешь! Одно слово — барин! Человек десять или двадцать крестьян раскупили часть земли графа. Как говорит старик Сильвестр: «Если бы он не продал, негде бы нам было купить». Дорого, да, он продавал дорого, за землю приходилось работать, платить, но все-таки они ее покупали. А то, что граф не успел продать, потом отобрало у него государство, теперь это государственная ферма. А граф гниет где-то… Прости его, господи, был он без царя в голове!
Янош задул лампу и сошел по ступенькам террасы. Дети должны сейчас прийти, если они не совсем одурели. Пока Янош сидел дома и думал о другом, его гнев утих. Надо затопить печь, не помрет же он от этого! Разве они на поле отдыхают? Тоже работают, бедняги!
За воротами как будто мелькнула тень, и, в ту минуту когда Янош ее увидел, пес Букши тихо заворчал, а потом разразился лаем.
— Эй, кто там? — громко спросил Янош.
Тень прошла мимо толстого бревна в воротах и показалась между прутьями решетки.
— Сильвестр, что ли? — еще раз спросил Янош и направился к воротам.
Тот, кто был снаружи, осторожно толкнул створку. Перед Яношем стоял человек в одежде рабочего, и, насколько можно было заметить при свете луны, довольно поношенной. Он медленно снял шапку и стоял молча, с непокрытой головой, поросшей редкими, словно слипшимися от пота волосами. Янош тоже молчал, ожидая, пока тот заговорит.
— Это я, Янош. Не узнаешь меня?
Голос и какой-то особый блеск глаз пришедшего заставили Яноша воскликнуть, прежде чем он успел подумать:
— Господин граф! Наш граф Тибор Бароти!
Яноша растрогало и взволновало то, что он только сейчас, впервые за долгое время, вспомнил графа, что считал его покойником, что после стольких лет порадовался его подарку.
— Прошу вас, господин граф! Подумать только — кто к нам пришел! Входите, прошу вас!
Граф вошел, тяжело ступая ногами в запыленных ботинках. Теперь, при свете кухонной лампы, Янош окончательно узнал его, взгляд, улыбку, даже руки, хотя они загорели на солнце, немного опухли и под ногтями была грязь.
— Садитесь… Ох, что это я, пожалуйте в комнату! Не сидеть же нам в кухне…
Граф бросил усталый взгляд на раскаленную плиту, на закипавшее молоко и уставился на кончики своих ботинок.
Янош инстинктивно понял, что гость голоден.
— Может, выпьете кружку молока, барин? — осмелился предложить он.
— Я бы выпил, — коротко, без всякого выражения ответил барин.
— Сейчас вскипит. А откуда же вы прибыли? Что делаете в селе? Я о вас ничего и не знал.
Граф отвел глаза от ботинок, серьезно посмотрел на Яноша и улыбнулся. Его улыбка не была такой сияющей, как когда-то, но Янош из вежливости тоже улыбнулся.
— После смерти мамы… Впрочем, зачем начинать так издалека — после того как я лишился и трактира, я нашел работу на кирпичном заводе. На том заводе, что в долине, у Фэгэраша.
— Как раз там! — не зная что сказать, вымолвил Янош. — И вы там работали? В конторе?
— Нет, у печи, — просто ответил граф. — Но две недели назад меня оттуда уволили.
— Ах ты господи! Да за что же? Оно, конечно, работа тяжелая, вы не умеете, откуда же вам уметь!
— Нет, я умею, но я не ходил на работу два дня подряд, а когда пришел, то… — граф секунду поколебался. — Что тебе сказать? Я пережег печь! Был расстроен и выпил лишнее, понимаешь?
Янош понимал: как тут не расстроиться, если ты владел Баротфалвой, если ты был граф Тибор Бароти и все потерял и стал рабочим на кирпичном заводе! Да еще ежели ты так здорово пил в молодости, то разве бросишь теперь, когда у тебя кругом одно несчастье да горе? И из-за пьянства его две недели назад выставили? Вот тебе на! Что же, на заводе не выпьешь, когда в голову взбредет. Напортил чего — ну и конец!
— И две недели?..
— Я шел пешком сюда. Я подумал, что здесь люди знают, еще помнят меня. Может, найду для себя что-нибудь другое. Но, видно, они не слишком хорошо меня помнят.
— То есть как? — удивился Янош.
— Я постучался к Анне Балаж. Она открыла, посмотрела на меня, узнала и, ни слова не сказав, захлопнула калитку.
На этот раз и Янош опустил глаза. Зачем граф пошел к Анне Балаж, с которой у него когда-то произошла столь неприятная история?
— Я постучался к Лаци…
— Ну? Ну? — с крайним любопытством поторопился спросить Янош.
— Они вышли к воротам — он и его мать Кати. Придерживали калитку, словно я хотел войти без разрешения. И плакались, будто ничего у них нет, будто в селе косо глядят на них, потому что они служили в усадьбе, будто стоит им шевельнуться, как на них донесут в милицию, и они боятся даже говорить со мной. Сказали, что еще с прошлого года не видели хлеба.
— Свиньи! — вырвалось у Яноша. — Да ведь он и со своей маменькой лопаются от жиру. Хлеба не видели?
Растерянный взгляд графа снова устремился на горшок с молоком, который теперь стоял на краю плиты.
Вдруг Янош сообразил, что если человек шел пешком две недели, то он, должно быть, изнемогает от голода и усталости.
— Я накрою вам стол в комнате, барин! Сию минуту накрою.
— Не трудись, Янош, я поем и здесь, — поспешно ответил граф.
Когда Тереза и Арпад вернулись домой, Тибор Бароти заканчивал ужин. Янош стоял перед ним; он поставил на стол все, что сумел отыскать: свиное сало, копченую грудинку, брынзу, молоко, хлеб. Путник, ловко орудуя ножом и вилкой, сначала ел торопливо, потом медленнее, с расстановкой, основательно.
Дети изумленно остановились на пороге кухни. Янош с гордостью представил их, одного за другим, ему хотелось, чтобы барин сказал, какие они большие, сильные, красивые!
Тереза с подозрением смотрела на барина сверлящим, холодным взглядом. На мальчишеском лице Арпада выступила неуверенная, чуть застенчивая и чуть снисходительная улыбка. Об этом барине они слышали немало рассказов — и дома, и на селе, — да и вообще о господах они знали много. Но их застигли врасплох, и они не успели решить, что об этом думать и как себя вести.
— Тереза, постели в комнате, господин граф у нас ночует. Арпад, принеси ведро воды и сполосни таз, господин граф хочет немножко помыться.
Тереза и Арпад вышли из кухни и во дворе обменялись многозначительными взглядами.
«За каким чертом он к нам явился?» — спрашивали глаза Терезы.
«Да брось, завтра видно будет, одна ночь ничего не значит!» — отвечали более кроткие глаза Арпада.
Когда Тибор Бароти вошел в дом, то прежде всего ему бросилось в глаза большое зеркало в золотой раме. Он прошел мимо своей бывшей усадьбы, где теперь помещались кузница, продовольственный кооператив и Дом культуры, и головы не повернул в ту сторону. Теперь же он во всей комнате Яноша, которую освещала висевшая на гвозде керосиновая лампа, не замечал ничего, кроме огромного зеркала, когда-то сиявшего на стене его гостиной. Тибор лежал на спине, подложив руки под голову, вытянув под грубым суконным одеялом ломившие от усталости ноги, и перед его взором проходила вереница забытых, давно похороненных воспоминаний.
Вот, когда он был еще ребенком, его мать, Иолан Бароти, разглядывает в зеркале свое белое лицо под высокой, пышной короной рыжевато-каштановых волос, статную, гибкую талию, и на ее губах появляется предназначенная для гостей, сверкающая, очаровательная улыбка.
Забившись между подушками дивана с высокой спинкой, так что нельзя было даже подозревать о его присутствии, и рассматривая книжку с картинками, которую привез ему в подарок граф Пал Эрдейи, он в этом же зеркале видел однажды, как в тени стоявшей у окна пальмы граф целовал Иолан, прижавшуюся к нему всем телом, а из другой комнаты доносился громкий голос отца, кричавшего: «Ставлю коня об заклад!», и звон бокалов. Он никогда никому ни словом не обмолвился об этом, потому что обожал мать и очень гордился тем, что знает некий секрет, — секрет, о котором известно лишь ему одному. Один только раз он похвастался в кухне перед Лаци и Кати, что знает страшную мамину тайну, но он не выдал бы ее даже ценой собственной жизни. А Лаци и Кати засмеялись и ни о чем его не спросили. Позднее, уже в юности, он понял, что этот секрет был известен всему свету и, возможно, даже его отцу, и ему осталось лишь пожалеть, что не он один владел тайной своей красавицы матери.
Быть может, теперь зеркало загрязнено, или затуманилось, или немного потускнело от времени? Да, он вспомнил, что в последние годы, когда оно еще находилось в усадьбе, оно стало походить на глаз старика, который словно начинает глядеть внутрь самого себя, в воспоминания, а не рассматривать то, что происходит вовне, в мире живых.
Мама рассказывала, что ее отец, полковник в отставке Альберт Фончоли, перед женитьбой привез для своей невесты зеркало из Вены. В спальне ее ждал туалет с золоченым, в стиле Людовика XV, столиком на тоненьких ножках, бронзовые подсвечники и это зеркало — его повесили на стене, а над ним — персидскую шаль. Однако молодая супруга привезла с собой вещи, к которым она привыкла: комодик розового дерева, с покачивавшимся на изогнутых, блестящих, коричневых ножках зеркалом в стиле «бидермайер», шкатулки, вазы для цветов, флаконы, подсвечники с хрустальными подвесками. Зеркало в золоченой раме перенесли в гостиную, откуда убрали на чердак принадлежавший бабушке деда спинет и на его место поставили большой рояль.
«В него гляделась мама, когда была девочкой», — думал Тибор, но не мог представить себе образ мамы, когда она была девочкой, образ, хорошо знакомый ему по портретам, которые он несколько лет назад, перед национализацией, оптом продал одному сукноторговцу. Торговец считал себя крупным знатоком старой живописи и то и дело заботливо ощупывал массивные, полированные рамы. Глядя на зеркало, Тибор видел крепкую фигуру Иолан Бароти в декольтированных платьях, в которых она танцевала на балах, отражаясь в зеркале среди других фигур, освещенных десятками огней зажженной для праздника люстры. Видел самого себя ребенком в бархатном костюмчике, похожим на «маленького лорда», как его называла мать, видел, как он кривляется перед зеркалом и высовывает язык, когда поблизости никого нет.
Да, он сделал этому Яношу Денешу ценный подарок при обстоятельствах, которых он теперь не может толком припомнить. Кажется, он в этот день был под хмельком, кажется, назавтра мать бранила его за такую глупость, а может быть, они поссорились из-за чего-то другого, а потом помирились, так как кто-то прислал им несколько бутылок токайского, и все было забыто.
Наверху, в правом углу, — трещина, он о ней помнит. Она была там еще тогда, когда он впервые увидел зеркало. Однажды подвыпивший дед швырнул бокал в бабушку — она пела, опершись о рояль, и деду показалось, что она переглядывается с аккомпанировавшим ей гостем, офицером, который приехал в отпуск из Будапешта. Эту историю рассказала ему мама как-то раз поздно ночью, когда они после отъезда гостей пили вдвоем.
Потом граф, устав от дороги и воспоминаний, уснул при горевшей лампе, подложив руки под голову, и не слышал, как на цыпочках вошел Янош, чтобы погасить лампу, в которой уже почти не осталось керосина. Ему снилось, что он — в той комнатушке, позади трактирной стойки, где умерла его мать, что она, Иолан Бароти, в декольтированном платье со шлейфом, вальсирует вокруг брошенного на пол тюфяка, на котором она же мучится в агонии, умирая от старости и пьянства, и Тибора не удивляет, что его мать в двойном образе и говорит сама с собой. Он выходит в трактир, но там вместо полок с бутылками и столов стоят высокие подсвечники и огромные зеркала и его жена, Эрика, кормит грудью младенца и льет на него, как льют на покойников, перед тем как заколотить гроб, деревянное масло и вино из бокала, на котором выгравированы золотые цветы. Жидкость попадает на кружева пеленок, но Эрика все льет и говорит, что ее дожидается запряженная шестеркой коляска и что она сейчас же, сию минуту едет в Вену за токайским.
В темной кухне Тереза улеглась на лавке и разговаривала с Яношем и Арпадом, забравшимися на старую широкую деревянную кровать.
— И долго он у нас пробудет?
Яношу не понравился жесткий тон дочери. Он знал, что может, если нужно, усмирить ее криком и руганью, но он не всегда решался на это. В подобных случаях Тереза несколько дней подряд упорно молчала, и у Яноша становилось горько на душе. Он не заговаривал с ней первым, потому что дети должны уважать отца и задабривать его, если тот на них разгневан. Тереза не просила прощения, как когда-то просил он у своих родителей, но, очевидно, под влиянием Арпада или, быть может, раскаиваясь (чего никак нельзя было заметить по ее лицу), начинала предупреждать его желания, делать то немногое, что, как она знала, могло доставить ему удовольствие. Отправляясь на базар продавать яйца или масло, она привозила отцу виноград (здесь ни у кого не было лоз), кусок соленой рыбы или принималась чистить его праздничную одежду, словно в этом вдруг возникала необходимость. Мир незаметно восстанавливался, Янош снова веселел, а Тереза, перешучиваясь с Арпадом за обедом или за ужином, хохотала так, что звенело в кухне и во дворе, или до самой ночи пела своим низким, глубоким, немного резким голосом.
— Ну, там день, два… — медленно ответил отец. Янош не знал, сколько времени граф будет у них жить: спросить — язык не повернулся, а тот сам ничего не сказал. Он предложил графу поесть и лечь спать, и тот поел и лег.
— Разве ты у него в долгу? — опять грубовато спросила Тереза.
— Я? — Янош ответил не сразу. — Какой там долг? Ничего я у него не брал без того, чтобы не заплатить. Ни гроша я ему не должен. За землю, что я у него купил, я расплатился еще до войны.
— А он тебе чем-то обязан?
— Да и он мне ничем не обязан. Сколько я у него работал, за столько он и платил.
— А шкуру он с тебя не сдирал, когда ты работал на него или когда покупал землю?
— Не сдирал, ведь мы все купили у него землю по одной цене. То есть на равнине была одна цена, на холме другая, а внизу, на болоте, опять же третья. Да все так платили. И не он сам торговался… Мы с управителем, с Имре, счеты вели.
— А дешево он отдавал?
— Дешево? Вот еще — дешево! Какой же барин отдаст дешево? Дорого, да все же покупали, платили в рассрочку, потому что негде было взять землю. Тут, сколько глаз хватает, до самого города и дальше, до Тырнавы, все ихнее было. Он и его мать продавали по частям.
— А за работу он хорошо платил? — не отставала Тереза.
— За работу? — протянул Янош. — За работу платил немного, да ведь такая цена была. Работали, потому что нужны были деньги. За землю внести, скотину какую купить или еще что.
— А взаймы ты у него брал?
— Деньгами?
— Деньгами, или зерном, или сеном, или картофелем. Брал?
— Ну, брал, да ведь все равно с управителем дело имел.
— И потом опять на него работал, правда?
— Дашь ты мне спать или нет? Ты что, сбесилась?
Тереза глухо, сурово засмеялась.
— Что ж, раз он и продавал и взаймы давал по дорогой цене и ты ему должен не остался, зачем же теперь ты с ним водишься? С чего это ты его так любишь? Шел бы он к Лаци, тот, слышно, был к нему поближе!
— Лаци захлопнул ворота перед его носом, вот что! Лаци и его мать. И никто не тянул у графа столько, Лаци обворовывал его как мог. А Имре тоже. Бревна и камень, из которого Лаци построил себе такой дом, что под стать самому большому барину, — все это он из усадьбы украл.
— Может, граф ему дал, отец! — промолвил Арпад, и по голосу его можно было угадать, что он улыбается.
— Ну, уж чтоб дать, господа ни в жизнь ничего не давали, — вырвалось у Яноша. — Нет в селе человека, который мог припомнить, что он получил от них чего даром.
— А как ты зеркало получил? — спросила, приподнимаясь на локте, Тереза. — Заплатил или он даром дал?
Янош был поражен этой впервые пришедшей ему в голову мыслью. Ни о каком другом подарке графа он никогда не слыхивал.
— Мне он его дал и ничего не взял за это, — тихо сказал Янош, — да в тот раз он навеселе был!
Дети расхохотались.
— Скажи, отец, может, ты ему услугу оказал, припомни хорошенько! А может, ты заплатил ему когда-нибудь чем-то другим? Ты ему отработал?
— Разрази меня бог! — поклялся Янош. — Ни услуги я ему не оказывал, и ничего он с меня не взял! Он еще и плакал, и целовал меня, только ведь он мертвецки пьян был!
— Выходит, вы с ним большие друзья, — поддразнила отца Тереза. — Он тебе подарил такое зеркало, поцеловал тебя, а ты его положил спать в парадной комнате. Что-то между вами есть.
— Я его и видал-то раз в год. Проедет мимо в коляске и то ли смотрит на тебя, то ли не смотрит, или увидишь его на террасе, с барынями, или на охоте, когда меня звали в загонщики. Больше чем «здравствуй, Янош», «как поживаешь, Янош», я от него и не слышал. Только в тот день, когда он мне подарил зеркало… — и Янош перевел дух, — он мне подарил его, как умерла твоя мать; стало быть, в утешение. Старая барыня велела что-нибудь мне подарить, вот он и придумал. Снял со стены и отдал мне. Взбрело ему в голову, потому что он тогда и вовсе был пьян.
На минуту стало тихо. Дети задумались.
— И надолго он останется? — снова спросила Тереза.
— День, два, — шепнул, как и раньше, Янош.
— Да ладно, пусть побудет, — коротко сказал Арпад. — Он голоден, не спал. Не объест же он нас. Он и не захочет оставаться, видит сам, что здесь ему делать нечего. Мы ему не наследники. Но и вышвырнуть его ночью на улицу, как сделал Лаци, тоже не годится. Поест досыта и уйдет.
Тереза промолчала, и Янош вздохнул с облегчением. Он и сам так думал: барин поспит, поест досыта и уйдет. Не к родным же своим он пришел, не останется надолго. Как его прогнать, ежели он пришел голодный, измученный? Ведь на какой постели, на каком пуху он спал, жареных цыплят ел, носил удобное, красивое платье… Уйдет он!..
Янош уже совсем засыпал, когда снова раздался голос Терезы:
— Отец, это правда, что Марика, дочь Петера Балажа, на самом деле графская дочь?
Янош не хотел бы об этом говорить — не потому, что такие дела казались ему неестественными, а потому, что чувствовал: у детей снова найдется что сказать.
Однако Тереза опять пристала к нему:
— Скажи, отец, она — графская дочь?
— Анна Балаж была девушка красивая. По своему отцу, покойнику, она звалась Анна Келемен. Граф был молодой, горячий, никакой заботы не знал. Приехал из Вены после учения, шатался от нечего делать по селу, ходил на охоту. По воскресеньям так, для смеху, иногда приходил на хору — то есть пришел раза два-три в лето, хотел поплясать с девушками, он сам так говорил. Кое-кто да и мой брат, Кальман, видел графа в лунные ночи у ручья с Анной Келемен. Потом его больше не видели. К весне она родила ребенка. Говорили, как будто она родила в усадьбе или еще где, уж не знаю. Имре с батраками выгнали ее оттуда вместе с ребенком. Так люди говорили. Потом Келемен все хотел в суд подать, он был немного свихнувшийся, этот Келемен, требовал, чтоб граф женился на его дочери. Ходил к самым большим адвокатам в городе, да только они не хотели судиться с графом. И нашелся один, который попроще, — он и помирил их.
— Как же он их помирил, отец?
— Ну, графиня Иолан дала Келемену пятьдесят форинтов, чтобы он выдал Анну за Петера Балажа. Он ее и выдал. И Балаж записал Марику как свою дочь, потому что он был должен графине за то, что потравил господское пастбище, когда пас коров, и боялся неприятностей. Вот как получилось с Марикой.
— Красиво получилось! — проворчала Тереза. — Вот и шел бы он теперь ночевать к Анне, к Марике, ведь они в родстве.
Янош ничего не ответил. Что знают дети про обычаи тех времен? Почему Келемен не берег свою дочь, когда этакий красавчик барин разгуливал по селу? И раз уж так случилось, что ж, выходит, графу на крестьянке жениться? Он женится на графине, на такой же, как он сам! Янош услышал ровное, глубокое дыхание детей и, избавившись от вопросов, тоже уснул глубоким сном. Лишь иногда еще покалывало его искусанную мухами спину.
Анна Балаж уснула в эту ночь тоже поздно. Двадцать два года она не говорила с графом и не встречалась с ним так близко, лицом к лицу, и все же ее сердце колотилось в груди, точно его ужалила змея.
Дома вокруг стола сидели Петер, Марика, Домокош, Илонка и Манци и спокойно ели суп с капустой и свиным салом. Никто ничего не слышал, не заметил. Только она одна знала, кто подошел к воротам, кто стоял перед ней и глядел черными, когда-то пылкими, а теперь печальными, затуманенными, вопрошающими глазами.
Она легла в постель, и ей припомнился, словно это было лишь вчера, его голос, звучавший, как музыка, совсем как звуки органа в городской церкви; припомнились его объятия, то мягкие, нежные, как у избалованного ребенка, то могучие, жадные, как будто сейчас, вот сейчас наступит конец света и у них уже не осталось ни минуты. Но еще яснее вспомнилась Анне та зимняя ночь, когда падали крупные хлопья снега, а она, обезумевшая от боли, страха, стыда и злобы, затянув под рубашкой пояс так, что он чуть не лопался, бежала в усадьбу. Она сама не впала, ждет ли она от него помощи или утешения, идет ли она молить и плакать, или устроить скандал, или умереть там, у их проклятого порога. Она не видела его с осени, с тех пор, как он снова уехал учиться. К рождеству он вернулся, но не пытался с ней встретиться. Теперь, в конце зимы, он приехал опять и все избегал ее. Она встала на дороге, перед коляской, в которой он ехал однажды в город, но он ее не видел или притворился, что не видит.
Батраки сидели в кухне. Около конюшни стоял чужой распряженный экипаж. Гостиная была ярко освещена. Кто-то играл на рояле, и сквозь гардины виднелись две-три танцевавшие пары. Сперва Анна хотела забросать окно комьями снега, разбить стекла, кричать, рассказать тому, кто выйдет, как обманул ее молодой граф, но пальцы, комкавшие снег, онемели, и из горла не вырвалось ни звука. Ей было стыдно, страшно. Внутри у нее все болело.
Мимо окна прошел он, Тиби, обняв какую-то барыню и покачивая ее в танце, потом, остановившись, словно завернулся вместе с ней в бархатную портьеру, склонился к поднятому лицу барыни.
У Анны вырвался страдальческий вопль, и в ту же минуту ее согнуло пополам. Она не понимала, крикнула ли она из-за того, что увидела, или из-за внезапной острой боли. Лишь теперь собаки учуяли ее и залились лаем. Она кинулась к воротам и, совсем обессилев, обогнула дом и наудачу вбежала в какой-то свинарник. Собаки на цепи все еще лаяли. Свинарник был пуст, в нем скверно пахло.
«Накажи его бог! Накажи его бог!» — мысленно стонала Анна, лежа в постели рядом с Петером. И двадцать два года назад она так же стонала и проклинала. Ужас, унижение, боль, испытанные ею тогда, не изгладились. Не возникла и любовь к Петеру — рыжеволосому, с редко посаженными зубами, — Петеру, который все двадцать два года храпел в постели возле нее и от которого она родила троих детей.
Граф прожил у Яноша Денеша два дня. Он отоспался, отдохнул, поел досыта. Янош держался с ним вежливо, дети занимались своими делами и, встречая его на террасе, мимоходом, торопливо кланялись.
Затем граф ушел.
— Я никогда не забуду твоей доброты, Янош! — сказал он. — Возможно, я еще когда-нибудь стану человеком и отблагодарю тебя как следует. Теперь я отдохнул, пойду искать работу.
Янош проводил его до мостика и, глядя вслед ему, вздохнул: «Кто знает, может, и найдет он работу, устроится!»
— Почему же это он ушел? — приставали к Яношу дети. — Ты не очень хорошо с ним обходился?
— У него тоже совесть есть, зачем вы о нем так думаете? Он и не остался бы дольше, ведь я ничего ему не должен. Да только все мы — люди, почему ж и не приютить его на день-другой? Убытка от этого нет.
— К тому же он еще поцеловал тебя, когда дарил зеркало!
— Ну, разве он знал, что он меня целует! Он тогда, поди, забыл, даже как его самого зовут, но человек же он все-таки, а как выбросишь человека на улицу? Эх, как он жил-то!
* * *
В этом году зима была снежная. Холмы плотно укутались в снежный покров, сделавший их гладкими и округленными, а потом надолго ударил мороз и навел эмалевый блеск на белый, нетающий простор. Порой по вечерам солнце, которое весь день пряталось за огромными свинцовыми грудами туч, проглядывало в долине между Богорфалвой и сосновым лесом и заходило там — красное и такое круглое и чистое, точно его нарисовала чья-то умелая рука. Тогда снег на холмах розовел, словно раскаленный. Его фарфоровая гладь была лишь кое-где пробита легкими следами зайцев, бегущих к ключу в долине. Когда колокола четырех церквей, находившихся в четырех селах между холмами, начинали звонить к обедне и к вечерне, звуки плыли в холодном, ясном воздухе, над полями, над неисхоженными, обледеневшими пригорками, словно под сводом, который возвел искусный строитель именно для того, чтобы звук раздавался глубокий и ясный.
Незадолго до рождества Тереза объявила Яношу, что собирается выходить замуж, и даже сказала, за кого.
Янош немного рассердился. Парень был хороший, тут нечего и говорить. Он знал Габора, сына Тамаша Инце, с самого его рождения. Тамаш Инце был в родстве с покойной женой Яноша, Маргит, но не настолько близком, чтобы создались затруднения для брака и потребовалось разрешение. Габор был человек основательный, разумный, но дело в том, что Тереза поступила не так, как полагалось по обычаю. Она пошла прямо к отцу, не дожидаясь, когда придет Тамаш Инце с Габором, с еще одним или двумя родственниками, людьми пожилыми и дельными, чтобы ее посватать: сначала завести разговор обиняками, потом сказать открыто, зачем они пришли, выпить вместе, как водится при сватовстве, договориться о том, что дает жених и какое приданое у невесты.
— Ты что, дочка, ума решилась? Так у вас теперь делается? На ферме ты этому научилась? А может, в клубе?
Когда Янош сердился на детей, он во всем винил государственную ферму, где они иногда работали, или клуб, куда они ходили по воскресеньям на танцы или играли в каком-нибудь спектакле. Вообще же с «новой властью», как он ее называл, он был в ладах.
— Да что это, отец, женимся мы с Габором или ты с Тамашем Инце? Вот я пришла же сказать тебе, попросить твоего разрешения! Не вышла же я замуж против твоей воли. Зачем нам сваты, когда мы с Габором договорились? И я наверное знаю, что Габор тебе нравится. Ну, если бы он был какой негодник, дело другое, но ведь ты к нему хорошо относишься!
Янош обычно оказывался не слишком скор на ответ, если Тереза так энергично принималась за него.
— А дом ему отец построит? А я тебе мебель купил? Как же иначе? Кто видел, чтоб когда-нибудь было иначе?
Действительно, до сих пор в Баротфалве никто не видел, чтоб было иначе. До войны, и даже после войны, ни один парень не женился, пусть бы ему пришлось оставаться холостяком до самой смерти, если не мог построить себе дом или не построили для него родители. Девушка привозила мебель, а если мебели у нее не было, замуж не шла. Никто не осмеливался нарушить этот обычай, никто не поступал иначе.
— Вот и будет иначе. У Инце пятеро сыновей, где ж ему построить каждому по дому? Что ж, им бобылями оставаться, как Сильвестр-бач или Домокош-бач, если им не на что строить? Это когда-то так было, а не теперь.
— Это с каких же пор?
— Вот с тех пор, как выхожу замуж я. Разве Габор злой, ленивый, глупый?
— Нет, но…
— Ну, если нет, так я за него иду.
— Тебе только семнадцать лет, а лаешь на своего отца, точно собака.
— Не лаю, отец, да ведь так правильно, так лучше.
— А мебель когда я тебе куплю?
— Зачем?
— Как зачем? А жить вы где будете?
— Неужели ты меня на улицу гонишь? В доме, наверху, две комнаты. Одна обставлена, нам хватит.
— Да ведь дом должен перейти к сыну…
— Есть и другая комната. Обставим и ее со временем, понемножку.
— Ты что скажешь, Арпад? — обернулся Янош к сыну.
— Пусть выходит. Она правду говорит, обставим и другую комнату. Если подкопим денег, поработаем на стороне, все рассчитаем, то, может, позднее построим еще и дом. Я говорил и с Терезой, и с Габором. Построим вместе, и дом будет или ихний, или мой. Там посмотрим.
— Ты бы хотел, отец, чтоб я поехала в город, в услужение, как другие девушки, собирать деньги на мебель? Мне не по душе прислуживать. Тебе этого хочется? А в поле ты справишься один с Арпадом? А кто будет на вас стирать, стряпать?
Все, что говорила Тереза, казалось справедливым, но Янош никак не мог примириться с нарушением обычаев. Слыхано ли это, все вместе, в одном доме! Завтра женится Арпад, пойдут дети, что за теснота будет! Но ведь и Инце не в силах построить пять домов для пяти сыновей…
Янош в тревоге отправился за советом к своему брату, Кальману. Тот подумал и, хоть и стариком был, ответил так же, как Арпад.
— Пусть выходит. Так, как прежде было, уже больше не будет. Разве ты не видишь, как все меняется? Дом они построят, если все трое будут работать. Да и ты им поможешь. Без матери дочь вырастает иначе, да нынче почти все так вырастают. Не хочешь же ты посадить ее на цепь, как Букши, и пускать только на работу, когда тебе это требуется? Габор Инце — парень хороший.
— И она приходит и говорит мне вот так, прямо в лицо: отец, я выхожу за Габора. Без сватов, как гром среди ясного неба.
Тут призадумался и Кальман.
— Ну, это ей самой лучше знать, с чего такая спешка.
Янош совсем оторопел. Такого у него и в мыслях не было. Он вернулся домой понурившись, не в силах вымолвить ни слова, расстроенный. Несколько дней он смотреть не мог на Терезу, боясь, что рассвирепеет, схватит ее за косы, швырнет на землю. Даже услышав ее голос, он вздрагивал и убегал в амбар, в сарай, куда угодно. Он больше не ел в доме, вместе с детьми, а просил Арпада оставить ему чего-нибудь и как раз перед обедом или ужином уходил. Ночью он не спал и ворочался в постели, спрашивая себя, как это он так ошибся, как не уследил за дочерью, позволил ей согрешить. Он даже не отвечал на приветствие Габора, если тот появлялся у них во дворе. Тереза предоставила отца самому себе, но однажды Янош, незаметно войдя во двор, услышал, как она говорила брату и Габору:
— Что ж, если и Тамашу-бач трудно устраивать свадьбу, отложим до лета. Почему же не отложить? Никакой спешки нет. А может, ты боишься, что мне до лета понравится кто-нибудь другой?
И она открыто, громко засмеялась своим веселым, немного резким смехом.
Янош прислушался повнимательнее.
— Какая же спешка, кроме той, что бывает у всех людей, которые любят друг друга и хотят быть вместе? А красивее меня ты не найдешь! — пошутил и Габор.
А Арпад примиряюще сказал:
— Спроси еще раз отца, Тереза, сама видишь, он сердится. И сделай так, как он хочет.
Так не говорят, когда необходимо скрыть позор. У Яноша камень с души свалился. От радости он позабыл, что дочь еще раньше обидела его своим решением, и, словно все дело заключалось только в его подозрениях, начал, как человек, незаслуженно оскорбивший другого, исполнять все желания Терезы и готовиться к ее свадьбе. Он осторожно, достаточно ясно намекнул Кальману:
— Свадьбу справим либо после крещенья, либо летом, торопиться незачем. Справим все с Габором, он человек порядочный.
Свадьбу все-таки сыграли после крещенья. За венчаньем последовал пир у Яноша, а на другой день, как требовал обычай, у Тамаша Инце. Пришли друзья родителей, соседи, молодежь с фермы, из соседних сел, Инце пригласил и музыкантов из Одорхея, а Марцела-нени, специально приехавшая из Кристура, приготовила торт с кремом. Свадьба была по всем правилам. Тереза переставила в комнате наверху всю мебель, купила еще несколько стульев, а перед зеркалом водрузила подаренную ей Арпадом деревянную резную вазу и поставила в нее сосновые веточки, которые очень красиво отражались в зеркале.
Теперь в кухне Янош спал один на старой деревянной кровати, а Арпад перебрался на лавку, где прежде спала Тереза. В январе Арпад ушел работать на ферму. Там готовили к весне колышки для подвязки растений, бочки, рыболовные верши. Если погода была плохая, Арпад не возвращался вечером домой, а ночевал на ферме вместе с пятью-шестью парнями, которые тоже нанялись туда на зимние работы.
Во дворе больше никто не насвистывал, не напевал, а Янош так привык к этому: Арпад с детства, как только брал в руки топор, или косу, или вилы, начинал петь — такой уж у него был характер.
Вечерами Янош скучал в одиночестве. Он входил в кухню, когда смеркалось, часов в пять, в половине шестого, и разводил огонь. Молодожены поднимались в свою комнату, тоже растапливали печь и зажигали лампу. Иногда они говорили: «Иди к нам, отец, поболтаем», и тогда Янош тоже шел наверх. Иногда не говорили, и, раз уж установился такой порядок, Янош не входил к ним без приглашения. Когда наступало время ужина, Тереза спускалась из своей комнаты, наскоро варила что-нибудь, они втроем ели, и затем молодые уходили к себе, а Янош оставался один. Семь часов, восемь; вечер казался ему бесконечным.
— Стало быть, у меня кухня, а у вас — гостиная, — шутил он.
— Нет, у тебя столовая, как у графа, твоего приятеля! — поддразнивала его Тереза.
В эти долгие вечера Янош думал обо всем, вспоминал все. Вспоминал о Маргит, о том, как они — оба бедняки — женились, с какими трудностями купили два погона земли у барина и скот у Мартона; как нелегко было завести в доме новый горшок, решето или топор; как они понемногу, с трудом сколачивали грош за грошом; и как безвременно умерла Маргит. Когда он, Янош, захворал — что-то у него случилось с желудком, — Тереза и Арпад сейчас же повели его к доктору, а он повел Маргит только в последние ее часы, потому что никто в селе, кроме господ, не знался с врачами. Так он и продал все, вконец израсходовался — на знахарок, на молебны, даже на какие-то лекарства из аптеки, которые когда-то помогли Сильвестру, и Янош покупал их по его совету.
Потом он думал об Арпаде, о его свадьбе, которой недолго ждать, о том, кого из девушек приведет ему сын и какая из них понравилась бы ему как невестка.
И когда уже больше думать становилось не о чем, он думал о барине. На свадьбу Терезы приехал один из двоюродных братьев Яноша, перебравшийся в горы, в село, откуда родом была его жена. Он рассказывай, что Тибор Бароти поступил на деревообделочный завод, на хорошее место, в контору, что теперь он опять одет по-господски, каждый день бреется и живет один в прекрасной комнате, в доме для служащих завода. Он живет там уже три месяца с лишним, и никто еще не видел его пьяным.
— А мебель какую-нибудь он привез с собой? — спросила Тереза: ее осенила мысль, что теперь, раз граф устроился, то, может статься, он возьмет обратно зеркало.
— Какая там мебель? У него больше ничего нет. Все продал в городе, когда открывал трактир, — объяснил ей родственник.
— Все дочиста?
— Что мог нести, тащил на базар, книги завязывал в простыни, в узлы, да так и продавал. А мебель у него кто-то купил, погрузил в поезд и увез в Тыргу-Муреш. Разве вы об этом не знали?
— Да, что-то слышали, но ведь мы там не были, своими глазами не видели. И на все деньги он открыл трактир?
— На все. Там, на краю скотного рынка, у городской заставы. Я туда попал как-то раз, пили мы магарыч с одним человеком, который купил у меня телку. Он прислуживал, убирал за нами.
— Граф?
— Он сам, граф.
— Ай-ай! И как же он тебе прислуживал?
Янош знал эту историю так же, как ее знали все на селе. Он тоже тогда хотел сходить в графский трактир, но его все задерживала то жатва, то молотьба, и, пока он собирался, граф обанкротился. Люди говорили, будто он закрыл свой трактир потому, что сам же пропил его.
— Прислуживал, как всякий кельнер. А на стенах, наверху, висели эти большие картины — покойная барыня, когда была молодая, его дед в полковничьем мундире, потом охота в лесу.
— Стало быть, он их не продал?
— Предал, когда закрывал трактир.
— У них всегда так: продают, продают, а все-таки еще остается.
— И он наливал тебе водку?
— Наливал, разрази меня бог, если вру.
— А теперь, говоришь, он капли в рот не берет?
— Не берет. Только надолго ли это?
И Янош, лежа в постели, спрашивал себя: разве у Тибора Бароти это надолго? Огонь в печи бросал яркие блики на чисто подметенный пол, на спинку кровати. Янош следил за их игрой, и у него смыкались глаза. Он в полудреме размышлял: граф, у которого было такое состояние, продал дом за бесценок, и никто в этом не виноват, потому что государство у него дом не отбирало. А сколько добра! Он до конца дней мог бы жить, распродавая его понемногу! Вот теперь у него и служба есть, разве плохо было бы, если бы он сохранил свои пожитки? Экое горе это пьянство! Барыня, его мать, как будто тоже пьяной умерла, так что и неизвестно, от болезни она слегла или от вина!
В одну из таких одиноких ночей Яноша разбудил громкий лай собаки. Кто-то ходил по двору. Янош приоткрыл дверь, чуть-чуть, чтобы не настудить в кухне, и увидел на белом снегу, под ледяным светом луны, знакомую тень. На этот раз он даже не удивился — он так много думал о графе, почти поджидал его.
— Входите, барин! Входите, собака привязана.
Граф вошел. Он трясся от холода, руки и ноги его онемели, лицо как будто опухло. На нем не было ни пальто, ни куртки, ни кожуха — ничего, кроме городского костюма, чего-то вроде платка на шее и туфель, которые от набившегося в них снега потеряли форму и казались огромными.
Янош торопливо разжег огонь, не зная, о чем спросить графа, чем его потчевать. Он еще не совсем очнулся от сна, и ему стало холодно. Барин уселся на лавку, с его обледеневшей одежды закапала вода.
— Разденьтесь, барин. Сядьте поближе к печке. Чего бы дать вам поесть? Молоко наверху, дочка, когда шла спать, взяла с собой кувшин, хотела поставить простоквашу. Вы знаете, что я выдал дочку замуж? Хотите немножко картофельной похлебки?
Барин кивнул головой.
— Только бы погорячее! — пролепетал он.
— Я думал, вы на деревообделочном заводе… — тихо сказал Янош.
Его разбирало любопытство, но задать вопрос прямо он не осмеливался, хотя на этот раз, кажется, чувствовал себя с господином графом гораздо проще.
— Я уже десять дней не там. Меня уволили.
— Узнали о вашем происхождении… и не захотели…
— Нет, они с самого начала знали. Меня приняли, но… я заболел, пролежал пять дней, и за отлучку… без уважительных причин… Теперь ведь так!
Граф ел быстро и красиво, держа ложку длинными, еще не совсем отогревшимися пальцами и откусывая хлеб, как это делают господа, а не кроша его мелко, по-мужицки. Янош налил ему еще тарелку, и граф так же быстро и красиво съел и эту.
— Немножко свиного сала? — спросил Янош.
Граф снова кивнул и съел и сало, накалывая кусочки на спичку.
— Только в дом я вас не могу повести, там спят дочь и ее муж.
— Я посплю здесь, у тебя!
— Постель с лавки сын взял с собой на ферму. Разве… Ну, если желаете, со мной, на кровати…
— Мне лишь бы согреться! — опять прошептал граф и начал снимать ботинки.
Когда они оба забились под одеяло, Янош прижался к стене, чтобы дать место барину и не беспокоить его, но граф отогрелся и, словно опьянев от тепла, пустился в разговоры. Янош не знал, говорит ли граф с ним или сам с собой, и с удивлением слушал.
— Я свинья, братец, свинья. Я пил пять дней подряд, и меня выгнали. Но как же мне не пить? Работаешь, работаешь, наконец надоест! Если не работаешь, все равно надоест! Вся жизнь — это нескончаемая, бессмысленная скука… Ты думаешь, я отправился прямо сюда? Нет, я пытался пойти к жене, к графине Эрике, в Тыргу-Муреш. Графиня Эрика — продавщица в кондитерской. Дочки уже большие. Одна учится в школе, другая работает у парикмахера. Они обо мне забыли, не видели меня с самого раннего детства. Но Эрика, она могла бы получше припомнить прошлые дни… Знаешь ли ты, Янош, как я привез ее в Баротфалву? Из города, с вокзала до села, я вез ее в коляске, запряженной шестью лошадьми. А когда мы подъехали к подножию холма, на котором мои прадеды построили часовню, я взял ее на руки и понес на холм, чтоб не устали ее ножки, чтоб от песка не испортились туфли. И так же на руках снес ее вниз. Когда она просила меня о чем-нибудь, я опускался на колено и целовал кончик ее башмачка.
У Яноша от изумления дух перехватило. Послушать только, вот так чертовщина!
— И я ее выгнал, с детьми на руках, Янош, как собаку выгнал. Даже коляски не дал доехать до вокзала. Ей пришлось взять повозку у Домокоша. Когда я вернулся с войны, она мне уже не нравилась, я разлюбил ее. Я познакомился там с одной немкой, ах, что за женщина! Продажная тварь, дьявол ее побери! И я просто уже не мог видеть Эрику! «Только дочерей мне рожаешь, — сказал я ей, — уходи, я приведу себе другую, она родит мне сыновей. Дочь родила мне Анна Келемен, дочь у меня от Берты Эрдес, от сестры попа в Кристуре — тоже дочь, и ты меня дочерьми порадовала. Убирайся, смотреть на тебя не хочу больше!» Да, кажется, я еще и побил ее, Янош. Потом я просил ее вернуться, но она не захотела. Бросила меня одного, несчастного, с бедной мамой, упокой господь ее душу, и мы в одиночестве пили с горя. И вот теперь я постучался в ее двери. Она пришла вечером из кондитерской, дочки тоже были дома, сидели подальше; в комнате пахло кофе, поджаренным хлебом. Я чуть не падал с ног от голода, я сказал ей: «Прости меня, Эрика!» А она мне ответила: «Иди к сестре попа в Кристуре!» — и вытолкнула меня и закрыла дверь. К сестре попа в Кристуре! Вот что она мне ответила! Она забыла о днях, когда я любил ее. Она помнит только о том, что я ее выгнал, как свинья. Потому что я свинья, Янош, это правда. И тогда я пошел в село, сюда то есть. По дороге продал куртку, шапку продал, сапоги. За них я получил вот эти туфли и две бутылки водки.
Граф с минуту помолчал.
— И перчатки продал. Разве нельзя жить без перчаток? Знаешь, Янош, у мамы была шкатулка из розового дерева, в ней лежали длинные перчатки — белые, желтые, розовые, голубые, черные, — мягкие, как кошачий мех, шелковистые, надушенные. Я раскрывал шкатулку и играл ими, гладил себя ими по лицу, потому что они были бархатистые и от них пахло фиалками. Ты помнишь мамины перчатки? Где тебе их помнить, ведь в то время, когда у меня были пони и коляска мне по росту, ты шлепал в грязи под мостом вместе с другими крестьянскими ребятишками в длинных рубахах и без штанов, и вы, до пояса спрятавшись в сорняках, смотрели на меня, словно на какое-то видение. Я сидел на веранде и пил мазагран, а вы подметали аллеи, и у вас мокрые рубашки прилипали к спинам. Эх, Янош, Янош, прошли те времена… Ноги у меня как будто оттаяли, дай я прижмусь к тебе спиной, а то она совсем как сосулька. Янош, ты спишь? Нет? Ну, так я тебе скажу, что ты спишь рядом со свиньей, которая рушит все, чего только коснется. В Вене, в институте, профессор мне говорил: «Господин граф, побольше серьезности, покорнейше вас прошу!» Напрасно он покорнейше просил меня. Спишь, Янош? Знаешь, почему я прошлый раз ушел от тебя через два дня? Не знаешь? Потому что мне не нравятся глаза твоей дочки. Ее глаза бросают мне вызов. Когда я был молод, мне правились именно такие глаза, потому что они бросали мне вызов как мужчине, и я хотел их покорить и покорял. Но твоя дочь, Эржи… Не Эржи? Тереза, да, Тереза, она глядит на меня вызывающе, потому что я стар и беден. Чтоб женщина глядела на тебя так, потому что ты… нет, это невозможно. Мужчины — дело другое, они такие же люди, как я, но женщины… Видишь ли, Янош, женщины — это не люди. Понятно? Янош, а немножко водки у тебя не найдется?
Янош, который уже засыпал, вздрогнул от испуга. Только этого сейчас недоставало — вытаскивать из погреба водку. И граф напьется. Что скажет Тереза, что скажет Габор? Да и кто знает, чего может натворить граф!
— Нет, барин. Нету, всю выпили на свадьбе.
— Нет? Хорошо! То есть хуже и быть не может!
Яношу на минуту показалось, что барин хочет встать с постели. Может быть, он уйдет, раз в доме нет водки? Приспичило же ему! Но граф повернулся раза два, спустил на пол ногу, задрожал от холода, снова спрятал ее под одеяло и свернулся клубком за спиной Яноша.
— Красивое зеркало я тебе подарил, Янош! Оно еще у тебя, да?
— У меня, как же, — шепнул Янош, и сердце у него сжалось. — Я дал его дочке в приданое. «Чего доброго, еще потребует его обратно!» — подумал он.
— Пусть владеет на здоровье! — сказал барин, и Янош немножко успокоился. Ему очень хотелось спать. Кажется, барин начал тихо напевать какую-то песню, но Янош сказал себе, что это ему снится, и уснул крепким сном.
На другой день Тереза и Габор глаза вытаращили, увидев в кухне гостя.
— Вот, пожалуйста, явился граф, ведь отец у него в долгу! Граф ему заплатил, а он у него не отработал! — смеялась Тереза. — Ай да батя, вот крестьянин, который надул барина. А может, это за барский поцелуй!
Граф молчал и с серьезным видом стоял у печки, вежливо отходя в сторону, когда Тереза готовила еду. К ней он совсем не обращался, но сделал попытку завести разговор с Габором:
— Как поживает твой отец? Ты ведь сын Тамаша Инце? Кажется, Янош мне так говорил.
— Работает, у нас, у крестьян, и зимой немало работы найдется.
— У вас как будто была большая семья? Или… уже не помню… две дочери?
— Нас пять братьев.
— Да, да. Пять. Инце работал у меня в поместье. Помню его, порядочный человек. И вы купили землю у меня, правда? До войны или после?
— До.
Граф замолчал. Если Габор скуп на слова, то и он тоже не болтлив. Только с Яношем ему вечером находилось о чем поговорить.
— Большой мерзавец этот Лаци! Вы с ним в хороших отношениях?
— Да с ним только и можно, что поздороваться, да и пойти своей дорогой. Ежели он что услышит, тут же все переврет и расскажет всему селу, — не мог удержаться и Янош. — Скажешь, к примеру: заболела жена моего брата, Кальмана, невестка моя, стало быть, а он распустит слух, что ты, мол, сказал и даже клялся, будто жена Кальмана захворала оттого, что слишком много ест, и будто она разоряет Кальмана своим обжорством. С тех пор как я знаю Лаци, он всегда такой. Когда он с тобой говорит, у него прямо мед на языке, а стоит тебе отвернуться, тут же услышишь, как он тебя поносит.
— Мама, бедняжка, говорила: «Лаци — это клад для нашего дома. Никто нас не любит так, как он». И шкатулка с деньгами была доверена ему. Знаешь, Янош, по-моему, мама не обладала чутьем… Нет, я не хочу быть несправедливым к Лаци, не думаю, чтобы он когда-нибудь заплатил больше, чем мы установили вместе с ним и с Имре, не думаю, чтоб он дал кому-то из крестьян взаймы из нашей кладовой или амбара, но для себя он крал вовсю — я так полагаю. Он приглядывал за Имре, сообщал обо всем, что делал Имре, но что делал он сам — известно лишь господу богу.
— Как же, как же, известно лишь господу богу, — поддакивал Янош. Не только господу богу, но и Яношу, и всему селу было известно, каким кладом являлся Лаци для барского дома.
— Как ты думаешь, Янош, есть у Лаци водка?
— Откуда мне знать?
— Что, если бы… Ведь ты с ним не в ссоре, может быть, ты пойдешь и попросишь?
— У Лаци? Не могу, барин. У него я ничего не стану просить.
— А у твоего брата, Кальмана? У него нет?
— У Кальмана нет.
Граф вздохнул и улегся в постель. Дня через три Тереза начала ворчать:
— Отец, если ты открыл гостиницу, так хоть нам-то скажи об этом.
— Он уйдет, уйдет не сегодня-завтра.
— А ты его спрашивал, зачем он пришел?
— Он измучился, был болен…
— У него, что же, нет другой родни, кроме тебя? Никому он не дарил зеркала или там еще чего?
Янош отмалчивался. Габор, как человек новый в доме, не вмешивался, но в кухню не входил вовсе, и по вечерам ни он, ни Тереза не приглашали уже Яноша наверх, а оставляли его с «приятелем».
— Что общего у твоего отца с барином? — однажды вечером спросил Габор Терезу.
— Да вот, сваливается он как снег на голову.
— Вот что, Тереза, мне приходилось слышать об этих барах, которые теперь обеднели и в городе крутят всякие политические делишки против власти, да еще и крестьян околпачивают.
Тереза расхохоталась:
— Этот? Этот приходит, чтобы поспать да поесть. Разве ты не видишь, что он дармоед? Да и отец не дитя малое, не даст себя провести. Думаешь, он забыл, что в то время, когда граф сидел у себя в усадьбе, а он ходил за плугом, барин не клал его спать рядом с собой?
— Так чего же отец кладет его рядом с собой?
— Габор, милый, он добрый, но тряпка, тряпка он. Ему жаль барина, стыдно его прогнать.
— Стало быть, отец когда-то видел от него добро?
— Добро? Черта с два! От него никто добра не видал. Но дело в том, что он подарил отцу это зеркало. Дал его даром, да еще и поцеловал. И отец не может этого забыть.
— Ну, за зеркало он прожил здесь довольно. За всю свою жизнь он только и подарил, что это зеркало. Я не слыхал, чтоб он еще кому-нибудь сделал подарок. Вот он и сидит здесь, хочет получить за него.
Однажды к обеду явился с фермы Арпад. Он чуть не рассмеялся, увидя в кухне графа, и поглядывал исподтишка на Яноша, выжидая, что начнет плести отец.
Но Тереза спокойно и отчетливо сказала:
— Арпад, ты принес с собой постель? Что-то я ее не вижу!
— Я оставил ее там, ведь через несколько дней я вернусь.
— Как же вы будете спать все втроем на кровати?
И, ничего не прибавив, ушла в дом.
Граф тихо поднялся — он сидел за печкой.
— Дорогой Янош, благодарю тебя за гостеприимство, ты отнесся ко мне, как брат. Я никогда этого не забуду.
Он хотел уйти тотчас же, но Янош, которому было немножко стыдно за выходку Терезы, настойчиво упрашивал его сначала поесть, потому что похлебка уже вскипела.
Однако граф заупрямился и ни за что не хотел остаться. Он отказывался поесть, словно это было неуместно, и спешил, как на свидание.
— Хоть возьмите вот это, барин, — попросил его Янош, протягивая пару толстых носков.
Граф, опустив голову, не глядя на Яноша, натянул носки поверх своих тонких, заштопанных, обулся в большие, разбухшие точно дохлые лягушки, туфли и ушел.
И Янош вздохнул с облегчением. Ему стало свободнее, он остался с детьми, на своей кровати, никто больше не стеснял его. Если лишний человек садится за стол один раз — это еще туда-сюда, но пять дней подряд, за каждой трапезой, — это уже чувствовалось. Хлеб, которого хватало всегда на десять дней, кончался на седьмой, в ларе уменьшился запас сала — уж очень по вкусу пришлось графу сало!
* * *
Тереза ходила убирать хлеб наравне с мужчинами, хотя ступала она уже тяжело и дыхание ее стало прерывистым. Она с трудом носила свой большой живот и на седьмом месяце выглядела так, как другие женщины накануне родов. Но она хотела работать, потому что и на двух погонах Яноша, и на двух погонах Габора урожай был хороший, обильный.
Они убирали три дня, и хватило бы работы еще и на четвертый, если бы не полил дождь. Небо все потемнело, словно кто-то прикрыл котловину между холмами свинцовым колпаком. Началось это во время обеда, и они решили переждать в поле. Кто его знает, дождь летний, может быть, тучи рассеются так же внезапно, как набежали, и тогда надо будет раскидать стога и сложить снопы для просушки. Укрывшись от дождя под деревом и поставив на землю горшок с картофелем и свиным салом, они медленно ели — гораздо медленнее, чем ели обычно во время уборки: сейчас времени было достаточно. По соседству, под другим деревом, расположился Лаци, поле которого находилось рядом с их полем, и тоже закусывал куском хлеба и парой вареных картофелин.
— Когда идет уборка, я ем немного, чтоб быть полегче, — улыбаясь сказал он. — Зачем таскать с собой горшки, обжираться мясом, похлебкой, капустой? Кто ест мало, не так быстро стареет.
— Что правда, то правда, — засмеялся Арпад. — Посмотри на меня, здорово я постарел.
— А у тебя не такой уж хороший вид, — мягко настаивал Лаци. — Не хочу тебя огорчать, но я в твои годы — пусть Янош сам скажет, — я выглядел свежее.
— Потому что ты ел на графской кухне! — оборвала его Тереза.
— Я? На кухне? Господи боже! Ни разу я от них не получил даже нитки! Это я им иногда давал совет, говорил свое мнение, но они никогда меня не слушали, вот потому и разорились. Ты что, Габор, пьешь воду? Послушай, за едой пить воду — вредно для здоровья! Посмотри, как я выгляжу, а я, когда ем, глотка воды не выпью.
Сквозь листву дуба начали падать капли.
— По-моему, дождь зарядил надолго. Может, нам вернуться домой?
— Домой? Что ты, Арпад! Поверь мне, через десять минут прояснится. Зачем терять время? Давайте, я вам кое-что расскажу. А может, Янош, ты об этом знаешь, ведь ты часто видишься с господином графом.
Нет, Янош не знал, о чем хочет рассказать Лаци, потому что он с самой зимы не видел господина графа.
— Он женился!
— Да ну?!
— Тьфу, разрази его! — сплюнула Тереза. — На женщине, которая может его содержать?
— Не думаю, чтоб она его содержала, — многозначительно покачал головой Лаци. — Мне сказал один человек из Зеткё, что видел, как граф разгружал на станции дрова. В городе он и познакомился с этой — уж не знаю, то ли ее барышней назвать, то ли дамой. Говорят, она была танцовщицей в ресторане Шекели во время войны. Плясала там под музыку, на сцене. А теперь гадает на картах, только потихоньку, ведь это запрещено. Гадает обедневшим барыням. И граф на ней женился.
— Она, верно, целый день гадает на картах, вернется ли к нему счастье, — пошутил Арпад.
— Или танцует, чтоб он не соскучился, — подхватил Габор.
— Уж что она делает, не скажу, — рассудительно и ласково ответил Лаци. — Она говорит, будто она из Будапешта, что ее отец — капитан, однако люди, которые ее давно знают, сказывают, что ее привез во время войны какой-то немец из Арада, из одного дома… понимаете… пусть Тереза меня извинит.
— Ну, это, может, только болтовня! — пожал плечами Арпад.
— Болтовня, я тоже так полагаю. Должно быть, болтовня, но я вам передал, что говорят люда. Ведь люди… Эх, люди! — высказал свое мнение Лаци. — Янош, ты помнишь старика, брата барыни Иолан, графа Ференца?
— Кажется, это тот, который еле ноги передвигал и носил такую длинную одежду, вроде как ряса, из синего бархата? И-их, я давно о нем позабыл, а ты, Лаци, мне напомнил! Я малышом был, когда двое слуг выносили его на кресле в сад. Мы подглядывали за ним сквозь забор, а он курил и дремал, и трубка падала ему на грудь.
— Ну да, когда я бывал в усадьбе, мне говорили, что этот граф Ференц привез книг — видимо-невидимо… Ты видел ту комнату, где кругом стояли все книги да книги? Не видел? Он привез какие-то замечательные старые книги, которые Тиби потом продал на рынке отдельно, а не вместе с другими, дорогие книги! И картины он привез из Парижа, а может, и из Вены, не знаю, и все говорили, что он очень ученый. В девятьсот пятом году он дал по погону земли трем крестьянам. И сказал, что даст еще, когда вернется, — он тогда уезжал за границу, — что даст и еще больше. Только он вернулся с женой и о крестьянах позабыл. Вернулся оттуда, обвенчавшись с какой-то, — издалека привез ее. Красивая, большая, словно породистая кобыла. Она тоже была танцовщица. Жила она, жила и захотела уехать, верно, надоели ей и он сам, и усадьба, и село, и золовка, ведь та была настоящая барыня, не ей ровня. А Ференц ее не отпускал, крепко любил ее. И вот Ференц стал такой сонливый, все спал и спал, даже к обеду его не могли добудиться. И как-то раз наша графиня Иолан вошла в их комнату и увидела, как жена Ференца подливает ему что-то в стакан с водой. Иолан заставила ее выпить это при ней — схватила кочергу, что стояла у печки, да как треснет ее, а потом вытащила из двери ключ и заставила выпить то, что было в стакане. И жена Ференца заснула, так крепко заснула, что и встать не могла.
— Да что ты мелешь!
— Так оно и было, дорогой мой. А когда она встала, Иолан ее опять избила, а муж ее защищал. Он по ней с ума сходил! Потом говорили, будто граф Ференц и графиня Иолан подрались, синяков друг другу понаставили, но графиня была сильнее, а он ослабел от сонливости.
— И он прогнал жену?
— Как бы не так! Она сама убежала. Убежала с одним музыкантом из Одорхея во время вечеринки. А граф Ференц все таким же сонным остался и оплакивал ее, пока не умер. Графиня Иолан хотела их развести, ездила к епископу, ездила к самому папе.
— Да зачем же было их разводить, если та все равно убежала?
— Графиня боялась, что Ференц умрет и наследство останется жене и ее музыканту. Но когда епископ приехал сюда, к ним, приехал в усадьбу именно из-за этого, Ференц сказал ему, что не хочет разводиться и ждет жену обратно. Так у Иолан Бароти ничего и не вышло.
— И наследство досталось жене?
— Досталось не ей, а опять же нашему Тиби, ведь музыкант-то ее убил. Зарезал на какой-то свадьбе, потому что застал с другим музыкантом из его же оркестра. И плакал же тогда по ней Ференц!
— Ишь плакал по ней, дурак этакий! — обозлилась Тереза.
— Да ведь он ее любил! — нежно улыбнулся Лаци. — Они люди добрые, любящие! Бедняги! Когда доходило до денег, они, конечно, ссорились между собой, но друг к другу очень были привязаны. Отец Иолан, граф Альберт, стрелял будто бы из пистолета в своего брата Гезу из-за каких-то там золотых монет.
— А сестра барыни Иолан, та, что умерла молодой, ее еще звали «святая»?
— А, графиня Розали? Она приехала из монастыря, ходила по селу и раздавала даром дорогие лекарства женщинам и детям. Хотела постричься в монахини. Эта была добрая! Скончалась, бедная, от чахотки. Ей было двадцать пять лет. Она лежала в саду, на чем-то вроде кровати, потом ее увезли в другие страны, в горы, но она все-таки умерла. Да, люди ее звали «святой». Кроме ласкового слова, от нее никто ничего не слышал.
— Ну, ласковые слова говорили и наш Тибор и его маменька. Говорить-то они говорили с людьми по-хорошему.
— Это так! Говорили по-хорошему!
Дождь полил как из ведра.
— Хватит сидеть здесь! — перебил Лаци Габор. — Смотрите, у нас уже рубахи насквозь промокли. Идемте домой!
— Да, да! — заторопился и Лаци. — Мокрая одежда скорее изнашивается!
— Лаци-бач, а ты говорил, что прояснится.
— Когда облака идут оттуда, — кротко сказал Лаци, словно он никогда не настаивал на противоположном, — тогда дождь может лить до вечера, даже и всю ночь.
В самом деле, всю ночь ожесточенно лил дождь, проливной дождь. На другой день — тоже. Земля пропиталась водой, дороги покрылись грязью, с холма сбегали маленькие ручьи, в долине они сливались друг с другом и потоками неслись по полям, жнивье было затоплено, а дождь все не прекращался. В ручье, который прорезал село, кружа то по одной, то по другой стороне дороги, вода поднялась, стала коричневой, быстрой и бурлила. После трех дней ливня ручей сорвал все мостики, начал подмывать берега, и по нему неслись ветви и стволы деревьев. Габор накинул на голову мешок и босиком побежал в поле. Вернулся он мрачнее тучи. Скирды пшеницы начали плавать в воде, и две из них бесследно исчезли.
— Что же нам делать?
— Да что ж тут поделаешь? Стой да смотри, как их уносит.
— Может, добраться туда на повозке и привезти домой хоть сколько удастся?
— Как туда доберешься? Увязнешь в тине, буйволицы ног не вытащат из болота, а если даже доедешь и увезешь сколько можно, то все равно — сгниет дома, в сарае.
— Это правда!
Еще день проливного дождя, и внизу, в долине, Тырнава смыла с берега два дома. Кто-то заметил, как вниз по реке плыл матрац, еще кто-то видел на воде хлев со свиньей. С государственной фермы приехал промокший до костей верховой и спешно стал сзывать парней, которые обычно приходили туда на работу, — надо было выкопать рвы для стока воды вокруг гумна, может быть, удастся кое-что спасти.
— Разве кто сумеет сделать так на своем поле? — сетовал Янош. — Там народу много, а здесь? Если бы все село сговорилось… Да где уж? Как тут сговоришься, когда каждый думает только о себе? Да и поле у кого в одном конце, у кого в другом… Никак невозможно!
Тереза не произносила ни слова. Лицо, ее покрылось темными пятнами, она еле ходила из кухни в дом и оттуда опять в кухню, а когда резала хлеб, то ее рука дрожала. Это была последняя пшеница, муки оставалось еще на одну выпечку — и конец! Она с Габором и Арпад собрали кое-какие деньги — заработанные мужчинами на ферме, вырученные ею за продажу масла, яиц, салфеток, которые она сама ткала из конопляной пряжи, полученные Арпадом за работу у соседей. Они рассчитывали из этих денег частично уплатить одному человеку, который жил на холме и в рассрочку продавал свой старый дом на своз. Теперь надо отказаться от дома и купить пшеницы, иного выхода нет.
Через десять дней дождь перестал. На поле, которое превратилось в необозримое болото, от скирд не осталось и следа. Еще не сжатый ячмень тоже затопило, и он весь осыпался, упав в грязь. Люди поглядывали на солнце, спрашивая себя, надолго ли оно появилось или снова скроется, как зимою. Ждали, пока подсохнет земля, тогда можно будет посмотреть, что стало с кукурузой и картофелем. Воздух и земля нагревались очень медленно, можно было подумать, будто на дворе стоит апрель. Вечером и утром было холодно, и никак не удавалось избавиться от сырости, пропитавшей дом, одежду, все тело.
Женщины сушили на террасах и на изгородях половики, мешки, покрывала — влажность проникла во все дома, куда каждый наносил немало воды и грязи, бегая с насквозь промокшими мешками и накидками на спине в коровник и в кухню. И из-за множества этих развешанных тряпок все село выглядело одетым в пестрое рубище.
Когда дороги просохли, Янош пошел в поле накопать картошки, если еще можно было что-то накопать. Там он ругался и проклинал каждое гнездо, в котором находил сгнившие картофелины. Ему встретилась Анна Балаж с Марикой. Они тоже искали в земле картошку.
— А ты нашла?
— Да нет, ведь все погнило. Повыше, по оврагу, где косогор, там еще кое-что есть, а мы посадили больше всего тут, в ложбине, и ничего от нее не осталось. Сунешь руку, хочешь вытащить картошку, а пальцы проходят сквозь нее, как сквозь навоз.
Марика, такая же высокая, как и ее мать, статная, с тонкой талией и длинными ногами, хмуро развязывала и завязывала узел своего головного платочка. Ее смуглое, с тонкими, правильными чертами и гладкой, чистой кожей лицо, продолговатые блестящие черные глаза, густые брови словно застыли в глубокой, безысходной грусти. Янош посмотрел на Марику и быстро перевел взгляд на ее мать. Слишком уж бросалось в глаза сходство Марики с графом, и Янош сам не понимал, отчего ему первый раз в жизни тяжело смотреть в глаза кому-нибудь из односельчан. Именно у него находил себе приют граф… Не потому, что… Это ведь старая история… Но все-таки… Никто не пустил графа к себе, только вот он, Янош, такой выискался! Анна прогнала барина, да и как было его не прогнать?
Они втроем спускались в село, и то Анна, то Янош начинали жаловаться:
— Я за всю свою жизнь не припомню, чтоб среди лета шел такой дождь.
— Да и я не припомню, хоть я и постарше тебя.
— А не говорил Арпад, на ферме уберегли что-нибудь?
— Уберегли то, чего вода не унесла, теперь, когда просохнет, видно будет, что осталось. И еще уберегли то, что сложили в большие закрома, там было место. Они в самый сильный дождь выехали в поле на тракторах и привезли на ферму. На тракторе не увязнешь, это тебе не быки.
Марика молчала.
Уже почти стемнело, когда они спустились вниз, к кресту на развилке перед селом. Янош остановился поправить брюки, которые он, чтоб не испачкать, засучил на поле. Женщины тоже остановились, поджидая его.
В эту минуту на узкой тропинке, которая отходила от большой дороги и, извиваясь между деревьями, по берегу ручья приводила в город скорее, чем дорога, показался человек. Он стоял в двух шагах от них и, сделав эти шаги, очутился перед ними. Нагнувшийся Янош заметил его не сразу, но Анна на секунду замерла, подалась вперед, словно желая взглянуть ему в глаза, открыла рот и, не издав ни звука, повернулась на месте и быстро пошла к селу.
— Куда ты бежишь, мама? — спросила удивленная Марика, и ее глубокий, бархатный голос, впервые прозвучавший в этот вечер, показался Яношу очень странным.
— Янош, я хотел бы тебе кое-что сказать.
— Скажите же, господин граф… — промямлил Янош.
— Я хотел бы… Да, мне надо кое-что тебе сказать. — И граф хмуро взглянул сперва вслед Анне, а затем — на Марику.
Черные глаза Марики тоже не отрываясь, пронизывающе смотрели на него. Она окинула его взглядом с головы до ног, от поредевших, седых на висках волос, от не слишком чистой рубашки в зеленую и желтую клетку с расстегнутым воротом до облупившихся сандалий, слегка пожала широкими плечами и с невозмутимым спокойствием произнесла тем же низким, теплым голосом:
— Доброй ночи, Янош-бач.
Граф так же торопливо и мрачно взглянул ей вслед и спросил:
— Это старшая дочь Анны Келемен?
— Да, это Марика.
— Ага! Янош, я к тебе пришел вот почему. Я оставил жену в городе, в кооперативной лавке… Понимаешь… Она меня ждет. Я пришел к тебе, потому что знаю, какой ты порядочный человек. Мне нужны деньги!
— Деньги? — ужаснулся Янош, сам не понимая, что его перепугало больше: это неожиданное требование или встреча графа и Анны и то, как вел себя граф, когда узнал, что только сейчас стоявшая здесь девушка — его дочь. Да какое там вел себя! Никак он себя не вел, вот и все…
— Да, деньги! — опять шепнул граф, и Яношу ударил в нос запах водки. — Я оставил супругу, она дожидается, сам понимаешь, не могу я заставлять даму ждать меня.
— Где же мне взять денег, господин граф? Разве у крестьян есть деньги, чтоб давать взаймы? Вы знаете, что за беда у нас? Не слышали, барин, какие дожди прошли? Вы уезжали далеко? Там не было дождей? У нас унесло водой пшеницу, все хлеба погибли. Беда стряслась, барин, а вы приходите взять у меня денег!
Ни разу в жизни Янош не говорил так много и не был до такой степени возмущен.
— Не взаймы, Янош, не взаймы. Видишь ли, я стеснен, у меня все отняли, ты сам прекрасно знаешь. Пришло время мне серьезно подумать… Стать серьезным человеком… Я хотел бы продать что-нибудь, да ведь у меня больше ничего нет. Я дал тебе когда-то зеркало. Большое, дорогое зеркало. Вот я и пришел, заплати мне за него. Не сердись, но разве теперь такие времена, чтоб я мог делать подарки? Могу я себе это позволить? Ничего у меня больше нет, теперь уже я не мотаю. Понимаешь?
Янош не понимал.
— Как же это, барин, я буду платить вам за зеркало? Разве я приходил к вам покупать его?
— Ох, дорогой, не в этом дело! Приходил ты или не приходил, но оно у тебя, выражаясь юридическим языком, оно находится в твоем владении. Поэтому ты должен мне уплатить за него. Меня ждет супруга. Графиня, моя жена!
— В трактире?
— В кооперативной лавке. Положение очень тяжелое, мы не можем уехать, пока не расплатимся.
— Нет у меня денег.
— Хорошо, но зеркало…
— Приходите завтра, барин, и пойдете продавать его куда знаете.
— Но мне сейчас нужно, Янош, сейчас.
— Сейчас я не могу снять его с гвоздя и отдать вам. Дети дома, пойдут разговоры. Сегодня вечером я их подготовлю, а завтра отдам вам зеркало.
Граф и задумчивости опустил голову.
— Да, да, твоя дочь. Она антипатична, Янош, не обижайся, но она антипатична. У нее в глазах этакая крестьянская гордость… Мне это не по душе. Лучше завтра… А сегодня вечером… Посмотрим! Очень трудно!
Поглощенный своими мыслями, граф двинулся с места.
— Спокойной ночи, барин! — сказал Янош и повернулся так же круто, как только что повернулась Анна.
Пройдя немного, он услышал за собой торопливые шаги графа.
— Янош, ведь ты не сердишься, правда? Разве такой я человек, чтобы в моем положении терять то, что у меня еще осталось?
— Я не обижаюсь, господин граф! — Янош высвободил плечо из-под руки графа, — руки с длинными пальцами, тонкой, но все-таки странно тяжелой, и быстро пошел дальше.
Он широко шагал по камням и сухим местам и иногда сплевывал.
— Тьфу, разрази его бог вместе с его подарком! Что мне теперь скажут дети! Ведь они меня совсем засмеют! Тереза-то как огорчится! Она еще и не захочет отдавать зеркало, ведь граф вволю попил и поел у нас за него. Тоже сделал подарок, один раз за всю свою жизнь! Тьфу! Никто в селе не получил от него чего-нибудь бесплатно, а теперь он приходит и требует назад подарок! Да что там, денег за него хочет! Денег! А у нас и хлеба нет!
Дома все дети собрались в кухне. Габор чинил туфлю Терезы, Арпад сидел возле плиты и, тихо насвистывая, вырезал из дерева кувшинчик, а Тереза влезла на кровать и, тяжело дыша, растирала отекшие ноги. Ее покрывшееся пятнами лицо было почти неузнаваемо, только глаза поблескивали, как всегда.
— Отец, к тебе приходил твой «приятель». Ты не встретился с ним в поле?
Янош прикинулся, что не понимает. У него не хватало духу сказать, зачем приходил граф.
— Какой приятель?
— Тот, у которого ты в долгу за то, что он тебя когда-то поцеловал. Вот он и пришел за долгом, — как обычно, пошутила Тереза.
Янош похолодел. Неужели граф сказал что-нибудь и детям?
— Пропал картофель, ребята, как есть весь пропал! Не знаю, что соберем.
— Погнил? Ох, вот беда! Если и картофель сгнил, совсем нам погибать! — забыв о графе, застонала Тереза. — До ребенка ли мне теперь? Нашла время рожать! Уж лучше бы…
— Да замолчи же! — оборвал ее Габор. — Ведь мы отложили кое-какие деньги. Хватит, чтобы еды купить.
— А дом?
— Мы еще не старики.
— А я еще не женился, — поддержал его Арпад.
— Да если ты и женишься, так мы разве собаки, чтоб не прожить вместе два-три года.
— Потеряем лес Иошки-бача, ему тоже нужны деньги, он и продаст, не станет нас дожидаться.
— Через год найдем у кого-нибудь другого.
— Да ребенок нам сейчас совсем ни к чему!
— Насчет ребенка ты глупостей не говори, жена, ты родишь не батрака и не нищего. Все мы дома, здоровы, земля у нас есть, отец тоже крепкий, чего ж ребенка оплакивать? Родишь его, и пусть живет нам на радость!
— Значит, сгнил картофель?
— Сгнил.
— А кукурузу там, наверху, на холме, ты смотрел?
— Та, что наверху, как будто получше.
Ночью Янош без сна ворочался в постели. Как сказать детям насчет зеркала? Терезе оно нравится, оно так украшает комнату. Нет, он не отдаст зеркало и выгонит графа за ворота. Янош посоветовался бы с Арпадом, Арпад мягче, чем Тереза, но завести разговор было нелегко. Он все вздыхал, переворачивался с боку на бок, кашлял.
— Тебе не спится, отец?
— Не спится.
— Наверно, сейчас никто в селе не спит, уж очень все расстроены.
Сон бежал от них.
— Арпад!
— Что, отец?
— Знаешь, зачем приходил господин граф?
— Хотел переночевать в гостинице?
— Нет. Он приходил, чтобы я либо заплатил ему за зеркало, либо отдал обратно. Вот зачем он приходил.
Арпад тихонько засмеялся.
— Отдай ему, отец. И когда тебе кто-нибудь скажет, что ты, — Арпад чуть было не сказал «тряпка», но удержался, — что ты человек мягкий, можешь поверить — это так и есть.
— Слыхано ли, чтоб барин так поступал?
— А тебе удивительно?
— По-твоему, нечему удивляться?
— У них — нечему!
— Как будто ты их знал!
— Я-то их не знал, но скажи теперь сам: были они когда-нибудь щедры или хорошо платили за работу только потому, что у крестьянина денег нет? А может, ждали, если крестьянин не мог вовремя долг уплатить? Ну-ка расскажи, ведь об этом ты никогда не рассказывал.
Янош молчал. Рассказывать было нечего.
— Отец!
— Чего тебе?
— Почему они тебе не противны?
Янош глубоко задумался.
— Почему же они должны быть мне противны? В те времена так было: он барин, ты мужик. Ты ему скажешь: «Целую ручки», он ответит, и все тут. А расчеты велись с Имре, с Лаци. Барин ничего и ведать не ведал.
— Ведать не ведал? Лежал на пуховых перинах и ничего не ведал, бедняга! Кто-нибудь в селе любил его?
— Да за что ж его было любить? Не за что, сам знаешь! Сильвестр говорит: «Ежели бы он не продал землю, нам негде было бы купить, за это ему спасибо». Но любить-то его никто не любил.
— Если бы у него не было земли, то была бы у вас.
— Это как же — у нас?
— Ох, отец, как тебе не понятно? Ежели бы его деды и прадеды не скупали землю и не… Ты что, отец? Вот тебе раз, он уснул!
Через минуту Янош, очнувшись от тревожного сна, подскочил как ужаленный.
— А как по-твоему, Тереза отдаст зеркало?
— Тереза? — Арпад долго размышлял. — Ну, не думаю. Да ты спи, завтра посмотрим. Может, граф завтра и не придет за зеркалом. Спокойной ночи!
— Арпад!
— Что, отец?
— Он встретил у креста Анну Келемен, то есть Анну Балаж, и Марику. Он посмотрел на них, ну вот как я на стенку эту гляжу, право.
— Он, может, их не узнал.
— Да ведь он же меня спросил. А смотрел на них, как на стенку. Разрази его бог!
На другой день Янош со стесненным сердцем поджидал графа. Он ничего не сказал Терезе, надеясь, что, может, барин не придет, но от страха перед его появлением не находил себе места. Когда дети ушли на поле, он водился в коровнике, чтоб успеть перехватить графа по дороге в дом.
К обеду калитка неслышно отворилась, и во двор вошел граф. Он шел медленно, опустив голову. Янош сразу по его походке увидел, что он трезв.
— Добрый день, Янош, — тихо сказал граф.
— Добрый день, господин граф, — тоже тихо ответил Янош и больше ни о чем не спросил. Он ждал.
Граф присел на край колодца, откашлялся, словно желая избавиться от легкой хрипоты в голосе, и, посмотрев усталыми глазами на Яноша, потупился.
— Янош, я пришел извиниться перед тобой за вчерашнее. Я был немножко под хмельком… Знай, Янош, что граф никогда не берет обратно то, что он подарил. Кажется, я тебе сказал, чтобы ты отдал мне зеркало, что-то в этом роде. Прости меня, Янош, и забудь об этом. Я рад, что зеркало у тебя. Владей им на здоровье. Ты, наверное, что-нибудь вообразил, мне совестно перед тобой.
— Бросьте, барин, не думайте об этом.
— Я могу обеднеть, дорогой Янош, дойти до крайней нищеты, но в моих жилах всегда будет течь графская кровь. Я лучше буду работать, ты видишь, я берусь за любую работу, но если я что-нибудь подарил, то назад не возьму.
— Конечно, барин.
— Прощай, Янош. Я с графиней, моей супругой, уезжаю в другие места. Быть может, мне там больше повезет, чем здесь. Мы больше никогда не увидимся, Янош. Но я буду с удовольствием вспоминать о тебе.
Барин пошел было к воротам, но пошатнулся и оперся о колодезный сруб. У Яноша мелькнула мысль: «Он ничего не ел».
— Господин граф, не отведали бы вы кусочек сала с хлебом, потому как уже скоро полдень?
Граф улыбнулся и снова опустил глаза.
— Если хочешь, Янош… Господа умеют и давать и принимать, никого не оскорбляя.
Сердце Яноша сжималось, когда он отрезал ломоть хлеба. Хлеба так мало! И как раз теперь приходится делиться им с чужими людьми!
Граф быстро съел, не сводя глаз с двери, словно ему было бы неприятно, если бы кто-нибудь из домашних застал его, затем поблагодарил и ушел.
— Знаешь, Арпад, — сказал сыну Янош вечером, когда они легли спать, — приходил граф. Но он не за зеркалом пришел, а сказать, что был пьян и не понимал, что говорил. И еще прощенья просил.
— Вот как? Только бы он держал свое слово подольше!
— Да нет же, он уезжает в другие места. Распрощался со мною.
— До тех пор, пока не вернется.
— Разве он вернется?
Арпад не ответил, в темноте раздался только его смех.
— Видишь ли, Арпад, он все-таки остался барином. И постыдился, что так нехорошо поступил со мной.
— И крестьянин также постыдится, если он нехорошо поступит.
— Уж у тебя на все готов ответ. Зубастые вы — ты и твоя сестра. Не видишь сам, ведь он работает. Ты подумай только, он граф или нет? Барин или нет? А берется за работу — и дрова разгружает, и кирпичи делает, не отказывается!
— Ну и на здоровье. А прежде-то он работал?
— Да зачем же ему было работать? Нужда его заставляла, что ли?
— Тогда давай поплачем, что он работает теперь, или поцелуем его за это. Ведь мы-то работаем с тех пор, как на свет родились! У тебя спина не болит, отец?
— Сегодня нет. Вчера болела.
— А ты жаловался, или тебе некогда было, потому что ты оплакивал спину графа? Она у него понежнее, не такая привычная. Пожалей его!
— Поди ты к черту, ты так все сворачиваешь, и выходит, что ты прав! Ох, хочется мне покурить!
— Возьми, отец, вот, протяни руку. Нашел? Погоди, я дам тебе огня. Пожалуйста! Спокойной ночи!
* * *
Зима миновала — она оказалась легкая, снегу выпало мало, морозы бывали редко. Из района крестьяне получили пшеницу — частью даром, частью в долг, в рассрочку, так что взносы были невелики. Кукуруза кое у кого уцелела, кое у кого погибла. Картофель привозили из северных областей Ардяла и берегли его. Никому не было легко, но никто и не голодал, в каждом доме экономили как могли. Почти все мужчины работали на государственной ферме или на стекольном заводе, который недавно построили на берегу Тырнавы. Они нанимались туда сначала временно, а потом получали квалификацию и переходили на постоянную работу.
Габор и Арпад тоже ушли туда работать с рождества до пасхи — надо было скопить денег, послать домой съестных припасов и отложить сколько возможно.
Еще осенью Тереза родила сына. Здоровому, пухленькому ребенку дела не было до того, что он родился в трудную пору. Рос он быстро. У Яноша работы было немного, и он мог заниматься им гораздо больше, чем когда-то занимался своими детьми.
— Смотри, Тереза, как он сердится, что ты ушла из комнаты и забыла о нем. Погляди, как недовольно на тебя смотрит! А вот уже смеется, ничего…
Тереза, чтобы не носить ребенка после ванны через двор, купала его в комнате, возле печи, потом надевала на него длинную, широкую рубашонку и ставила на ножки на столе, перед зеркалом.
— Есть у мамочки два сына! — Тереза играла с ним, его толстые ножонки с розовыми пятками стояли еще нетвердо. В зеркале отражалась смеющаяся ребячья рожица.
— Погляди только, как он спит, — снова восхищался Янош, глядя на спящего ребенка. — И что это он во сне видит, что ему смеяться хочется?
Тереза тоже радостно и растроганно смотрела на сынишку. Она стала более ласковой, говорила мягче и иногда бывала такой же, как прежде, когда по вечерам на поле, во время сенокоса, поджидала Габора, — ясной, оживленной, сияющей.
К началу пахоты Габор и Арпад вернулись домой. Из района снова дали семенной пшеницы для весеннего посева, и у всех отлегло от сердца. Кто сохранил немного зерна с осени, теперь пек из него хлеб.
Весна наступила теплая, дожди шли вовремя, солнечных дней было довольно. Покрытые свежей зеленью поля были прекрасны. Ручей так смирно бежал в русле, словно был таким всегда и знать не знал о валявшихся теперь на его берегах корнях деревьев, камнях, ветвях, которые он мчал в те страшные дни.
Однажды дети кузнеца, который жил во флигеле графского дома, шарили на чердаке и нашли там сундук. Он был засунут далеко под покатую крышу, и его до сих пор никто не обнаружил. Сундук был заперт, но петли настолько проржавели, что удалось их сломать и откинуть крышку. Сначала показалось, будто внутри лишь паутина, пыль, плесень. Но в глубине, под несколькими листами шелковой бумаги, рассыпавшимися прахом, когда их взяли в руки, оказались необыкновенные вещи. Две большие, величиной с колесо, шляпы с длинными, волнистыми перьями — белыми, розовыми, серыми; они насквозь пропитались пылью. Тонкая, длинная шаль из черных кружев, рвавшаяся при неосторожном прикосновении. И длинное платье, все в пышных воланах, шелестевших, когда его встряхивали, да еще несколько юбок, тоже с воланами.
Все деревенские девушки одна за другой приходили к жене кузнеца поглядеть на эти штуки, приходили и женщины. Одна старуха, Цицилия, даже вспомнила, как графиня Иолан в молодости надевала какую-нибудь из этих шляп, когда ездила в коляске на прогулку или в город. У Цицилии одна нога была короче другой, она сломала ногу еще в детстве — упала с дерева в графском саду. Она работала там во время сбора черешен, и управляющий, заметив, что она не столько собирает, сколько ест, поджидал ее внизу с арапником. Перепуганная девочка свалилась с дерева и встать сама уже не могла. Теперь Цицилия показывала девушкам, как носила шляпу графиня, как она, идя, подбирала шлейф платья. И хромающая, старушечья походка Цицилии производила и смешное и грустное впечатление. Девушки глядели, их разбирал смех, и, примеривая шляпы и юбки, они удивлялись, как можно было носить этакую одежду.
— Знаете что? Давайте сыграем в клубе пьесу про барынь, ведь костюмы-то есть!
— Давайте!
— А какую пьесу?
— Учительница нам найдет.
Учительница нашла, и девушки сыграли пьесу; они путались в юбках и обрывали воланы, но их забавляло это преображение. Парням одеться было труднее, для них не нашлось ничего подходящего, и они облачились в костюмы учителя и его сына.
По этому случаю старики снова вспомнили о господах.
— Дед мой, упокой господь его душу, был денщиком у графа Гезы, младшего брата Альберта, и рассказывал, что, когда он стаскивал с графа сапоги, тот по семь раз толкал его ногой. «Вот тебе, не умеешь снимать как следует!» И опять как толкнет его в грудь, так дед кубарем катится. И словно считал, черт его подери, всегда ровно семь раз заезжал ему. «Мне нравится, как ты летишь лапами кверху!» — говорил. Молод был, а этакий дьявол. Его на войне убили, туда ему и дорога — дрянной был человек.
— Ну, Альберт был добрый! Потому-то в 1848 году, когда была революция, то есть когда она кончилась, родители поскорее услали его в Будапешт. Боялись, что его в тюрьму посадят, ведь он за крестьян стоял, на их стороне был то есть. Ему было тогда лет двадцать, и он из-за крестьян ссорился с родителями. А потом, вернувшись, женился и позабыл о крестьянах.
— Альберт был бабник, но драться не дрался. А все же, после того как женился, ни за что не давал отсрочки; если кто ему должен был, то и не жди!
— Черт бы его побрал.
— А эта шляпа с перьями вам нравится? Хотела бы ты такую, Эржи?
— Вот бы я понравилась Левенте, если бы вышла в ней на прополку!
На синевато-дымчатом небе взошел молодой месяц. Ложиться спать было для воскресенья еще слишком рано, и по дороге домой молодежь собиралась вместе и, отстав от родителей, исчезала куда-то.
Янош тоже был в клубе и смотрел пьесу про барынь и господ, которые называли друг друга исковерканными именами и невероятно смешно кривлялись на свой манер. По дороге он слушал, что говорили люди о господах, и его снова охватило странное чувство стыда и отчуждения, как в тот вечер, когда он, Анна и Марика встретили на дороге графа и ему показалось, что он виноват перед Анной и ее дочерью. Какого черта граф все является к нему и какого черта он, Янош, размякает, стесняется, жалеет его и дает ему приют? Отнимает хлеб у собственных детей и отдает чужому, который ни разу в жизни, имея всего вдоволь, не отказался хотя бы от крохотного кусочка, чтобы отдать его крестьянину даром! Почему граф получил эту землю в наследство, а Янош только ценой пота и крови мог купить два погона? Как же это было с самого начала? Откуда получили землю и отец графа, и дед его, почему они все наследовали один после другого? Бог при сотворении мира наделил их землей, что ли? Пусть Арпад объяснит ему наконец, как это вышло. Арпад знает.
И граф тоже некоторым образом присутствовал на спектакле, который играла молодежь. Вечером он пришел в село и, увидев, что всюду пусто, бродил точно привидение по улицам, издали глядя на усадьбу. Его охватило желание посмотреть на нее поближе: какая она теперь? Окаймлявшие аллею от крыльца до ворот высокие сосны он сам велел срубить зимой 1945 года, перед тем как продал дом. Граф намеревался продать дом, зная, что больше не будет владеть им. Жену он выгнал, лес продала мать во время войны, денег на покупку дров не было. Граф и графиня Иолан, сидя в гостиной, дрожали от холода. Они согревались водкой и ругали друг друга за отсутствие бережливости, за излишнее мотовство. Вот тогда, однажды утром он велел Имре созвать людей и срубить сосны, все до одной, потому что они уже стары и летом дают слишком много тени.
Он и его мать, сидя перед камином, в котором пылали первые поленья, слушали, как тяжело падают сосны, и пили превосходный коньяк, последнюю бутылку урожая 1905 года, сохранившуюся в бельевом шкафу графини.
Вьющиеся розы, одевавшие столбы веранды, погибли — возможно, их не уберегли от мороза, возможно, завалили дровами, камнями, всем, что кузнец бросал вокруг дома.
Вон там была лужайка, а здесь росли большие кусты жасмина. Граф претерпел такие беды, что ему теперь жасмин?
В доме кузнеца стояла мертвая тишина. Сад, где обычно играли его дети, был пуст. Но в том крыле дома, который стоял подальше от дороги и где теперь помещался клуб, было заметно некоторое оживление. Кто-то вошел, двое ребят стрелой выскочили друг за другом и исчезли в верхнем конце улицы.
Прячась в тени стен, граф осторожно подошел и заглянул в окно. Зал был битком набит крестьянами, которые смотрели на сцену, устроенную там, где прежде стоял большой резной буфет, смотрели внимательно, и с их загорелых лиц не сходила широкая улыбка. Порой они заливались смехом и хлопали себя ладонями по коленям. Там, на сцене, неуклюжие девушки вертелись и что-то говорили, делая неестественные жесты. И они были одеты, да, одеты в платья, которые ему знакомы, о которых он помнит, как помнят сон. Эта шляпа с розовыми перьями — шляпа его матери. Как мама была красива в ней! И это платье с воланами — тоже ее. Он, вероятно, был тогда очень мал, но теперь перед его глазами встала графиня в этом платье цвета опавших листьев, шелестевшем, как опавшие листья. Прислонившись к оконному косяку, она обмахивалась большим веером из розовых перьев, а он, ребенок, охватил ее колени, он не хотел, чтобы она уходила. И Пал Эрдейи, в гусарском мундире, с падающей на лоб прядью кудрявых волос, подал маме две розы, которые она прикрепила к груди. Из спальни доносился мягкий бас отца — он спрашивал, где его манжеты, а из библиотеки — тихий шорох переворачиваемых страниц книги, которую читал граф Ференц. Мама со смехом вырвалась из ручонок Тиби, а Пал Эрдейи поднял его и, как он ни плакал, ни брыкался, бросил в кроватку с сеткой. Мама, Пал и отец вышли, оставив за собой аромат духов, а он с ревом отправился в библиотеку искать утешения у дяди Ференца. Но Ференц, укутанный клетчатым пледом, дремал, уткнувшись подбородком в грудь. Горящая трубка упала на большую книгу с толстыми блестящими страницами, и бумага затлелась от искр. Большое черное пятно на книге становилось все глубже, все шире, и он видел это, но ничего не говорил, чтобы отомстить хоть кому-нибудь за то, что мама уехала.
Граф стоял, прижавшись к наличнику окна, и вздрогнул, снова увидя перед собой зал, полный хохочущих людей. Ему почудилось, будто кто-то из детей, широко раскрыв глаза, смотрит на него и дергает за рукав свою мать — пусть и она тоже взглянет. И граф ушел, по-прежнему крадучись вдоль стен.
Сперва он постучался в ворота к Сильвестру. Старик в одиночестве сидел на завалинке, у него болели отекшие ноги, и он не мог пойти со своими в «театр».
— Добрый вечер, Сильвестр. Как дела?
— Добрый вечер, господин граф. Да какие мои дела. Все больше лежу, грехи мои тяжкие.
— Один?
— Один.
— Сильвестр!
— Да, господин граф.
— Я хотел бы переночевать у тебя.
— У меня? Дом-то принадлежит детям, барин.
— Каким детям, Сильвестр, ведь у тебя их нет! Я хорошо помню, что ты не женат.
— Я взял приемышей, барин, чтоб не остаться одному, точно старый волк. Жениться-то я не женился, потому что батрачил у вас и не скопил денег, чтоб построить дом. А когда построил, уже ни одна женщина не хотела за меня идти, состарился я. Вот я и взял приемышей, дом отдал им, а они будут содержать меня до самой смерти. Разве я могу привести к ним гостей?
Граф вздохнул.
— Я знаю, барин, что, если бы вы не продали нам землю, нам негде было бы ее взять. Этого я не забываю! — затянул свою обычную песенку Сильвестр. — Мы вам спасибо сказали и деньги заплатили. Только принять вас я не могу, барин, ведь меня самого дети содержат.
«Одну ночь — это еще куда ни шло, — думал старик, — но, чего доброго, барин повадится сюда, как к Яношу Денешу повадился. Что мне тогда с ним делать?»
— Да, меня дети содержат! — вздохнул он еще раз и умолк.
Граф быстро встал с завалинки, словно лишь сейчас поняв то, о чем ему десять минут толковал старик, и торопливо вышел за ворота. Здесь он замедлил шаги.
Люди возвращались из клуба, и на большой дороге было шумно. Граф свернул в боковую улочку и пошел вдоль ручья, а когда совсем стемнело, снова явился в село.
У Яноша было светло и в комнате и в кухне. Граф подошел к двери кухни — было слышно, как там говорили по-румынски. Янош сидел на лавке, а на кровати оживленно беседовали Арпад и какой-то высокий худой парень со смуглым лицом и синими глазами.
Первым увидел графа чужой парень и замер с поднятой рукой, видимо, показывая, как велик был предмет, о котором шла речь.
— Смотри, Арпад, кто-то пришел.
Янош обернулся, и улыбка застыла на его лице.
— Добрый вечер! — глухо произнес граф.
— Добрый вечер, господин граф, — ответил сразу помрачневший Янош.
Смуглый парень вопросительно взглянул на Арпада, и Арпад сделал ему знак, что объяснит позднее. Растерянный Янош встал.
— Барин, я очень жалею, но мне негде вас положить. На лавке сплю я, а Арпад и Костел на кровати. Наверху, вы сами знаете…
И Янош словно обрадовался, что у него есть веские причины не принимать графа, покончить раз навсегда с этой постыдной дружбой, которая ничего не приносила ему, кроме вреда. Что у него общего с барином?
Подавленный граф, стоя в дверях, подумал с минуту и сказал:
— А на чердаке с сеном, над сараем, нет места? Если вы позволите, я лягу там. Я ночью не курю. У меня даже папирос нет.
Янош только рот разинул. Такого он никак не ожидал, и ответить было нечего. Он взглянул на Арпада, но тот, как всегда, улыбался, и Янош не мог понять, что кроется за этой улыбкой. Он вздохнул, почесал грудь под расстегнутой рубашкой и тихо сказал:
— Так я вас провожу туда, барин. Может, там блохи, может, мыши… Не знаю… Как хотите…
Постелив для барина на сене покрывало, Янош вернулся в кухню, но на душе у него было не слишком спокойно.
— Кто это приходил? — осведомился Костел.
— Прежний наш помещик. Теперь дела у него плохи, и отец иногда пускает его к себе.
Янош поспешил прибавить, стремясь не столько выгородить барина, сколько избежать того, чтобы у механика государственной фермы, Костела, сложилось неблагоприятное мнение о нем, Яноше:
— Он работает, бедняга, ежели находит работу, даром хлеба не ест!
— Работает, а потом напивается, и его всякий раз выгоняют с работы, — объяснил Арпад.
— А в свое время он был человеком порядочным? — спросил Костел.
— Может, был и более порядочным, чем другие, так отец говорит, да все же помещичьих законов придерживался. Не нарушал их, упаси бог! Он не сажал людей в тюрьму за долги, но чтоб долг простить — уж это нет, тотчас же отбирает обратно и землю. И даже не он, а его управитель Имре.
— Ну, на то он и барин, что ж с ним поделаешь! Мало кто из них, из бар, отказывался от своих обычаев, когда они еще властвовали. Да черт его побери, пусть сидит себе там, в сарае. Так вот, Арпад, я тебе рассказывал про ту зиму, когда меня отдали в учение. Иду это я…
Янош больше не слушал. Его терзали мысли о барине. «Конечно, он голоден. Не следует ли сейчас отнести ему чего-нибудь поесть? А он-то разве когда-нибудь давал поесть даром? Но как оставить человека в своем доме голодным? И если накормить его сейчас, что скажет этот парень, который и церкви-то не признает? Что я кормлю бар? Что я с ними компании вожу, как уже раз сказала Тереза. Черта с два компания, я вытаскиваю из погреба, а барин ест!»
— Что с тобой, отец? Чего ты мучаешься? Поди отнеси ему тарелку токаны, ведь осталось… И скажи наконец, скажи ему прямо, чтоб он больше не приходил, а не то когда-нибудь Тереза или Габор выгонят его за ворота. Поди, отец, отнеси и скажи! Ведь мы не так богаты, как праотец Ной!
Янош с тарелкой токаны поднялся на чердак. Барин еще не спал и молча принялся за еду.
— Где вы побывали, барии?
— Тяжело жить, Янош, очень тяжело. И там тоже все неудачи.
— А барыня? — вспомнил Янош и замер на месте. Ох, он совсем позабыл! А что, если завтра утром или к ночи и она явится в «гостиницу»? Упаси бог!
— Барыня? Она была не барыня, Янош, она была распутница и вела себя как распутница.
— Госпожа графиня?
— Графиня? Я не сочетался с ней законным браком, так что никакая она не графиня.
— Да ведь вы говорили, господин граф…
— Янош! — весь побагровев, вдруг вскричал граф. — Янош, не зови меня больше господином графом, с графами покончено! Слышишь? Покончено навсегда! Какой я граф, если я работаю у кирпичной печи и копаю землю? Зови меня Тибор, зови Тиби-бач, но чтоб я больше не слышал этого «господин граф»! Все! Кончено!
— Да я по привычке…
— Никаких привычек! И я когда-то привык ездить в коляске, запряженной шестеркой лошадей, а теперь хожу пешком, пока у меня ноги не распухают, и привык к этому. К чему я только не привыкал постепенно до сегодняшнего дня? Привыкну и спать на твоем чердаке для сена!
«Вот тебе на! Попался же я! — думал Янош. — Он привыкать собирается! Как же я ему сейчас скажу?»
— А у Сильвестра вам не было бы лучше?
— У Сильвестра? Я пытался, у него негде.
«Слыханное ли это дело! — удивился в душе Янош. — Во всем селе только Сильвестр и говорит, что мы должны спасибо сказать графу, и сам же прогнал его! Один лишь я… Видно, и вправду я тряпка!»
— Господин граф, я…
— Опять? Не господин, не граф! Завтра выйду с вами на покос! Вот здесь, где мне принадлежало все!
«Какой там покос! Вот увидит его на покосе Тереза, опять же мне попадет!» Янош чувствовал, что ему надо поразмыслить. Надо хорошенько обдумать, как заставить завтра графа отказаться от покоса и уйти восвояси. Сейчас барин застал его врасплох.
На следующий день граф, выспавшись, спустился с чердака. Он стряхнул с себя соломинки и остановился посреди двора.
Никто еще не ушел косить. На рассвете сбрызнуло дождичком, небо было облачное, и люди не знали, хороший ли будет день для сенокоса.
Янош после бессонной ночи наконец собрался с духом. Он вежливо скажет графу: «Господин граф, я больше не могу, и дети не хотят. Что поделаешь? Не прогневайтесь, но больше к нам не приходите!»
Но граф опередил его:
— Янош!
— Да, барин.
— Я хотел кое-что тебе сказать. Слишком уж тяжкие настали времена. Нет никакой надежды, что все станет по-прежнему. Кончено! Кончено с графами и барами. И я забыл, что в моих жилах течет благородная кровь.
— Да, барин. Что уж тут поделаешь!
— И я хочу поехать в Сибиу, попытаться поступить на фабрику.
— Это ничего, вы ведь уже побывали на фабриках, — утешил его Янош.
— Но, чтобы уехать, мне нужны деньги на дорогу. Продавать мне больше нечего. Понимаешь?
У Яноша кровь заклокотала в жилах, прилила к лицу. Ну, этот барин совсем меры не знает!
— Мне нечего продать, кроме зеркала, которое у тебя. Я забыл, что когда-то был графом, что имел честь и гордость. С честью и гордостью покончено. Отдай мне зеркало или деньги за него. Мне очень жаль, но иначе невозможно.
Разъяренный Янош открыл было рот, чтобы выругаться, но не успел — в тишине двора отчетливо прозвучал другой голос, суровый, уверенный, сдержанный:
— Иди наверх, отец, снимем зеркало с гвоздя. Отдай его барину и пусть себе идет подобру-поздорову. Иди, отец, скорее!
На террасе стояла Тереза и смотрела своими колючими глазами на графа.
Янош, перепрыгивая через ступеньки, бросился в дом. Они сняли тяжелое зеркало и вынесли его во двор. Разбуженный шумом ребенок отчаянно ревел среди подушек на кровати.
— Как же вы его понесете, барин?
Барин смущенно смотрел на зеркало. Он не знал, как его нести. Щеки его побурели от стыда, глаза стали мутными.
— Дай ему и тележку, пусть положит на тележку и отвезет в город. И оставьте, господин граф, тележку на вокзале, не привозите обратно. Я возьму ее в четверг, когда поеду на рынок.
Барин начал толкать тележку к воротам. Он нахлобучил шапку до самых бровей и смотрел в землю.
Янош широко распахнул перед ним ворота. У него на языке вертелось: «Вот, барин, теперь это зеркало — вам подарок от меня, потому что я все-таки за него заплатил!» Но он сдержался и лишь подумал: «Эх, несчастный, выставил себя на посмешище! Только бы он довез его в целости!»
На месте зеркала Тереза повесила большой лист бумаги, на котором было написано: «Календарь пахаря». Но бумага ей не нравилась, и вскоре она сняла ее и заменила купленным в книжной лавке куском толстого картона, на нем были нарисованы ребятишки, играющие в густом зеленом лесу.
Лаци рассказал в селе, что барин продал зеркало в городе, но в Сибиу не уехал, так как пропил деньги в кооперативной лавке. Он уехал позднее и не так далеко — в Медиаш, где поступил в какую-то контору, потому что знал много языков и там в нем нуждались. И опять же Лаци примерно через год принес в село весть, что однажды ночью около Медиаша графа задавило поездом — его за пьянство уже выгнали со службы, и в эту ночь он тоже был пьян.
Перевод с румынского Д. Шполянской.
Ференц Папп ПО РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
У калитки я включил мотор, прислушался к выхлопам, частым и ритмичным, покосился на окна соседнего дома; стекло чисто и холодно отразило косые лучи предвечернего солнца. Занавеска не колыхнулась, ни малейшего признака жизни. А ведь я знал, что этот дом наконец-то ожил. Но сейчас, с темными окнами на ярком свету, неожиданно молчаливый по контрасту с жарким и частым дыханием прогретого металла, он казался вымершим. Какой-то солдат, топая и подымая сапогами пыль, поравнялся со мной; я отвернулся, чтобы не встретиться с ним взглядом. «С какой стати было отворачиваться? — тут же подумал я. — И что странного во мне мог заметить этот парень? В себе и только в себе я ношу нечто такое, о чем никто не догадывается, чего никто не может увидеть или почувствовать, потому что это сугубо личное; вряд ли это способно внешне отличить меня от других людей. Да и они, наверное, тоже что-то тщательно прячут в душе. Каждую ночь я вижу ее во сне, только и всего. Может быть, потому, что заснуть удается редко и сны видеть легче, это, пожалуй, и не сон, а какая-то полуявь». Солдат прошел мимо. А мне так и не удалось определить, исправно ли работает мотор, я неотрывно смотрел на окна соседнего дома. Расстояние точно измерено взглядом: в двадцати шагах от меня — ближнее окно, в двадцати четырех — другое. Я дал газ, нажал на сигнал, наклонил голову, словно меня встревожил отчаянный рев мотора, а сам краем глаза следил за окнами. «Она не выглянет, — думал я. — Да я и сам не хочу этого». Я заранее знал, что так будет; и все же мне непривычно, что при шуме мотора не колыхнется белая накрахмаленная занавеска. Конечно, можно было привыкнуть за два месяца — если бы ко всему так же легко можно было привыкнуть!»
Я медленно тронул машину мимо разбросанных в беспорядке домов с одинаково белыми стенами и, даже не оглядываясь, чувствовал, как окно, отдаляясь, шлет мне вслед свои холодные отблески. Эти дома — на одну-две семьи каждый — ставил лесопильный завод. Во дворах, где пока еще не пробилось ни травинки, торчали кособокие дровяные сараи, почерневшие курятники и свинарники — одинаково неуместные и сиротливые в новой неприветливой обстановке.
Глубже, в центре поселка, несмолкаемый грохот и скрежет оповещал о строительстве жилых массивов химического комбината: из пыли, ядовитого запаха негашеной извести, бензинового смрада тянулись кверху, к чистому небосводу, новые корпуса. Мне подумалось: прежде чем будут закончены эти дома, глядишь, и тут курятники и свинарники повылезают из оскудевшей земли раньше первых травинок; только, пожалуй, сколотят их на этот раз из новых досок, не таких замызганных. В воздухе плавала цементная пыль: на чахлой зелени по краям кювета блестели шелковистые нити теплоизоляционной стекловаты. Дождь бы сейчас был как нельзя кстати.
По глубоко и неровно изрытой колеями проселочной дороге я хотел перебраться через ручей к буровой вышке. Отсюда пока что виднелась только верхушка ее над самым холмом, как забытый или брошенный кем-то старый, потемневший ящик; время от времени ящик окутывало облако пара. В округе буровых вышек было разбросано немало: искали нефть и горючий газ. Я любил вдруг с полдороги свернуть к такой вот вышке, броситься на выгоревшую, вытоптанную траву, когда после захода солнца земля отдает свое тепло, сидеть, слушать хлопки затихающего мотора, смотреть на уходящую к звездам цепь лампочек. Меня тянуло к вышкам, словно я забыл там что-то — может быть, тишину, смысл отпущенных мне свободных часов.
Уже несколько недель, куда бы ни ехал, я всегда останавливаюсь на мосту и смотрю на воду. В мутных, желтых потоках не видно ничего, но из глубины чистых, зеленых вод на меня глядит Кати. Вероятно, она сама повинна в этом колдовстве. Еще не так давно я мог видеть все, что пожелаю, и в тазу для умывания: коня, дракона, индейца, туберозу (даже чувствовал ее аромат) или дымящиеся кратеры. В последнее же время видел только ее, да ничего другого и не хотел бы видеть. По крайней мере хоть это было в моей власти — увезти ее с собой куда угодно, ведь чистое водное зеркало отыщется в любом захолустье.
Вот и сейчас я притормозил на мосту, установил мотоцикл на опоры и направился к реке. А как только перегнулся через ветхие перила и заглянул в недвижную гладь ручья, в глубину, где под тонким покровом ила спали ветви и листья, меня тотчас окутало знакомым мягким теплом и все тело мое сковала мучительная неуверенность, словно из-под ног вот-вот обрушится пыльный, изъеденный червоточиной деревянный настил. Я ждал этого ощущения, оно было давно мне знакомо и все-таки каждый раз заставало меня врасплох. Кости и мускулы мои казались не крепче скорлупок. «О многих вещах заранее известно, что они должны наступить, но избежать их человек бессилен, — уже не в первый раз подумал я. — Да, наверное, я и сам не хочу их избегать. Ведь иной раз важно не то, что случается с нами, а то, как мы это переживаем».
Я постоял так несколько минут, движения на дороге не было, поэтому только моими были и мост, и ручей, и падающие в воду блики солнца — и я подумал, что уж это я наверняка найду всюду, куда ни забросит меня судьба.
В конце моста приткнулась старая ива; проносясь мимо, я сорвал листок, растер его между пальцев и поднес к лицу. В жаркие дни такой же слегка горьковатый запах исходил от Кати; сейчас мне показалось, будто это ветер принес его откуда-то издалека. Правил я одной рукой. Дорогу еще по весенней распутице разъездили тягачи, ползавшие по брюхо в грязи до буровой и обратно, и теперь пыль доходила до самых щиколоток; мотоцикл, переваливаясь, погружался в нее колесами, словно в воду, сухие колючки хлестали меня по коленям то справа, то слева. Надо было бы держаться за руль и другой рукой, но не хотелось расставаться с тревожащим запахом листка. Мотоцикл вдруг высоко занесло на обочину, в кусты терновника, затем я медленно, тяжело опрокинулся в колею. Сначала почувствовал удар в плечо снизу, потом сверху меня придавило машиной. Раскаленная выхлопная труба уперлась в самую шею; зажигание еще работало, и казалось, смесь взрывается не в цилиндре, а у меня в голове.
Упершись локтем в карбюратор, я выполз из-под мотоцикла, меня выворачивало от тошнотворного запаха горелого мяса. Первой моей мыслью было, что и это все из-за нее; но только промелькнула эта мысль, и я тут же устыдился ее. Все же поразительно — ничто не способно заставить меня забыть Кати. Я снова поднес к носу разбитые пальцы левой руки, да так и остался сидеть, окутанный желтым облаком пыли и — теперь уже только воображаемым — запахом ивового листка. Раздираемый жгучей болью, я смотрел на придавленные мотоциклом кусты терновника: неожиданно они поднялись, одним взмахом расправили свои колючие ветки на фоне выцветшего неба и резко стряхнули с себя пыль, разбрасывая вокруг помятые ягоды. Одна ягода щелкнула меня по лбу.
До больницы я толкал мотоцикл как придется. Солнце уже опустилось к горизонту, светило на меня слева, и длинная моя тень так же рывками ползла рядом со мной в пыли. По мосту я протащился не останавливаясь: опасаясь, что иначе не сдвину с места тяжелую машину, но знал, что и в следующий раз обязательно приторможу и снова сорву листок с ивы. Капли пота, мешаясь с пылью, набегали на глаза и туманной дымкой застилали все вокруг, даже дорогу под ногами я различал будто сквозь марево; навстречу попадались люди, но, наверное, они не узнавали меня, да и я их не разглядывал.
Путь от больницы к дому оказался еще мучительнее: шею и левую руку стягивала тугая повязка. Когда первое онемение прошло, на меня со свежими силами набросилась боль. Иногда земля подо мной словно колыхалась, вставала дыбом. Строгая докторша велела мне лежать, избегая резких движений; очевидно, ей и в голову не могло прийти, что я сам буду толкать мотоцикл до дому. Не знаю, почему я это затеял, любой мальчишка-подросток с радостью помог бы мне. Думаю, из любопытства: выдержу ли?
Два окна как два закрытых глаза. Занавеска не колыхнулась.
Грузовики с прицепами проносились мимо, подымая дорожную пыль, их грохот оглушал, словно мне на голову лопатами швыряли щебенку. На краю придорожной канавы вольготно расселся какой-то тип в рабочей спецовке, уже немолодой, вдребезги пьяный, он махал засаленной кепкой и резким, пронзительным голосом поносил шоферов. На меня он не обратил ни малейшего внимания. Затолкав машину в калитку, я через забор покосился на соседний тихий и пустой дом. Поставил мотоцикл в сарайчик и снова не удержался, глянул через забор, затем протопал к себе в халупу. Превозмогая боль, кое-как разделся и растянулся на широкой тахте.
В прохладном полумраке комнаты можно было даже не закрывать глаз. На стене за дверью висела моя кожаная куртка, с самой весны к ней никто не прикасался, на коже осела проникавшая сквозь щели в оконной раме мелкая пыль, и куртка — особенно спина и плечи — казалась серой. Когда Кати лежала здесь и мягким взглядом своим ласкала все вокруг, она наверняка заметила приставшие к куртке еще с весны брызги засохшей грязи. Теперь бы она, конечно, даже не взглянула на куртку. «Если она узнает, что стряслось со мной, — думал я, — наверное, все-таки зайдет проведать. И я увижу ее. И попрошу положить на лоб руку». По дороге мимо дома громыхали машины, по-прежнему слышались вопли пьяного; я старался лежать неподвижно, уличный шум не раздражал меня; я знал, что сквозь любой шум уловлю постукивание ее мелких, частых шагов по каменному полу террасы. Но только Коша забежал домой на минуту — ко мне в комнату он даже не заглянул — и так же бегом выскочил обратно на улицу. Затем наступила ночь.
I
Этот дом — и соседний тоже — я впервые увидел ранней весной, в холодных, как сталь, лучах солнца; в его свете даже выпуклые предметы казались плоскими. Перед тем я провел три ужасные ночи: одну — в дороге на мотоцикле, две — в битком набитом рабочем бараке химкомбината, полуодетым, потому что все наши манатки застряли где-то у Предяла в крытом грузовике. Мне страшно хотелось наконец-то по-человечески выспаться и окунуться в работу. И по сути дела, было глубоко безразлично, как выглядит дом снаружи. Зато Коше это было далеко не все равно; он рассеянно поправлял воротник своего синего ворсистого пальто, щурился и корчил кислые мины.
Таких домов полным-полно в любом городишке. Простое, без претензий, сугубо прозаическое здание, на бутовом фундаменте высотой в метр, одной стороной оно выходит на улицу, другой — во двор. Участок уныло правильной квадратной формы обнесен еще новым сплошным дощатым забором, отделяющим его от другого точно такого же участка, где красуется точно такой же шедевр архитектуры.
При пронзительно ярком свете дня особенно назойливо бросалось в глаза, какое здесь все новое, голое и необжитое. Только приткнувшийся к забору позади дома дровяной сарай выглядел старым, но и в его потрескавшихся, выгоревших на солнце досках поблескивали шляпки новых гвоздей. Двор после окончания строительства был захламлен разбросанными повсюду обломками кирпича, ошметками извести, песком, битым стеклом, щепками, кое-где торчали окаменевшие желваки цементного раствора; зимний снег, а после талая вода слепили все это в сплошную серую корку — ни дать ни взять материал для осиного гнезда. На соседнем участке строительные отходы так основательно смешались с почвой, что трава там даже не пробилась. Камень, голая земля, плохо побеленные стены, стекло, кричаще новая черепица крыш и желтые сосновые доски забора — вот и все, что замечал здесь глаз, ну и еще побуревший тающий снег у забора. На двух этих квадратах природа отсутствовала начисто, да, видно, ни у кого и мысли не возникло ее сюда приглашать: даже весне здесь оказалось не под силу добавить хоть что-то из своей палитры.
— На один разнесчастный год сойдет и это, — утешал я Кошу. Из своего детства в Маломтелепе я вынес другое. Толем, жестью, горбылем залатанные хижины, но трава и цветы повсюду, даже на клочке земли не больше ладони. Начиная с ранней весны даже самой пронырливой капле дождя не удавалось упасть на голую землю.
— Уж крапива-то как пить дать пробьется из-под забора, — процедил Коша. Прищурившись, он оглядел двор, и в глазах его читались усталость и покорность собственной участи. — Крапиву пока еще никому не удавалось заглушить.
— Вырвем, — отрезал хозяин мрачным и ленивым тоном, — не то подточит забор.
— Ладно, вырывайте, — сдаваясь, кивнул Коша. — Наше дело — сторона. Мы ведь не садоводы и разбивать тут ботанический сад не собираемся. Пошли, Геза, осмотрим все же дворец.
Речь шла о двух комнатах с отдельным входом. Обе двери выходили на общую широкую террасу в центре дома. Хозяин — бывший машинист с заводской узкоколейки — строил дом с таким расчетом, чтобы пускать жильцов в обе комнаты; это давало ему примерно еще одну пенсию. Осенью, когда дом был достроен, старик овдовел и не стал приводить дворик в порядок. Он равнодушно подпирал плечом стенку, пока мы с Кошей осматривали комнаты, наши замечания его не интересовали — разве что плата за эти покои.
Комнаты сдавались без обстановки. Беленые стены, некрашеный дощатый пол, смотрящее на улицу большое окно, коричневая изразцовая печь.
— Сойдет, — сказал я. — Эта мне, вторая тебе.
— Порядок, — согласился Коша. — Как хочешь.
Мы снова вернулись на террасу.
— Вот не знаю только, куда деть мотоцикл. В сарае они, наверное, держат дрова. Надо бы сколотить какой-никакой гараж.
— Я тебе помогу, — сказал Коша. — Разработаю проект.
— Спасибо. Желательно без башен, балконов, колонн и капителей. Что нам советует на этот случай поваренная книга? Возьми два столба, вбей их в землю на расстоянии двух шагов от забора…
— Забери с боков досками…
— Покрой толем…
— Ребята! — подал голос хозяин. — Я думаю, обедать вы будете в столовой. И ужинать, наверное, тоже. А если надо сготовить завтрак или еще там чего, моя дочь состряпает. Потом сочтемся…
Мы как по команде повернулись к этому человечку с полуседыми, какими-то серыми волосами, потом переглянулись.
— Красота! — откликнулся Коша. — И вообще немало сложных ситуаций может возникнуть, пока мы живем здесь. К примеру, мы иногда меняем белье и время от времени приводим комнату в порядок. Иногда у нас появляется желание поесть творожников. Можно все это уладить? А потом сочтемся.
— Стало быть, уборка, стирка, стряпня от случая к случаю, — перечислял старик, загибая пальцы, — если я правильно вас понял. Все можно уладить, и за все сочтемся.
Коша толкнул меня в бок:
— Слышишь, Геза, гремят глаголы новых миров. — Затем обернулся к старику: — Рады будем возможности за все рассчитаться, и с лихвой. Хорошая по крайней мере вода в колодце? Мыло в ней мылится?
Мы все трое уставились на колодец с воротом; такие обычно бывают в деревнях, сруб его, естественно, сверкал новехонькими бревнами.
— Как родниковая. Я, почитай, уже лет тридцать пью воду из здешних горных ручьев. Так наша колодезная им не уступит.
— А мыло?
— Мылится, мылится, чего ж ему еще!..
Я подошел к колодцу, вытянул ведро — оно тоже было новехонькое, сверкающее оцинковкой, — взболтнул воду и отпил. Затем огляделся; и отсюда ничто не радовало глаз. Участок был слишком большим. Слишком большим, чтобы не украсить его хоть одним деревцем. На террасе соседнего дома, которая находилась напротив нашей и, словно зеркальное отражение, ничем не отличалась от нее, разве что расположением дверей, появилась невысокая женщина в синем платье. Выйдя из одной двери, она вошла в другую, не посмотрев в нашу сторону. Я опустил ведро.
— Вода хорошая. Даже очень хорошая. Боюсь, затмит все прочие напитки.
— Тогда придется ее подпортить! — крикнул Коша с террасы. Женщину он не заметил; схватившись обеими руками за перила из водопроводных труб и раскачиваясь, он рассмеялся: — Будем валить туда кухонные отбросы. А после сочтемся.
Хозяин проронил только:
— Портить нельзя.
Я окинул взглядом окрестности. Тут проходила окраина — наполовину деревня, наполовину рабочий поселок, — сплошь новые, с топора, свежеоштукатуренные или еще не оштукатуренные дома по обеим сторонам дороги. Маленькие, выбеленные до голубизны крестьянские домики рассыпались по холмам, как стадо овец. Деревообделочный завод обосновался восточнее, но совсем близко отсюда, по другую сторону холма; новый химкомбинат — на западе, километрах в двух. Широкая дорога соединяла его с шоссе, но громоздкие тягачи разъездили, разбили ее. Строительство еще шло полным ходом. Бараки не могли вместить всех рабочих, и большинство монтажников находило пристанище в поселке или у крестьян; по утрам грузовики, собирая монтажников в кузов, отвозили на работу. Первыми всегда появляются строители, они начинают объект и сразу же захватывают все углы, где только можно приткнуться; за ними по пятам следуют работники комбината, и вполне резонно: эти хотят обосноваться надолго, прочно. Мы, монтажники, болтаемся где-то посредине, в нас видят только гостей — да и кто ж мы еще, как не гости. Изучая окрестности, я поймал себя на мысли, что делаю это скорее с безразличием, нежели с интересом; все же падающий на холмы холодный свет пробил кору равнодушия и как-то взбодрил меня. Наверное, поэтому и припомнилась моя предыдущая работа; вдруг всплыли из прошлого все связанные с ней неприятности, но я и о них вспоминал как-то очень уж хладнокровно, словно с тех пор миновали долгие годы. Вдруг я понял, что довольно смутно представляю себе лицо Бороша, тамошнего главного инженера. А ведь хранятся же в моей голове более давние, какие-то турбореактивные, что ли, воспоминания, которым легче преодолеть десять-двадцать лет, нежели воспоминаниям о Бороше эти несколько дней. На прежнем химкомбинате для меня плохо обернулось даже то, что по опыту я не мог считаться зеленым юнцом. Если в двадцать лет из слесарки попадаешь в политехнический институт, то к науке приобщаешься не извне, а как бы изнутри, через практику, и в конце концов складывается убеждение, что за спиной у тебя не один, а, скажем, два института. Беда была в том, что я действительно верил: важен не только результат, но способ его получения, ведь количественно эффективные результаты можно достигнуть и беспринципным способом. У меня была превосходная квартира с центральным отоплением, с ванной (вода холодная и горячая); восемь минут езды на мотоцикле — и я уже в центре города, у входа в театр. Однако, останься я там, рано или поздно не избежать мне неприятностей. Из-за главного инженера Бороша. Больше года я проработал с ним, и больше года он злоупотреблял своей властью главного инженера каждый раз, как дело касалось меня, я же без всяких церемоний высказывал свое мнение о нем и о его стиле руководства. Иногда я выполнял работу, которая была бы по плечу и практикантам из ремесленного училища, иной раз получал задание, требовавшее опыта целого конструкторского бюро. Я знал, что Борош эгоист, человеконенавистник, что его интересует лишь собственная карьера, слава, деньги и что наряду со всем этим в нем неугасимо тлеет меленькая жажда мести, но такое нелегко доказать языком цифр. Когда у меня уже не осталось сил терпеть, на первом же производственном совещании я встал — обычно мы выступали сидя — и задал ему вопрос: «Скажите, товарищ главный инженер, вы действительно считаете социализм своей частной лавочкой или у вас имеется на этот счет и другое мнение?» Меня не покидало чувство, что, не выскажи я этого прямо, напрасно тогда было меня воспитывать, прививать мне определенные взгляды. После этого Блэян, партийный секретарь, в разговоре с глазу на глаз сказал мне: «Послушай, Керекеш, в известном смысле ты прав. Но если ты не прекратишь свои выпады, придется обсуждать тебя на общем собрании, и тебе же еще влетит, потому что нельзя вести себя так по отношению к опытным, ценным специалистам, как ведешь себя ты. Не забывай, что с планом дела у нас обстоят великолепно». «С планом, — ответил я, — дела у нас обстояли бы так же великолепно, если б, скажем, подгонять людей плетью. Поверь мне, Блэян, будь этот тип не только специалистом, но и человеком, с планом у нас обстояло бы еще лучше. Во всяком случае, я не хочу ставить собрание в неловкое положение, хотя, пожалуй, многие товарищи придерживаются иного мнения, чем ты. Я ухожу с работы». «Ничего не имею против, — ответил Блэян. — Я помогу тебе». Но последовало то, чего я и ожидал: напрасно Блэян пытался мне помочь, Борош ни в какую не отпускал меня. Так что с первой моей работы мне пришлось уйти самовольно. Подобное обстоятельство отнюдь не лучшая производственная характеристика. Но для меня приемлем только тот путь, где не приходится по крупице растрачивать свою веру.
Кошу сюда направило предприятие. Он учился уже на втором курсе, когда я поступил в политехнический: без него не обходился ни один танцевальный вечер, ни одна заварушка. Сначала мы не очень-то замечали друг друга, однако на предыдущем строительном объекте неожиданно сдружились. Теперь мы решили поселиться вместе, и здорово было, что нам подвернулись эти две комнаты совсем рядом.
Светом и холодом пронизывало у колодца; удивительно, до чего же быстро померкли в памяти, с какой легкостью стали просто пережитым Борош, Блэян, коллеги, комбинат, вся моя там работа, которой я, говоря откровенно, все-таки гордился. Обидно, что так получилось, но сожаления я не испытывал, и даже теперь, по прошествии времени, не видел для себя иного выхода. Обида, я знал, сохранится недолго, потому что скоро ее вытеснят другие заботы.
Коша подошел к колодцу, отпил из ведра.
— Господи, из скольких колодцев я уже перепробовал, — сказал он. — Вода превосходная, мы с нее растолстеем. Ну как, Геза, разобьем тут лагерь?
— Идет, — согласился я. Из соседнего дома опять вышла женщина в синем платье, спустилась с террасы во двор, забор заслонил ее. — Думаю, ничего другого нам и не остается. Завтра, видимо, притащится и этот злосчастный грузовик со скарбом.
— Переночуем прямо на полу?
— Да. Я заскочу на комбинат, привезу со склада одеяла. А ты пока протопи печку.
Мне хотелось дождаться, пока женщина снова поднимется на террасу. Но Коша со старым машинистом уже направились к дровяному сараю, и я устало поплелся к калитке.
* * *
Этой весной по ночам ливни жестоко хлестали землю; мой мотоцикл, как моторная лодка, врезался в жидкую грязь по пути к комбинату. Возвращаясь с работы, я подкатывал прямо к колодцу и выплескивал несколько ведер воды на заляпанную грязью машину. Правда, сперва приходилось ждать, пока не остынет бак, а до тех пор я слонялся по двору, играл в футбол обломками кирпича, курил. Не было смысла стаскивать сапоги и заходить в комнату на столь короткое время. Я шатался по двору, смотрел на зеленоватое небо, вдыхал холодный, пахнущий снегом воздух с гор. Коша работал до одиннадцати вечера, продолжая то, на чем я кончил, а наутро я сменял его — связь между нами была весьма тесной; только эта же связь почти исключала возможность быть вместе.
Как-то раз, пережидая, пока остынет мотор, я подошел к забору, разделявшему два совершенно одинаковых двора. Забор был довольно высоким, из широких, плотно пригнанных досок, но, если подойти поближе, можно было заглянуть на ту сторону. Летом, на солнце, доски будут пахнуть смолой, подумал я. На том дворе дровяной сарай тоже был новый, от ступенек террасы к нему вела выложенная кирпичом дорожка, к колодцу дорожки не было. Я не знал, кто живет там, еще не успел расспросить. Смеркалось, солнце проглядывало сквозь коричневато-кофейные облака, но на холмы уже пала тень, и только блекло-красную черепицу крыш еще освещали тусклые лучи заката. На дворе стояла женщина в синем платье. Она пристально смотрела прямо перед собой, так пристально, что я невольно поглядел в ту же сторону, но не увидел ничего, кроме голой влажной земли. С террасы я несколько раз замечал в соседнем дворе эту женщину, вяло поникнув, она стояла или, ссутулившись, пересекала двор, как человек, который не знает, что на него смотрят, или знает, но ему это безразлично. Сейчас, со сравнительно близкого расстояния — нас отделяло всего шагов пятнадцать, — я мог рассмотреть ее. Невысокая, чуть полноватая, темно-русые волосы в беспорядке. Изящные туфли — даже слишком изящные для этого захламленного двора — обуты прямо на босу ногу, острые, тонкие каблучки глубоко вдавливаются в грязь. Лицо ее было бледным, и, когда женщина, сдвинув брови, смотрела, как сейчас, прямо перед собой, оно казалось мрачноватым. Немного погодя она отступила чуть в сторону и снова замерла. Она производила впечатление человека, что-то потерявшего, какой-то мелкий предмет, который нелегко обнаружить; а может быть, она просто следила за пузырьками-секундами, вскипающими на поверхности времени.
Я ничего не знал об этой женщине. Подтолкнув носком сапога поближе к ограде обломок кирпича, я встал на него и положил локти на забор. «Поздороваюсь», — решил я. Мне уже не раз хотелось поздороваться с ней, однако вместо приветствия я тихо сказал:
— Вы простудитесь в таком легком платье…
Женщина вздрогнула. Она что-то ответила, наверное, что ей не холодно — я не разобрал, — и, даже не взглянув на меня, повернула к дому. Мне было обидно, что она и взгляда не кинула в мою сторону. Женщина медленно поднялась по бетонным ступенькам террасы и исчезла за одной из дверей. Двор после ее ухода показался мне еще более сиротливым.
Я подождал: а вдруг она появится снова. Но женщина не выходила. Вдоль дороги громыхали грузовики, подвозили стройматериалы для блочных домов и буровых вышек или возвращались назад с комбината — над забором я видел только темно-зеленые, в пятнах грязи крыши кабин и так и не определил, чьи это машины. Жидкая грязь широкими струями ударяла в забор, и он отзывался низким гулом, как барабан. Я подумал, что это своеобразный аккомпанемент преобразования — скоро поселок превратится в город. А я так и уеду отсюда под грохот грузовиков и хлюпанье грязи о забор и никогда не узнаю, почему такой грустной была эта женщина в синем платье.
Сойдя с кирпича, я потрогал мотоцикл, он почти остыл. Я опустил ведро в колодец.
Сзади, из закутка между домом и сараем, появилась Юци, дочь хозяина, держа в обеих руках по пригоршне сосновых стружек. Обычно в эту пору она протапливала наши комнаты. Девица была лет шестнадцати, ленивая и неразговорчивая; в ее круглых, широко раскрытых голубых глазах светилась хитрость. Юци редко смотрела в глаза собеседнику.
Я остановил ее:
— Кто живет по соседству, Юци?
— Товарищ Печи.
— Ах, так! Кем же он работает?
— Главным бухгалтером на деревообделочном.
— Он женат?
— Да.
— А детей у них нет?
— Был, да умер.
— Они только вдвоем и живут?
— Да.
— На слова-то можно бы и не скупиться, Юци, — сказал я. — Ведь их не убудет.
Я плеснул на заднее колесо снизу, чтобы попало и под крыло. Юци затопила печи в обеих комнатах и, выйдя, уставилась на меня, но, стоило мне оглянуться, тотчас потупилась и нырнула за угол дома. Вход в их квартиру вел с узенького проулка между глухой стеной и забором. Я давно собирался заглянуть к хозяевам, но все как-то не получалось. Вот и сейчас не зашел. Пока мыл машину, я раза два подходил к забору, но там никого не оказывалось, и это меня почему-то беспокоило.
Дома я переоделся в пижаму, разложил на столе чертежи, что прихватил с работы — техническую документацию на станки, — и между делом грыз печенье; можно было бы выпить рюмку коньяку, но в одиночку не хотелось. Все же я чувствовал себя словно выбитым из колеи. То и дело тянулся за сигаретой, и скоро в комнате стало сизо от дыма. Я распахнул дверь и, пока проветривалось, с террасы обежал взглядом соседний двор, в доме зажгли свет, на занавеску в окне падала тень мужчины. То обстоятельство, что женщина теперь не одна, странным образом меня успокоило. «Но почему же она так одинока? — спрашивал я себя. — Ведь у нее есть муж. Только глубоко личная, ни с кем не разделимая боль может ввергнуть человека в такое одиночество; вероятно, и эта женщина испытывала какую-то затаенную боль». Облака вдали за холмом отражали голубоватый, рассеянный свет — там горели огни химкомбината; эту стену бледного сияния иногда всполохами прорезали желтые лучи фар грузовиков, переваливающих через вершину холма. Светящиеся гирлянды буровых вышек недвижно висели на фоне черного неба; отдаленный рев заставлял дрожать морозный ночной воздух, разносясь по округе ровным, нестихающим гулом. Мне стало холодно, и я вернулся в комнату.
В полночь я услышал, как протопали по террасе сапоги Коши. Обычно, если я еще не спал, он забегал ко мне на несколько минут — отчитаться в работе и как бы сдать смену. Я бросил карандаш, но не встал.
— Банди!
Он распахнул дверь, бледный от усталости, весь в грязи. Тяжеленный портфель, который он с собою зачем-то таскал, хотя дома не любил заниматься, Коша опустил на пол.
— Ты в своем уме! До сих пор работать! — возмутился он. — Того гляди начнет светать.
— Я уже кончил. Так что же с этой стеной, сломают ее наконец?
— Нет. Заделают отверстия для трубопровода и проделают новые. Завтра вечером или послезавтра утром сможем вводить фильтры.
— Потому и спрашиваю.
Я потер воспаленные глаза; в самом деле, давно пора бы на боковую. Сам не знаю, зачем я зазвал Кошу, наверное, пытался спастись от тоскливого настроения. Сломают стену или нет — это я успел бы узнать и утром.
— Выпьем по рюмке коньяку, от него сны хорошие снятся, — предложил я. — Вон там, на шкафу, бутылка. Достань, будь добр.
Коша налил и угрюмо заметил:
— Очень кстати вспомнил…
Мы выпили, затем Коша снова наполнил рюмки, медленно, словно получая удовольствие от самой этой процедуры. Его густые светлые волосы упали на лоб, лицо, покрытое рыжеватой щетиной, не выражало ничего, кроме крайней усталости. Я был рад, что он здесь, со мной. Усталость у него никогда не сказывалась на настроении.
— Мне приснится почтовый голубь, — неожиданно заявил он. — Кругленький, пухленький такой почтовый голубок. А тебе рекомендую сон производственного характера, со станками, гайками, болтами-винтами.
Я рассмеялся. Знал, что Коша завтра с утра отправится на почту; в последнее время он частенько захаживал туда. Зайдет, обстоятельно выспросит: можно ли отправить соску в заказном письме? Как лучше упаковать живую лягушку, чтобы ее не раздавили? Если сдать ящик саранчи, обязаны ли работники почты кормить ее в дороге, и если нет, то кто станет отвечать за потерю веса? При некотором знании человеческой психологии нетрудно было представить себе и его способ знакомства, ибо не так уж много нового под луной: «Ну, а теперь, девушка, я признаюсь вам, чего бы мне хотелось, о чем я мечтаю. Вы поразитесь, сколько во мне откровенности и искренности, широты души. Мы оба — свободные граждане, взрослые, самостоятельные люди… Если мы нравимся друг другу, это закономерное проявление определенной стороны жизни; в конце концов, ведь мы обитаем не в Вероне или каком-нибудь другом средневековом городе…» Вполне возможно, что девушку не сразит ни беспримерная откровенность, ни дерзкий взгляд голубых очей Коши; но так же возможно, что однажды ночью она на цыпочках прокрадется по террасе, полагая, что никто не слышит ее смущенного шепота: «Куда, Банди? Это твоя дверь? Здесь правда никого нет?» У Коши всегда были женщины. Повсюду он находил кого-то, кем увлекался хоть на короткое время. Мои же личные дела складывались как-то сами собой, словно помимо моей воли или же вообще не складывались. Я не любил пускать пыль в глаза, не любил дурить голову кому бы то ни было. Даже самому себе. И все-таки — не знаю почему — я чувствовал себя во сто крат опытнее Коши. Это, кажется, признавал и он.
— За наше здоровье!
— Дельный тост! — поддержал я. — И за здоровье почтовых голубок.
Мы поставили на стол пустые рюмки. Коша сразу оживился, вытер губы тыльной стороной ладони и рассмеялся.
— Послушай, Геза, а ведь ждет же нас впереди что-нибудь интересное?
— И немало, — ответил я. — Надеюсь, всех людей, не только нас. Ну, а что в таких случаях советует поваренная книга? Берем двух сонных инженеров…
— Кладем их в постель…
— Сервус…
— Сервус.
Пока комната снова проветривалась, я околачивался на террасе, куря последнюю за этот день сигарету. Через тонкую пижаму пробирал холод. Голый двор сейчас был скрыт темнотой; квадрат света, падающего из моих дверей, не доставал даже до колодца. Дул ветер, в черной высоте словно с шелестом проносились невидимые облака. Движение на дороге стихло, слышался лишь отдаленный гул моторов. Затем протрясся мимо дома автобус гастролирующего в поселке кукольного театра и остановился неподалеку. Шофер поднял капот тарахтящего двигателя. Несколько человек вышли из автобуса, закурили, прохаживаясь взад-вперед по дороге. До меня долетел обрывок разговора. Молодой мужской голос спросил:
— Ну так что, Пали, решено — собаку играю я?
Ответа я не расслышал, вскоре они уехали. Я вглядывался в темные окна соседнего дома: женщина в синем платье уже легла. Я представил себе, как она лежит без сна — открытые глаза прикованы к неясному прямоугольнику окна, словно ждут от него чего-то. «Наверное, ей нужнее, чем мне, какой-нибудь светлый, прекрасный сон, — подумал я. — Ей он просто необходим». Я попытался даже представить себе в общих чертах этот прекрасный сон, но как назло ничего не приходило в голову. «Что за черт! Должно быть, я разучился видеть сны. Ну и ну! Лучше это для меня или хуже? Ведь в детстве я всегда видел сны и наутро мог их рассказать во всех подробностях». Я бросил сигарету, вернулся в комнату и, пока не закрыл плотно дверь, чувствовал холодное, остро пахнувшее известкой дыхание двора.
У меня не было ни малейшего желания заговаривать на эту тему, но Коша начал сам:
— Ты заметил, по соседству живет какая-то женщина?
— Видел, — ответил я. — Она ходит в синем платье.
— А еще?
— Что еще?
— По-моему, ее что-то гнетет, — сказал Коша. — У нее такой вид, будто она раздумывает, стоит ли ей жить в следующую минуту.
— Наверное, и в самом деле раздумывает…
— Наверное. Сегодня я встретил ее в магазине. Она разговаривала с продавцом, с тем, лысым, даже смеялась, но я подумал: да ведь этот смех не от души, он даже начинается не в груди, а где-то у зубов. — Коша задумчиво добавил: — Это бы еще ничего; одни люди грустные, другие веселые. Но когда женщина так тоскует, с ее мужем надо что-то сделать.
Я промолчал, не признался, как расстраивает меня вид этой женщины, как тревожит атмосфера безотрадной тоски и одиночества, которой окружена фигурка в синем платьице. Я не мог сказать даже, красивая она или нет, вблизи я не видел ее ни разу, да это меня и не интересовало. Мне не давали покоя ее тоска; порой она словно просачивалась сквозь забор, чтобы охватить и меня. Нередко, особенно в детстве, мне доводилось распознавать печаль в уголках рта у мужчин, в глазах бродячих цыган, во взглядах женщин: она была как слабый отсвет боли, затаенной в сердцах. Но ни разу еще тоска, воплощенная с такой полнотой, не вила гнезда со мной по соседству. И во мне шевельнулось подозрение, что из-за этой женщины в синем платье моя жизнь здесь не останется безмятежной. Всего этого я не стал открывать Коше, хотя, пожалуй, он бы понял меня. Он вовсе не был таким грубым, каким часто казался.
— Не выношу я подобных ситуаций, — продолжал он. — Хотелось бы мне взглянуть, каков у нее муж.
— Мне тоже.
— Думаешь, такой же, как мы?
— С чего бы это?
— Странная история!
— Скорее самая обычная.
— Может, и так, лично я был бы не прочь поселиться подальше отсюда. Угнетает меня это соседство.
— А меня угнетает, что я бессилен помочь, — сказал я.
— Жили бы рядом молодые девушки!.. Этакие куколки! Ну, а уж если не девочки, то хотя бы веселая супружеская чета. И чтобы жена обязательно была толстушкой и, стоя на подоконнике, мыла бы окна, а сама бы пела, и чтоб юбка была подоткнута выше колен… Вот это я понимаю. Но сколько ни листай поваренную книгу, в подобных случаях человеческая наука бессильна. Это подтверждают даже дипломированные врачи.
— Равно как и инженеры.
— К сожалению.
Я знал, что Коша сейчас подвел черту под этой историей, и так же отлично знал, что для меня она отнюдь не кончена.
Ее мужа я впервые увидел у калитки, на так называемом тротуаре — поросшей травой полоске земли между придорожной канавой и забором. Служебная машина доставила его домой, и он уже положил руку на щеколду калитки, но не отодвинул ее, а наблюдал, как разворачивается машина среди куч сваленной когда-то щебенки. В этот момент подкатил и я, затормозил и хладнокровно принялся разглядывать его. Передо мной был тщательно одетый блондин, светлые, словно выцветшие на солнце глаза его излучали безмятежность. Такая внешность ни о чем не говорит. Но, глядя на него, я подумал: он слишком любит жить. Чересчур плотояден, безудержно, нещадно. Трудно было бы объяснить, что именно рождало такое впечатление, быть может, мягкие линии его рта или осанка. Он тоже обратил на меня внимание, правда, скорее на мой мотоцикл; затем, прижав к боку шляпу, которую раньше вертел в руке, он толкнул калитку. Все же было в нем что-то антипатичное. По-моему, он забыл на лице официальное выражение, хотя, кажется, умел быстро менять маски; даже в посадке головы, в развороте плеч угадывалась готовность и к надменной напыщенности, и к почтительному поклону. «Он из той породы людей, — подумал я еще, — у которых для каждого есть свое лицо». Охваченный смутным неприязненным чувством, въехал я во двор. На террасе соседей за мужчиной захлопнулась дверь. Я вспомнил, как однажды обрадовался, увидев тень этого мужчины на занавеске, а ведь, пожалуй, именно эта тень заслоняет солнце от женщины в синем платье.
Вскоре мы встретились опять, это было субботним вечером в Доме культуры. Жители деревни, рабочие лесопильного завода, строители и монтажники химкомбината в адской тесноте танцевали под бумажными гирляндами, протянутыми вдоль потолка. Играл оркестр с лесопилки, только барабанщика, уехавшего в командировку, заменял один из наших каменщиков, цыган. Оркестр и публика отдыхали, когда прибыли мы с Кошей. На сцену взобрался худющий учитель в очках, турнул топтавшиеся там пары, повернулся к публике и вдруг запел йодли. Казалось, его высокий голос, отделившись от певца, своевольно порхает по залу и хозяину никогда больше не заполучить его обратно. Все смолкли, пораженные. Даже духота как будто спала; голос учителя напомнил присутствующим о далеких скалах, овеянных ветром горных хребтах. Я хлопал, пока не онемели ладони. Тем временем снова грянул оркестр, опять закружились пары. И тут я увидел Кароя Печи. Он танцевал с какой-то румяной круглолицей красоткой; откинув назад голову и прикрыв глаза, он напевал что-то, но голоса его я не слышал. Коша курил, стоя рядом со мной, ждал свою почтовую голубку.
— Глянь-ка, наш сосед, — воскликнул он, — предается вечному как мир наслаждению! Ручаюсь, что жену он забыл дома.
— А может, она здесь где-нибудь, — возразил я, — разве отыщешь человека в этакой толчее.
Мы переглянулись; оба знали, что женщины здесь нет. Об этом говорило поведение Печи, об этом и еще кое о чем: он танцевал, словно был один в зале, не сомневался, что остальные вовремя отодвинутся, уберутся с его пути. Однако наши не знали, кто он такой. Впрочем, даже знай они, им бы и в голову не пришло уступать место кому бы то ни было; атмосфера строительного участка не развивает подобострастия, как постоянная, может, даже навечно сложившаяся служебная субординация. После каждого столкновения с другими танцующими парами Печи моргал и в притворной извиняющейся улыбке обнажал свои белые зубы; скалился он так предупредительно, что мог вызвать разве что отвращение. Коша махнул рукой:
— Каюк! Он искушает саму судьбу.
— Почему?
— Смотри в оба, что будет дальше! Сколько раз я сам оказывался жертвой собственного зазнайства!
Однако не случилось ничего из ряда вон выходящего; молодой инженер-строитель — я частенько видал его озабоченно хлопочущим возле товарных платформ — жестом подозвал двух электриков, парней одного с ним возраста. Я не слышал, что он сказал им. Электрики, смеясь, хлопали инженера по плечу, подмигивали, а потом куда-то исчезли, инженер же вздохнул с облегчением. Вокруг Печи возникло какое-то неуловимое напряжение, и скоро он уже не мог продолжать танец. Его стиснули плотным кольцом, толкали с разных сторон, наступали на ноги, пока он наконец, сокрушенно поцеловав руку своей партнерше, не ретировался в буфет.
— Так ему и надо, — удовлетворенно заметил Коша.
Я тоже вышел в буфет. Печи попросил у буфетчицы вина и доверительно наклонился к ней.
— Сколько тут всякого сброда, — сказал он. — Надеюсь, Ибике, к вам они не пристают?
— Кто ко мне пристанет! — устало отмахнулась девушка. — А если бы кто и захотел, так другие не дадут.
Буфетчица налила ему вина. Я заказал коньяку, и, когда Печи завертелся по сторонам, ища, с кем бы чокнуться, и потянулся ко мне, я пристально взглянул ему в глаза. Он улыбнулся. «Какой липкий тип, — подумал я. — Всех-то он готов покорить и считает, что для этого достаточно его слюнявой улыбочки». Того, что я искал в нем — злобности, — я не нашел. «Да и отчего бы ему быть злобным?» — спросил я себя. Мы выпили и повернули обратно в зал. В дверях Печи вежливо пропустил меня вперед. Наверное, чувствовал себя здесь хозяином. На сцене учитель снова пел йодли, лицо его раскраснелось, волосы растрепались, должно быть, он успел хорошенько угоститься. Его своевольный голос опять устремился ввысь, и учитель с любопытством глядел ему вслед; а мне опять показалось, что под ногами у меня хрустит заиндевелый мох горных вершин.
В понедельник после обеда женщина прошла в сарай, вынесла лопату и начала было перекапывать землю около террасы. Наверняка собиралась посадить цветы. Но через минуту бросила это занятие, отшвырнула лопату и бесцельно побрела через двор. Носком туфли она подталкивала перед собой ржавую консервную банку.
Наблюдал я за ней из двери комнаты; я стоял там еще до того, как она появилась. «Невозможно, — думал я, — невозможно быть грустным постоянно. Веселье врывается в жизнь каждого, пусть даже как непонятная, необъяснимая смена настроений. Но человек, который всегда чувствует себя так, будто нервы его опущены в кислоту, конечно, бежит веселья; судя по всему, именно так обстоит дело и в данном случае». Дул холодный и будто серый ветер, рвал юбку женщины, подымал волосы и крутил по земле невесть откуда взявшиеся сухие дубовые листья. Я чувствовал досаду и горечь, словно уличил кого-то — может, себя самого — в недобросовестной работе.
Прикрыв дверь, я прошел вдоль забора, взобрался на тот обломок кирпича, который пододвинул в прошлый раз. Облокотился на забор. Так и есть: женщина стояла шагах в восьми от меня, гораздо ближе, чем прежде. Не замечая меня, она смотрела на консервную банку, иногда переворачивая ее носком туфли, словно хотела разглядеть со всех сторон.
— Говорил ведь, что вы простудитесь в таком тонком платье, — подал я голос.
Вдруг мне пришло на память, что где-то, уж не помню в каком саду, я видел астру; белый цветок казался полным жизни, но стебель его был мертв, и все вокруг тоже побили, пригнули к земле холодные осенние дожди и утренние заморозки. Цветок словно плыл, колыхался над голой, перенасыщенной влагой почвой. Я помнил даже то неповторимое, странное чувство, какое охватило меня, когда я заглянул через забор из штакетника в чужой сад, будто я слышал немую мольбу астры, но мольба эта не была обращена ко мне.
Женщина обернулась. Лоб ее почти целиком закрывала взлохмаченная ветром прядь волос, но более темные, нежели волосы, правильно очерченные брови были открыты. Губы ее казались бескровными.
— Мне не холодно, — отозвалась она спокойным грудным голосом и нерешительно сделала шаг к забору. — Даже, пожалуй, нравится этот ветер, упругий, хлесткий…
Она была моложе, чем я думал, не старше двадцати пяти. Но в ней словно начисто было вытравлено то девичье обаяние, которое многие женщины еще сохраняют в этом возрасте. Бледное лицо озарял тусклый свет глаз, напоминавший тихое, покойное мерцание углей, припорошенных пеплом. А ведь глаза у нее были голубые.
— Мы с вами соседи, — сказал я. — И меня огорчает, что вы всегда грустны.
— Мне очень жаль…
— Случается, я приезжаю домой в превосходном настроении, а увижу вас — и его как не бывало; чувствую, и меня начинает что-то угнетать. Трудно быть веселым, если рядом с тобой грустят.
— Мне очень жаль, — повторила женщина. — Я постараюсь не попадаться вам на глаза. Вы тоже могли бы не смотреть сюда…
— Думаете, это так просто?
— А разве нет? Человек должен защищать себя.
— Но как?
— Как может.
— У меня нет такой возможности. Я ведь даже не знаю, что гнетет вас; разумеется, это ваше личное дело; и все же я не могу не сочувствовать вам. Меня злит собственное бессилие. Как же тут прикажете защищаться?
— Странно, что вы так заботитесь обо мне, — заметила женщина. — Я уже отвыкла от этого. Я хочу сказать… от внимания.
Она сделала еще несколько шагов к забору, подняла на меня взгляд, слабо улыбнулась, глаза ее влажно блестели. Да, глаза были синие, но с какой-то необычной темной поволокой. По глазам я и узнал ее. Но удивление тут же сменила неуверенность: я испугался, что эта печаль еще прежняя, что она не прошла со временем, а стала лишь глубже.
У меня уже готово было сорваться с губ ее имя; сам не знаю, с какой интонацией я произнес бы его. Но из-за угла дома показалась Юци с охапкой сосновых стружек. Покосившись на нас, она лениво обогнула дом, вошла в мою комнату, и, прежде чем за ней захлопнулась дверь, я решил, что ничего не скажу. Не напомню о той дождливой осенней ночи и о том дне в лесу, потому что общие переживания лишь до тех пор общие, пока мы вместе испытываем их, а после на них оседает пыль дорог, по которым каждый пошел в одиночку. Что до меня, то и годы спустя, в институте, меня пронзала бессильная боль, словно ныла какая-то застарелая рана, но кто знает, что значила та наша встреча в жизни Кати? Наверное, она уже не помнила меня. Люди ведь иногда стараются не только помнить, но и забыть — это я знал. Почему-то не хотелось говорить о том, как искал я ее в каждой девушке, в которую влюблялся, и как мне больно было, что не нахожу, и что невольно я сравнивал с ней каждую женщину — с ней, которую видел всего два раза. Эта непонятная тоска позднее прошла и не вернулась даже сейчас, когда я через забор всматривался в ее бледное лицо. «Если бы я никогда не видел ее лица, — думал я, — теперь я был бы менее чувствителен ко многим вещам». Я всегда знал, что мы еще встретимся, хотя и не ждал этой встречи; только странно было, что через восемь лет все так отчетливо сохранилось в моей памяти, даже вспыхивавший на стволе березы солнечный луч.
II
Тогда я оставался работать и после смены, мы с мастером монтировали опытный образец нового автомата, а по вечерам я учился. В тот день, когда я наконец скинул рабочую одежду и, ничего не подозревая, вышел с завода, вдруг полил дождь. Я помнил, что еще в полдень, когда я бежал в столовку, под ногами шуршали сухие листья каштанов и в раскрытые окна ветер тоже забрасывал желтые листья. Сейчас, вечером, улицы были безлюдны, лишь синие и красные отблески неоновых реклам вспыхивали на мокром асфальте; в один день лето сменилось осенью.
Я едва успел на последний автобус. В автобусе, как обычно, плавал желтоватый полумрак — причудливая смесь света и тьмы, — но я хорошо различал пассажиров. Вместе со мной их было шестеро. Всех я знал в лицо, каждый вечер они возвращались домой с этим автобусом, и мы проводили вместе на мягких кожаных сиденьях около получаса — самое бесполезное время суток. Я знал, что к конечной остановке нас останется двое: старик в темном костюме, всегда занимающий место у двери, и я. «Тут даже дождь ничего не изменит», — подумал я.
На второй остановке вошла девушка, единственная новая пассажирка. С зеленого нейлонового плаща струйками стекала вода. Легким движением она протянула кондукторше бумажку в пятьдесят баней и сказала: «Билет, пожалуйста», — как будто здесь можно было купить что-то другое! Руки ее, выглядывавшие из рукавов плаща, были по-детски маленькие, покрасневшие от холода и очень подвижные. Именно на руки я и обратил внимание. Затем девушка прошла через весь автобус и опустилась на сиденье рядом с передней дверью; из-за высокой спинки сиденья, справа от жирного загривка шофера, виднелся только треугольник ее капюшона. С плаща девушки мне на плечо скатилось несколько капель и медленно просочилось сквозь свитер. Мне подумалось, что много девушек проходит и проходило прежде мимо меня, появляясь откуда-то и куда-то исчезая, но ни одна не удосужилась одарить меня хотя бы дождевыми каплями. Я невольно провел рукой по плечу, ощутил прохладную влагу и тут же забыл о случайной попутчице; облокотившись о колено, я сказал себе сперва по-русски, потом по-французски: «Ну, мой друг, начнем изучать химию! «Parce que maintenant c’est le moment!»[1] На этот день я наметил себе довольно большой урок по химии, русскому и французскому. За стеклами автобуса безжизненно, холодно поблескивал мокрый город; жизнь укрылась за темными окнами, гулкими подворотнями, старыми — в лепных гипсовых украшениях — и новыми, совершенно гладкими стенами, под плоскими и крутыми крышами, в кино, ресторанах, театрах, кафе. Без колыхания вечерней толпы освещенные четырехугольники витрин и пестрые неоновые рекламы казались лишенными смысла.
До окраины никто больше не сел. В автобусе незаметно похолодало, под фанерным потолком, выкрашенным в белый цвет, гуляли сквозняки. Я зябко поежился. Каждый день в это время и на этих улицах, на ничейной территории между опытным образцом и учебниками меня захлестывала усталость. Я знал, что дома стану бодрее, поужинаю, мать уберет со стола, оставит меня одного на кухне и я среди потревоженных поздним светом сонных мух еще часа два позанимаюсь.
Автобус круто свернул на конечную остановку, его последний, резкий толчок вывел меня из оцепенения. Мотор заглох; теперь явственно слышался шум дождя, барабанящего по крыше. На этот раз нас было трое: качнулся впереди капюшон, по мне скользнул безразличный взгляд синих глаз. «Приехали, граждане, — зевнула кондукторша, — конечная остановка». Девушка сошла первой, за ней старик в темном костюме и, наконец, я. Утром я не предполагал, что пойдет дождь, на мне был только свитер. Под полотняным навесом у витрины нового гастронома спасалась от ливня какая-то девушка; та, что ехала в автобусе, присоединилась к ней, и обе принялись наблюдать за мной, да никого больше и не было видно вокруг. Я втянул голову в плечи, оглянулся на них.
— Не надоело вам? — окликнула девушка в капюшоне. — Какой смысл мокнуть, идите сюда.
— Почему же надоело? — отшутился я. — Я целую вечность ждал этого дождя.
Но все же нырнул под полотняный навес, прислонился плечом к раме, засунул руки в карманы и сделал вид, что погрузился в свои мысли. Девушки перешептывались, временами прорывался смешок. По натянутому над ними тенту хлестал дождь; в зрачках девушек и в капельках влаги на их волосах вдруг вспыхивали искорками отблески неонового света.
Прочерченные, как по линейке, от города к пустырю лучами тянулись улицы, казалось, они уходили во тьму, в никуда; дуги фонарей словно клонились к асфальту, прижатые упругими струями дождя и низко клубящимися испарениями от земли и от набухших влагой досок заборов. В грязи мостовой желтели отполированные листья каштанов. Я уж приготовился было броском преодолеть оставшееся мне до дома расстояние в несколько сот шагов, когда девушка в капюшоне снова обернулась ко мне:
— Скажите… У вас нет желания распить где-нибудь бутылку пива? Конечно, где есть музыка…
Я посмотрел на них; обе девушки, улыбаясь чуть вызывающе, встретили мой взгляд. Позади них в витрине высилась пестрая пирамида овощных консервов, увенчанная бутылкой шампанского и картонной табличкой: «Предлагается большой ассортимент продуктов».
— Тут дело не в желании, — помедлив, ответил я. — У меня при себе мало денег. Я не предполагал…
— Что ж из этого! Разве я имела в виду, что платить будете вы? — Девушка в капюшоне обиженно дернула плечом. — Разве я сказала хоть слово?
— Не сказали, но…
— Ведь я же вас пригласила! Эй, такси! Сюда, сюда! — Из темноты вынырнула забрызганная грязью машина, девушка подбежала к ней, остановилась, освещенная светом фар, и воскликнула, поторапливая нас: — Вот удача! Ну, давайте быстрее!
Шофер бог знает почему нажал на клаксон. Мы вздрогнули и стремительно кинулись на заднее сиденье. Не без труда нам удалось захлопнуть дверцу — мы еле-еле втиснулись, мокрый плащ прилип к моему плечу. Я вспомнил, как девушка садилась в автобус; кажется, уже тогда меня охватило какое-то неясное предчувствие, да и это неизвестно откуда взявшееся такси тоже казалось чудом. То, что последовало дальше, было не менее неожиданно, хотя я уже и не удивлялся. Кончиком пальцев я коснулся руки девушки, но ощутил только гладкую ткань плаща.
— Простите, — пробормотал я.
— Да за что же?! — Девушка резко повернулась ко мне, ее широко раскрытые глаза блестели в полумраке и словно гипнотизировали меня. — Зовут меня Кати, мою подругу Рози. А вас? Ладно, пусть будет Геза. Нет, вы только полюбуйтесь на город! Правда красиво? Кругом столько света! А асфальт — будто озеро с гладкой, спокойной поверхностью…
Тогда и я увидел, что асфальт действительно похож на темную водную гладь, на неподвижное озеро или морской залив, где отражаются огни кораблей. Слева появилась первая неоновая витрина, первый универмаг в центре, и тут я спохватился: за несколько минут я вернулся туда, откуда ушел чуть ли не час назад. Ну, мой друг, кто же сегодня будет штудировать химию? Кто станет делать переводы с французского? Город вбирал в себя скользящую по пустынной мостовой машину; из размытых потоков света к темному небосводу вздымались здания; громоздкие кубы, призрачные контуры, едва различимые гиганты возникали из серой пелены дождя, колышущейся от слабого ветра, — казалось, в этом странном, ирреальном мире возможно любое чудо. Нет, город не мог быть тем же, по которому я ехал час назад; за это время с ним должно было что-то произойти. Девушки болтали о каких-то пустяках. Вдруг Кати резко повернулась, лицо ее оказалось совсем рядом с моим, из-под капюшона от тугих светлых завитков пахнуло необычным ароматом; приплюснув нос к боковому стеклу, она заговорила о чем-то понятном лишь им обеим:
— Темно! Значит, легли!
— Легли, — согласилась Рози, даже не взглянув в ту сторону. — Ох, до чего же здесь тесно… Лайошу пора бы вернуться.
Колеса машины фонтанами разбрызгивали скопившуюся на асфальте воду. Мне захотелось узнать, кто там уже лег, что это за Лайош и что, собственно, я забыл в этой машине. Но мир, похоже, утратил привычную мне четкость.
— Стоп! — воскликнула Кати и тронула шофера за плечо. — Мы здесь выходим.
Машина остановилась у «Континенталя». Меня это не удивило. Я всегда предчувствовал, что рано или поздно случай приведет меня в этот самый шикарный ресторан города. Правда, я никак не мог себе представить, что попаду сюда по дороге с работы, в мокром свитере, без денег, погруженный в мысли о незаконченном опытном образце и по уши увязший в химии. Трудно сказать, как я это себе представлял, но только не так.
— Загляните, есть ли свободные места, — распорядилась Рози.
Кати добавила:
— Присмотрите столик получше, ближе к оркестру. А мы тем временем рассчитаемся за такси.
При этой процедуре я и не жаждал присутствовать. Я вошел в вестибюль, гардеробщица окинула меня разочарованным взглядом. Конечно, надо было хоть что-то сдать в гардероб, но не мог же я снять с себя свитер. Швейцар с сонным лицом разом встрепенулся, распахнул передо мной дверь в зал и снова погрузился в безразличие; для него этот полный тайн ночной мир, наверное, давно стал чем-то будничным, хорошо знакомым и не сулящим ничего нового. Но для меня все здесь было ново. Я прошел внутрь, передо мной открылся бесконечно большой зал. Длинные ряды столиков, и за каждым — компания; сверкающие люстры, музыка, голубой табачный дым, запах духов и жаркого — и все это под крышей, где не страшен проливной дождь; стало быть, вот куда переместилась жизнь, которой так недоставало на улицах. В моем представлении, здесь должны были сидеть не простые люди, а «посетители» — особая каста, которую можно встретить только в таких вот залах, где играет музыка, где всегда весело. Поэтому я удивился, увидев за ближайшим столиком двух служащих с завода. Выходит, они тоже были посетителями. Перед ними стояла бутылка вина, тарелка с арахисом, лежали две пачки сигарет. Я даже уловил кое-что из их разговора:
— …до первого января? По-моему, можно и раньше, все зависит от проектировщиков.
— На них сейчас рассчитывать не приходится. Значит… — Служащий с мрачным лицом наклонился к соседу, словно собирался выдать ему государственную тайну.
Установить, есть ли свободный столик, оказалось нелегко. Я не решался сосредоточить внимание на каком-либо определенном участке и рассматривал весь зал, который переливался у меня перед глазами жемчужными неоновыми волнами. На подсвеченной снизу эстраде оркестр тянул медленный вальс, и я вдруг вспомнил, что совершенно не умею танцевать. Меня захлестнула злость: а почему, собственно, я должен уметь танцевать? Или считать себя хуже других, если у меня никогда не находится свободной минуты на танцы и развлечения? Стиснув зубы, я двинулся напролом, запутался среди столиков, несколько раз просил передвинуть стул, оттолкнул с прохода ведерко со льдом и, когда, дрожащий, потный, наконец выбрался к выходу, не мог бы точно сказать, действительно ли все места заняты. Девушки стояли на тротуаре, пытаясь заглянуть в зал через запотевшее стекло. Мне стало жаль их.
— Бесполезно, мест нет, — мрачно сказал я. — Все столы заняты.
— Начхать я хотела на этот «Континенталь», — заявила Кати. — Начхать мне на него, понятно? Только в таких случаях надо смотреть, — продолжала она другим тоном, коснувшись пальцем моей груди, — не собирается ли какая-нибудь компания сматываться. Люди ведь не только приходят, но и уходят. Хотя, повторяю, начхать мне на «Континенталь». Заглянем в «Дунай».
Все это время я неотрывно смотрел на нее и чувствовал, как запечатлеваются в моей памяти черты этой девушки, ее жесты, казалось бы самые мимолетные. Голос ее продолжал звучать в моих ушах, даже когда она умолкала. Другую девушку позднее мне никак не удавалось припомнить, словно я и не встречал ее вовсе. Когда Кати говорила о ней, я никак не мог ее себе представить.
Мы обогнули площадь, держась тротуара, который в хорошую погоду днем и вечером был скрыт сплошным потоком прохожих; сейчас мы с удивлением увидели, какой он широкий. С высоты, куда не достигал яркий свет множества фонарей и реклам, бесшумно сыпал дождь, миллионами тонких серых нитей связывая землю с бесконечным простором вселенной, падал и сверкающими бисеринками оседал на плечах, на лбу. Мы шагали, почти касаясь друг друга и как будто дружно, но каждый по-своему оценивал прошедшие минуты и предстоящие часы. Я не ждал для себя ничего хотя бы потому, что просто не понимал, что со мной происходит.
«Дунай» выглядел так же, как «Континенталь», только в освещении, пожалуй, было больше голубизны да духовой оркестр играл громче. Гардеробщица и здесь глянула на меня с разочарованием, такая уж у них, видно, судьба — разочаровываться в каждом, кто в пору осенних дождей разгуливает в свитере. С волос у меня текло, капли скатывались по лбу и норовили повиснуть на кончике носа, мне поминутно приходилось смахивать их. Посетители, которые, видимо, ведать не ведали, какая на улице непогода, улыбались, глядя на меня. Определенно у них имелись на то основания. Мне едва исполнилось девять лет, когда кончилась война; с тех пор прошло еще девять лет, но я не заметил, как изменилась жизнь; слишком много работал, учился. В Маломтелепе развлекались иначе: заказывали вино и в семейном кругу или с приятелями распивали его, разоблачаясь до рубашек или даже до маек — зимой у печки, летом на веранде, в холодке. И самозабвенно резались в карты, в марьяж или шестьдесят шесть. Однако мне недосуг было пускаться в воспоминания: предстояло в срочном порядке раздобыть столик.
Теперь я действовал методично. Оглядел зал с одной позиции, потом с другой. Официант обратил мое внимание на компанию — двух пожилых женщин и молодого человека, — которая, по его разумению, собиралась уходить. На их столике уже не было ни еды, ни питья, только пустые рюмки, полная пепельница, крошки хлеба и несколько сломанных зубочисток. Я стал рядом, мне было безразлично, если они поймут, зачем я тут торчу; может, поскорее смоются. В те годы я еще не знал, что люди испытывают инстинктивное отвращение к насилию, и, если стать рядом и ждать, чтобы они ушли, они именно поэтому постараются задержаться как можно дольше. Тяготясь ожиданием, я тупо смотрел в окно; сквозь желтоватую муслиновую занавеску вырисовывались два стройных девичьих силуэта. Я ободряюще помахал им рукой, они ответили. Оркестранты кончили перекур и заиграли на полную мощь; в зале загромыхало и залязгало, словно в набитом орехами вагоне рвались ручные гранаты. Пожилые женщины подняли головы и с одобрительной улыбкой переглянулись. Кати сделала мне знак рукой: дескать, поторапливайся. «Но как, черт побери? Не могу же я их взять и вышвырнуть отсюда». Уничтожающим взглядом я уставился на молодого человека, который взволнованно объяснял что-то терпеливо слушавшим дамам. Все же наступил момент, когда молодой человек, выдохшись, замолчал и полез в карман. Я схватил официанта за руку:
— Если они уйдут, оставьте для нас этот столик.
— Не беспокойтесь, все сделаю.
На улице девушки набросились на меня:
— Ну как? Есть надежда?
— Одни уже собираются уходить.
— Собираются…
— Да. Рюмки пустые.
— Превосходно! — Кати откинула капюшон, тряхнула головой, волосы ее разлетелись в стороны, и на меня пахнуло ароматом полей. — Подождем, верно? — Она рассмеялась. — Времени у нас хватит. Сегодня повеселимся вовсю, согласны?
Лицо ее тонуло в золотистом тумане, синие глаза мягко мерцали и почему-то казались карими.
— Пойду караулить. Официант обещал, но на всякий случай… — выдавил я из себя.
— Ступайте.
Я снова окунулся в дымную духоту, оглушенный пронзительными воплями оркестра, как раз в тот момент, когда молодой человек непринужденно потянулся и махнул официанту:
— Маэстро, еще бутылочку. Только не найдете ли послаще?
И вот мы снова на тротуаре и снова под тем же надоедливым дождем, которому, казалось, конца не будет. Девушки совещались: Кати заявила, что на «Дунай» ей тоже начхать. Я молча терзался, чувствуя себя виноватым в том, что рестораны сегодня переполнены. Мокрый асфальт отражал огни их окон, дождевые капли вспыхивали, попав в полосу света, прежде чем упасть на землю; было тихо, только гулко пели водосточные трубы. Кати запрокинула голову, глядя вверх, ее ресницы тоже были усеяны серебристыми бусинками.
— А ведь где-то нас дожидается свободный столик. Совсем близко от оркестра… Давайте бродить, пока не отыщем? — задорно предложила она.
Ко мне сразу вернулось хорошее настроение. Почему бы нам и в самом деле не побродить, пока не наткнемся на этот заждавшийся нас столик? Схватившись за руки, мы припустились бежать под дождем, среди веселого хоровода огней, разрывающих мрак, прямо по лужам, большим, как озера. Я сжал маленькую руку Кати, спрятал ее в своей ладони, словно мальчишка яблоко, и с беспокойством думал о том, хватит ли у меня характера отпустить ее, когда наша гонка кончится. Кати на мгновение замерла и свободной рукой указала на одно из закрытых окон:
— Смотрите! Какое странное!
Окно как окно, такое же, как тысячи других; однако, взглянув вслед за Кати, я тоже нашел его странным. Никогда бы не поверил, что самое обыкновенное закрытое окно может показаться странным. Мы припустили дальше, гадая вслух, кто может жить за этим окном, чем он занимается и что ему сейчас снится. Так мы добежали до «Трансильвании». Свободных мест, конечно, не оказалось ни в одном из двух обширных залов ресторана. Столик, может, и ждал нас где-то, но только не здесь. Пришлось отправиться дальше. Я снова сжал в ладони детски крохотный кулачок Кати, еще сильнее, чем прежде. Мне хотелось согреть его, но у меня самого ладонь была холодной и мокрой. Этот упорно разыскиваемый столик мне, собственно, был ни к чему, мне и без него было отлично. Пожалуй, даже лучше, чем в любом теплом помещении, где я не смогу держать Кати за руку.
Прошел час, потом еще один. Промокший до нитки, уже в десятый раз вытирая лицо и шею, слонялся я вдоль столиков, с надеждой бросая красноречивые взгляды на официантов, которые ничем не могли мне помочь, и высматривал, не собирается ли по домам какая-нибудь компания. Я по нескольку раз побывал в одних и тех же ресторанах и убедился, что часть посетителей успела смениться, но это по странному совпадению случалось обычно в мое отсутствие. На улице было промозгло и холодно, в помещении — влажно и тепло; я то стучал зубами, то обливался потом. Перед глазами у меня плясали красные круги, какие-то загадочные огоньки вспыхивали на стенах домов и в мокрых волосах девушек, а может, только в моем воображении. И я едва поверил своему счастью, когда вдруг увидел перед собой столик, накрытый чистой скатертью, с вазой для цветов и солонкой, рядом с оркестром, который по-прежнему играл все тот же задумчивый вальс. Какое-то время я смотрел на это чудо, затем устало коснулся накрахмаленной скатерти.
— Позову своих спутниц, — сказал я торжествующему официанту. Он улыбался с таким видом, словно компанию, оккупировавшую столик, ему удалось вышибить в результате рукопашной схватки. — Прошу вас, присмотрите за столиком. Удержите его во что бы то ни стало.
Но когда я вышел на улицу, в пестром вихре неоновых огней уже не было видно остроконечного капюшона и двух жадных, вопрошающих глаз.
Я простоял минут десять в тоскливой надежде, что девушки со смехом вынырнут откуда-нибудь из подъезда. Несколько человек прошли мимо меня, я их не видел. Затем из вестибюля появился официант.
— Держать для вас столик?
— Нет, теперь ни к чему, — ответил я. — Девушкам надоело ждать, и они улизнули домой. Я несколько часов пытался раздобыть для них столик.
Официант закурил. Это был пожилой человек со смуглым лицом и тонкой ниточкой черных усов. Втянув голову в плечи, он молча смотрел на дождь.
— Ничего, — сказал он. — Все равно скоро мы закрываем, так что у вас осталось бы совсем мало времени. — Он слабо улыбнулся. — Вам здорово не по себе? Я тоже улыбнулся:
— Разумеется! Ну, ничего не попишешь, раз так получилось. Доброй ночи вам! Мне еще целый час топать пешком до дому, а там, глядишь, и на завод пора.
— Доброй ночи!
Я пожал официанту руку и двинулся в путь. Одиноко брел я по широкому тротуару, светили фонари, бесконечной вереницей уходящие вдаль, асфальт напоминал недвижную водную гладь, и таинственными до жути казались окна, закрытые ставнями. «Наверное, теперь я всегда буду смотреть на них с этим чувством», — подумал я. Со всех сторон меня обступил сонный город; здания, освещенные снизу, вздымались в темное ночное небо, сквозь дождевую завесу, колыхавшуюся от ветра, проступали их причудливые контуры. Спрятав глубоко в карманы мокрые окоченевшие руки, я принялся насвистывать какой-то мотивчик, однако смутная тревога не давала мне покоя: а что, если я никогда больше не встречу девушку в остроконечном капюшоне?
Как-то в середине октября воскресным утром я пешком отправился в центр города. На углу Липовой улицы путь мне преградила вереница убранных цветами свадебных машин. «Астры, — подумал я. — Почему же астры? Ну да, конечно, ведь в эту пору уже нет других цветов». Многие толпились на краю тротуара, с любопытством заглядывая в машины. И вдруг каким-то боковым зрением я уловил мягкий, неуверенный взмах руки. Я медленно повернулся в ту сторону, предчувствуя, что не ошибся, и все же боясь разочарования. Две недели я ждал этого момента, этой встречи, не в силах представить себе, что она не произойдет. Я был уверен, что узнаю девушку по голосу или жесту. Конечно, ее можно было бы узнать по глазам, но не мог же я заглядывать в глаза всем встречным женщинам.
— Это ты! — как-то сдавленно вскрикнула Кати. В свете солнца, пробивающегося сквозь спокойные серые облака, она казалась усталой, поблекшей. С недоверчивой улыбкой всматривалась она в мое лицо; в первый момент я не нашел ее красивой. На ней был плащ, на шее — зеленая косынка из легкого шелка. Непокрытые волнистые белокурые волосы выглядели слегка влажными. Невольно я взял ее руку и спрятал в свою ладонь, словно яблоко. Этого жеста две недели ждали мои пальцы.
— Я повсюду искал тебя, — сказал я.
Разумеется, я верил, что говорю правду, хотя, само собой, у меня не было времени ее искать, просто я постоянно думал о ней и внимательно смотрел по сторонам, в глубине души чувствуя, что мы обязательно встретимся. Украшенные астрами машины проехали, публика разбрелась, тротуар опустел. Держа Кати за руку, я перевел ее на другую сторону улицы. Там мы в нерешительности остановились. Кати снова повернула ко мне лицо: видно было, что она рада встрече.
— Ты любишь бродить один?
— Нет, — ответил я. — Не люблю. Просто я и еще несколько человек с завода учимся, и свободного времени остается в обрез. Так постепенно и откалываешься от друзей…
— Ты мог бы поехать со мной в фазанник? — спросила Кати.
— А кто мне мешает? Тогда повернули обратно, автобус идет с Круглой площади.
Курьезное совпадение: опять я без пальто и опять, наверное, пойдет дождь. Правда, деньги у меня на этот раз были; с того дня я не выходил из дому с пустым кошельком. «Может, все-таки дождя не будет, — думал я. — Утром долго держался туман. А если начнется дождь, спрячемся куда-нибудь». Под ногами у нас едва заметно курились стертые булыжники мостовой.
Отправления пришлось ждать в полупустом автобусе.
— Садись к окну, — посоветовала девушка. — Тогда не надо будет уступать место.
— Уж лучше я уступлю, — ответил я.
Я близко придвинулся к Кати и, по-прежнему держа ее руку, заглянул ей в глаза. Они были не просто синие, а как будто еще и золотистые, и от этого взгляд казался теплым.
— В прошлый раз я остался один, — сказал я.
— Знаю.
— Не скажешь, почему вы скрылись?
— Что ж, скажу. Тебе я все скажу, потому что ты славный парень. — Кати смотрела прямо перед собой, ее узкие темные брови дрогнули. — Рози утверждала, что я обладаю волшебной силой — ну, колдунья, что ли, — и могу вытворять с мужчинами, что захочу. Вот мы и решили проверить…
«А правда, в ней есть какая-то непонятная магическая сила», — подумал я, и меня охватила щемящая грусть. Я откинулся на спинку сиденья, невольно отодвинулся от Кати и даже выпустил ее руку.
— Сердишься? — окликнула меня Кати.
— Незачем было удирать втихомолку, но объяснив, что вы задумали. Никакой необходимости не было. Я и сам бы ушел, нисколько не обидясь, если бы вы признались в своей затее. Но сердиться я не умею, — добавил я.
— Вот-вот, я сразу поняла, что сердиться ты не умеешь. Ты чувствуешь, что мне и без того грустно, и все прощаешь…
Я посмотрел на нее: она и правда была какая-то притихшая, грустная, впрочем, я почувствовал это еще там, на углу Липовой.
Автобус тронулся. До ресторана в фазаньем питомнике мы не обменялись ни словом, смотрели на проплывающие мимо дома, поля, перелески. Проглянуло солнце, и неожиданно все окрест засверкало множеством красок; тень, словно сорванное покрывало, соскользнула с придорожных тополей, и листья заблестели, затрепетали, подмигивая светлой изнанкой.
— Как странно, — заметила Кати. — Все эти яркие, огненные краски — они ведь и раньше были у нас перед глазами, и все-таки мы их не замечали.
— Все дело в солнце, — сказал я.
На усыпанной гравием площадке перед ресторанчиком, среди цементных ваз с увядшими цветами автобус остановился. Прежде этот лес был графским владением. Потом здесь построили ресторан, наладили регулярные рейсы автобуса, и теперь лишь огороженные проволокой вольеры напоминали отдыхающим о прежней графской забаве — декоративных фазанах. Прорезая заросли дуба и бука, звездообразно разбегались чистые, ухоженные аллеи. У пересечения просек на стволах деревьев были развешаны деликатно покрашенные в зеленый цвет ящички с поясняющей надписью: «Для мусора». Целая серия табличек, тоже прибитых к стволам деревьев, запрещала разводить костры, бросать окурки, пасти скот и охотиться.
— Свернем в сторону, — предложила Кати. — Ну их, эти дорожки. И так всю жизнь по ним ходим.
— Как скажешь. Только в начале парка все равно какое-то время придется идти по дорожке.
Я оглянулся на город: напоенная водой земля курилась, насыщенный влагой воздух приглушал сверкание башен и крыш. Дорога под ногами у нас тоже была сыроватой, но не грязной; только иногда нам приходилось разнимать руки, чтобы обойти лужу. Вскоре мы добрались до вольер. На бетонном фундаменте причудливыми островами пестрел зеленый и желтый мох, с толстой проволоки чешуйками лупилась краска, обнажая ржавчину, под крышей из листового железа в полумраке гнили обломки досок, сухие ветви, охапки сена.
— Дальше можно и без дорожки, — сказал я. Голос мой в настороженной тишине парка показался резким, чужим. — Можем пойти напрямик через рощу.
Под деревьями было заметно прохладнее. Кати все время шла впереди; я, укорачивая шаг, медленно ступал в ее следы, взглядом вбирая в себя тоненькую милую фигурку, беззащитно открытые, нетронутые загаром икры, белые носки до щиколоток и легкие туфли на невысоком каблуке, к которым пристали опавшие листья. «Так и нес бы ее на руках, — думал я. — И мог бы нести сколько угодно…» Я не знал, куда девать силу.
Дорогу преградил толстый ствол; падая, он, должно быть, сбил немало веток с соседних деревьев, но случилось это, судя по всему, довольно давно. Мох, успевший нарасти на коре упавшего дерева, пропитался водой, как губка. Я содрал мох там, где ствол был поровней, постелил носовой платок и усадил Кати, а сам плюхнулся прямо на ствол. Пока мы шли по дорожке, меня не оставляло ощущение, будто мы гуляем по парку; но здесь уже был не парк, а настоящий лес. Никто не вмешивался в дела природы, деревья росли как вздумается, и даже подлесок приноравливался только к солнцу. Если кто-то и проходил по дорожке, сюда не доносилось ни звука.
— Ну, вот мы и дома, — сказал я.
— Дома, — повторила Кати. — К счастью, я знаю, что ты не сердишься. Иногда я думала, как хорошо было бы встретить тебя снова.
— Я все время думал о том же.
Сухой листок бука, кружась, упал ей на колени. Она поднесла его к лицу, понюхала и протянула мне.
— У него совсем нет запаха, правда?
Я взял листок. На ощупь он был как тонкая, нежная кожа, и цвет его был как у кожи — рыжевато-коричневый. Этот красивый, теплый цвет он утратит, пролежав на земле несколько дней, потом поблекнет, свернется. Я взглянул вверх, на купы деревьев. Недвижно парящие в высоте кроны ближе к стволу еще отливали желтовато-зеленым цветом, там же, где их освещало солнце, полыхали червонным золотом. Кати тоже запрокинула голову кверху, в просветах между деревьями увидела холодное небо и зябко поежилась. Я обнял ее за плечи, привлек к себе; у меня не было иных мыслей, кроме одной: мне нужно согреть эту девушку, которая зябко жмется ко мне.
— До чего хорошо здесь! Правда? — снова заговорила Кати.
— Хорошо. Только ты мерзнешь.
— Нет, так мне не холодно.
— Прижмись ко мне.
— А я что делаю?
Повернув голову, я посмотрел на нее сверху вниз, близко увидел ее волосы и приникший к моему плечу белый лоб, и меня охватил страх, что мы не сможем разговаривать, как все люди. Слишком хорошо мы понимали друг друга даже без слов. «Вот она здесь, рядом со мной, — говорил я себе. — Тогда, ночью она словно околдовала меня, а ведь за минуту до встречи я думал только о занятиях. Не грезится ли мне, что и сейчас она вновь со мной?» Свободной рукой я тотчас нашел ее руку, почувствовал, какая она холодная, поднес ко рту, чтобы согреть своим дыханием. Кати не отняла руки; казалось, она вообще лишилась способности сопротивляться чему бы то ни было; опустив голову, она разглядывала свои туфли. Какое-то время я тоже смотрел на ее туфли и думал, что они точно так же, как ее кулачок, могли бы уместиться в моей ладони.
— Не сердись, я не умею поддерживать разговор, — разжал я губы.
— Если б я захотела, ты сумел бы, — тихо отозвалась она. — Но мне хочется просто посидеть здесь молча, давным-давно хочется… Я сама только сейчас поняла, как давно мне хочется этого. И обязательно с тобой.
— Почему именно со мной?
— Не могу объяснить словами. Знаю только: с тобой — и все.
— Зато я совершенно точно знаю другое: я на все готов ради тебя.
— Ты всерьез говоришь это? — Кати отодвинулась, чтобы лучше видеть мое лицо, видеть мои глаза и губы, когда я произношу эти слова. — Хочу услышать еще раз!
— Я сказал, что я на все готов ради тебя!
— Ладно, значит, ты это всерьез. — Она снова прижалась ко мне, уткнувшись лицом в мое плечо. — Но знаешь, о чем я думаю? Жизнь течет, как река. Ничто не остается неизменным, и ничто не возвращается. Вон видишь листок, сейчас он колышется точно против той ивы, а где он будет через полчаса? Или, скажем, человек заявляет, что у него болит голова, и она у него в самом деле болит. Кто виноват, если через час она перестанет болеть?
— Если у меня сейчас болит голова, она будет болеть и через час. У меня ничто не проходит скоро.
Я подумал, что сужу так без особых оснований — ведь еще ничто не пришло в мою жизнь и ничто не ушло из нее. Только, пожалуй, моя настойчивость в работе придавала мне уверенности в себе, потому что ни разу не подводила меня.
Когда Кати садилась, полами плаща она прикрыла колени. Сейчас полы разошлись, хотя ни один из нас не шевельнулся. Из-под плаща показалось светлое летнее платье в мелкий цветочек, тоже короткое и очень чистое. Я дважды невольно взглядывал на ее колени, они белели, словно два полушария, тесно прижатые друг к другу. Когда взгляд коснулся их в третий раз, жгучая жалость пронзила меня, жалость к Кати, к самому себе, к людям, которые не догадываются, как это прекрасно сидеть в лесу на сыром поваленном стволе дерева. Я тоже не знал этого до сих пор, и еще мне было больно от сознания, что скоро наступят минуты, дни, а может быть, годы, когда нам уже не сидеть вот так, под деревьями. «Надеюсь, она понимает, что это не пустые слова, — думал я. — Понимает, что я на все готов ради нее. Тем более сейчас, когда на душе у нее тяжко, ей просто необходим кто-то рядом. Только бы хватило у нее ума усвоить эту простую истину: она может рассчитывать на меня».
Среди буков, в нескольких шагах от нас, стояла старая береза, необыкновенно высокое, стройное дерево; чтобы пробиться к свету, ей пришлось поднять свою крону выше соседних деревьев. Мне еще не случалось видеть такой березы-великанши. Ее покрытый трещинами грубый ствол местами словно мазнули широкой белой кистью, и эти белые пятна были удивительно нежными. «Я бы и не заметил их, — подумал я, — не будь здесь, рядом со мною, Кати». Сейчас мои глаза замечали каждую мелочь, и все, чего я раньше не видел, казалось мне удивительным. После первой нашей встречи мне все время недоставало таинственного мерцания, которое тогда, ночью, преображало людей и предметы, отражаясь в тысячах капель. Я поднял лицо Кати, чтобы заглянуть ей в глаза.
— Что это? — Кати словно очнулась. — Ты мне мешаешь думать. Да ты хочешь поцеловать меня! — удивленно добавила она.
Наверное, я действительно хотел этого, хотя и не сознавал. Я поцеловал зажатый в моей ладони маленький кулачок и наклонился вперед, чтобы поцеловать ее колени; на это я скорее мог решиться, чем прикоснуться к ее губам. Но Кати сама притянула мою голову. Губы ее были мягкими и холодными, я долго целовал их, пока они не согрелись и не стали жаркими. При этом я настойчиво старался внушить ей мысль, в которую вкладывал всю свою душу: «Я на все готов ради тебя».
Вдалеке, за желтеющим полем и лесом, зазвонили колокола; потом даже сквозь сомкнутые веки я ощутил, как в лицо нам ударил луч солнца, который мы прежде никак не могли отыскать за тучами. Кати вновь приникла к моему плечу, часто дыша, даже от прогретых волос ее теперь словно исходило тепло. На этот раз я все-таки поцеловал ее колени, согрев их дыханием, затем, чуть отодвинув юбку, прижался губами к гладкой холодной коже. Мы оба замерли так на какое-то мгновение, пока Кати не шепнула Смущенно:
— У меня мерзнет спина.
Я обнял ее за плечи, привлек к себе так же, как раньше, и время от времени касался губами ее волос. Поднялся ветер, с шумом закачались стволы деревьев, листья, как раненые бабочки, кружась, заскользили вниз. По опавшей листве, по зелени мха — повсюду бесшумно заплясали пятна осеннего солнца. Ветер вскоре утих, снова чуткая прохладная тишина поглотила нас, тишина и почти осязаемый лесной аромат. Прошло немало времени, прежде чем мы снова поцеловались. Потом я торопливо прижал ее к себе, укрыл, как только мог, чтобы она не зябла. «Что я тут давлю мох — это ерунда. Мне все нипочем, — думал я. — Но она мерзнет. И голодная. Почему она не признается, что голодна? И почему мы не разговариваем? Я бы мигом мог притащить из ресторанчика что-нибудь съестное, обернулся бы за несколько минут. Бегом туда и обратно, и ей совсем недолго пришлось бы ждать. Мог бы прихватить даже бутылку минеральной воды или чего-нибудь другого — все-все, что она любит. Деньги у меня с собой. Ей нельзя оставаться голодной». Мы сидели на поваленном дереве, сквозь подошвы чувствуя идущую от земли, от опавших листьев и гниющего дерева промозглую сырость. Но Кати была спокойна, словно именно этой промозглой сырости и голода ей недоставало для полного покоя; она тесно прижалась ко мне и, пригревшись, сидела с таким видом, словно еще долго намеревалась сидеть вот так, неподвижно, и молчать. Нога у меня затекла, будто тысячи муравьев поползли вверх по напрягшимся обнаженным мышцам, но я не переменил позы, потому что знал: мой бок для Кати сейчас единственное теплое гнездо, куда она может приткнуться. Изредка я целовал ее волосы, и каждый раз меня, словно током, пронзало ощущение счастья, что я могу целовать ее волосы, и неопределенный страх, что счастье это недолговечно.
Внезапно Кати отстранилась от меня. Мягким движением, словно срывая цветок, она подняла какой-то листик и снова уронила его на землю.
— Рассказать тебе? — спросила она.
— Как хочешь, — ответил он.
— Ну ладно. Тебе я расскажу. Еще там, на углу Липовой, я знала, что расскажу.
Я вытянул ногу — муравьи поползли вниз. Я старался не смотреть на Кати. Она наверняка поняла бы по моим глазам, как я боюсь того, что она собирается рассказать, и что я хочу лишь одного: сидеть с ней в тишине, наслаждаясь хрупким, готовым в любую минуту упорхнуть счастьем. Я едва удержался, чтобы не попросить: «Помолчи, не надо рассказывать!»
РАССКАЗ КАТИ
Как-то в начале лета воскресным утром я зашла в кондитерскую. Когда собралась расплачиваться, оказалось, что деньги оставила дома. А мне еще надо было купить цветы. Я шла проведать невестку — она ждала ребенка, и, кроме того, на это воскресенье приходился день ее именин. Это жена моего старшего брата. Сам-то брат — хмурый, неразговорчивый человек, горький пьяница, и обо мне он никогда не заботился, но жену его я люблю, и она меня тоже. Я сказала официантке, что хочу расплатиться; она стояла рядом, наблюдая, как я роюсь в сумочке, и ждала. А в сумке у меня ни леи!
— Одно пирожное и стакан газированной воды, — повторила я машинально, чтобы оттянуть время.
Официантка так же машинально повторила, сколько я должна, и уже не скрывала своего нетерпения. Тогда кто-то швырнул на стол бумажку в пять лей, и я услышала голос: «Сдачи не надо». Официантка в тот же миг удалилась — остальное ее не касалось, — а к моему столику подсел какой-то мужчина и с улыбкой заглянул мне в лицо.
— Ничего страшного, девушка, — успокоил он меня. — С каждым может случиться.
— Куда прислать деньги? — спросила я.
— Часов в шесть вечера я буду здесь, и если вы вдруг окажетесь в этом районе… А если нет — не беда, глядишь, когда-нибудь и встретимся.
Нет на свете человека, который мог бы сказать, что я осталась перед ним в долгу. Я работаю на швейной фабрике, неплохо зарабатываю, потому что руки у меня ловкие. Конечно же, к шести часам я явилась в кондитерскую с деньгами. Правда, пять лей за пирожное и стакан газировки, по-моему, было дороговато. Легко быть щедрым за чужой счет, подумала я, но ошиблась. Он с этого и начал:
— Вы, собственно, должны мне одну лею пятьдесят баней, остальное — мое дело.
Он был чуть полноват и выглядел так, будто никогда не работал. Весь какой-то рыхлый, словно улитка, которая только что вылезла из своего домика и слизывает на пути все, что попадется. Все-таки он мне чем-то нравился, вот только на его толстые, пухлые пальцы я не любила смотреть. Думала, что уж хотя бы пальцы у него могли быть похудее. В конце концов мы потратили и эти пять лей, а потом в ресторане еще сотню, но уже не из моих, напрасно пыталась я отдать деньги хотя бы за себя. Мы рассказывали друг другу, кто мы и что, и танцевали. В полночь он проводил меня до дому и сказал, что давно мечтает о такой жене. Этого мне еще не говорил никто. Сердце у меня колотилось так, что я боялась, как бы он не услышал. Говорил он и о своей работе, что, мол, для проектирования архитектору необходимо вдохновение, крылатая фантазия и что, если я свяжу свою судьбу с ним, он станет проектировать самые прекрасные здания в мире. Выходило, чуть ли не от меня зависит судьба архитектуры.
Мать еще не спала, дожидалась меня; она никак не могла взять в толк, куда я запропастилась. Чтобы успокоить ее, я сказала, что мы с Рози гуляли по городу.
На следующий день я обо всем рассказала Рози. Мы вместе работаем. Рози всего на четыре года старше меня, но уже разведенная, лучше знает жизнь. Она молча меня выслушала, потом высказала свое мнение:
— Я этого типа видела, но мне подозрительно, что уж больно много он разглагольствует об архитектуре, без тебя, видишь ли, она зачахнет. Похоже, что проектирует-то он курятники да свинарники. Надеюсь, ты больше не намерена с ним встречаться.
— Конечно, — заверила я. — Маме я сказала, что мы гуляли с тобой, не проговорись, пожалуйста.
— Этого можешь не опасаться, — сказала Рози. — Только в следующий раз не впутывай меня. Знаешь ведь: терпеть не могу лгать.
А у меня весь день из головы не выходила его фраза: «Именно о такой жене я давно мечтаю». Жена! Господи боже мой! Я — и вдруг жена! Я поймала себя на мысли, что все время думаю о нем, вижу перед собой его глаза, как они лучатся радостью, когда он смотрит на меня. И снова вспоминала, как он привлекал меня к себе во время танца, нежно и властно, словно так оно и положено, словно по-другому и нельзя танцевать. И все-таки — хотя об этом я вроде бы почти не думала — больше всего мне запало в душу, что теперь, познакомившись со мной, он будет проектировать здания во сто крат красивее. Когда речь заходила об архитектуре, перед глазами у меня всегда возникал римский Колизей — я видела его в каком-то фильме. И я бы нисколько не удивилась, если бы обнаружила, что в один прекрасный день на главной площади нашего города начали возводить Колизей, а мой инженер стоял бы там, курил и с чертежами в руках проверял, как работают каменщики.
Когда на третий день, выйдя с фабрики, я увидела его у проходной, меня вдруг охватила какая-то странная, до сих пор мне не знакомая гордость: ведь это из-за меня он стоит здесь. И я едва снизошла до разговора с ним. А он шел рядом, улыбался и держал меня за руку; ладонь его была слегка влажной, а моя — прохладной, и я знала это: я только что приняла душ. Так мы шли довольно долго, не обычным путем, а переулками: я не хотела, чтобы нас видели вместе. На перекрестках он чуть расслаблял пальцы, сжимавшие мою руку, предоставляя мне решать, куда свернуть. Он проводил меня до дому, вернее, до угла и спросил:
— Нет у вас желания прийти к шести часам в то кафе?
— Нет, — ответила я.
— Тогда придите ради меня.
Он улыбнулся, с радостью — может, я все-таки приду, и грустно — а вдруг не приду. Я подумала о Колизее и ответила:
— Ну, разве что ради вас…
На нашей улице перед каждым домом палисадник; вдоль тротуара живой изгородью разрослась ночная красавица, по большей части красная, но попадается и желтая. Он сорвал красный цветок с плотно закрытыми лепестками и положил мне на ладонь.
— Видите? Вот и вы такая же замкнутая…
До тех пор мне и в голову не приходило, что я могу быть замкнутой, наоборот: на фабрике и в Союзе рабочей молодежи меня любили как раз за то, что я открытая, веселая. Надоест мне, бывало, глядеть, как все вокруг сидят понурые, с кислыми физиономиями, начну их тормошить, и не было случая, чтоб мне не удалось развеселить любую компанию. А сейчас вдруг мне заявляют, будто я замкнутая! Не знаю почему, но это польстило мне; я обрадовалась, что я не такая, как все, необычная, со сложным характером. Впрочем, несмотря на всю мою гордость, в его присутствии я чувствовала себя как-то скованно. Наверное, мне очень хотелось помочь ему построить свой Колизей, но я не знала, как это сделать.
— Это плохо, что я замкнутая? — спросила я.
— Только со мной не будьте такою, — ответил он.
И ушел. А я после обеда погладила белое платье; я надевала его раза два, и оно еще было как новое, только помялось немного. Маме я сказала, что иду к Рози. В начале седьмого я уже подлетела к кондитерской, он ждал за столиком и даже успел заказать кофе и пирожные, настолько был уверен, что я не подведу. Ну что ж, он не ошибся: я действительно пришла и к тому же вовремя.
Возвращались мы в полночь, улица была безлюдной и темной. Оба не торопились; он держал меня за руку и говорил, говорил, но не о себе, а только обо мне: какие у меня необыкновенные достоинства. Я чувствовала, что на самом деле я совсем не такая, как ему представлялось, и в то же время считала себя еще лучше — вообще лучше всех на свете. Фиалки раскрылись, даже воздух стал гуще от их аромата; в темноте я не видела цветов, но, когда провела по их головкам ладонью, один из цветков застрял меж пальцев — холодный и влажный от росы. Я сорвала его.
— Вот, прошу убедиться, сейчас она раскрылась.
Он взял у меня цветок, поцеловал его, потом поцеловал и меня — прямо тут же, на тротуаре; он был ненамного выше меня и, как я уже говорила, несколько полноват; я чувствовала, что моя грудь крепче, чем у него. Он тоже чувствовал это и положил на нее свою руку. Мне не хотелось позволять ему такое, но почему-то передо мной возникла картина, как мы сидим в ресторане и он после каждого кусочка спрашивает: «Вам нравится?» — и все порывается заказывать новые блюда. Он хмурил лоб, озабоченно следил за мной, его одолевала тревога: а вдруг мне не по вкусу придется ужин. «Нет, — подумала я тогда, — не могу я оттолкнуть его руку. Ведь он меня любит».
Мы встречались почти каждый день. Он разузнал, когда у меня день рождения, и купил в подарок свитер. Маме я сказала, что это от подружек с фабрики. Правда, они тоже преподнесли мне подарок — красивую хрустальную вазочку, но я пока отдала ее Рози, попросила подержать у себя.
Потом он на неделю уехал в Бухарест, в министерство. И всю эту неделю мне его очень недоставало; вот тогда-то судьба и свела нас с тобой однажды вечером. Когда он вернулся, мы встретились в кондитерской, как обычно. Он сказал, что получил премию за какое-то снижение себестоимости, и привез мне из столицы одну вещь — что-то ужасно красивое, — и надо сейчас идти за этим подарком к нему на квартиру. Я пошла, хотя и подозревала, чем это может кончиться.
Начал он за здравие, а кончил за упокой. Даже оторвал пуговицу с платья. Я и сама не понимаю, почему упиралась, ведь мне казалось, я люблю его, но это было сильнее меня, не могла я ему это позволить, и все, а уж когда он повел себя грубо, я тем более противилась. Наверное, еще и потому, что вспомнила, как давно он не заговаривал о женитьбе и вообще о дальнейшей нашей жизни. Я рванула дверь и выбежала. В сумке у меня лежало полдюжины импортных ночных сорочек; на углу улицы Аврама Янку я выбросила их в урну. Воображаю, как удивлялся потом мусорщик…
Солнце переместилось, лучи его теперь почти горизонтально стлались между деревьями, на коре старой березы горело розовое пламя. Пока Кати рассказывала, мы сидели выпрямившись, рядом, но не касаясь друг друга. Теперь я инстинктивно потянулся, обхватил ее за плечи, прижал к себе, чтобы согреть. Становилось по-настоящему холодно. «Пора отучиться от этой глупой привычки ходить без пальто, — думал я. — Будь оно сейчас на мне, я мог бы укрыть ее». Самому-то мне холод был нипочем. Странный жар волнами пробегал по всему моему телу, губы пересохли, мучительно хотелось хоть что-нибудь сделать для Кати, но чем я мог ей помочь? Разве еще крепче обнять ее плечи. В ее рассказе чего-то не хватало. Я пытался поверить ей, пытался понять, но это мне никак не удавалось, и было больно, оттого что я не верю Кати. Я очень хотел бы поверить и не мог.
— Но почему же… — начал я и запнулся. — Но почему… — сделал я новую попытку и понял, что спрашивать мне, собственно, не о чем. Я бездумно следил за зигзагообразным падением листьев: они тотчас пропитывались влагой и приникали к земле, словно стремились как можно скорее сровняться с нею, уйти в нее; жизни в них уже не осталось, одна обреченность.
— Не так все было, — сказал я. — Не сердись, но только было не так…
Откуда-то со стороны ресторана долетел далекий автомобильный гудок. Звук его, запутавшись между деревьями, распался эхом, потом наступила еще более густая, гнетущая тишина. Кати, разочарованно тряхнув головой, вздохнула:
— Ты прав… А жаль. Красиво получилось.
— Тебе так кажется?
— А разве нет? Интересно, до сих пор мне все парни верили, что бы я ни насочиняла. И только ты… Наверное, потому, что тебе я не собиралась врать. Начала рассказ с правды, а потом сбилась. Просто мне слишком хотелось, чтобы все было так, как я рассказала. Но теперь я не собьюсь.
ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ КАТИ
С тобой тоже, наверное, случалось такое: сотни раз проходишь, скажем, мимо колодца на углу, пока вдруг в какой-то день не заметишь: да это, никак, колодец? Примерно то же произошло со мной в начале лета. Воскресным утром я пила кофе в кондитерской и дожидалась Рози — мы условились встретиться. Вошел какой-то мужчина. Наружность его я уже описала. Мне было известно, что он инженер-проектировщик, неженатый, и что он постоянно околачивается по разным кафе; эту привычку знали за ним все: бывают такие люди, о которых всем все известно. Я много раз его видела, и никогда он не пробуждал во мне ни малейшего интереса. А сейчас я взглянула на него, и мне припомнилось, что Рози частенько любила повторять: «Ты мужчинами вертишь как хочешь, пожелаешь, и они у тебя будут скакать на одной ножке и кукарекать…» А ну-ка, проверим, решила я. Для начала попробуем с ним познакомиться.
Я сказала официантке, что хочу расплатиться. Та остановилась рядом со мной, наблюдая, как я роюсь в сумочке.
— Кофе и стакан газированной, — повторила я. Я сознательно тянула время, чтобы обратить на себя внимание.
Официантка не скрывала нетерпения; она знала, что мне отлично известно, сколько стоит кофе и стакан воды. Я продолжала копаться в сумочке, там лежало сотни две лей, но я засунула их под носовой платок и состроила испуганную мину, хотя бы для того, чтобы не прыснуть со смеху. «Вот сейчас, — подумала я. — Самое время». И действительно кто-то вдруг бросил на стол бумажку в пять лей со словами: «Получите, пожалуйста, а сдачу оставьте себе». Официантка моментально испарилась, а ко мне подсел тот мужчина — все разыгралось как по нотам. Меня не покидало ощущение, что подуй я на него — и он исчезнет, произнеси волшебное слово — и появится вновь.
— Ничего страшного, девушка, — сказал он, — с каждым может случиться.
— Куда прислать деньги? — спросила я.
— Часов в шесть вечера я буду здесь, и если вы вдруг окажетесь в этом районе… А если нет — не беда, глядишь, когда-нибудь да встретимся.
Вошла Рози, увидела меня с инженером, улыбнулась и повернула к двери.
— Пора идти, — сказала я. — А вечером мне как раз придется быть в этих краях по делу, так что загляну обязательно.
Мне бы и этого хватило для удовлетворения самолюбия, если бы дело стало только за мной.
Рози поджидала меня на улице. Мы вместе работаем на швейной фабрике, но я зарабатываю больше ее, потому что у меня руки проворнее, а ведь она на четыре года старше, ей сейчас двадцать два, и она уже год как разошлась с мужем. В то время она еще казалась мне милым, безобидным существом, хотя я и знала, что ее что-то гложет, а иногда не нее накатывают какие-то приступы злобы ко всему и всем на свете, и тогда она становится вроде одержимой. Прислонившись к стене, Рози спокойно ждала, пока я подойду, а потом с серьезным видом принялась меня поучать:
— Я вижу, ты подцепила этого типа. Смотри, не упусти, он прилично зарабатывает. И не будь дурочкой, все равно дело кончится известно чем, так по крайности урви с него побольше.
— Да будет тебе трепаться, — одернула я ее.
Она проводила меня чуть не до самого дома и всю дорогу учила уму-разуму. Не важно, чему именно, но говорила она ясно, с глубокой убежденностью. Сначала мне просто хотелось поинтереснее провести воскресное утро, для чего я и затеяла эту историю с инженером, — никаких других планов у меня не было. Но тут я поняла, что и другие утра, дни и вечера я тоже могла бы проводить интереснее и с ним.
В шесть часов, прихватив деньги, я как миленькая сидела в кондитерской. Мы потратили сначала пять лей, потом еще сотню — в ресторане. Но уже не из моих. Во время танцев рассказали друг другу, кто мы и что, где и кем работаем. В полночь он проводил меня до дому и дорогой сказал, что давно мечтает именно о такой жене, и, знай он, что я с ним рядом, его фантазия обрела бы крылья и он проектировал бы прекрасные здания, каких еще свет не видал.
— Прекраснее, чем Колизей? — спросила я.
— Не менее прекрасные. Сами убедитесь, если поможете мне.
И меня охватило непреодолимое желание, чтобы рано или поздно в нашем городе возвели прекрасное здание, хотя бы такое, как Колизей, и чтобы я имела — пусть самое косвенное — отношение к его строительству. Но инженеру я тогда ничего не сказала. Мама уже спала, она привыкла, что я иногда задерживаюсь, слышался громкий храп отца, в четыре часа начиналась его смена, он на железной дороге работает. Ужин мой стоял на кухонном столе, но я к нему и не притронулась; иной раз я целый день обходилась тем, что успевала перехватить в столовой.
Рози дотошно выспрашивала, что у нас да как. Я рассказывала ей все, только о Колизее, не знаю почему, не обмолвилась ни словом. Да она бы и не поняла… Но ты, я знаю, поймешь.
— Слушай внимательно, — сказала Рози. — Дело на мази, и это вполне естественно. Настала пора и тебе пожить как самостоятельной женщине. Только не забывай: следи, чтобы ни одной пяди не уступить даром и чтобы победа всегда оставалась за тобой.
Я даже не задавалась вопросом, нравится ли мне этот человек. Помнила только, что глаза у него вспыхивают радостью, когда он заглядывает мне в лицо. Еще помнила, как он привлекал меня к себе во время танца, нежно и властно, словно так и положено, словно по-другому и нельзя танцевать. И уже казалось неважным, нравится он мне или нет, гораздо важнее было, что я нравлюсь ему, что его тянет ко мне.
После работы, выйдя из проходной, я застала его у ворот. Мы условились, что он будет ждать меня, но все-таки я боялась: вдруг он передумает, не придет. Он шел рядом со мной, улыбался и держал меня за руку; ладонь у него была слегка влажной, а моя — прохладной, я знала это: я только что приняла душ. И так мы шли довольно долго, не обычным путем, а переулками. Он проводил меня до дому, вернее, до угла и спросил:
— Не хотите ли вы к шести часам прийти в то кафе?
— Нет, — сказала я.
— Ну, тогда придите ради меня.
И улыбнулся, с радостью — может, я все-таки приду, и грустно — а вдруг не приду. Я ответила:
— Ну, разве что ради вас…
На нашей улице перед каждым домом палисадник: вдоль тротуара живой изгородью разрослась ночная красавица, по большей части красная, но попадается и желтая. Он сорвал красный цветок с плотно закрытыми лепестками и положил мне на ладонь.
— Видите? Вот и вы такая же замкнутая…
Колоссальное заблуждение! На фабрике и в Союзе рабочей молодежи меня любили как раз за то, что я всегда открытая и веселая. Не было случая, чтобы мне не удалось растормошить, кого захочу. Просто мне казалось, что рядом с таким умным человеком лучше поменьше говорить.
После обеда я отгладила свое белое платье; я надевала его раза два, и оно еще было как новое, только помялось немного. В самом начале седьмого я подходила к кондитерской. Увидев меня, он вскочил, поцеловал мне руку и снова как-то особенно взглянул на меня — так, что я перестала жалеть о времени, потраченном на глажку.
Возвращались мы в полночь, улица была безлюдной и темной; шли не торопясь, он держал меня за руку и говорил — не о себе, а обо мне и о том, что встреча со мной означает коренной переворот в его жизни, в работе. Фиалки раскрылись; в темноте я не видела их и наугад провела ладонью по их головкам: цветы были холодные и влажные от росы. Я сорвала один и протянула ему.
— Вот, пожалуйста, сейчас он раскрылся.
Он взял у меня цветок, поцеловал его, потом поцеловал и меня, прямо там, где мы стояли, на тротуаре; он был ненамного выше меня и, как я уже говорила, несколько полноват; я чувствовала, что моя грудь крепче, чем у него. Он тоже чувствовал это и положил на нее свою руку.
В тот момент я о многом успела подумать. Во-первых, Колизей, я никак не могла представить себе ничего прекраснее. Затем перед глазами у меня возникла сцена в ресторане, когда он после каждого кусочка спрашивал: «Вам нравится?» — и все порывался заказывать новые и новые блюда. Наконец я вспомнила, что если следовать советам Рози, то ничего подобного я сейчас не должна была ему позволять. К своему изумлению, я обнаружила, в какое дурацкое положение попала: не знаю, чего хочу, и не следую ни советам Рози, ни собственному желанию. А что может думать человек, если не видит выхода? Я сказала себе: не стоит ломать голову, по крайней мере от скуки я застрахована. Ведь я еще никогда в жизни и дня не скучала… Нет ничего отвратительнее, если человек поддается слабости и еще подыскивает своему поступку оправдания.
Он сносил все мои прихоти. Да и неудивительно. Ведь это были лишь мелкие капризы, помогавшие поддерживать иллюзию, будто у меня сохранилась воля, хотя всегда и во всем я следовала его воле. Он покупал мне все, что бы я ни пожелала. Но опять же решала я не сама, а Рози подсказывала мне, чего желать, вообще Рози взяла на себя труд размышлять и решать вместо меня. Конечно, домой я ничего не могла приносить, все подарки перекочевывали к Рози. Она уверяла, что побережет их до поры до времени, пока они мне не понадобятся. А они мне вовсе не были нужны. В работе я лепила ошибку за ошибкой, заведующий секцией уже дважды делал замечания. Но мне все стало нипочем! В той самой, в личной борьбе я сдавала одну территорию за другой и уже сдала почти все. При этом иной раз я чувствовала себя превосходно, а иной совсем скверно. Но как только мне становилось не по себе, как только наступало отрезвление и я готова была бросить все, инженер тотчас начинал жаловаться на загубленную жизнь — я и до сих пор не уразумела, чем, собственно, он загубил ее, — да рассказывать о своей работе, в которой я играю самую важную роль. И я чувствовала, что нужна ему, что значу для него немало и что скоро где-то подымутся огромные здания, которые без меня были бы менее прекрасными.
Во всяком случае, Геза, хоть ты еще глупый, но одно ты должен запомнить: любой путь ведет куда-то, и, если каждый день делать хотя бы по одному крохотному шажочку, рано или поздно окажешься в конце пути. Ну вот и полюбуйтесь, как я выгляжу в конце пути! Заведующий секцией, с которым Рози была на короткой ноге, спохватился, как бы не остаться в стороне. Вызвал меня к себе — я думала, последует третий выговор, потому что для этого было достаточно причин. Но вместо нравоучений он принялся тискать меня. Я заявила, что не потерплю, мол, вольностей. На это он ответил, что в таком случае я вылечу с фабрики, и так сжал мне руку, что синяк держался несколько дней. Рози не удивилась. Больше того, она словно ждала, что я стану жаловаться. Тогда еще я не знала почему. Она втолковывала мне, что с обстоятельствами надо мириться и постараться повернуть их в свою пользу. Жаловаться бесполезно. Во-первых, я ничего не могу доказать. Во-вторых, даже если бы и могла, что из того? Ну покритикуют заведующего, тот даст обещание впредь не допускать подобного, но в конечном-то счете ведь он, а не кто другой останется надо мной начальником, и, стоит ему захотеть, он превратит в ад мою жизнь на фабрике. Я вспомнила холодные серые глаза заведующего и поняла, что ждать добра от него не приходится.
Инженер уехал в Бухарест, в министерство. Он получил большую премию и обещал привезти мне какой-то необыкновенный подарок. Мы скучали вместе с Рози, когда встретили тебя. Еще немного, и ты смог бы покутить вместе с нами: Рози в тот день продала один свитер из подаренных инженером, потому что, как объяснила она, мне он был не к лицу. Не знаю почему, но та ночь мне показалась прекрасной. И ты не думай, будто я радовалась, когда Рози решила, что лучше нам оставить тебя с носом.
К тому времени как вернуться инженеру, меня дрожь пробирала при одном только виде заведующего; я не знала, куда деваться от его приставаний. В таком состоянии я и уступила последнюю территорию. Три дня подряд я бывала на квартире инженера. Меня радовало, что он счастлив. Рози, разумеется, знала обо всем; потом оказалось, что и заведующий тоже в курсе. Как-то, наклонившись ко мне, он прошипел: «Катица, со мной вам будет не хуже. Теперь шутки в сторону, извольте прийти, куда скажу». В тот день я опять пошла к инженеру. Он сидел за столом с каким-то худосочным прыщавым приятелем, и, едва переступив порог, я увидела, что он сильно пьян. «В который раз ты сюда пожаловала, душечка? — услышала я вместо приветствия. — В четвертый? Ко мне женщина может приходить только три раза — после я сыт ею по горло. Но уж если явилась, садись». Я выбежала в подъезд, оттуда на улицу. Меня то знобило, то бросало в жар. Весь мир казался мне враждебным, да и я была ему чужая. Я не выбрасывала ночных рубашек в мусорный ящик на углу улицы Янку. Уже третий день они лежали у Рози, а может, она успела сбыть их, потому что они мне «были не к лицу»… Но лучше бы они были со мной, чтобы я могла их выбросить, мне нужен был какой-то жест, означавший, что всему конец.
Сегодня потел десятый день с того вечера. На фабрике я больше не появлялась. За это время я уладила все свои дела. Завтра после полудня скорым уезжаю в Сибиу, поселюсь там у тетки, она вдова, своих детей у нее нет. Постараюсь начисто забыть все, только не знаю, когда мне это удастся.
С приближением сумерек краски леса поблекли. Понизу расползались серые тени. С опавшей листвы, с вороха мертвых сучьев исчезли отблески солнца, лишь наверху, в редеющих кронах нет-нет да вспыхивала одинокая веточка. Я боялся пошевелиться, мне казалось, если я замру, эта глубокая тишина, которая, сливаясь с намокшей землей, вбирала в себя немые деревья, постепенно поглотит и меня. Все услышанное так не вязалось с этим безмолвным лесом, с моей жизнью, с жизнью Кати. И тем не менее это было! И четверо уже знали об этом — в подробностях, а мне, пятому, суждено было узнать только потому, что я не имел с ними ничего общего. Для Кати я был родственной душой, понимающим ее язык соотечественником, которому можно рассказать о приключениях, пережитых в чужом краю. Словно едкой кислотой обожгло мои обнаженные нервы, хотелось хоть что-то сделать, не бездействовать, но я был бессилен повернуть вспять течение событий, и боль все сильнее захлестывала меня.
— Ну, что же ты, — воскликнула Кати, — ахай, ужасайся! — Она снова прикорнула там, где прежде согрела местечко: облокотилась о мои колени, уронила голову, так что волосы закрыли лицо. — А я пока погреюсь. Обними меня покрепче за плечи…
Она говорила серьезно, но и с некоторым кокетством, как женщина, уверенная в своей власти, словно наперед знала, что в конечном счете важна только ее воля; потом вдруг Кати разрыдалась, и я почувствовал ее слезы сквозь ткань брюк. Темные силуэты деревьев медленно наступали на нас, небо же отдалилось, стало прозрачным, словно хрупкая ледяная корка подернула чистые воды. А тишина была рядом с нами, словно третье живое существо, но не вторгалась в наши души. «Чего она ждет от меня? — мучился я. — Помощи? Но чем я могу помочь ей?» Меня потрясло известие, что она уезжает, потрясло больше, чем все остальное. После долгого молчания я сказал совсем другое:
— Значит, завтра ты уезжаешь…
— Да, — ответила она. — Решено окончательно.
— Итак все, что выпало на мою долю, — тот вечер и сегодняшний день.
Она вскинула голову, отвела назад волосы, она уже не стеснялась слез и вытирала их, но они все текли и текли по бледному от напряжения лицу. Словно угасающий закат торопил ее, Кати поспешно оглянулась, потом еще раз, а затем посмотрела мне прямо в лицо, словно искала ответа на какой-то вопрос, на который она себе уже ответила. Она сунула мою руку под плащ, под легонькое платьице, положила ее себе на грудь, словно только там и было ей место. В сырой тишине послышался шепот:
— Почему «все», почему? Ведь я еще здесь… Не бойся, сюда никто не придет. Тогда, пожалуй, мне легче будет уехать, сердце будет болеть за тебя, а это — уже настоящая, человеческая боль, в которой есть смысл.
Я ощущал ладонью нежное, детское тепло. И боялся. Боялся, что она хочет этого только ради меня и что потом сама же будет из-за меня страдать. Я ничем не мог помочь ей, абсолютно ничем, и боялся, что этого чувства, этой парализующей беспомощности я и без того не в силах буду побороть. Я убрал руку с ее груди, поднес к лицу, чтобы почувствовать запах Кати, и выдавил из пересохшего горла:
— Пошли, Кати.
Взявшись за руки, мы обогнули пустые вольеры, пахнувшие ржавчиной, и вышли на дорогу. Отсюда уже виднелись, то пробиваясь сквозь ветви, то пропадая в листве, огни ресторанчика; на окутанных темнотой топких стволах повисли клочья тумана. Города мы не видели, хотя и чувствовали его далекое бесшумное дыхание. Что же было нашим и что еще ждет нас? Была дождливая осенняя ночь и быстро промелькнувший октябрьский день, а впереди, пожалуй, не было даже этого — одна пустота. И прошлое и будущее могло лишь усугубить наши страдания. Почему же мы еще вместе, ведь наша близость с каждой минутой становится все невыносимее, словно мы уже простились, но, повинуясь безмолвному уговору, решили не бежать от этого страдания, а по капле испить его. Мы нарочно не торопились, так что темнота успела захватить поле, прежде чем мы оказались на опушке леса.
III
Все осталось прежним, даже солнечный луч так же вспыхивал на коре березы. И я не знал, изменились ли мы сами.
— Меня еще никто не спрашивал прямо, что со мной. И не потому, что… Просто все знают. Наверное, и вам тоже известно…
— Ничего мне не известно, — буркнул я.
— Тогда я скажу, здесь нет секрета. С таким же успехом вы могли бы спросить у кого угодно в поселке или в деревне… любой расскажет. Самая банальная история. — Она попыталась стянуть на груди ворот платья, спиной повернулась к ветру и уже не смотрела на меня. — У моего мужа кто-то есть. Не в первый и, наверное, не в последний раз.
— Случается…
— Знаю. Но я больше, чем иные женщины, хотела, чтобы со мной этого не случилось. Ведь одно связано с другим — просто я для него ничего не значу. — И медленно добавила: — Можете себе представить, как тяжело об этом говорить…
— Тогда не надо, — сказал я. — Ведь я всего-навсего любопытный прохожий.
— Нет, я чувствую, что за человек передо мной. И потом, меня даже любопытные прохожие не задевают. Я будто в пустоте. Муж, когда со мной, за целый день не проронит ни слова, а ведь по натуре он человек веселый, общительный.
— Но почему?
— Если бы я знала… Три года назад у нас родилась девочка, но не выжила, умерла крошкой. Тогда на какое-то время Карой изменил своим привычкам: вне дома, он ходил мрачный, убитый, а при мне пел и насвистывал. Я думала, что навсегда возненавижу его за это, а потом поняла, что он не может иначе, что он обязательно должен дать выход своему жизнелюбию.
— Если оно у него сохранилось. Не каждого в таком положении распирало бы от жизнелюбия, — сказал я.
— Кароя приходится принимать таким, каков он есть.
— Только даже вы не в силах сделать это.
— Наоборот, это он меня не принимает. Мне и сейчас часто вспоминается малышка, и, хоть вой, сердце разрывается. Поначалу я плакала иногда, но Кароя это раздражало: «Ну, в чем дело, разве жизнь остановилась, не идет своим чередом? И ты собираешься вечно лить слезы?» Видимо, он был прав.
Какое-то время она бездумно смотрела в землю, потом подняла глаза на меня.
— Я не сказала вам ничего такого, чего бы вы не могли узнать от других. Люди говорят еще, что, по всей вероятности, виновата я. Да и сама я не могу думать иначе. Карой очень ценный работник. Все предприятие держится на нем, директор за ним как за каменной стеной. А он никогда не устает, сколько бы ни работал. И если бы вы знали, какой он обаятельный — за пять минут любого может очаровать.
— Зато и очарование это длится не более пяти минут.
— Напрасно вы так думаете! Люди его любят. На него никто не может долго сердиться; трудно объяснить почему, но это так. И я все это вижу и знаю… Так отчего же наша жизнь не сладилась? Ведь вначале все было прекрасно! Вывод один: наверное, я ему не пара. И не понимаю я его, и постоянно-то я ему в тягость…
Женщина говорила очень тихо, ее слова уносил с собой студеный ветер, и казалось, что они, будто серые перышки, летят к калитке. «Она очень любит этого человека», — думал я. Коротко стриженные белокурые пряди теребил ветер, рвал синее платье, и внизу, в слякоти, казалось, дрожали от холода маленькие светлые туфельки. Я вспомнил, как утром в павильоне, где шел монтаж, мы слышали шуршание влажных песчинок, ударяющихся о стекло. Точно так же дул ветер, я не чувствовал его в помещении, но думал, что там, во дворе, он обрушивается на беззащитную женщину. Женщина — так называл я ее. Тогда она была для меня безымянной, но не чужой. Мне казалось несправедливым, что эту хрупкую женщину бесцеремонно стегает ветер, а я укрылся за стенами. Теперь мы оба стояли здесь, по разные стороны забора, и ветер с одинаковой силой обрушивался и на меня. Но я был одет теплее, чем она. Я снял с себя кожаную куртку — под ней был еще свитер — и протянул через забор.
— Пожалуйста, набросьте на плечи.
— Мне не холодно.
Но куртку все-таки взяла, должно быть не желая меня отталкивать. Поправила ее на плечах; сейчас лицо женщины казалось еще более поблекшим.
— Да, тут возникает много вопросов, — сказал я.
— Догадываюсь, что вы имеете в виду.
— То есть?
— Эти вопросы слишком очевидны.
— Ну, например.
— Например, почему мы не разведемся, почему я не иду работать и что мне мешает поговорить с директором, с партийным секретарем, наконец, и тому подобное. Верно?
— Нет, — ответил я. — Ни директор, ни партийный секретарь не могут прибавить кому-то человечности, заставить кого-то полюбить или разлюбить. Развестись, конечно, можно, и пойти работать тоже можно. Если бы в этом был выход, вы бы, наверное, давно так и поступили. Можно написать в жалобной книге, что котлета была несвежей, и, пожалуй, замечание ваше примут к сведению. Но нашу единственную жизнь, которую мы хотели бы наполнить прекрасным и чистым, это прихотливое, тонкое кружево, не залатаешь с помощью жалобной книги. И я бы прежде всего спросил, хотя и предвижу ответ: чего не хватает в вашей жизни?
— Трудно было бы перечислить.
— Этого я и не жду. Только говорю, что спросил бы.
Против воли я взглянул на нее немного сердито, она в ответ удивленно улыбнулась:
— Господи, какое же это облегчение вот так отвести душу, даже если вы сердитесь. Хотя нет, это недопустимо, чтобы я еще и вам причиняла заботы. Вы знаете, я всегда работала, чуть ли не с детства, руки у меня ловкие, всего с полгода просидела дома. Я ведь долго болела.
«Она становится общительнее и даже не замечает, как на глазах преображается, — думал я. — А ведь она меня не узнала. Трудно поверить, до чего человек может стосковаться по живому слову, по собеседнику. А как она спешит выговориться! Словно ждет, что я вдруг повернусь и брошу ее тут, у забора. Словно не уверена, дождусь ли я следующей фразы. Но почему? Почему? Неужели она считает за честь для себя, когда кто-нибудь окликнет ее через забор?» Локти, на которые я опирался, онемели. «Завтра положу еще кирпич, тогда будет удобнее», — подумал я. И больше не перебивал Кати, теперь она говорила без пауз, но я едва разбирал о чем. Порой, когда она опускала голову, я видел ее белый затылок, ветер перебирал мягкие пряди волос. Медленно спустились хмурые сумерки, в зеленоватом холодном небе, налезая друг на друга, неслись облака. Ветер подул еще сильней. Словно очнувшись от какого-то дурмана, Кати протянула мне куртку, кивнула на прощание и ушла в дом. Я тоже вернулся к себе. В печке горел огонь; я включил радио, разложил чертежи, записи, но работать не мог. Меня словно душил самый воздух комнаты. Я коснулся кожаной куртки: изнутри она как будто еще хранила тепло Кати. «Я узнал ее по глазам, — думал я. — Тогда, давно, по жесту, теперь по глазам. Глаза и сейчас красивы». Затем я вспомнил о Карое Печи, словно о каком-то предмете, кукле или картине. «Он живет инстинктами, не ведая ни угрызений совести, ни страданий, с удовольствием барахтается в собственных недостатках, как свинья в луже». Наверное, я не имел права так думать; а когда я вспомнил, что Кати его любит, я даже огорчился, что по-другому думать не могу. За окном, не переставая, выл ветер.
Ночью, когда Коша вернулся домой и заглянул на огонек — выпить рюмку навевающего сладкие сны коньяку, я встретил его вопросом:
— Скажи, что, по-твоему, значит для человека вера в себя?
Коша был вконец измотан, он устало взглянул на меня, еще не решив, выпускать ли из рук портфель. Даже мой вопрос не встряхнул его.
— Ты предупреждай, если планируешь серьезный диспут, — сказал он. — Правда, конспекты составлять я все равно не буду, но по крайней мере усядусь поближе к печке, поставлю рядом бутылку, и милости просим, к вашим услугам: черпай из моих познаний, сколько душе угодно.
— Сейчас ты отправишься спать. Только ответь: какую роль в жизни человека играет вера в себя, как по-твоему?
— Так же, как и по-твоему. Целиком согласен с тобой.
— Спасибо, Банди. Но что она значит по-моему?
— Какого черта?! Все значит, по крайней мере очень много: без веры в собственные силы жить невозможно… А почему этот вопрос на повестке дня?
— Неважно, — ответил я. — Не имеет значения. Просто мне подумалось, что, если женщина вынуждена чувствовать себя человеком неполноценным и к тому же кто-то убеждает ее, что она лишена даже женского обаяния, у нее мало остается шансов за что-нибудь зацепиться. Всем нам необходимо сознание, что людям не безразлично, живы мы еще или перекинулись. Какой-нибудь еж не задается подобными вопросами, для него жизнь — нечто само собой разумеющееся; но человек мыслит, и определенные вещи ему необходимо сознавать, чувствовать. Стоит убить в ком-то веру в себя, и ты наполовину убьешь этого человека.
Коша повертел в руках рюмку, кашлянул и вдруг испытующе глянул на меня:
— Я уже взбодрился. Хочешь, продолжим тему? До утра?
— Нет. Приятных сновидений, Банди. Оставь дверь открытой, пусть выйдет дым.
Коша направился к двери, пнув по дороге мои грязные сапоги. На пороге он обернулся:
— То, о чем ты говорил, при коммунизме будет осуждаться: нельзя подрывать у человека веру в себя.
— Жаль, что не карается уже сейчас.
— Но… Мы ведь не поступаем так, правда?
— Надеюсь.
— Если увидишь, что я затеваю нечто подобное, плюнь мне в физиономию.
— С радостью.
Ворвался ветер, погнал по комнате табачный дым, прошуршал сваленными на шкафу газетами. В печке пылали буковые поленья. Снаружи уже сгустился мрак, пришла ночь, наполненная шумом ветра, отблесками далеких огней, скрипом редких телег на шоссе. И казалось, будто Кати и сейчас стоит во дворе, стоит и ждет, когда кто-нибудь окликнет ее.
Я отыскал в сарае несколько целых кирпичей. Выбрал два и уложил один на другой около самого забора.
— Что это вы вдруг выросли? — спросила Кати. — Встали на что-нибудь?
— Да. Подложил два кирпича.
— Два кирпича, — испуганно повторила Кати. — Но из-за меня… Я уж боюсь выходить во двор.
— Если хотите, я не стану вам мешать.
— Мешать? Напротив. Я только подумала, что из-за меня не стоит терять время. У вас наверняка много дел.
— Много, но я с ними управлюсь. Стоять здесь совсем неплохо, а теперь еще и удобно. Вот, смотрите: я облокачиваюсь — и прямо как в ложе.
— А мне как-то странно смотреть на вас снизу.
Скорей, должно было показаться странным, что я вообще здесь стою. По шоссе непрерывным потоком шли машины, и сквозь их грохот мы едва слышали друг друга. Разговаривали мы, наверное, минут двадцать, но вчерашнее настроение не возвращалось, видимо, из-за шума. В конце концов мы простились, ни словом не обмолвившись насчет того, что, когда захотим, снова сможем поговорить вот так, через забор. Но вероятно, оба думали об этом.
На следующий день я довольно поздно вернулся с работы, затолкал мотоцикл в сарай, умылся и сразу же направился во двор; что-то слишком рано появилась у меня; эта привычка. Как только я взобрался на кирпичи, Кати появилась на террасе. «Значит, наблюдала из окна, — подумал я. — Ждала». Мне припомнилось, как с утра велел Юци, чтобы днем она натаскала дров в комнату ко мне и к Коше, припасла растопку, а затоплю я сам, когда пожелаю. Тогда я еще сам не понимал, зачем мне это понадобилось, но сейчас сомнений не было: я не хотел, чтобы Юци проходила мимо нас.
Кати сошла с террасы, за ее мятое синее платье тотчас ухватился ветер. Посередине двора в слякоти ранних оттепелей мокли посеревшие стебли укропа; видимо, в первый год здесь все-таки пытались разбить какие-то грядки. Кати приближалась, как обычно, будто ее никто не ждал: с опущенными руками, вяло и нерешительно. На светлых, давно не чищенных туфлях по-прежнему присохшая грязь.
Едва я повернул голову, чтобы бросить взгляд на калитку, как коротко стриженные белокурые волосы оказались у моего лица.
— Что это? — удивился я.
— Ящик из-под минеральной воды, — торжествующе ответила Кати. — Я поставила его еще днем. А вы и не заметили?
— У меня не было возможности…
Вблизи лицо ее выглядело не белым, а каким-то лишенным красок, что ли. Под глазами от постоянных внутренних мук залегли тени. Голос ее при последних словах вновь зазвучал неуверенно; она все еще не могла избавиться от страха, что я сию минуту спрыгну с кирпичей и поверну к дому, бросив ее у забора. Я улыбнулся ей, но меня неотступно терзала мысль: «Господи, во второй раз я встречаю ее совершенно сломленной и опять не в силах ей помочь».
— Сегодня как будто бы не так холодно, — заговорил я.
— Да, ветер повернул в другую сторону. Сейчас он дует от вас.
— Передвиньтесь чуть вправо, тогда я вас заслоню.
— Вам не на что будет опереться.
— Не беда.
Я снял локти с забора, Кати ухватилась за верхнюю доску и с робким ожиданием посмотрела на меня.
— Почему вы так смотрите? — спросил я.
Кати ответила лишь после долгой паузы:
— Я не знаю, как я смотрела. Вы можете мне сказать?
— Если не знаете, значит, неважно.
Я почувствовал, как меня душит ярость, словно меня самого несправедливо лишили чего-то. Позади, у колодца, ветер раскачивал висящее на короткой цепочке ведро, иногда оно ударялось о сруб, и глухое позвякивание тотчас уносил тугой ветер. «Если б она показала мне облака, — думал я, — я вмиг согласился бы, что вон то облачко походит на слона. Но ей уже не околдовать меня одним движением пальца. Никого она больше не может околдовать — утратила свое волшебство. И это не закономерно и не естественно. Естественнее было бы, если б она легко, с беспечным смехом скользила по жизни и уважение и чистота неизменно сопутствовали ей. Она рождена, чтобы сделать кого-то счастливым. Но не для того, чтобы уныло брести сквозь уходящее время и медленно, неотвратимо терять все, что было в ней хорошего». Я взглянул ей в глаза; взгляд испуганного зверька снова пронзил меня, как укол иглы. Внезапно я подумал, что моя жизнь, над которой я никогда не размышлял, должно быть, прекрасна, потому что я никогда и ни на кого не смотрел так. Мои боль и муки были совсем иного рода — естественные, человеческие: я знал, во имя и ради чего я переношу их.
И было очень обидно, что моя жизнь прекрасна, а ее — нет. Ведь, кажется, мы одновременно отправились навстречу жизни восемь лет назад от сумрачных деревьев фазанника, мимо опустевших вольер с едким запахом ржавчины. С того самого дня я считал себя взрослым, потому что познал страдание. Мы отправились одновременно, но не вместе. И куда нас прибило?
«Надо убедить Кати, что ее волшебство не иссякло, что она по-прежнему может распоряжаться своей чудодейственной силой, — думал я. — У каждого человека есть своя чудодейственная сила. А у Кати ее уже нет. Прежде она была трепещущая, живая, как лепесток цветка, сейчас от волос ее исходит запах непроветренных комнат».
— О чем вы задумались? — спросила Кати. — Или это, — добавила она робко, — не имеет ко мне отношения?
— Почему вы так думаете?
Она пожала плечами.
— Тогда скажите.
— Прежде я часто спрашивала у Кароя, о чем он думает. И он всегда отвечал, что это не имеет ко мне отношения.
— Должно быть, он думал о деревообрабатывающей промышленности. Я же, пока вы со мной, не ломаю голову над техническими проблемами.
— А над чем?
— Хватает другого. Вот, к примеру, смотрю на вашу руку и думаю: какая она маленькая рядом с моей. И наверное, ей холодно.
Я забрал в свою руку ее кулак, словно яблоко. Непроизвольно закрыл глаза, и на мгновение меня охватило очень знакомое чувство: будто ветер пригоршнями бросает мне в лицо прохладный и частый осенний дождь. Пальцы Кати смущенно дрогнули, однако кулачок остался в моей ладони. Когда я открыл глаза, Кати, отвернувшись от меня, пристально разглядывала холм. У самого его подножия, сразу же за забором, виднелись связанные пучками прошлогодние стебли кукурузы, чуть выше — кусты шиповника и орешника, а совсем наверху, почти на самом гребне, — голая молодая буковая рощица. С холма нас можно было увидеть. Но с улицы — нет, разве только кто откроет калитку.
Я выпустил ее руку. Нас разделял забор — грубые, неструганые сосновые доски, еще не высушенные ветром и солнцем, — и, пока мы говорили, я иногда забывал о нем на минуту-другую. Больше говорила Кати, говорила так, словно боялась молчания. С подробностями, вызывавшими жалость, она рассказала, за что полюбила Кароя Печи, которого в то время — кто знает почему — понизили в должности. Простым служащим вкалывал он на мельнице в Сибиу. Но для Кати он мог бы быть и дворником. Она любила Печи, по любви вышла за него замуж, оторвала от собутыльников и своими маленькими руками подняла до уровня тех, кто знает, что нельзя попусту транжирить жизнь. Любил ли Печи ее или просто она была нужна ему, этого я не смог понять. Думаю, что не любил, во всяком случае, не так, как Кати его. Потому что, когда дела Печи снова поправились, их согласие сейчас же распалось.
— Я и после всегда старалась, чтобы ему было хорошо, — продолжала Кати. — Мне бы хватило и крохотной радости от сознания, что я могу что-то дать; но он, не дожидаясь, все брал сам. Я любила и не знала, куда деваться со своим чувством, потому что ему оно вовсе не нужно было, не нужно было, чтобы я его любила. Сначала ему нравилось, что я восхищаюсь его способностями, потом я заметила, что и это ему безразлично, как бы я его ни боготворила. Конечно, это было еще не самое страшное. Однажды я зашла к нему на работу и сквозь приоткрытую дверь увидела, как он возится в своем кабинете с какой-то женщиной; один стул уже валялся на полу, на моих глазах они сбили второй… и женщина заливалась смехом.
«Зачем я позволяю ей говорить? — спрашивал я себя. — Ведь я все это знаю, словно слышал уже сотни раз. Но она, пожалуй, еще не рассказывала своей истории никому и радуется, что наконец может выговориться».
Кати прищурилась, словно вглядывалась в себя, губы ее сжались в тонкую ниточку; ей было стыдно, что приходится плохо говорить о человеке, которого она все еще любит. Или она стыдилась своих чувств? Как бы то ни было, она торопливо продолжала:
— Когда я увидела, что бессильна изменить нашу жизнь, у меня появилось ощущение, будто все на меня смотрят. Охотнее всего я бы вообще не высовывала носа из дому. Теперь-то я уже не задумываюсь над подобными вещами, должно быть, отупела; пусть смотрят, сколько душе угодно. Но дурное настроение не оставляло меня, потому что люди очень странные существа. Посудите сами. Когда они встречаются со мной, они все-таки вынуждены заговаривать, ведь в конечном счете мой муж — один из руководителей предприятия. Но как они говорят! Один сверх меры предупредителен, другой — кто знает почему — злорадствует, третий меня жалеет. И все стараются держаться непринужденно, а что из этого получается, лучше не вспоминать. «Ну как, молодая хозяюшка, отовариваемся, запасаемся продуктами? Вот и молодцом!» — Кати подняла брови и скроила сладкую мину; меня поразила подвижность ее черт. Голос ее стал резким от горечи. — Однажды, — продолжала она, — Продан, начальник заводской узкоколейки, буквально гнался за мной по улице, наверное, тоже хотел мне добра: «Не убегайте, дайте я возьму вас под руку, пусть-ка ваш муж поревнует немножко, ха-ха!» Как вы думаете, что это? Обычная глупость? Нет. Люди тянутся к тому, что нормально. А что ненормально, приводит их в смущение, стесняет, можно сказать, испытывает их умение применяться к обстоятельствам.
Она ждала, не возражу ли я, но мне нечего было сказать. Я думал о том, насколько другой могла бы стать эта женщина при других обстоятельствах.
— Все это я понимаю, — продолжала она тихо. — И никого не хотела ставить в неловкое положение, вот и оказалась совсем одна. Но знаете, что меня все-таки задевает? Что даже на глупости люди идут не ради меня. Даже в этой жалкой ситуации их любезность адресована не мне, а моему мужу.
— С чего вы взяли?
— Знаю.
— Не внушайте себе, что в людях нет ничего хорошего, ни капли сочувствия…
— Ничего я себе не внушаю, — нерешительно отозвалась Кати. — Я просто убеждаюсь на опыте. Уже долгое время я не делаю выводов иным путем. В начале замужества я не слишком-то задумывалась над окружающим. Тогда я только верила, мечтала, фантазировала — и что мне за дело было до фактов; но в конце концов факты одерживают верх. Жизнь состоит из фактов. И теперь я уже не верю, не воображаю и не мечтаю, а просто сужу по собственному опыту.
— И вам так легче?
— Я не говорила, что это легче. Мне постоянно кажется, будто я испытываю жажду. И что-то я потеряла, знаю, но что именно — сама не пойму.
Я бы мог ей сказать что! Ведь это она показала мне, что ночью мокрый асфальт похож на черную водную гладь — озеро или спокойное море с огнями далеких кораблей. Она открыла мне глаза, а сама больше не видит.
— Только будьте осторожны при истолковании опыта, — сказал я. — Тут можно здорово промахнуться.
— Например?
— Например, я не имею ничего общего с деревообделочным комбинатом. У меня нет ни малейшего желания подольститься к вашему мужу. И все-таки мы стоим здесь.
Тут я впервые заметил искру недоверия в ее глазах. Сейчас, когда в нашем разговоре главным были не факты, лежащие на поверхности, а что-то более глубокое, ее охватило сомнение. Ведь я действительно только ради нее торчал у забора. Наши встречи не доставляли мне радости, а если и доставляли, то слишком потаенную, которой я даже не чувствовал. Я чувствовал только боль — как и при нашей давнишней встрече — и ничего больше. Я ежедневно выстаивал свое время у забора, потому что знал: Кати необходим такой человек, как я.
Она молча, в упор смотрела на меня.
— Почему вы молчите? — спросил я. — О чем думаете?
— Не хочу вас обидеть, — тихо ответила она. — И потом… мне бы приятнее поверить…
Я бережно взял ее руку, поцеловал и снова почувствовал, что она готова отдернуть ее и все-таки не отдергивает. Медленно я касался губами каждого ее пальца.
— Это следовало сделать еще при первом знакомстве, — сказал я. — А теперь ступайте домой, холодно.
Я провожал ее взглядом, пока она поднималась на террасу. И какое-то странное безразличие вдруг охватило меня. Редко испытывал я подобное. Сейчас безразличие это, наверное, было вызвано тем, что незаметно для себя я миновал распутье и мне уже не нужно было задумываться, в какую сторону повернуть.
Каждый раз, как я возвращался с работы и останавливал свой мотоцикл у калитки, в окне соседнего дома чуть колыхалась занавеска — еле заметно, словно тронутая легким дуновением. Это обстоятельство стало так же неотъемлемо от моего возвращения домой, как скрип калитки или хруст щебенки у меня под ногами.
В тот момент, когда я выключал зажигание, я физически ощущал, как гнетущая тишина обволакивала меня, липла к коже. Здесь все вокруг, несмотря на суматошное движение по шоссе — тарахтение тракторов и грохот грузовиков, — казалось уснувшим. А в двух километрах отсюда, на рабочей площадке химкомбината, воздух дрожал от щелканья пневматических молотов, визга цепей, лязганья железа, гула машин, свиста паровозов, скрежета, криков, ругательств. Повсюду, на каждом метре, продуманно и согласно двигались гигантские трубы, цистерны, детали громоздких механизмов и крохотных приборов. Ритм большой стройки был, возможно, жестким, но и полным жизненной силы, напряженным и плодотворным. Здесь же, за забором, всякое движение замирало, и этот контраст напоминал мне о том, что грохот преобразований еще не раздался в наших сердцах, что люди меняются не так стремительно, как окружающий их мир. И хотя покой я тоже люблю, шум стройки мне больше по душе, нежели эта замкнутая в себе тишина. Колыхание занавески я странным образом воспринимал как мелодичную ноту, звучащую в тиши.
Иногда ко мне заходили друзья, товарищи по работе, и мы всей компанией отправлялись в ресторан, в кино или клуб. Мы жили как люди, которые повсюду дома и все-таки не имеют дома нигде. Случалось, мне приходилось задерживаться на комбинате или к вечеру вновь катить на мотоцикле на собрание, беседу или заканчивать недоделанное с утра. Теперешний химкомбинат был уже не первым объектом, где я работал, тут меня считали опытным специалистом, и потому приходилось вкалывать на совесть. Здесь не позволяли себе транжирить мое время на работу, которую мог бы выполнить любой практикант из ремесленного, и мне это нравилось. Главный инженер Панаитеску любил меня, наверное, именно за то, за что на первом комбинате терпеть не мог Борош. Но как бы я ни был занят, как бы ни был заполнен мой день, я, не отдавая себе отчета, постоянно ждал тех коротких минут перед сумерками, когда мы, разделенные забором, протянем руки и улыбнемся друг другу.
Мы никогда не уславливались о встрече заранее. Когда подходило время, оба не сговариваясь шли к забору и взбирались на кирпичи или ящик из-под минеральной воды. Если в этот час мне случалось находиться вне дома, я знал, что она дежурит у окна, и тревожился ее напрасным ожиданием. В кабинете Панаитеску, который принадлежал ему временно, как и мне моя комната, на шероховатой беленой стене я видел фигурку Кати, стоящей во дворе: ветер треплет ей волосы, рвет платье. В эти минуты я отдыхал. Иногда и я ждал зря: Печи вдруг оставался после обеда дома. Я бесцельно слонялся по террасе, прекрасно зная, что жду напрасно, и наконец с чувством странного облегчения возвращался в комнату; невольно я приходил к убеждению, что вовсе не так уж легко давались мне встречи с Кати, иначе бы я испытывал досаду. Я просто не мог считать наши встречи развлечением.
Наступили более теплые дни, сумерки не спеша опускались на землю. Теперь густая серая тьма заполняла голые дворы гораздо позднее. И мы не спешили, как прежде, будто уверенные, что у нас очень много времени, а значит, нужно экономить слова, чтобы осталось и на следующий раз. Но иногда мы почему-то лихорадочно торопились высказать все, что приберегли друг для друга, словно боясь, что больше никогда не встретимся. Все явственнее вырисовывалась передо мной состоящая из едва различимых частичек жизнь, которая иссушила Кати, превратила ее в собственную тень. Хотя Кати рассказывала бессвязно: ее больше занимали пестрые, мимолетные впечатления, каждое из которых вырастало в отдельную историю.
Во время разговора я часто прислушивался, не открывается ли калитка. Уже дважды Печи приезжал домой раньше времени, и мы расходились, даже не попрощавшись. Оба раза мы первыми замечали его, и все-таки я тревожился. Кати поняла мое беспокойство.
— Калитка безбожно скрипит, — сказала она. — Надо бы смазать, но я и не подумаю. И потом Карой почти всегда приезжает на машине; вот и сегодня, если не ошибаюсь, он уехал в город… — Она бросила взгляд в сторону калитки и повторила: — И не подумаю смазать.
Только так, едва заметно, вспыхивала в ней на секунду ее прежняя живость. И это было мое крошечное завоевание.
Но однажды Кати появилась не в обычном своем мятом синем платье, а в коротком светло-зеленом, прилегающем в талии; чуть застенчиво прошла она по уже наметившейся тропке к забору. Кати выглядела очень хорошенькой, и только тут я заметил, какая у нее плавная, красивая походка. А когда она встала на ящик из-под минеральной, я ощутил едва уловимый аромат свежевымытых волос.
Уже довольно долго я бился, стараясь внушить Кати, как много она для меня значит. Любой ценой стремился я сделать это — единственное, что было в моих силах и в чем, по моему мнению, она нуждалась. Кати же всячески старалась показать, как мало она мне верит; она действительно не верила, однако ей очень хотелось, чтобы я разубедил ее. Наверное, все еще действовала какая-то инерция, инерция осторожности, недооценки собственных сил, боязни разочарования, да, пожалуй, и трусости тоже, которая — уж не знаю откуда — появилась у Кати; должно быть, частые поражения лишили ее опоры, закрутили в вихре, как ветер песчинку. Я трезво взвесил подмеченные мною симптомы, проследил и открыл этот закон инерции и теперь вполне сознательно боролся против него. Так возникло элементарное прямолинейное движение, которого я — инженер по профессии — как раз и не рассчитал: если я не хотел отступать, то вынужден был идти только вперед. Не мог же я допустить, чтобы Кати утвердилась в мысли, будто была права, когда не верила мне, и что все мое поведение до сих пор было притворством. Каждое мое слово, вызывающее в ней сомнение, требовало от меня новых, более веских слов. Здесь тоже существует закономерность. Если мы бьем по гвоздю и он не входит в дерево, мы либо миримся с тем, что напрасно трудились, либо ударяем сильнее, чтобы преодолеть сопротивление дерева.
Сейчас, увидев Кати преображенной, я подумал: «Насколько проще было тогда, в лесу. Видимо, со временем искренность начинает казаться подозрительной; опыт настраивает нас скептически. А ведь должно быть наоборот! Правда, еще не вымерли подлые, низкие люди, всегда готовые на обман».
Я смотрел на пряди волос цвета осенних листьев — солнечный луч, словно играя, пронизывал их, — смотрел на свободно лежащую поверх грубых досок полную белую руку, на маленькие розовые пальцы, потом заглянул в широко раскрытые глаза, и меня охватило смятение, я почувствовал, как кровь отливает от моего лица. Я снова подошел к какому-то рубежу, откуда надо идти дальше, потому что можно смириться с чем угодно, только не с мертвым покоем. Взгляд Кати пробивался сквозь развеянные тени и блики мягко, со скрытым ожиданием. Это выражение, наверное, появилось у нее, когда она вынимала из шкафа зеленое платье и заботливо гладила его или когда сушила на солнце волосы.
— Сейчас вы шли по двору, — сказал я, — и казалось, само счастье приближается ко мне. Но я знал, что оно остановится перед забором.
— А это было совсем и не счастье, а всего-навсего я, — ответила Кати. — Счастья-то мне и самой бы ох как надо!
— Только для себя одной?
— Ну… — Кати нерешительно улыбнулась. — Я даже не знаю, может ли человек быть счастлив в одиночку.
— Исключено.
— А как было бы хорошо…
— Ничего не попишешь, тут мы бессильны изменить что-либо. Да вы и сами знаете: владеть счастьем можно, лишь давая его. Если же мы намереваемся его достичь, не давая, а беря, оно перестает быть счастьем, исчезает, как фея в сказке.
Кати побледнела, скорбно сжала губы. Но затем снова заставила себя улыбнуться и тихо, с наигранной легкостью спросила:
— Если бы вы действительно увидели счастье здесь, у забора, вы бы перепрыгнули через него?
Я осторожно подбирал слова:
— Вы думаете, это так просто — взял и перепрыгнул? Ведь не о кошке же идет речь. Счастье нельзя поймать; если оно почувствует, что я его стою, оно само подойдет сюда, к забору… И если счастье захочет быть со мной, его никакой забор не остановит.
Тут мне подумалось, что Карой Печи, должно быть, перемахнул уже не через один забор, наверное, гонялся за счастьем, как живодер за собакой. Интересно, много ли ему удалось урвать; был ли он по-настоящему счастлив хоть один миг или ему удавалось достичь лишь грошовых радостей? И вообще: может ли человек быть счастлив, если он занят только собой и гребет только к себе?
Кати несколько раз прерывисто вздохнула, как малый ребенок после слез. Я поцеловал ее руку выше локтя; я не видел, лишь ощутил губами нежный золотистый пушок, который, словно солнечный луч, золотил ее кожу. Видимо, она сама не знала, чего ждет. Быть может, несколько фраз похвалы, подтверждающих, что я заметил перемену в ее облике. Но я, еще когда она носила мятое синее платье, уже сказал ей, что оно красивое, и о волосах ее тоже говорил, какие они красивые. Я давно израсходовал слова, которые стали мне необходимыми сейчас. Я поцеловал ее руку; когда я приник к ней губами, я снова подумал, что и это еще не последний рубеж, что за ним должен последовать новый.
Кати прошептала чуть слышно:
— Не верю я, поймите, не верю…
Я забыл, что сегодня у Коши выходной. Заметил я его, когда он поднимался по ступенькам террасы с сигаретой в углу рта и подчеркнуто не смотрел в нашу сторону: он и без того видел достаточно. Коша скрылся в моей комнате.
Вскоре я последовал за ним. Лежа на моей постели, Коша слушал радио, курил и стряхивал пепел на ковер. А я терпеть не могу, когда пепел стряхивают на ковер. Солнце склонилось к закату, и меня раздражал уютный полумрак комнаты, который обычно я так любил; я зажег настольную лампу. Но свет тоже раздражал. Коша, скрипнув пружинами, вскочил, ткнул окурок в пепельницу на столе. У меня не было ни малейшего желания спорить с ним. Охотнее всего я побыл бы сейчас один. Но было ясно, что спора, а может быть, даже ссоры не избежать.
Я надел тапочки, сбросил рубашку, оставшись в одной белой майке. Рубашку я повесил на плечики, зацепив их за край шкафа. Нет, меня решительно раздражал свет лампы; куда бы я ни двинулся, меня всюду опережала собственная тень, словно нахальный проныра; до сих пор я не замечал ее.
Коша без всяких вступлений продолжал свою мысль вслух:
— По долгу дружбы я буду обязан помочь тебе набить морду мужу-рогоносцу. Однако в принципе я не согласен с ситуацией!
— Ошибаешься, — сказал я. — Дело совсем в другом.
— Видел я. Вгрызался в ее руку, будто в початок вареной кукурузы.
— Меня не интересуют твои сравнения. Ты плохо смотрел.
— Никогда не жаловался на зрение. Что в таких случаях советует поваренная книга? Берем супружескую чету, жена несчастна или, во всяком случае, не удовлетворена жизнью, селим по соседству высокого холостого инженера, брюнета…
— К черту поваренную книгу! Ее составляли давным-давно, и не к чему ворошить старые рецепты.
— Этому рецепту многие следуют и поныне.
— Только не я.
— Вот как? Тогда, может быть, я?
Я промолчал. Действительно, к Коше этот рецепт не имел отношения. Он избегал замужних женщин. И вовсе не потому, что опасался осложнений, просто уважал чужую жизнь. В этом вопросе наши принципы не расходились. И до сих пор я и не вспоминал о них, поскольку моя история была совсем иного рода. Правда, я ухаживал за Кати, но не с той целью, с какой, скажем, стал бы ухаживать за ней Коша или любой другой мужчина. В сущности, мое поведение нельзя было назвать ухаживанием: я просто старался помочь ей найти себя и избрал для этого единственный возможный путь. Не рассчитывая получить взамен ничего, кроме сознания, что поступил достойным человека образом. Но мне было необходимо именно это сознание; мне всегда было необходимо сознание, что я иду прямым, честным путем. Я над этим даже не задумывался, как над чем-то естественным и привычным; однако я немедленно чувствовал, если лишался этого сознания или еще только мог лишиться. Быть может, я заботился прежде всего о своем душевном равновесии, о спокойствии своей совести? Что ж, если твой душевный покой немыслим, пока рядом с тобой кто-то страдает, стыдиться нечего. Но у Кати был муж, и этот факт со всеми вытекающими из него — согласно поваренной книге — последствиями только сейчас дошел до меня.
Я поставил на стол тарелку, высыпал в нее из пакета печенье, водрузил рядом бутылку, где коньяку оставалось на донышке.
— Прошу, — сказал я. — Располагайся, как дома. Еще должен быть где-то шоколад с начинкой, только не помню, куда я его задевал; а может, Юци съела.
— Если съела, учтем.
— Ты хочешь сказать: вычтем?
— Тоже подойдет.
— Только так и подойдет.
Коша кисло улыбнулся. У меня мелькнуло подозрение, что, пожалуй, отныне и другие будут мне вот так же кисло улыбаться. Видать, нескоро мы отучимся искать в поступках людей прежде всего эгоизм. Я закурил, нерешительно выпустил дым. Теперь уж и мне самому не казалась такой простой сложившаяся ситуация.
— Эту женщину я знаю восемь лет, — сказал я.
— Восемь лет? Ты даже не подал виду…
— Потому что тебя это не касалось. И ей самой я тоже не напомнил… Да, я знаю ее: это она открыла мне, как красив бывает ночью мокрый асфальт, и помогла понять, что даже самые простые вещи значительнее, чем кажутся на первый взгляд. От нее же я знаю, что человеческая боль бывает двух видов. Это случилось восемь лет назад — и тоже благодаря ей. Но и это не главное. Сейчас важно одно: эта женщина нуждается в том, чтобы кто-то вернул ей веру в себя, в свое человеческое достоинство.
— Если таковое имеется.
— А почему бы нет?
— К слову пришлось. Ведь я ее совсем не знаю.
— Все не так-то просто. От очень многих причин зависит, что получится из того или иного человека. От условий жизни, от людей, с которыми его столкнула судьба.
Коша, подняв бутылку, раздумывал, поискать ли рюмку или выпить прямо из горлышка последний глоток; все это время он не переставал бросать сердитые реплики:
— Пусть ее муж и займется этим.
— Доверь козлу огород.
— Ну, а тебе-то какое до нее дело? Ладно, женщина нуждается в помощи. Но почему именно в твоей?
— Почему вообще человек нуждается в других людях, в обществе? Конкретно же всегда кто-то один должен представлять этих людей, действовать от имени общества, что ли. В данном случае я взял на себя эту задачу; если тебе не нравится, пожалуйста, берись ты!
Коша тоже закурил и пустил струю дыма мне прямо в лицо.
— За кого ты меня принимаешь? — отрезал он. — Я не перекупаю с рук. К чужому товару не притрагиваюсь, уж настолько ты мог бы меня изучить.
— Не дыми мне в лицо, — медленно произнес я, — не то подавишься своей сигаретой.
Он аккуратно положил сигарету на край стола и взглянул на меня. Как человек, сознающий свою правоту. Наверное, и я мог бы признать эту его правоту, если бы речь не шла о ком-то помимо нас двоих. Но я еще никогда не отступал перед трудностями. Я знал, что трусость подобна хронической болезни: стоит поддаться раз, всего лишь раз, и от нее не избавиться. Да и что бы подумала обо мне Кати, если бы завтра и потом, в другие дни, занавеска понапрасну колыхалась бы от ее дыхания, понапрасну следила бы она за моей дверью, понапрасну искала бы встречи со мной — единственной своей поддержки? Что бы оставалось ей думать и к каким выводам пришла бы она относительно меня и себя самой? Да и я, поступи я так, какого мнения я мог бы быть о себе?
— Не будем оскорблять друг друга, Банди, — сказал я. — Нам обоим отлично известно, что значит счастье в полном смысле этого слова: когда у человека есть идеалы и хватает воли жить в соответствии с этими идеалами. У меня есть такие идеалы. И я не в канаве подобрал их и не изобрел для сугубо личного пользования, как иные негодяи; я получил их там же, где и ты. И стараюсь следовать им. Возможно, я в чем-то ошибаюсь — приходится идти на определенный риск… У тебя имеются еще вопросы? Если нет — счастливого пути к скромному зданию почты, а у меня дела.
— Ты, кажется, упомянул почту! — Теперь Коша растягивал слова. — Я бы предпочел, чтобы твой выбор пал на другое общественное здание.
— А он совершенно случайно пал именно на это.
— Лю-бо-пы-ытно!
До сих пор мы никогда не дрались, но на этот раз, видимо, драки не избежать. Почта, конечно, послужила только предлогом; слишком много горечи скопилось в каждом из нас. Я подумал: «Сейчас он ударит меня в подбородок и получит прямой удар слева. Возможно, он лучше меня умеет махать кулаками, но я все равно его побью. Перевернем, переломаем все кругом, а потом сядем раздумывать, к чему была эта драка». Но тут чуть приоткрылась дверь, и в щель кто-то просунул бутылку дорогого кубинского рома. Коша, увидев, что я не двигаюсь с места, подошел, взял бутылку и захлопнул дверь. Затем поискал глазами:
— Где у тебя штопор?
— Вон там, за стаканами. По какому случаю ты это подстроил?
Коша взглянул на меня:
— Я? И не думал.
— Интересно! Я тоже.
— Не валяй дурака.
— Сам перестань дурачиться.
— Прости, пожалуйста, но…
Я распахнул дверь. На террасе стояло четверо мужчин. Первым я узнал бригадира монтажников Барбу Ремуса, нашего партсекретаря, по его блестящему черному кожаному пальто. Именно он просунул бутылку. Рядом с ним сопел главный инженер Панаитеску, его худое, морщинистое, вечно небритое лицо дрожало от смеха.
— Ну и ну, — сказал он. — Хороши! Бутылку схватили, а гости — убирайся ко всем чертям. Ведь как я советовал, товарищ Барбу? Бутылку надо было припрятать, а их напугать хорошенько.
Барбу неторопливо пояснил:
— Главный хотел, чтобы мы ввалились с вестью о пожаре, наводнении или какой-нибудь другой напасти. Согласно его теории, люди сильнее радуются, если сперва их чем-нибудь ошарашить. Радуются хотя бы тому, что никакой беды не случилось.
— А мы как раз собирались подраться, — сообщил Коша из-за моей спины, — но это не так уж спешно, входите.
— Коша пригласил вас? — спросил я.
— Нет, — ответил Барбу. — Я самолично обнаружил по картотеке, что у тебя день рождения.
— У меня?!
— А что, разве у тебя не может быть дня рождения?
Тем временем Коша ловко откупорил бутылку, достал рюмки. Панаитеску попросил пирамидон. Барбу сгреб в охапку и свалил в угол разбросанные на столе чертежи. Взревело радио. По комнате словно вихрь промчался, только не унес с собой моих забот. Я торжественно поднял рюмку, последовали тосты за мое здоровье, за счастье, за успехи в нашей работе. Потом из кармана черного кожаного пальто была извлечена еще одна бутылка. Мне припомнилось, что дома мать всегда пекла на мое рождение блинный пирог. Я любил его, когда был совсем маленьким, а потом так и не удалось убедить мать, что мне давно уже больше по вкусу другие лакомства. Много лет я проводил этот день вдали от родительского дома и порой забывал его отмечать. И в этом году забыл бы, если бы мне об этом не напомнили. В сущности, моим гостям было не так уж важно, к кому идти, им просто хотелось рассеяться; и мне тоже было почти все равно, кто меня окружает; могли прийти любые другие четыре человека с комбината. Хорошо, что на работе я был со всеми одинаково близок, и все же меня огорчало, что эти люди мне нисколько не ближе остальных. Видимо, мы еще мало пробыли вместе.
С холодного лица Коши сошло напряжение. Он объяснил, как овчары в горах мастерят свирели, и дребезжащим голосом подражал их звуку. Я вытащил колоду карт, бросил на стол. Один из монтажников, которого я едва знал, потому что мы работали в разных сменах, подхватил колоду и принялся ловко тасовать.
— Двадцать одно или покер?
Главный инженер потянулся за бутылкой и сказал в нос:
— Я простужен, а в таких случаях мне всегда не везет.
Монтажник ухмыльнулся, глаза его исчезли за веснушчатыми веками.
— В картах главное не удача, а чутье и умение.
— Этого тоже нет, — ответил Панаитеску. — Нет ни чутья, ни умения, только грусть и тоска. Но попытаем счастья, я держу банк.
— Я тоже рискну, — сказал Барбу. — Мне бы очень не помешали ваши денежки.
Гости ушли далеко за полночь. Пьяный Коша толокся в комнате, во что бы то ни стало желая навести порядок, вытряхнул окурки в печку, а затем водрузил пепельницу на мою чистую рубашку, приготовленную на завтра. Наконец он не выдержал:
— Все-таки не могу прогнать эту мысль… Знаешь, чем все кончится?
— Нет.
— Ты переспишь с этой женщиной, а потом бросишь ее. Даже самые старинные поваренные книги… Да и новые тоже… У тебя не будет иного пути, как бросить ее. Просто не будет. — Он смотрел на меня пристально, совершенно трезвыми глазами, хотя языком еле ворочал. — В конечном счете ты толкнешь ее в тот омут, откуда намеревался вытащить. И тогда, очень тебя прошу, не сердись, но я плюну тебе в физиономию.
— И не подумаю сердиться, — сказал я. — Больше того, я просто обрадуюсь. Всегда приятно получить по заслугам. Преклоним главы свои, Банди, а то мне скоро вставать.
Коша проковылял к двери, на пороге по привычке обернулся, пытаясь припомнить, что он собирался сказать, потом встряхнулся:
— А, вспомнил. Успокой меня, пожалуйста, скажи, что я не прав. Не хочу оказаться правым.
— Можешь быть совершенно спокоен.
— Спасибо! Вот теперь совсем другое дело.
Он ушел к себе в комнату. Оттуда не донеслось ни малейшего шороха, видимо, он лег как был, не раздеваясь. Повсюду валялись обгорелые спички, окурки, в беспорядке стояли рюмки; дым пластами плыл к двери. Прошло немного времени, прежде чем мне удалось навести хоть какой-то порядок. И только тогда я почувствовал, как это хорошо, что ко мне зашли товарищи по работе. «Я даже не поблагодарил их за внимание, — подумал я. — А ведь сегодня они были мне особенно нужны!» Потом подумалось, что надо было бы выпить побольше, а то, пожалуй, не уснешь.
Голые кусты орешника ближе к вершине холма зеленели прямо на глазах. Издали, из глубины двора, я наблюдал за ними; иногда кусты сливались с плывущими чуть выше облаками, и казалось, вот-вот умчатся на их парусах ввысь, вместе с потоками влажного ветра. Я мечтал подняться с Кати на холм, откуда в тихую погоду долетало до нас птичье многоголосье; меня угнетал голый двор, безрадостная белизна стен. Хотя и на двор весна принесла преобразования, правда, заметные лишь очень внимательному глазу. Разбросанные повсюду осколки стекол ослепительно вспыхивали, поймав солнечный луч, а рядом с моими двумя кирпичами, да и в других местах, где посуше, пробились бледно-зеленые травинки. Иногда на сруб колодца усаживались галки и своими голубоватыми глазками удивленно рассматривали голую землю.
Мне очень хотелось подняться на холм, но Кати я об этом даже не заикался. Она и без того недооценивала подстерегавшую нас опасность, не понимая, что наши встречи у забора могут быть дурно истолкованы.
— Ведь мы же только разговариваем, — недоумевала она. — И никому до этого дела нет.
С тех пор как Коша увидел нас, я стал гораздо осторожнее. Кати же считала, будто я дрожу за свою репутацию и не хочу рисковать ради нее. А ведь она рисковала больше. Как-то раз, когда мы уже прощались, она обмолвилась, что Печи до утра развлекался где-то и сейчас отсыпается дома.
— Зачем же вы вышли? — упрекнул я ее.
— Потому что вы ждали, — спокойно ответила Кати. — И как видите, не случилось ничего страшного.
— Но могло бы случиться.
— Всегда может.
— Значит, надо поостеречься.
Кати с горькой усмешкой покачала головой:
— Я долгое время только это и делала: остерегалась беды… Так жить нельзя… Конечно, если чувствуешь, что не для чего рисковать, тогда другое дело.
— Поймите, я беспокоюсь только о вас. Только о вас, Кати.
Этого было достаточно; благодарно коснувшись моей руки, она сошла с ящика. В сторону террасы, где в любой момент мог появиться Печи, она даже не взглянула; идя к дому, внимательно разглядывала туфли и рассеянно улыбалась каким-то своим мыслям. Я тоже слез с кирпичей, но еще некоторое время продолжал стоять у забора. «Не знаю, — признался я себе, — не знаю, где же кончится моя роль. И когда я смогу покинуть возведенное мною строение в уверенности, что оно не рухнет в ту же минуту, оставив после себя лишь облако пыли и кучу жалких обломков?»
Вот тогда-то я впервые узнал, что такое бессонница. И думаю, тогда же Кати стала спать спокойнее. Иногда она рассказывала, что ей снилось; в таких случаях она закрывала глаза, чтобы лучше восстановить в памяти подробности, я же неотрывно смотрел на ее длинные густые ресницы и бледно-голубые жилки на веках. Она уже менее строго держалась фактов, перекраивала сны по своему желанию, чтобы сделать их забавнее, и сама поражалась, как ей удавалось преуспеть. Однако и на этом Кати не останавливалась: случалось, она рассказывала вовсе не сны, а реальные события из своей жизни. Но о том времени, когда она однажды побывала в фазаннике с долговязым парнем в свитере, она никогда не упоминала, словно из детства шагнула прямо в зрелость. Не раз она допытывалась, не снилось ли мне что-нибудь интересное. И мне каждый раз приходилось подыскивать единственно подходящий ответ, который не разочаровал бы ее.
— О, мне снился чудесный сон, но я не могу его рассказать.
— Он не имеет ко мне отношения?
— Напротив, поэтому-то я и не могу рассказать.
Солнце прогрело забор так, что к нему неприятно было притрагиваться; смола сочилась из досок, и я едва успевал чистить брюки. Белесые влажные доски и равнодушный блеск липких прозрачных капель смолы не давали мне покоя даже ночью, словно мелкие, глубоко засевшие занозы; в темноте регулярно возникал передо мной Карой Печи, которого наяву я очень редко встречал. Я видел его не живым человеком во плоти, а каким-то призраком, олицетворением того, что было в нем плохого. Мы спорили с ним. И не понимали друг друга. Мы настолько по-разному смотрели на жизнь — и не только на свою, но и на весь мир, — что, казалось, говорили на разных языках. Я знал, что Печи безмерно тщеславен и легко, почти с удовольствием лжет. А разве можно вести серьезный спор с таким человеком? Наверное, случись нам поспорить наяву, наши доводы звучали бы точно так же, как и в моих снах. Опытный охотник даже по следу может установить норов зверя, и я, хоть и не был искушенным охотником, ясно видел следы влияния Печи на Кати, на ее отношение к людям, к жизни, к самой себе. Мне оставалось лишь читать эти уже начинающие стираться следы и делать выводы. Я знал, что образ Печи, сложившийся в моем представлении, односторонен и, пожалуй, хуже своего реального прототипа. Он состоял из очень немногих и сплошь отрицательных черт. Должно быть, у Печи были и другие качества, но я их не видел. Кати — та, наверное, видела или думала, что видит.
Теплыми весенними вечерами, разделенные забором, вели мы свой непрекращающийся скрытый поединок. Кати хотела жить, хотела верить в себя, убежать от снедающей ее боли, к которой она с каждым днем становилась все чувствительнее. Я же с горечью все больше убеждался в том, что для меня не существует пути назад, и не делал ни одного шага против воли Кати. Она, можно сказать, определяла почти каждое мое слово, каждое движение души, больше того, вынуждала к тем или иным поступкам. Если я вел себя не так, как она ждала, если не предугадывал ее желания, она расстраивалась, не получая уже ставшего ей необходимым подтверждения того, как я ценю ее.
Но и мой рассудок нуждался в зримом рубеже, какой-то границе, где я могу остановиться наконец. Этот рубеж я иногда отчетливо видел, однако, едва я приближался к нему, он исчезал или же оказывался далеко позади. Каждый день требовал от меня чего-то нового — и теперь я и сам не знал, как долго это может тянуться. По ночам я совсем перестал спать, много курил.
Печи тоже должен был заметить мои следы — изменения, происшедшие с Кати. Да наверное, и заметил. Самовлюбленные люди обожают получать подарки, а я преподнес ему не пустячный. Но Кати последнее время избегала говорить о муже. Мне это было приятно, и я не давал себе труда задуматься о причинах. Каждый вечер я ложился с мыслью: «Завтра. Завтра я с этим покончу. Наверное, теперь она достаточно твердо встала на ноги, больше я ей не нужен». И сердце мое тотчас начинало испуганно колотиться.
И вот наступил первый вторник июня; этот день я обвел кружочком в своем календаре, хотя и без того никогда его не забуду. Как обычно, я вышел к забору, положил локти на грубо обтесанные, косо торчащие доски, вдохнул запах смолы и прогретой солнцем известки, кинул взгляд на тихий дом и террасу, где вскоре появится Кати. И она появилась, она шла по двору, и солнце просвечивало насквозь ее легкое белое платье, так что видны были мягкие контуры фигуры. Нервы мои болезненно напряглись, как от удара током; я всегда испытывал это, когда ко мне приближалась Кати.
Она подошла и тоже облокотилась о забор, рука ее коснулась моей. Полная нескрываемой радости, она улыбнулась мне. Мы всегда сначала, будто знакомясь, подолгу всматривались друг в друга, прежде чем заговорить. На ярком солнце ресницы Кати отливали золотом. Удар тока был мгновенным, и тело ощутило его лишь после, когда наступило легкое оцепенение. Свободной рукой Кати сунула мне в рот теплое печенье.
— Только что испекла. Если нравится, принесу еще.
— Очень вкусно.
— Тогда я принесу полную тарелку.
Но ей не хотелось уходить, она пристально вглядывалась в мое лицо, коснулась его пальцем.
— Ты еще больше загорел. Говорят, на мотоцикле очень быстро загорают. Это плохо, что меня не берет солнце?
— Нет, — ответил я. — А ты считаешь, что плохо?
— Самой-то мне все равно. Просто подумалось, вдруг я тогда нравилась бы тебе больше. Я очень хочу тебе нравиться.
То, что она мне нравится, она знала отлично, я повторял ей это тысячу раз. Но ей хотелось услышать это снова. Я стиснул зубы, напомнил себе, что у меня болит голова и что я очень устал. По дороге, громко сигналя, промчалась машина, облако пыли окутало забор, и на мгновение обе калитки исчезли в пыли. Но Кати не обратила на это внимание, ее широко открытые глаза ждали ответа. Руку свою она прижала к моей. И у меня мелькнула запоздалая мысль, что сегодня мне ни за что нельзя было выходить; я предчувствовал, что-то должно случиться.
— Думаешь, такой ты мне не нравишься? — прервал я долгую паузу.
— А может, действительно думаю!
Я прекрасно отдавал себе отчет, что, если б она не любила так своего мужа, она никогда бы не дошла из-за него до такого падения. И все же ее немая мольба, как уже не раз, захватила меня врасплох. Я, выпрямившись, стоял на кирпичах, солнце слепило глаза, запах горячей смолы словно тонкой пленкой обволакивал мои ноздри, губы. Голову нестерпимо жгло солнце.
— Нравишься? Это слишком слабо сказано.
Не мигая, смотрели мы в глаза друг друга, в самую глубину. Пересохшие доски ящика треснули.
— Если это слабо, — протяжно начала Кати, — то что же тогда подойдет?
— Могла бы додуматься.
— Не хочу додумываться.
— Точнее было бы сказать: я люблю тебя.
— Да?
— Да.
Я переступил с ноги на ногу и почувствовал, как брюки снова приклеились к смоле. Рука Кати, покрытая золотистым пушком от запястья до локтя, тесно прижалась к моей.
— Хочу услышать еще раз.
Взгляд ее метался от моих глаз к губам, пока я медленно повторял:
— Я люблю тебя!
— Да-да. — Губы Кати пересохли. — Похоже, ты говоришь серьезно. Я чувствую, ты сказал это серьезно.
Я искоса взглянул на калитку, она — на склон холма и тотчас порывисто обернулась ко мне. Мы молча целовали друг друга в губы, щеки, глаза. Кати перегнулась через забор, прижала ладонь к моей щеке, потом просунула руку под ворот, коснулась плеча. И вдруг отпрянула, вздрогнув.
— Нет, — сказала она, бледнея. — Неправда. От скуки, только от скуки ты потянулся ко мне. Но этого не может быть! Не может… Настолько я все же знаю тебя. Ну, говори же, не молчи, скажи что-нибудь! Посмотри мне в глаза! Господи, как же я хочу тебе верить!
— Лучше, если ты сейчас поверишь. Все равно время убедит тебя. — И я против воли добавил, не сумев подавить дрожь в голосе: — Но забор и тогда останется между нами.
— Забор?
Кати соскочила с ящика, отступила на несколько шагов и широко открытыми глазами уставилась на забор. Было видно, как порывисто она дышит, от сильных ударов сердца платье трепетало на ее груди. Я не сводил с Кати затуманенного взгляда, и вновь повторилось наваждение той давней ночи: я опять не знал, простая ли смертная передо мной или чудом забредшая из сказки фея.
— А ну, посмотрим, — сказала она. — Допустим, что я — счастье. И допустим, хочу пройти сквозь этот забор.
Она медленно подняла на меня горящий взгляд. По дороге снова промчалась машина, над забором мутной волной поплыла пыль. Я тоже отошел в сторону, ухватил кирпич и двумя сильными ударами сбил две доски с гвоздей. Потом раздвинул доски, и Кати прошла через образовавшийся лаз. Короткое платьице промелькнуло мимо меня, Кати пересекла двор, обошла колодец, поднялась на террасу и исчезла за дверью моей комнаты. В косых лучах солнца поблескивали осколки стекла, и между ними на голой земле четким пунктиром обозначились частые следы каблучков. В жаркой пыльной пустоте двинулся я вслед за нею.
Я запер дверь, ключ — не знаю почему — положил на шкаф. Занавеска пропускала только часть падающего на нее света, и в комнате царил полумрак. Свинцовая усталость обрушилась на меня, словно я вернулся домой после долгой дороги. Глаза болели от раскаленной белизны забора, сверкания осколков, едкой пыли. Тишина затемненной комнаты сковывала, будто я двигался в плотной, сопротивляющейся среде. Кати присела на край постели, покрытой пестрым чехлом моего спального мешка; бледная, она не сводила с меня взгляда. Приближаясь к ней, я, казалось, чувствовал, как меня обволакивают ласковые лучи ее подернутых влагой глаз.
— Ничего страшного, — сказал я. — Лишь бы ты была счастлива, остальное ерунда. Я на все готов ради тебя.
— Я подумала, вдруг ты меня обманываешь, — тихо, как бы рассуждая вслух, проговорила она. — Но тогда ты обманываешь и себя. Ведь ты не лжешь мне, правда?
— Не лгу.
— Ты сказал, что только тот, кто дает счастье… Но что это мы все разговариваем? Мы и так уже говорили достаточно.
Я опустился перед ней на пол, чуть отодвинул подол ее платья, и, когда прижался губами к ее прохладным округлым коленям, мне показалось, что жизнь моя только сейчас начинается, а все, что произошло со мною за эти восемь лет после первой нашей встречи, мне просто приснилось. Продолжается все тот же октябрьский день, я чувствую все ту же острую боль и все то же, прежнее счастье, и сейчас опустятся на нас сверху гладкие красные листья бука. Кати наклонилась совсем близко ко мне, заглянула в глаза.
— Все-таки это ты, — кивнула она. — Лица твоего я уже не помнила, зато помнила твою душу. По-моему, я давно тебя узнала.
И тогда все рухнуло; закружился вихрь прежних чувств, огонь давних мгновений снова вспыхнул в нас. Я опять подпал под колдовские чары Кати, сердце мое бешено колотилось, и я знал, что не стану слушать голос разума. Полумрак и тишина отрезали нас от мира, как когда-то в лесу, но и сейчас они не вторглись в наши души. Кати погладила мои волосы, шепнула на ухо:
— Я здесь.
Я взял в ладони ее крохотные туфельки. Свое белое платье она сняла сама и разложила на письменном столе; движения ее казались спокойными. Легкий горьковатый аромат ее волос, платья, тела будил во мне даже не желание, а какую-то мучительную жажду: хотелось вобрать в себя этот запах, чтобы всегда его чувствовать и всегда испытывать эту жажду. Кати сняла с себя последнюю часть одежды, пристроила ее на стуле, на котором я обычно сидел, работая. И сразу все вокруг представилось мне громоздким — мебель, ковер, вся комната и я сам. Казалось немыслимым прикоснуться к Кати моими потрескавшимися от ветра, загрубелыми руками. Я все еще сидел на полу; Кати приблизилась ко мне и тихо, будто сама себе не веря, повторила:
— Я здесь.
Наше объятие было точно взрыв, и ни один из нас еще не знал, что погибло, а что уцелело после него. Мы долго лежали неподвижно. Голова Кати покоилась на моем плече, я касался губами ее волос, и ароматом их была напоена каждая моя клеточка. С другими женщинами в такие минуты я ощущал мучительное отчуждение. Сейчас я испытывал только счастье. И не знал, смею ли быть счастливым. Над нашими головами размеренно тикал будильник, в окно по-прежнему бил свет, и чудилось, в тишине я слышу, как трещат под напором солнца оконные стекла, и вижу вздувшуюся парусом занавеску, хотя даже не смотрел в ту сторону. Мысли мои были под стать чувствам. Кати всем телом приникла ко мне, и я подумал, что мы стали одним существом. Но и это было не мыслью, а скорее чем-то, что помогало мне отгонять мысли. Кати взяла мою руку и, перебирая пальцы, каждый по очереди целовала, чуть слышно шепча: «Здравствуй, безымянный, здравствуй мизинец…» Ей, видимо, тоже не хотелось сейчас думать. Тогда я, не меняя позы, оглядел комнату — собственно говоря, мне уже несколько минут хотелось оглядеться, увидеть, какой теперь стала моя комната. В ее стенах мягко ютился сумрак, полный беспокойных коричневатых тонов, ровно прогретый зноем; только на столе снежным островком белело платье. Оно лежало далеко, и я не мог дотянуться до него, чтобы укрыть им лицо. На шкафу виднелось какое-то серое пятно, наверное этикетка коньячной бутылки, а на ковре прикорнули две маленькие туфельки. Внезапно меня охватила жалость ко всем, кто не знает, какое это счастье — держать в ладонях такие вот маленькие туфельки. Кати чуть слышно спросила:
— Как же теперь?
Касаясь губами ее волос, я ответил:
— Я на все готов ради тебя.
Я снова привлек ее к себе, и больше мы не сказали друг другу ни слова. Я только смотрел и смотрел в ее глаза, блестящие от слез, широко раскрытые; казалось, их зрачки вбирают в себя крохотные отражения моего лица. Я чувствовал, как их огонь меня очищает.
Когда она вышла на террасу и я вслед за ней, уже близился вечер. Раскаленный солнечный диск лежал на вершине холма, как раз там, где по ночам горели прожекторы химкомбината; маленький трактор, передвигаясь по гребню холма, пропал в клокочущем зареве солнца и вынырнул из него, словно торопливо убегающий черный жук. Забор отбрасывал широкую тень, по его верху и в щелях между досками струилось расплавленное золото заката. Воздух был жарким и едким от висевшей в нем пыли.
Кати с любопытством первооткрывателя осмотрелась по сторонам, на ее подрагивающих, будто припухших губах играла выжидательная улыбка; она искала объяснение своему счастью — на голом дворе, на склоне холма или вверху, в графитно-сером небе. А может быть, хотела передать свое счастье окружающему ее миру. Потом она глубоко вздохнула, поправила волосы, тронула мою руку, лежавшую на перилах, и молча сошла по ступенькам. Не торопясь, спокойно прошла она через двор, обогнула колодец, раздвинула доски в заборе, и, когда из тени вышла на свет, ее волосы и платье словно вспыхнули. У самой двери своего дома она обернулась и как будто улыбнулась мне. Я не мог разглядеть ее лица, потому что террасу закрывала тень, но мне хотелось, чтобы она улыбнулась. Холодная тоска медленно коснулась моих губ, глаз, лба… Между нами по-прежнему был забор. И я стоял неподвижно, пока на нем не погасли последние полоски света и тень от соседнего дома не доползла до меня.
Каждый день, вися на заборе, я не отрывал глаз от террасы соседнего дома. Пятнадцать минут я разрешал себе ждать, не больше. Пока я стоял эти четверть часа на кирпичах, солнце немилосердно било в глаза и, если ветер дул со стороны дороги, меня часто обдавало пылью, которая какое-то время держалась в воздухе и потом нехотя оседала на землю.
Прождав четверть часа, измученный, усталый, потерянный, я возвращался в комнату, и руки дрожали, когда я наливал себе коньяку.
На четвертый день, когда я прождал минут семь-восемь, открылась дверь и появилась Кати. За ней на террасу вышел Печи. Он был в белой рубашке и небрежно нес сумочку Кати. Он поздоровался со мной, я кивнул в ответ. Кати не смотрела в мою сторону. Под руку вышли они на улицу. Все это время меня не покидало ощущение, будто я вижу дурной сон. И ощущение это было настолько сильным, что я прождал, как обычно, ровно пятнадцать минут и только потом сошел с кирпичей. Теперь я не торопился домой после работы, слонялся по комбинату, заходил в столовую, в душевую. После обеда опять возвращался на работу, помогал Коше. И ухитрялся разговаривать с ним так, словно ничего не произошло. Не думаю, чтобы кому-то удалось подметить во мне перемену. Страдание затаилось глубоко, и близость людей, жесткий ритм работы словно заталкивали его еще глубже. Я мог работать, и, видимо, это меня спасало. Но в конце концов приходилось идти домой, и всегда выкраивались свободные пятнадцать минут, чтобы постоять у забора. Одному.
Кати вышла ко мне лишь на десятый день. Она была в том же белом прозрачном платье, и снова меня будто током ударило: несколько минут я был не в состоянии заговорить. Она тоже молчала, руку прижала к моей, посмотрела мне в лицо и смущенно улыбнулась. Мы искали в глазах друг друга эти прошедшие десять дней, беспощадные мысли, мстительные чувства — все, что пережили в одиночку и чего уже не расскажем друг другу.
— Он меня держит под таким надзором, что я не решаюсь выйти, — наконец робко заговорила Кати. — Выспрашивает о каждой минуте. И все время сидит дома.
Она опустила ресницы, ожидая ответа, затем снова подняла на меня глаза и, как бы извиняясь, добавила:
— Я не говорила тебе, но вот уже несколько недель мне кажется, он снова в меня влюблен… Прямо не верится… И еще я была у врача — мне разрешили снова работать.
«Она счастлива, — думал я. — Вот и зародыш нового разочарования. Но пока он успеет развиться, меня, пожалуй, уже здесь не будет. И тогда кто поддержит ее, не даст сломиться, кого не остановит забор?» Ветер утих, тяжелый, гнетущий зной навалился на нас. Знакомый горьковатый запах совсем лишал меня сил. Терзаясь, Кати вновь заговорила:
— Не молчи, Геза. Я не хочу тебе лгать. Разве это плохо, что я счастлива?
— Мне всегда хотелось услышать от тебя именно это, — ответил я и поразился своему тусклому, безжизненному голосу. Десять дней назад я последний раз говорил с Кати, и мои последние слова тогда были: «Я на все готов ради тебя». Сейчас я подумал, что больше уже ничего не в силах сделать для нее. И сам не мог этому поверить. — Мне всегда хотелось услышать только это, и ничего другого, — повторил я. — Но боюсь, оно недолго продлится, это счастье.
— А вдруг… Только как же ты?
— Обо мне не тревожься.
Кати отодвинулась, на глаза у нее набежали слезы.
— Это ужасно, Геза, — промолвила она тихо. — Почему все не могут быть одинаково счастливы? Ужасно, что я ничего не могу сделать для тебя. А я бы очень хотела… Мне хочется, чтобы ты был счастлив. — Внезапно она еще больше побледнела, губы ее задрожали. — Хочешь, я сейчас приду к тебе?
Я ответил не задумываясь:
— Если только навсегда останешься у меня.
Мы еще долго стояли, не говоря ни слова, но и не уходя, искали в глазах друг у друга надежду на возможность изменить что-то в нашей жизни. Не знаю, какой оказалась бы эта жизнь. Я волен был фантазировать на эту тему сколько душе угодно. Потому что Кати сошла с ящика, взяла его и унесла в дом.
…Затем наступила ночь. Раны мои болели, особенно жгло шею. При каждом ударе сердца по телу под толстым слоем повязок пробегали раскаленные муравьи. В полночь прогрохотали грузовики, развозящие рабочих второй смены, затем снова настала тишина. Коша не вернулся домой. Мне захотелось пить, а вода в кувшине была застоявшейся, теплой. Взяв кувшин, я проковылял к колодцу. Правой рукой вытянул ведро, отпустил ворот и тотчас вцепился в рванувшуюся книзу цепь. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось подхватить ведро. Я поставил его на колено, наклонил, наполнил стоявший на земле кувшин и стал пить. Вода потекла по обнаженной груди, тело охватил озноб. Мне пришло в голову, что утром надо бы известить Панаитеску: дня два я наверняка не смогу работать. Я снова приник к кувшину, хотя пить мне уже не хотелось и очень знобило. «Надо налить полный, — подумал я, — иначе до утра не хватит». Ведро соскользнуло с колена, вода плеснула в шлепанцы. Но кувшин я все-таки наполнил.
В соседнем доме было темно, оттуда доносились звуки радио. Казалось, знакомый терпкий аромат, сжимая мне сердце, струится с той стороны забора. Прямой ряд досок белел в свете лупы. «Забор, наверное, уже остыл, — подумал я. — Вышел из него дневной зной». Но я не стал подходить к забору, чтобы убедиться.
Немного позже вернулся Коша. Он был не один. Я слышал на террасе осторожные шаги девушки с почты и ее пугливый шепот. «А что, если здесь кто-то есть?» Перед рассветом девушка уходила; поравнявшись с моей дверью, она заметила: «Какой убогий двор, Банди, ты что, лучше не мог найти? Для инженера просто неприлично». Стало быть, на улице уже светло, а в комнате мрак лишь немного поредел.
Я посмотрел на часы, скоро пора было вставать на работу. Все тело у меня болело, даже там, где не было ушибов. Я запустил шлепанцем в стену. Коша тут же заглянул ко мне — в пижаме, босиком, с зажженной сигаретой. Он включил свет.
— Ну и ну, прямо мумия, — сказал он. — Что это с тобой?
— Вчера полетел с мотоцикла, — ответил я.
— Переломов нет?
— Нет.
— Ну тогда порядок.
Он достал со шкафа бутылку с коньяком, отхлебнул, затем придвинул стул к моей постели.
— Не садись, — сказал я. — Скоро пойдут машины. Останови какую-нибудь и передай Панаитеску, что сегодня я не выйду на работу.
Минут через десять пошла первая машина, урча, остановилась перед домом, затем двинулась дальше. «Наверное, воздух сейчас чистый, влажный от росы, — подумал я. — Пыль еще не поднялась». Вернувшись, Коша сердито бросил:
— Продрог весь… Что мы читаем в поваренной книге? Берем мотоцикл, сажаем на него олуха… Я передал Панаитеску: если необходимо, я выйду вместо тебя. Что тебе нужно? Принести лекарства?
— Ступай лучше спать.
— Нет. Если я усну, а с тобой, скажем, случится припадок, понапрасну будешь стучать в стену. Я очень крепко сплю. Лучше я лягу здесь, рядом с тобой. Если что понадобится, толкни в бок.
Я подвинулся к стенке, Коша лег рядом и моментально уснул. Мрак рассеивался, первые лучи солнца уже вонзились в забор. «Хоть бы раз мне побыть рядом с ней, когда она просыпается, — думал я. — Поймать ее мутный со сна, блуждающий взгляд, когда она откроет глаза. Только раз вдохнуть бы ночное тепло ее кожи». Теперь это стало первой моей мыслью по утрам. Я знал, что тут ничего не поделаешь. Знал также, что, доведись мне начать все сначала, я и тогда не избрал бы иного пути. Я захотел бы снова пережить все: ту дождливую ночь и день, проведенный в лесу, долгие разговоры через накаленный солнцем забор, те минуты, что мы были одни в моей комнате, страдания, боль — все, все я пережил бы снова и точно так же. И в следующий раз, когда поеду по мосту, опять сорву листок ивы, разотру в ладони и поведу мотоцикл одной рукой, до самой буровой вышки, где даже после заката веет теплом от жухлой, вытоптанной травы.
Перевод с венгерского Т. Воронкиной.
Константин Цою ВОСКРЕСЕНЬЕ НЕМЫХ
ГЮНТЕР
В К. я приехал, как обычно, утром, в 7.40. Поезд, битком набитый в будни, в воскресенье был почти пуст — одно удовольствие. Проводники, с которыми я подружился за время воскресных наездов в К., рассказывали мне, что слышали от своего начальника, будто в Швейцарии поезда именно так и ходят «пустые, без пассажиров».
Я переходил из вагона в вагон по пустым коридорам, здоровался с проводниками. Билетов у меня не проверяли — но всегда спрашивали: «Опять сверхурочная работа? Ну и жизнь — по воскресеньям приходится вкалывать». Наконец мне удавалось остаться одному, я тут же опускал окно и принимался разглядывать голые, унылые холмы Добруджи, а в хорошую погоду, когда все окна были открыты и занавески бились на ветру, я вдруг начинал довольно фальшиво напевать песню, которая пришла к нам после войны: «Эх, дороги…»
Море я ловил взглядом издалека, на повороте, когда поезд, замедляя ход, словно погружался по самую крышу в длинное, узкое ущелье с отвесными земляными склонами. Больше всего мне нравилось, как перекликались в тумане короткими приглушенными вздохами сирены маяков.
…Через какие-нибудь четверть часа я уже стучал в дверь Титании. Обычно я приезжал спозаранку: следующий поезд отправлялся только в обеденное время, а это уже не имело смысла. Чаще всего я заставал Титанию спящей. Она открывала мне дверь растрепанная, прикрывая рукой зевок, и я входил в тесную комнатенку на втором этаже бывшего Морского банка, в ее каморку, похожую на мастерскую модистки-надомницы. Одно время она делала даже парики, но потом перестала. «До чего отвратительны эти парики, — говорила она, — напоминают о смерти». Она делала шляпы, абажуры и «думочки-фантази», для которых у нее был заготовлен целый склад пуха и пера. Пух и перо доставляли мне много хлопот. В любую минуту они могли выдать меня с головой. Пух означал подушку, подушка — постель, ну а постель — дело ясное. Тут уж не трудно докопаться до истины. Тем более что женщины в этих вопросах гораздо проницательнее нас. Сначала Пия станет долго разглядывать что-то невидимое, а потом посмотрит мне в глаза:
— Откуда на тебе этот пух? — И я заранее холодел, явственно слыша ее интонацию. На всякий случай дома я распорол угол подушки, чтобы всегда иметь алиби. Аккуратная Пия, обнаружив злополучный источник распространения пуха, который уже начал летать по спальне, немедленно зашила подушку, ругая плохое качество изделия.
Больше подушки я пороть не стал — это было бы подозрительно, так что пушинки напрочь исчезли из нашего дома, тем более что Пия была маниакально чистоплотна и не уставала все убирать и протирать. Титания, напротив, была женщиной на редкость неорганизованной, зато ухоженной и элегантной, я бы даже сказал, вызывающе элегантной, какими становятся к тридцати годам одинокие, избалованные и эгоистичные красотки, занятые исключительно своими туалетами. Они умирают разодетые и украшенные лентами — это все, что я запомнил из «Человеческой комедии». Думаю, что так должна была бы умереть и Титания: куколка посреди немыслимого беспорядка. А мне это нравилось. Но то, что нравилось мне в Титании, в Пии только раздражало бы.
Я говорил себе: беспорядок — это движение, порядок — забвение; и к беспорядку комнатушки на втором этаже бывшего Морского банка я стремился как к жизни или как к сладкой гибели. Я даже открыл для себя несколько истин. Вот одна из них: надежда постоянно подталкивает тебя, хотя нет никакой уверенности, что выбранное тобой лучше покинутого, оно может оказаться даже хуже, чем ты ожидаешь. «Будь ты умнее, — терзал я свою хлипкую совесть, блуждая по пустым вагонам поезда, который мчал меня в К., — сошел бы ты на первой станции и вернулся обратно — все должно иметь конец». Но я знал, собственные советы нужны лишь для того, чтобы успокоить совесть и только, в подобных случаях идешь не оглядываясь.
Задолго до остановки, пока вокзал еще был скрыт стенами насыпи, я нетерпеливо выходил на открытую площадку. Мимо проносились отвесные склоны ущелья, голые или покрытые травой в зависимости от времени года. Паровозный дым окутывал меня с головы до ног. Лицо покрывалось копотью, и, приходя к Титании, я первым делом шел умываться. Теперь я не очень-то понимаю, почему я ждал станции именно на открытой площадке. Порой я пытался представить, чем может в данную минуту заниматься Пия. Погруженный в столь благородные мысли, я закрывал глаза, и, если бы меня вдруг спросили, о чем я думаю, ответил бы: я молюсь. «Господи, прости меня, я неисправимый лгун, вру себе даже во сне».
Первые уколы совести — самые болезненные, но постепенно к ним привыкаешь.
Когда поезд выползал из ущелья, а к ступенькам вагона подкатывался перрон, широкий, как городская площадь, я обычно уже успокаивался, чувствуя какое-то умиротворение. На ходу соскакивал на перрон, разлинованный будто для игры в классики, и старался, не наступая на черту, попасть точно внутрь квадрата. То ли это была примета, то ли привычка чертежника, который хорошо знает, что такое квадрат. Я столько их начертил на бумаге…
Легким спортивным шагом я подбегал к автобусу. Целый день принадлежал мне. Толкнув дверь, я входил в комнатку, будто в свой собственный беспорядок. Это был художественный беспорядок, беспорядок артистической, заваленной костюмами персонажей, которые ждали своего выхода на сцену. Пока Титания не устроилась на работу, в комнатенке еще можно было дышать, двигаться. Титания изнывала без работы, и это взвинчивало ее до предела.
— Валялась целыми днями и жевала вареную колбасу, — вскинулась она однажды на мой вопрос, чем занималась всю неделю.
Потом началась лихорадочная деятельность, и комнатка заполнилась шляпками, абажурами и «думочками-фантази». Левую от двери стену закрыли платья, висевшие на плечиках. Они не умещались в маленьком шкафчике, дверцы которого с внутренней стороны были обиты голубым репсом. Правая стена, у которой стояла кровать, покрылась тонкими циновками из рисовой соломки. Из такой соломки в ателье-люкс города К. делали женские шляпки. Титания стала прилично зарабатывать. Потом появился домашний приработок. И ее месячный доход составил около двух тысяч лей. Позже, когда все, что следовало, мы друг другу уже сказали, она стала работать и по воскресеньям. Это напоминало мои сверхурочные, с той только разницей, что мои-то были фиктивными. Мы редко выходили в город, чаще всего после полудня поднимались на террасу банка и оттуда глядели на море. Сначала по воскресеньям она бралась за работу в шутку, поддразнивая меня. У элегантной женщины — тут она открывала мне такие подробности, до которых я не додумался бы никогда в жизни, — должно быть столько шляпок, сколько вечеров в году, причем двух похожих существовать не может, ведь какими бы скучными ни были вечера, двух одинаковых в году не сыщешь.
Потом в дождливые воскресенья, когда слышно было, как гремел гром и билось море, она стала работать всерьез. Деревянная болванка с натянутой на нее шляпкой всегда стояла в правом углу у окна. Это было самое светлое место в комнатке, поскольку доступ свету перекрывал брандмауэр соседнего дома, на потемневших кирпичах которого виднелись какие-то буквы. Однажды я открыл окно, желая разобрать, что там написано, и с трудом сложил из букв слова: «Монополия. Фабрика Уксуса и Горчицы. Пет…» Дальше разобрать не удалось. Скорее всего, это было название известной довоенной фирмы «Петух». Надпись эта разозлила меня. Я уже видел такую давно, в Бухаресте, тоже на глухой стене какого-то завода, со стороны кладбища Стрэулешть, против пустыря, заваленного горой ящиков с пустыми бутылками. Я долго не мог понять, зачем делать вывеску на внутренней стене, которая видна разве только из наших окон, да еще из тех, что расположены по соседству, на стене бывшего Морского банка. И лишь потом я догадался, что здание банка построили позже и оно закрыло перспективу.
Слева от окна висел хлыст дрессировщика, принадлежавший Гюнтеру. О хлысте, чью историю я узнал много позже, в наши первые воскресенья я не спрашивал, боясь, не окажется ли он какой-нибудь причудой. Долгое время я разглядывал его, не выказывая никакого удивления, будто в любом доме можно обнаружить предмет подобного рода. Это был длинный бич с маленькой, сильно потертой кожаной рукояткой. Тугое плетение напоминало почерневшую потрескавшуюся змеиную кожу, а его тонкий конец усиливал сходство со змеей. Обвивая толстый гвоздь, вбитый в стену, он свисал над шеренгой модных туфель, их было пар девять, приобретенных Титанией во время зарубежных гастролей. Шеренгу обуви возглавляли черные сапоги на высоком каблуке, с узким голенищем, отороченным бархатом фиолетового цвета. Гюнтер купил их в Стокгольме. Сапожки несколько поизносились. Кожа сморщилась, а подметку украшала дырка. Титания не хотела отдавать их в починку — сапожки не вынесли бы топорной работы. Наша последняя зима в К., когда эти сапожки утопали в снегу, была самой прекрасной. Мы бродили по набережной, подметенной ледяным ветром, а когда возвращались на второй этаж бывшего Морского банка и я стаскивал с нее сапожки, один чулок всегда оказывался мокрым из-за дырки в подошве. Ноги хранили тепло и пахли дорого́й, хорошо выделанной кожей. Когда она не носила сапожки, их было хорошо видно из противоположного угла комнаты, где стояла кровать, такая же низкая, как стол и стулья: с тех пор, как в маленьком чешском городке трапеция выскользнула из рук Титании, она боялась высоты. Впрочем, выделывать акробатические трюки под куполом цирка или заниматься тем же самым в обыденной жизни такая ли уж большая разница, думал я, и у меня были на то веские основания. Я бережно относился к сапожкам Титании еще и потому, что они были куплены Гюнтером и стали, так же как и хлыст, памятью о нем. К поверженному мужчине не ревнуешь. Иное дело — капитан дальнего плавания, мой предшественник, но это уже другая история. Сапожки были маленького размера. Они так долго красовались в витрине магазина на стеклянной подставке, что, казалось, утратили свое назначение — таким было первое впечатление Титании, когда их покупали. Они будто были предназначены для того, чтобы сперва привлекать, а затем отталкивать тех, кому приходились не по размеру. Когда Гюнтер, наклонившись над витриной, попросил показать именно эти сапожки, продавец скептически улыбнулся, но все же снял их с подставки. А увидев, что они пришлись впору, восхищенно воскликнул: Lady is a real Cinderella[2]. Он сказал это Гюнтеру, который, зная английский, перевел фразу на французский. Продавец стоял на коленях, ладони его задержались на ее ноге, глаза были подняты вверх, будто умоляли о чем-то, и Гюнтер побледнел. Она увидела стиснутые челюсти, мертвенную желтизну желваков и остановившийся взгляд зеленой ящерицы. Когда он свирепел, рассказывала она, у него глаза становились как у ящерицы. Впрочем, мог ли ловкий и угодливый продавец придумать более пошлый комплимент, назвав ее истинной Золушкой. В ту минуту Гюнтер выглядел точно так же, как три педели спустя в Лейпциге, в вечер своего последнего представления, когда он вошел к ней в гримерную и услышал ее смех — во всяком случае, так рассказывала Титания. Он терпеть не мог, когда она смеялась в его отсутствие. Потрясенная случившимся, она даже забыла, кто у нее тогда был, и только позднее вспомнила: молодой журналист из Румынии, оказавшийся в Лейпциге проездом. Они были знакомы еще по Бухаресту, а тут он увидел ее имя на афише и решил навестить. Уже больше месяца, длились зарубежные гастроли, и, судя по контракту, им не видно было конца — вот почему она так обрадовалась неожиданному гостю. Она хорошо помнила, что сказала: «Я подыхаю от скуки, у этих немцев ни капли юмора. Расскажи какой-нибудь свеженький анекдот».
Гюнтер, видимо, услышал ее смех еще в коридоре, потому что вошел уже взвинченный. Даже не взглянув на того, другого, он сразу же, с порога тоном повелителя, не терпящего возражений, вызвал ее из гримерной. Словно весь мир, вспоминала Титания, был его огромной клеткой. Стоя неподвижно в дверях, он пронзал ее взглядом. Одетый для вечернего представления в черную тунику с галунами, он перекрывал дверной проем, судорожно зажав в кулак сложенный вчетверо хлыст, светлые стриженые волосы падали ему на лоб, лицо даже в гневе сохраняло выражение каменного спокойствия. Ей надо было бы выставить журналиста, но вместо этого она заявила, что имеет право любезничать, с кем пожелает. Впрочем, может быть, слова были другие, но смысл их был именно такой. Она выпалила это, еще не остыв от смеха. Вызов ее был бессмысленным, она не поняла тогда — и потом ее это мучило, — что вспышка яростной ревности Гюнтера вознесла ее на такую высоту, на которую ее больше никто не поднимал. Он вышел, хлопнув дверью, и через несколько секунд раздался грохот разбитого стекла; она решила тогда, что в ярости он перебил окна. Номер Гюнтера был в середине программы и вот-вот должен был начаться, ее же выход был ближе к концу, и она осталась в гримерной с тем, другим. Когда же через четверть часа с арены донеслись вопли, крики ужаса и выстрелы, она выскочила в сутолоку коридора и бросилась бежать, не заметив, что проскочила сквозь разбитую стеклянную перегородку, надвое разделявшую коридор. Много позже, когда, все узнав и увидев, возвращалась она через ту же самую дыру в свою гримерную, ей показалось, будто она прошла сквозь его тень, сквозь его тело — стекло, которое он пробил, когда шел на арену, сжав кулаки и весь напрягшись, сохранило его контур. Он сильно порезался, и униформисты ватными тампонами пытались остановить кровь, но он отказался от их помощи. Фанфары трубили начало, и он вышел на арену, заливаясь кровью, она текла по лбу и рукам.
— Ничего, в этом есть что-то азартное! Титания — шлюха! — крикнул он и вошел в обнесенный решеткой проход, ведущий в клетку с тиграми.
Распаленный запахом крови Бисмарк, который давно охотился за Гюнтером, бросился на него в тот самый момент, когда Гюнтер, раскланиваясь, повернулся к тигру спиной. Зверь тут же рухнул в опилки с простреленным в трех местах черепом.
Моя ревность к капитану дальнего плавания по сравнению с ревностью Гюнтера была сущим пустяком, считала Титания. Она не могла забыть, на какую высоту вознес ее поступок укротителя. Я все крепче привязывался к той, которую капитан покинул с легкостью корабля, отошедшего от причала. Меня лишь угнетало, что, сам того не ведая, я пил вино и курил сигареты, свезенные капитаном с разных концов света. В шкафу, обитом голубым репсом, Титания устроила даже небольшой склад вина и сигарет. И еще французских духов: я-то думал Титания сама их покупала. Словно капитан с его ухмылкой «маленькой, смазливой бестии» (так она его называла) все время был с нами вместе, даже в самые интимные моменты.
Ревность Гюнтера вытаскивала на свет доисторические, давно позабытые инстинкты. В ней была какая-то хищная жуть, словно Гюнтер, ежедневно общаясь с тиграми, погружая свои глаза ящерицы в их ненасытные, вечно жаждущие добычи зрачки (ярость в них уходила в глубину только после приема пищи — так стихает океан, пряча в своем чреве затонувшие корабли), заражался хищной жаждой абсолютной власти, обретая острую реакцию и умение подстеречь и покарать любое неверное движение жертвы.
А кто такой я — всего-навсего технарь-чертежник. С кем я вздумал тягаться?
Титания еще говорила, что эта его ярость и была самым естественным выражением любви, полноты обладания, когда жертва и палач принадлежат друг другу и жертва в итоге пожирает палача… Вот чем пахли тигры, и этот их запах, утверждал Гюнтер, стал и его запахом после долгих часов, проведенных с хлыстом в руках в одной клетке с тиграми, после того, как он засыпал у них и видел одинаковые с ними сны. Даже хлыст, который Титания подобрала после того, как из клетки выгнали зверей, а Гюнтера унесли на носилках и труп Бисмарка убрали, даже хлыст неожиданно обнаружил свой истинный облик. На следующий день она узнала, что Гюнтеру не суждено подняться на ноги, и, возвратившись в номер гостиницы, увидела на постели жесткое кожаное плетение хлыста, он показался ей похожим на умершего Змия, не способного ни к греху, ни к добродетели…
Вскоре она уехала с цирком из Лейпцига, оставив парализованного Гюнтера в госпитале, а на премьере в чешском городке неожиданный порыв ветра рванул брезентовый купол цирка. Она уже сделала первый оборот и, описав кривую в пространстве, должна была ухватиться за трапецию, которую ветер отклонил всего на несколько сантиметров вперед. Титания работала без сетки. Гюнтер говорил: «Надо рисковать, риск уменьшает возможность падения!» Обычно он стоял в центре арены и не сводил с нее глаз. В ту ничтожную долю секунды, повиснув в воздухе без спасательной трапеции — «хоть бы остаться так навсегда», — она вспомнила о Гюнтере. Ей показалось, что она видит, как он стоит посреди арены и внимательно следит за каждым ее движением. Обычно она отлично видела Гюнтера, когда просовывала лодыжку в кольцо и вращалась так вниз головой. Все мелькало кругом: и арена, и зрители — и только он всегда оставался на месте, в центре круга. Он наверняка попытался бы поймать ее или хотя бы сумел смягчить удар при падении. Она летела вниз, раскинув руки, и частично ей удалось сделать то, чему ее учили, — упасть сгруппировавшись и расслабившись покатиться в сторону. Она постаралась перераспределить силу основного удара, превратить его во множество мелких и ложных. Она сломала правую ногу и вывихнула плечо. Можно сказать, легко отделалась. А я-то сперва не понимал, почему при ходьбе она держится неестественно прямо. Когда до нашего знакомства я видел ее на стройке и в ресторане города М., мне казалось, что она движется как-то скованно, я ловил себя на мысли, что женщина должна быть более пластичной. Через несколько месяцев после нашего знакомства я вдруг обнаружил, что, двигаясь в полутьме комнаты, она слегка припадает на правую ногу. В полумраке я видел ее обнаженную, с узкими бедрами, с широко расставленными грудями (как будто они делали вид, что не знакомы друг с другом и потому не общаются), снующую, прихрамывая между железной раковиной и невысокой табуреткой, на которой варился турецкий кофе.
История, которую она рассказывала, была далека от завершения, и мне представлялось, будто я тайком читаю воскресный выпуск, выходящий огромным тиражом, и с нетерпением жду захватывающего продолжения воскресной публикации. Она давала мне возможность пережить мгновения, не похожие на тусклое и серое течение будней.
Я пил кофе, курил, а она ходила от раковины к табуретке и обратно, ходила и рассказывала, преодолевая за день не одну тысячу километров.
— Ну и как там Европа? — спрашивал я. Я иногда задавал вопросы, которые ставили ее в тупик.
— Европа? — переспрашивала она, останавливаясь.
— Да. Европейский континент.
Со временем она перестала стесняться своей легкой хромоты: это был еще один шаг к доверию. Женщины всегда чувствуют, когда можно обнаружить свои недостатки, ничем при этом не рискуя.
После несчастного случая она возвратилась на родину, выхлопотала пенсию и поехала в К., откуда была родом, впрочем, в скитальческой жизни Титании не найти такого места, которое можно назвать ее домом, были только отдельные остановки в непрерывном движении.
«И что это за имя — Титания», — думал я, имея в виду ее псевдоним. В ее семье, как и вообще в цирковых семьях, существовала традиция, со стороны выглядевшая нелепой. Из поколения в поколение членов клана нарекали громким именем. Это имя служило приманкой для еще не рожденных потомков — представителей рода, как служит приманкой соломенный заяц, подвешенный перед мордой гончего пса. Предки и потомки, еще не появившись на свет, были уже обречены носить предназначенное им имя и, дождавшись своей очереди, мчались за этим фальшивым зайцем с отчаянием истинного зверя, спотыкаясь, падая и погибая. Циркачи — этот клан одержимых мечтателей — были далеки от житейских забот: вместо того, чтобы кинжалами убивать, они опускали их в бензин, поджигали и жонглировали, ими в темноте арены. Они были слишком чисты и наивны, чтобы навязывать свои законы окружающему их более жесткому цирку.
Гюнтер, хоть и научился у своих хищников жестокости, все же сохранил веру в постоянство и чистоту чувств, свойственную людям его клана. По воскресным дням в К. я часто вспоминал друга студенческих лет Барабора и сравнивал его с погибшим укротителем. Барабор относился к жизни сурово и не питал иллюзий. Он говаривал, бывало, что, когда надеяться больше не на что, надо все начинать с нуля, а нуль — это безнадежное ничто, вроде дырки от бублика.
Для полной ясности надо сказать, что претенциозное имя Титания, которое красовалось на афише, носила еще ее мать, тоже акробатка, та в свою очередь унаследовала это имя от бабки, цирковой наездницы, дочери итальянца из Турина. Их родословная обрывается на прадеде: на дагерротипе; был запечатлен усатый мужчина с пробором, в майке с бретельками.
Он жонглировал шарами и тарелками во второй половине XIX века, в «добрые, старые времена». Бабка вышла замуж за акробата, серба по национальности, это была первая примесь славянской крови, повторенная в следующем поколении, когда вторая Титания, ставшая акробаткой, вступила в связь с известным укротителем Клудским. Впоследствии, когда ее родители уехала в Америку, она вышла за него замуж, потом она еще трижды венчалась и трижды разводилась, прежде чем в тридцатипятилетнем возрасте вышла наконец за отца Титании третьей — директора Лодзинского цирка, поляка по происхождению. Можно подумать, что, скитаясь по свету, они встречались и соединялись, инстинктивно стараясь создать идеальную пару и сохранить чистоту рода или клана. Выбор становился все более ограниченным, пока эта забота о чистоте рода не обернулась западней — клан не желал пускать в свои ряды чужака (так, скажем, в качестве возможного отца четвертой Титании я наверняка был бы отвергнут, мне предпочли бы Гюнтера, он, по их понятиям, был родственной душой).
После катастрофы, постигшей Польшу в 1939 году, директор лодзинского цирка бежал с семьей в Румынию, застрял сначала в Клуже, потом осел в Бухаресте.
Мать Титании (девочке в ту пору исполнилось девять лет) умерла, отец прожил еще несколько лет, успев обзавестись женой старше себя, работавшей в администрации цирка. Этот брак с женщиной «из публики» был первым мезальянсом. Мачеха — дочь корчмаря из Фетешть, которую в юности соблазнил волостной старшина, перебравшийся потом в столицу, — полюбила Титанию, как может полюбить женщина, красивая в прошлом, будущую красавицу; большая разница в возрасте исключала соперничество, и мачеха относилась к Титании с нежным покровительством старшей подруги. Директор цирка из Лодзи был «вельможным паном», увешанным медалями. Титания хранила его фотографию вместе с дагерротипом жонглера XIX века. Светловолосый поляк был похож на викинга-морехода смешанной славяно-германской породы и, вполне возможно, чем-то напоминал Гюнтера. Фотографии последнего у Титании не было, но, судя по ее описаниям, между ними было что-то общее. Пэпуша и поляк были красивой парой, разве что несколько поблекшей — такой же была их последняя любовь, ровная и спокойная. Титания понимала, что мачеха не просто благоволит к ней, но по-своему ее любит, поскольку дочь так похожа на ее повелителя, благородного блондина с романтической внешностью изгнанника. Вот почему, получив пенсию после случившегося несчастья, Титания решила поехать в К., где к тому времени обосновалась ее мачеха. Распродав кое-какие драгоценности, мачеха после смерти первого мужа вышла замуж за бухгалтера, работавшего в порту, мужчину лет пятидесяти, чуть моложе ее.
Титания его невзлюбила, он напоминал ей крысу, зимой и летом ходил в светло-серых ботинках, пуговицы на его пиджаке были тряпичные, а еще по ночам, под одеялом, вместе с Пэпушей они вскрывали конвертики с лотерейными билетами.
В К. Титания поначалу работала в ночном баре: участвовала в представлении и продавала орешки. Домой возвращалась в пять утра и спала до полудня… Она похудела, и мачеха пыталась пристроить ее на работу в порт. Бухгалтер, мужчина не первой молодости, помогал ей в этом, проявляя чрезмерную расторопность, тем более подозрительную, поскольку речь шла о молодой женщине.
Тут-то и разразился скандал. Однажды бухгалтер зашел домой часов в одиннадцать. Пэпуша как раз вышла за покупками. Титания крепко спала, разметавшись во сне, и бухгалтер навалился на нее. «Старая свинья! Серая немощь! Убирайся отсюда вон», — заорала она проснувшись. «Я дам тебе деньги, много денег… — бормотал он. — Ради тебя я готов на преступление».
«Лучше всего в таких случаях, — объясняла мне Титания со свойственной ей грубоватой прямотой, — это почем зря ругаться. Мужики, даже самые настырные, теряются на какое-то мгновение, вполне достаточное, чтобы успеть от них увернуться. На старую свинью, во всяком случае, это подействовало».
Вскоре после случившегося Титания переехала в комнатку на втором этаже бывшего Морского банка, отказавшись от работы в порту. Она жила только на пенсию. Пытаясь устроиться куда-нибудь, она дошла до полного отчаяния, и тогда-то появилась у нас, на стройке в М. В конце концов ее взяли в ателье. Мачехе она ничего не стала объяснять, сказала только, что хочет жить самостоятельно.
* * *
В это майское воскресенье без пяти восемь, как обычно, я поднимался по широким ступенькам бывшего Морского банка, сильно пострадавшего от бомбардировок. В послевоенные годы из-за жилищного кризиса его переоборудовали в жилой дом. Девять ступенек, охраняемых двумя каменными карликами, чьи подбородки были вымазаны цветными мелками, вели к подъезду с навесом из кованого железа и двумя разбитыми канделябрами, стилизованными под старину. Сквозь не затоптанные камни ступеней пробилась травка, которая зеленой полоской тянулась чуть ли не до самого лифта. Просторные залы бывшего Морского банка были разделены на четыре части, а перегородки из побеленного картона (я их не видел, но мне рассказывала Титания) не доходили до высоких потолков. «Ноев ковчег, — так называла Титания этот дом, — Ноев ковчег после второго всемирного потопа». Титания занимала помещение бывшей кассы, о чем свидетельствовало заколоченное досками окошечко. Комнатенка располагалась в дальнем конце длинного широкого коридора, в котором сохранились импозантные туалеты с надписями на дверях «Messieurs», «Dames».
В этих коридорах против каждой комнаты жильцы нагородили из картонных ящиков что-то вроде кухонь, размером два на два. Мимо них я прокрадывался на цыпочках, как мимо будки всевидящего привратника. Шипение примусов, женская болтовня, клубы пара, запахи жареного вырывались из окошек, прорезанных в картонных стенах. Я пытался проскользнуть незамеченным, когда же мне это не удавалось, то слышал за спиной обычные в подобных случаях фразы: «Опять явился» или «Он думает, наверное, что тут дом свиданий».
Я собрался было постучать, но заметил прикнопленную к двери визитную карточку: «Я у Папуши (она заболела), приходи к часу». Я улыбнулся: «Пэпуша» она написала через «а». Еще когда она выписывала квитанции заказчицам, я заметил, что она путает эти две буквы. Подписи не было, но по-польски были напечатаны имя Титании, адрес отеля, название города и улицы, состоящие из одних согласных, так что выговорить все это было невозможно. Карточка вполне могла принадлежать ее матери, Титании-второй.
Я поддел ногтем кнопку, картон визитной карточки на ощупь был первоклассный, на стройке такого не сыщешь. Через черный ход я вышел на лестницу, которая спиралью вела на террасу. Сколько раз мы вместе поднимались по этой лестнице. Стены были покрыты черными хлопьями копоти из котельной. Наверху дул свежий морской ветер. Возле шахты лифта лежала катушка из-под кабеля. Здесь я и остановился, чтобы взглянуть на море. С широкой террасы бывшего Морского банка открывался прекрасный вид. По правде говоря, терраса давно перестала служить террасой, превратившись в подобие скотного двора. Жильцы этого дома, в прошлом деревенские жители, приехали в город после войны и застроили террасу курятниками, разбили здесь грядки, засеяли их луком, укропом, чесноком, а в углу развесили сухие кукурузные початки. Две пустые бельевые веревки раскачивались на ветру. Куры бродили по террасе, удовлетворенно кудахтал. Я немного постоял, полюбовался силуэтом корабля на горизонте, оглядел море, которое яростно накатывало на берег волны и разбивало их в пену. Случалось, во второй половине дня мы поднимались на террасу и гуляли здесь, как в парке. Осенью и весной нам удавалось иногда дождаться захода солнца, летом — никогда. Я уезжал поездом в 18.55 по летнему расписанию, а солнце начинало заходить только тогда, когда я приезжал в М. Мы устраивались между грядками, а лазурное море бушевало под нами: я не видел его спокойным в эти послеобеденные часы.
— Эх! Уплыть бы куда-нибудь на корабле! — говорил я, глядя на волны.
Титания молча клала мне прохладную ладонь на затылок и долго не снимала ее, руки у нее всегда были чуть влажные. Она объясняла, что это от талька, которым она их натирала, когда работала на трапеции, поры сохранили старый рефлекс. Лично я считал, что это просто следствие плохого кровообращения. Мы облюбовали себе местечко, с которого не видна была линия берега, одно сплошное море, и бетонный край террасы превращался тогда в нос корабля, разрезающего морские буруны.
От реальности нас отделял лишь шаг, стоило сделать его, и иллюзия исчезала: мы видели берег, пляж с раздевалками, ребятишек, играющих в футбол или волейбол, и тогда корабль снова превращался в каменное здание банка, ничем не отличавшееся от ему подобных. Я вспоминал слова песни о неподвижном корабле без парусов. Эту песню пели бразильские рабы на шоколадных плантациях; покачиваясь в такт музыке, они топтали зерна какао в огромных амбарах без крыш. В их пении звучала надежда на то, что наступит день, и ненавистные амбары превратятся в корабли, которые увезут их отсюда к берегам Африки. Мелодию я воспроизвести не мог ввиду полного отсутствия слуха, но Титания уверяла, что она должна состоять всего из двух нот — верхней и нижней — и походить на колыбельную или на жалобный стон.
Поэзия рассеивалась, когда на террасу выползала одна из обитательниц дома — снять высохшее белье или покормить кур.
— Этих клушек мы в плавание не возьмем, — злился я, — повыбрасываем их за борт, в конце концов, в любом морском путешествии кто-то может оказаться за бортом.
Титания же предлагала заставить их сначала отдраить палубу, а потом высадить в ближайшем порту.
Мне скоро надоело торчать наверху, и я пошел обратно, пролезая под натянутыми бельевыми веревками. Я вспомнил своего старого друга Барабора и затосковал по нему, по нашим студенческим воскресеньям, когда мы с ним бесцельно бродили за городом.
«Пересечем эту равнину, — говорил он, простирая руку вперед, как полководец на поле битвы, — углубимся в лес и послушаем пение птиц, если они там поют, а если нет, свернем направо и мимо дорожной будки выйдем к вокзалу. Я просто умираю со смеху, когда вижу, как на запасных путях жены дежурных по станции выскакивают на перрон в халатах и кличут своих индюшек…»
Я спустился по спиральной лестнице и остановился перед заколоченным окошечком бывшей кассы. Прислушался, словно Титания могла быть дома, но почему-то не хотела мне открыть. Вот был бы номер… «Для простого чертежника у тебя слишком богатое воображение», — выругал я себя. Я вспомнил о капитане дальнего плавания, который мог в любой момент возвратиться из долгих странствий и о котором в первые недели нашего знакомства судачили тетки в своих картонных кухнях:
— Куда девался твой красавец-капитан? Ты что, порвала с ним? Видный мужчина!
То, что он был красив, занозой сидело у меня в сердце. Я страдал, потому что сам был неказист. Я часто спрашивал себя, что такого могла найти во мне Титания? Тощий, больше шестидесяти килограммов я никогда в жизни не весил, длинноносый, с приплюснутой головой.
— Ты принадлежишь к людям, рожденным на свет для тумаков, — смеялся надо мной Барабор, — обреченным всю жизнь жить в узкой щели, в которую влезть довольно трудно, а вылезти из которой еще трудней, и приходится постоянно приспосабливаться к ее размерам.
Да еще уши у меня торчали в разные стороны, словно моим единственным предназначением в этой жизни было ко всему прислушиваться. С такой внешностью я не выдерживал никакого соперничества. Дома я хранил автопортрет, написанный еще в студенческие годы. Я изобразил себя без ушей. Пия говорила, что на нем я вообще смахиваю на черта.
— Мужчина чуть краше черта — уже красавец, — возражал я, — в нем обязательно должна быть некая чертовщинка.
Этим я пытался себя утешить. Я надеялся — и это тоже служило мне утешением, — что умные женщины красавцам предпочитают мужчин сдержанных, немногословных, знающих, что сказать и как сказать. Чертовщинка во мне была, в этом я не сомневался, маленький такой чертик, невысокого ранга. Он ни минуты не находился в покое, маячил из стороны в сторону и постоянно задавал вопросы. Это и было одной из причин наших ссор с Пией. Она хотела бы видеть меня совсем ручным и по возможности всегда одним и тем же.
— «Маленькая смазливая бестия!»… Чтобы тебя шквал унес или тайфун какой-нибудь! — Я обнаружил, что стою перед дверью бывшей кассы и во весь голос кляну капитана. — Да будет это страшный тайфун с самым нежным именем какой-нибудь шлюхи Хильды, или Бети, или Джильды!..
Я попытался пристроить визитную карточку на место, но ножка у кнопки погнулась. Тогда я всунул карточку в щель окошечка кассы, вытащил шариковую ручку и поверх слов: «Я у Папуши» начертал: «Я был». Собрался было уйти, но мне показалось, этого мало, и я добавил: «И буду».
БАРАБОР
Я поступил на факультет живописи, мечтал стать художником, а вовсе не чертежником. Обстоятельства вынудили меня остановиться на полдороге. И я не жалею. Если бы мне удалось закончить институт, в лучшем случае я пополнил бы ряды художников, которые только и делают, что разглагольствуют о своих будущих шедеврах, но так и не создают их за всю свою жизнь. Я понял это, когда подружился с Барабором и сопоставил свои слабые возможности с той животворной силой, которую он принес из Вранчи. И с Пией меня познакомил тоже Барабор, так что именно он более чем кто другой определил мою дальнейшую судьбу.
Он был сыном гранильщика крестов из рода каменотесов, обитавших в отрогах Карпат. Корни этого рода тянулись еще глубже, к людям, обосновавшимся среди камыша на болотах: отсюда и прозвали их Пипириги[3]. Настоящее имя Барабора было Ион Пипириг. В его роду были и рыбаки из устья Сирета, но самую непоседливую часть рода потянуло к камню. С семи лет отец приучал сына, как и пятерых его братьев, тесать камни. Барабор начал заниматься этим раньше других, и работать отец заставлял ею больше других. Он, видно, считал, что именно Барабору из шести сыновей суждено перенять и продолжить знаменитое на весь край искусство, которым славился их род, — ставить красиво расписанные гранитные кресты на могилах. Барабор рассказывал, и это версия казалась ему наиболее правдоподобной, что отец пытался обуздать известного задиру тяжелой работой.
Рос он быстрее других, и половая зрелость, которая пришла к нему раньше положенного срока, смущала его и ставила особняком среди сверстников. В четырнадцать он выглядел верзилой — в пору в армию отдавать. Выслеживал в лесу собиравших грибы баб, таясь за деревьями, с трепетом начинающего преступника глядел, замирая, как кланяются они сырой земле. В возрасте, когда другие дети еще слушают сказки, его охватила такая жажда деятельности, которую он не мог утолить ни дома, ни в школе. Когда Пипириги садились за стол, Барабор, случалось, получал от отца по лбу деревянной ложкой, вымазанной кукурузой, за то, что слишком часто лез в общую глиняную миску. В школе ему доставалось от учителя линейкой за неуместные и неположенные вопросы. Он окончил школу шестнадцати лет и тут же спутался с вдовой ветеринара, умершего от сибирской язвы. Ей было лет двадцать, и прозвали ее «унтер-офицерша» за то, что она всыпала как-то жандармскому унтер-офицеру, который пытался приставать к ней. Будучи незамужней, она смолчала, боясь гнева унтер-офицерской жены, но на селе обо всем прознали.
Здоровенная дылда в шестнадцать лет, она еще дралась с парнями на посиделках. Всем на удивление, она взяла да и вышла за ветеринара, застенчивого и неказистого заезжего паренька… «Мне он нравится, — говаривала она, — потому что рассказывает по ночам всякие истории да ноги мне моет».
«Она как скала, — рассказывал о ней Барабор, — с ней так просто не сладишь».
Они вошли в дом, держась за руки, как брат и сестра.
— Отец, я женюсь…
«Отец, — рассказывал Барабор, — так посмотрел на меня, что по одному его взгляду я понял: хорошего не жди».
— Вот как? Ну давай я благословлю тебя, — усмехнулся отец. Но я уже знал, что за этим последует…»
И едва сын приблизился, отец ударил его наотмашь. Унтер-офицерша бросилась было на выручку, но Барабор цыкнул на нее и велел не вмешиваться: отец, пусть он тиран или пьяница, остается отцом.
— Не надо, слышь, не трогай! — твердил сын, отступая шаг за шагом, стараясь прикрыть лицо рукой. По счастью, отец при ударе вывихнул руку и взвыл от нестерпимой боли. Через неделю, когда вся семья поехала на базар продавать кресты, Барабор оставил свой товар посреди рынка и сбежал с унтер-офицершей в Трансильванию. Все лето они вдвоем тесали камни, мостили дорогу, вбивая молотом в песок камень за камнем, булыгу за булыгой. «Работа распроклятая, копеечная, адская, легче возводить египетские пирамиды, чем вручную мостить дорогу, которой не видно конца. Люди-то по ней будут проходить быстро, не задумываясь о том, что кто-то ползал здесь на четвереньках». К концу дня у них так ломило спину, что они не могли спать лежа, а только так, как работали, — на четвереньках.
Из Трансильвании они подались в Ватра Дорней, и там он нанялся дровосеком. Дровосеку платили больше.
Здесь он и стал Барабором. Бараборами звали холостых, бродячих дровосеков, кочующих с топором за плечами с места на место. Особое племя скитальцев, они нигде долго не задерживались. Сильные и честные, они славились как отчаянные драчуны. На срочную заготовку леса начальство всегда посылало ораву бараборов, и дело слаживалось. Зарабатывая больше других, они хвастались тем, что могут быстро промотать все и остаться в одних лохмотьях, да вдобавок еще и с пробитой головой. «Однажды утром, — с гордостью рассказывал Барабор, — я проснулся в канаве, и бродячий пес лизал меня, как блаженного Иова».
Сначала унтер-офицерша скиталась по заготовкам вместе с ним, работая то поваром, то заведующей столовой, но, когда он начал вести бесшабашную жизнь, она его бросила. Позже ему обрыдли драки после загулов и застольные песни вроде «Пей вино, вино до дна, только бочка нам жена. Бара-бара-бум-бара!» (отсюда и пошло их прозвище «бараборы»). И он пожалел, что потерял унтер-офицершу. Но все шло своим чередом. Он должен был сначала встретиться с унтер-офицершей, потом с бараборами, израсходовать часть своей силы, которая так рано проснулась в нем, и только тогда почувствовать себя свободным.
«Надо признаться, — рассказывал он, — осознавал я это постепенно. Нужна была встреча с унтер-офицершей и с бараборами и многое другое, но смысл происходящего я постиг только после знакомства с господином Зербесом».
Осенью он перевалил через горы и пешком пришел из Родны в Путнинский лесной массив и там в одну из лунных ночей октября услышал, как ревут олени. Черт его дернул сыграть с ними злую шутку. Он приложил ладонь к губам и издал трубный рев, какой издает одинокий самец, задохнувшийся от желания. И она пришла, пришла вместе с другим самцом-оленем, готовым вступить в борьбу со своим одиноким соперником, одолеть его. Они стояли лицом к лицу — олень и человек, его позвавший; со стороны это, видимо, выглядело забавным, во всяком случае, люди, наблюдавшие за ними с края поляны, гоготали, утверждая, что этот самый олень неделю назад подошел к измученной кляче, дремавшей в своей упряжке, перед тем как выйти в поле. С морды его текла пена, расширенными, налитыми кровью глазами глядел он на кобылу, бил копытами землю, и ноздри его трепетали от запаха самки, запаха такого сильного, что трудно было отличить олениху от клячи. Тут было над чем посмеяться.
По субботам все спускались с гор и возвращались обычно не раньше понедельника, а он однажды взял и остался, и тут-то произошло самое главное.
В воскресенье он поднялся ни свет ни заря, сполоснулся холодной водой из колоды и отправился в лес искать подходящий ствол. Он срубил его новым топором, взятым на складе, и приволок на цепи к дому.
— Что ты делаешь? — выглянул наружу повар, услышав удары топора.
— Человека, — ответил он, продолжая рубить.
— Спятил, что ли? — сказал другой.
— Вовсе нет.
— Сегодня же воскресенье! Даже господь бог отдыхал в этот день после сотворения мира.
— У господа было много времени, а у нас нет, — ответил он, — займись-ка лучше своими голубцами.
Позже господин Зербес, тот самый господин Зербес, который больше всего на свете любил все всем разъяснять, узнав об этом случае, счел его проявлением «слепого провидения в самом чистом виде», поскольку нечто подобное произошло раньше с каким-то святым, должно быть, господь бог решил наконец указать Барабору его истинный путь. У всей этой языческой истории с бараборами был некий смысл, говорят, вроде и у древних греков был бог по имени Барабор, от него несло козлом и виноградным суслом, и он с целой толпой пьяниц шествовал обычно на сбор винограда.
Сначала Барабор вырубил просто смиренного человека, с руками, сложенными на груди, и с закрытыми глазами; так почивали в своих деревянных гробах усопшие в могилах Вранчи, у изголовья которых деды и прадеды понаставили столько крестов из раскрашенного камня.
Всю зиму и весну до следующей осени Барабор сражался с деревом и на каждом новом месте водружал рубленые фигуры, которые, подобно верстовым столбам, отмечали его передвижение. Он скитался из Путны в Марамуреш, из Марамуреша в Западные горы, оттуда в Хацег и в страну Бырсей. Бродячий образ жизни в какой-то степени еще оправдывал его прозвище. Судьба вела его по кругу, центром которого был церковный приход господина Зербеса — пастора из Р. В саду пастора бегали домашние кролики, а колокольня старой протестантской церкви оглашалась вечерами галочьим криком. Еще задолго до той осени, когда Барабор появился в Р., его деревянные фигуры все меньше и меньше стали походить на людей. В них проявлялось что-то отвлеченное, даже тогда, когда они были высечены вместе с древними своими орудиями труда — льномялками, мотовилами, воловьими хомутами. Но именно это и нравилось господину Зербесу. Барабор повторял слова пастора: «Они несли на себе печать божественного духа, духа вечного, нетленного в отличие от человеческой плоти, которая рождается и умирает в земном водовороте!» И все, вероятно, шло бы своим чередом, если бы бригадир лесорубов — человек бывалый — не предложил молодому дровосеку, который, правда, теперь больше занимался резьбой по дереву, чем рубил деревья, попытать счастья в Доме народного творчества в Р. В путевом листе машины, которая повезла его столбы, в шутку написали: «Дрова, чтобы оправдать дармовой расход бензина». Господин Зербес, обуреваемый коллекционерской страстью, исколесил всю Трансильванию в своем стареньком с брезентовым верхом «форде» образца 1930 года. Он был постоянным клиентом Дома народного творчества. Денег у него не водилось, и расплачивался он своим нелепым «фордиком», давал его любому, кто в этом нуждался. Пастор понял, что встретил наконец, того, «кого он ждал все время» (это его подлинные слова), он приютил Барабора в своем доме, взяв его прислужником в церковь. Платил ему приход. «Платил» — сильно сказано. Просто у него была крыша над головой, и кроликов он ел столько, сколько ему не пришлось съесть за всю жизнь. Кое-какая мелочь оставалась у него на сигареты и на подметки для ботинок, в которых он ходил постоянно, да еще спустя два года в них явился в Бухарест. Пастор подучил его немецкому языку, чтобы он мог разбираться в кипе альбомов по искусству, ориентироваться в многочисленных томах в кожаных переплетах, собранных в его библиотеке, окна которой выходили в сад с кроликами. Зербес даже репетитора приставил к Барабору… Это была Пия, маленькая, полненькая чернявая девушка, напичканная знаниями, студентка филологического факультета, племянница сестры пастора. Она сопровождала Барабора в Бухарест, когда тот поехал сдавать экзамены в институт.
Барабор и пастор на своей колымаге с брезентовым верхом объехали самые глухие углы Трансильвании, где на временных стоянках дровосеков Барабор оставлял свои следы — резные стволы деревьев. Одни из них стояли так, как он их поставил, другие накренились, третьи были повержены наземь. Там услышали они о Бараборе: те, кто никогда его в глаза не видел, передавали из уст в уста легенду о безумце, что бросил пить и занялся резьбой по дереву. Он оставлял после себя неподвижные памятные столбы, на которых новые жильцы химическим карандашом производили хозяйственные расчеты. Господин Зербес утверждал, что в этих примитивных идолах, похожих на покойников с острова Пасхи, было все же что-то людское. Со временем они начинали обретать иной облик, словно пережили второе сотворение мира, и на господина Зербеса производили впечатление пришельцев-чужаков. Пастор предложил Барабору поработать в камне. Он поступил так же, как когда-то родной отец, который с малолетства приучал Барабора гранить кресты: это было как бы второе рождение Барабора, а господин Зербес стал его вторым отцом, только теперь все получалось легче, как это случилось бы со всяким, кому дано было сызнова пережить свое детство.
В Бухаресте мы все жили в одном общежитии, расположенном в центре города. Сначала я считал Пию и Барабора женихом и невестой. Я часто встречал их вместе — то в столовой, то на спектаклях. Не заметить их было невозможно, особенно Барабора, высокого, поджарого, с длинными, как шесты, руками. Когда он их вытягивал, то становился похож на огородное пугало, несмотря на свою вызывающе красивую внешность: прямой нос, тонкие, честолюбивые губы, светлые, остроконечные мадьярские усы, придававшие его лицу выражение сдержанной суровости. Одно время он ходил бритым наголо, но Пия уговорила его отпустить волосы, а то, по ее словам, он смахивал на каторжника. Потом он сбрил усы, но завел бороду — спутанный клок шерсти. В любой мороз он ходил в одной рубахе, грохая по мостовой своими солдатскими сапогами, как новобранец, получивший первую увольнительную. Но особенно странно выглядели они рядом — он и его маленькая, говорливая подруга: ей все время приходилось запрокидывать голову назад, словно она смотрела на того, кто вот-вот взлетит. Я ни разу не видел Барабора ни с какой другой девушкой или женщиной. И в мастерскую на Оборе, где мы частенько собирались по вечерам, была допущена только Пия. Я подружился с ним, а через него и с Пией, он тут же сделался моим наставником, как человек серьезный, а не какой-нибудь идеалист. Он говорил назидательно: «Тебе следует сделать выбор: либо заняться делом, либо остаться сентиментальным хлюпиком. Вряд ли ты сумеешь жить бобылем, надо жениться. Женись на сильной девушке, пусть некрасивой, лишь бы у нее было мужество, которого у тебя нет». Так постепенно он затягивал невидимую петлю вокруг моей шеи. «Бери в жены Пию, — убеждал он меня, — увидишь, всю жизнь будешь меня благодарить — немецкая аккуратность тебе не повредит». Сам он предпочитал иметь дело с кухарками и домработницами на маленькой улочке возле пивного погребка «Гамбринус».
«Мой идеал — унтер-офицерша», — говаривал он, смеясь.
Обычно мы шагали втроем вниз по бульвару, прокладывая себе путь локтями, но, стоило нам дойти до угла, Барабор делал нам ручкой.
— Меня ждут на улице Заломите, — объявлял он и поворачивал обратно. Когда он работал дровосеком в Трансильвании, у него было много девушек в широких сборчатых юбках, с яркими лентами, вплетенными в косы.
— Посмотри-ка на них, — показал он мне однажды стайку девчонок на улице, — знаешь, какие они румяные и горячие, словно пышечки из духовки.
На рождество по приглашению Пии мы поехали в Р. Это был мой первый визит к ее родичам. Там меня потчевали Gänsebraten — жареным гусем, и булочками с маком. В ночь под рождество господин Зербес специально для нас играл на церковном органе. «О прекрасная ель!» Барабор попробовал спеть, пастор ему вторил. Потом Барабор попросил разрешения спеть «Марсельезу», признавшись, что он уже не раз пел ее, когда, управившись с уборкой, оставался в церкви один. Студент с факультета лесоводства, приехавший на практику, научил Барабора подыгрывать себе одним пальцем.
Пастор не возражал, и Барабор замурлыкал: «Вперед, сыны отчизны!..» Пия чуть не лопнула от смеха и незаметно, чтобы не обидеть господина Зербеса, увела меня на колокольню. Она поведала мне средневековую легенду, в которой рассказывалось, что саксонские женщины, когда неприятель осаждал крепость, швыряли в него калачи, испеченные из последних горстей муки. Истощенные и голодные враги, видя такое расточительство, убрались восвояси. На колокольне закричали и захлопали крыльями потревоженные галки, а мы поднимались по лестнице, загаженной птицами. Идти надо было с величайшей осторожностью, чтобы не поскользнуться. («Прекрасное удобрение», — скажет на следующий день господин Зербес, соскребет весь помет, чтобы следующей весной удобрить им землю своего сада.)
«Марсельезу», которую Барабор пел, ошибаясь и поминутно поправляясь, было слышно даже на колокольне. Мы с Пией любовались зимним вечером, пригибаясь от летающих галок, словно от летучих мышей, и вдруг услышали совсем другую «Марсельезу».
Она звучала свободно, без ошибок, сдержанно и торжественно.
— Теперь, без сомнения, «Марсельезу» исполняет господин Зербес, — сказал я, разглядывая сквозь амбразуру далекий горный хребет, разлинованные улочки города и красную черепицу крыш лепящихся друг к другу домов.
— Это не «Марсельеза», — поправила Пия, — это известный католический гимн «Dies irae», «День гнева». Разве можно их путать?
— Не я их путаю, они сами путаются. Любой революционный марш смахивает на церковный гимн, — слуха я был лишен и возразил, пытаясь оправдаться, — все дело в ритме и в инструменте, на котором его исполняют.
Я произнес это очень убежденно, и Пия посмотрела на меня с удивлением, в ее внимательном взгляде было ожидание. И я понял, что должен ее поцеловать, и чуть подтолкнул ее в амбразуру, загородив от неяркого вечернего освещения…
— Ты поцеловал меня в церкви, — смеялась она, когда я помогал ей спускаться по темной лестнице, — так что учти, теперь ты обязан на мне жениться.
Внизу было тихо. Пастор и Барабор негромко разговаривали, сидя рядом на лавочке. Выходя из церкви, Барабор прошептал мне на ухо:
— Мерзавец, ты, конечно, поцеловал ее! Ну что ж, будь счастлив.
В конце концов все случилось так, как предсказала Пия, спускаясь по ступенькам башни. Честно говоря, мне всегда нравились немки — стройные блондинки, потому что в моем представлении они должны быть добродетельными матерями, заниматься спортом и лазать по горам. Пия, правда, была брюнеткой, невысокого роста, ловкой и предприимчивой, какими обычно и бывают полненькие брюнетки, а с детьми у нас ничего не вышло. «Да, — буду успокаивать я себя позже, когда у меня ничего не получится и с живописью, — не все в жизни складывается так, как представляешь себе, надо уметь от чего-то отказываться». Поскольку с годами я достаточно от многого отказывался, то в конце концов смирился.
— Никакая ты не саксонка, ты татарка! — кричал я в ярости, когда меня начинали муштровать, как и предсказывал Барабор.
— Мужчина должен иметь программу, — наставляла меня Пия, — он должен быть собранным, решительным, должен уметь преодолевать трудности.
Что касается решительного преодоления трудностей, то лишь однажды я оказался на высоте, когда поломал карандаш. Было это дождливым вечером. Пия и три ее подруги играли в карты за разными столами, карандаш для записи был у них один на две компании, и они постоянно ссорились из-за него. Я читал роман «Моя зеленая долина» и как раз дошел до самого интересного места, когда они подняли галдеж из-за этого карандаша. Я подошел, взял карандаш, разломил его на две части, отдал каждому столу его половину и вернулся на место.
— Ты, как Соломон, способен разделить даже ребенка, — восхищенно сказала Пия.
— Это зависит от одной из двух матерей, — ответил я, на секунду оторвавшись от книги. «Если хочешь быть любимым, — подумал я тогда, — время от времени следует совершать решительные поступки». Но чем дальше, тем труднее находить верное решение, и чаще всего я предпочитал плыть по течению.
Когда нас выгнали из института, наша связь с Барабором еще не прервалась, я убегал в его мастерскую на Обор каждый раз, когда ссорился с Пией. Там я отсиживался иногда по нескольку дней, и Пия привыкла к этому. Зная мое местонахождение, она спокойно ждала меня. В один из таких побегов Барабору удалось уговорить меня вернуться, и он собственноручно отвел меня к Пии — так сопровождает преступника ревностный жандарм, восстанавливающий букву закона.
— Шурин, — издевался он. — Ты должен быть паинькой.
Он смел еще давать мне советы на правах моего «родственника». Старался он, должно быть, ради господина Зербеса, который после смерти отца Пии стал ее опекуном. У нас образовалось что-то вроде семьи, не связанной, правда, кровным родством. Барабор, покончив с институтом и отказавшись от мастерской на Оборе, вернулся к Зербесу. Он жил там до тех пор, пока не пустился в обратный путь по одной из своих старых дорог, и где-то в Марамуреше потерялся. Несколькими годами позже (пастор написал об этом Пии) он открыл там Музей крестьянского искусства.
— Я заберусь в глубинку, — сказал он перед отъездом из Бухареста, — а когда вернусь, та покажу им, где раки зимуют.
Он сказал это во всеуслышанье после собрания, на котором его исключали. Скандалить он начал уже на втором курсе: «Плевать я хотел на эту вашу действительность с парадными пуговицами и усами!» — твердил он. Еще ему нравилось рассказывать шутку о генерале, явившемся с ревизией в мастерскую художника, который писал военный парад. Вычитал он ее в иллюстрированном журнале за 1890 год. Барабор словно с цепи сорвался. Ему так понравилась эта история с генералом и художником, что он повторял ее сотню раз и даже разыгрывал в лицах, чуть ли не на всех вернисажах. Он торжественно входил в зал, топая своими коваными башмаками, останавливался перед какой-нибудь картиной, закладывал руки за спину, как это сделал бы генерал, раздраженно разглядывая парад 1890 года. Потом покашливал и произносил громко, чтобы все слышали:
— В императорской армии боевое снаряжение начищено гораздо лучше!
Когда мы бывали втроем с Пией, он обращался с этой фразой ко мне, так что мне приходилось играть роль перепуганного художника:
— Будем стараться, Ваше превосходительство, сделаем все возможное, отдраим его до абсолютного блеска…
За нами и так укрепилась дурная слава. А мне надо было еще представить годовую работу — тот самый автопортрет, который и сейчас висел в кабинете у меня дома.
Стоило мне разозлиться, Пия тыкала в него пальцем.
— Полюбуйся, — язвила она, — сейчас ты точная его копия.
Я изобразил себя заросшим, с маленькими красными глазками, тлеющими словно два папиросных огонька. На правой щеке я запечатлел одну реалистическую деталь — рубец от угла рта до виска, след, оставленный сапожным ножом Барабора. А над головой красовалось одно из любимых изречений моего друга: «Такое рыло может обойтись без ушей».
«Если бы ты изобразил себя с одним ухом, — заметила Пия, — ты был бы копией «Автопортрета с перевязанным ухом» Ван Гога, завсегдатая «Ночного кафе в Арле». Мы вспоминали и Барабора в мастерской на Оборе. Там, в бывшей пивной, над полками, где когда-то стояли в ряд бутылки, Барабор приколотил железную табличку «Пейте пиво Брагадиру», а на обратной стороне мелом начертал девиз другого художника: «Твори, как Бог. Властвуй, как король. Трудись, как раб».
Лето, когда я писал автопортрет, было жарким. Я заканчивал курсовую работу. В общежитии можно было подохнуть от жары, и я на несколько дней переехал в мастерскую Барабора. Спал я на раскладушке. В бывшей пивной сохранился глубокий погреб, в нем было прохладно. Старая корчма, окруженная древними липами, стояла в просторном дворе. Он был завален каменными плитами, которые Барабор привез из карьера и свалил под навесом возле двойных дверей, ведущих в погреб. Вечерами здесь собирались люди со всего квартала и устраивались прямо на плитах. По мере надобности Барабор спускал плиты в погреб по двум отполированным бревнам, положенным на ступени. Раньше по ним скатывали винные бочки.
Работать в погребе можно было только при электрическом свете, и Барабору приходилось ввинчивать двухсотсвечовые лампы. Трухлявые полы погреба готовы были провалиться под тяжестью каменных глыб. По-видимому, здесь и родилась его теория «погребения»: дескать, настоящее изваяние должно отлежаться в земле, там его истинное место. И не нужны никакие потрясения, только время! время! время! С его медленным течением в бесконечности, с неопределенностью его сказочного зачина: «В старые, старые времена…» Пораженные потомки будут взирать на эти изваяния, отрытые из-под земли, отшлифованные землей, землей сглаженные и усовершенствованные. В доказательство Барабор приводил знаменитые статуи, откопанные через тысячи лет после их сотворения: они смотрели на мир отрешенными ликами.
Барабор тесал внизу, в погребе, я же писал наверху, при дневном свете. Мы уже двое суток не вылезали из мастерской. Пия приносила нам еду и возвращалась в общежитие. На третий день в эту страшную жару мы доели остатки свинины с чесноком, и нас вывернуло наизнанку. Барабор смотался в ближайший буфет, притащил два литра холодного вина, и мы его выпили чуть ли не залпом. Затем он спустился в погреб, и я услышал тяжелые удары по камню. Я торопился закончить свое последнее полотно: «Пейзаж с насосной башней». Утром, взглянув на картину, Барабор сказал: «С таким же успехом можно назвать ее «Огород с огурцами». И мне пришлось это проглотить. Барабор вскоре поднялся по ступенькам, чертыхаясь себе под нос. Что-то там у него застопорило. Люк был обычно открыт, через него мы переговаривались. С верхней ступеньки лестницы он раздраженно облаял весь Ренессанс «с его проклятой анатомией».
Я писал, сидя к нему спиной, но когда кинул взгляд через плечо, то увидел, что он по пояс возвышается над полом и весь покрыт белой каменной пылью.
— Микеланджело не трожь, — сказал я с угрозой, словно оскорбили моего лучшего друга.
— Этого пигмея, — рванулся он ко мне, с грохотом захлопнув люк, — этого карлика, который добавлял недостающие ему килограммы своим творениям?
— Ты груб, — сказал я спокойно, мстя за «огород с огурцами». — Должен отметить, что вино плохо влияет на твои мозги.
Не помню, как попал к нему сапожный нож, которым он обычно подчищал гипс. Он опрокинул меня на пол и придавил коленом.
— Сейчас я тебе покажу анатомию, — шипел он, сдавливая мне горло и занося надо мной нож. — Я изображу тебе рот как у акулы… у барана… у кашалота… А тебя сотворю заново. — И кончиком ножа он рассек мне лицо от угла рта до уха.
Мы орали как бешеные, в дверь кто-то стучал кулаком. Барабор пришел в себя. Он распахнул окно и крикнул:
— Мы играем пьесу, нечего глаза пялить. Не мешайте репетировать!
Всю ночь я метался в бреду на своей раскладушке. Барабор менял мне повязки, бегал в аптеку и заставлял меня глотать сульфамиды. Очнулся я на другой день разбитый. Барабор исчез, оставив мне записку, пригвожденную к двери сапожным ножом: «Спи спокойно, осел, я вернусь к обеду, надеюсь, ты не успеешь околеть!» Я посмотрел на себя в зеркало — выглядел я так, что краше в гроб кладут. Самый раз писать автопортрет. Я разорвал «огород с огурцами» и занялся делом. За три часа я его написал. Думаю, что автопортрет был единственным стоящим моим произведением. Барабор вернулся незадолго до прихода Пии, которая являлась обычно в два часа. Он посмотрел на то, что я сотворил в его отсутствие, коротко подытожил:
— Хорошо. Чтобы сделать что-нибудь стоящее, тебе, оказывается, надо пройти через потрясение, — и посоветовал все бросить, а на экзамен принести мою собственную физиономию.
Пии я ничего не рассказал. Шрам объяснил неосторожным бритьем. Рубец у меня все же остался. Когда я бываю свежевыбрит, можно принять его за след от удара саблей. Со временем, когда все зарубцевалось, правый угол губы приподнялся на несколько миллиметров, и с тех пор у меня так и не получается естественная улыбка.
Пока Пия училась и мы жили в Бухаресте, я начал работать преподавателем в интернате. Более подходящей работы найти не удалось. Мне было всего двадцать два года, должно было пройти десять лет, а потом еще десять, чтобы я пришел к выводу, что человек должен во что-то верить до последнего своего дыхания. Через полгода Пия убедила меня уйти из института и устроиться в техническое училище. Одним из главных достоинств Пии была уверенность в том, что жизнь состоит из отдельных периодов и преодолевать их следует постепенно, шаг за шагом. Когда Пия получила диплом преподавателя немецкого языка, я поступил в строительный трест Бухареста. «Теперь мы можем пожениться, — решила Пня. — Зарабатываем достаточно». Во время бракосочетания у нас не было свидетелей: все уехали в отпуск. Барабор прислал из Трансильвании телеграмму, ее подписал также и Зербес. В качестве свидетелей выступили два старика, с которыми мы случайно познакомились. «Дурной знак!» — подумал я, сжимая в руке гладиолусы.
Несколько месяцев я трудился в строительном тресте столицы. Потом меня направили на стройку в Молдову, а оттуда в горы, на другую стройку. С тех нор мы в Бухарест больше не возвращались. Началось наше долгое скитание по стране. Пия ушла из школы. Она набрала частных учеников, преподавала на стройках, где я работал. Инженеры и техники брали у нее уроки, и мы сводили концы с концами. Зарабатывала она больше меня. Я обучился новому ремеслу, и оно начало мне нравиться. Я сидел у чертежной доски, двигал линейку вниз и вверх, пользовался циркулем и угольником, высчитывая углы, и, когда у меня расчеты сходились, вдруг обнаруживал, что насвистываю от радости.
«В черчении, — говорил я себе, — все четко. Знаешь, Леонардо, пусть попробует кто-нибудь доказать мне, что треугольник — это квадрат, или что четыре равные стороны не образуют квадрата, или что квадрат гипотенузы не равен сумме квадратов катетов…» О флорентинец, чьи кости покоятся вместе с королевскими останками в развалившейся часовне… Твои чертежи, твои помыслы и стремления теснят друг друга. Порой они остаются незавершенными, порой возносят тебя ввысь… Но ты пускаешься в погоню за новыми открытиями, твой дух мечется в поисках истины. Так ищет племя кочевников недосягаемую землю обетованную. У этого племени нет своей земли, как и у неутомимых геометров, связанных между собой не кровным родством, а общими радостями, горестями и надеждами. …Мы были первопроходцами и изгнанниками, спутниками в пути. И поскольку своей земли у нас не было, а чужая нас не устраивала, нам пришлось искать ее, глубоко погружаясь в свой внутренний мир.
ЛЕТА
Прошло семь лет, и после долгих странствий мы наконец застряли в М. Я считал, что достиг той степени мудрости, когда без волнения можно оглядываться назад, в то время как жизнь течет себе дальше. Но в этом своем течении жизнь готовила мне очередную плотину, которую предстояло преодолеть.
В тог день я находился в бараке административного корпуса. Было двенадцать, время обеда, и мы слушали пение полевого жаворонка. Именно с жаворонка все и началось. Кто-то из наших слышал эту птицу в городе, в мясной лавке, и мы все бросились туда на нее посмотреть.
Над кафельным прилавком между мясными тушами висела клетка, а в клетке громко пела птица, словно репродуктор, включенный на полную громкость. Ученик мясника, рубивший на деревянной колоде мясо, рассказывал, будто осенью жаворонки сотнями пересекали Дунай, направляясь к нам в Добруджу, потому что в Яломице, откуда они летели, развелось много коршунов.
— Весь день заливается, без перерыва, и главное, что ни дашь — все склюет, — нахваливал он птицу.
Несколько минут мы внимательно слушали. Так импресарио слушает артиста, с которым собирается заключить контракт. Мне казалось, что жаворонок способен выводить свои трели только на воле; эта же чудо-птица радостно щебетала в клетке, будто под открытым небом. Она выпевала свои рулады со рвением начинающей певицы из художественной самодеятельности. Просовывала клюв между железными прутьями клетки и страстно приникала к ним своей серой грудкой, раздувшейся от усердия. Кончилось тем, что я ее купил за 60 лей без клетки. Клетку я смастерил из поломанной чертежной доски и пристроил ее на полку, предназначенную для громкоговорителя. Главный инженер не выразил недовольства. В конце концов, если нам полагается радиоточка, почему же не выбрать ту, которая нас больше устраивает.
— Последние известия она тоже читает, — усмехнулся инженер, когда весть о нашей птице разнеслась по всей стройке.
— Читает, но не каждому дано понять их смысл, — отпарировал наш руководитель, неглупый парень, который за словом в карман не лез.
Я жевал свой бутерброд, стараясь не заляпать жиром кальку, над которой работал: «Чертеж № 1. Западная стена крытого механического цеха». После долгих майских дождей светило июньское солнышко. Жаворонок выводил оглушительные трели, когда в дверь постучали.
Никто никогда не стучал в дощатую дверь нашего барака, у нее даже ручки не было, один только крючок.
— Кто там? — спросил сотрудник, откопавший нашего жаворонка. Никакого ответа не последовало. Жаворонок заливался изо всех сил.
— Кто там? — повторил свой вопрос сотрудник пронзительным, как у привратника, голосом.
— Женщина, — последовал ответ. Она так и сказала — женщина, так говорят только деревенские.
— Женщина! — воскликнули мы. И тогда один из нас веско заметил:
— Женщина-то женщина. Но какая?
Все происходило словно у райских врат: вошла Титания. Она огляделась, зачарованная птичьим щебетанием, которое наполняло барак.
— Что это за птица? — спросила она, округлив глаза.
Насколько я помню, это были ее первые слова. Я встал, положил бутерброд прямо на кальку, испортив всю западную стенку цеха. И, желая пустить пыль в глаза, произнес на одном дыхании:
…Это были жаворонка клики, Глашатая зари. Ее лучи…и так далее, не останавливаясь, пока не выпалил:
…Мне надо удалиться, чтобы жить, Или остаться и проститься с жизнью…[4]— Браво, — воскликнула она, когда я закончил. — Браво! Что вы здесь делаете? А! Понимаю, вы бригада артистов?
Она проговорила это с легким иностранным акцентом. Потом подошла к клетке и остановилась — пятки вместе, носки врозь, как балерина. Сумку она держала обеими руками. Тогда-то я разглядел монограмму Л. и Х. Когда же она представилась всем по очереди, я узнал ее имя. Оно показалось мне похожим на имя артистки варьете или известной шпионки. Лета Хомиски. Лета… Лета — повторял я про себя. Что значит это слово? И вспомнил — это название реки, которую, как только пересечешь, все на свете забудешь.
Бархатное пальто пронзительно-синего, почти кобальтового цвета, отделанное лисой, и с таким же воротником мало подходило для этого времени года. Май, правда, был прохладным, но с первых же дней июня установилась теплая погода. Пальто, отороченное мехом, производило странное впечатление. Казалось, человек прилетел с крайнего севера на юг, а переодеться не успел. Зимняя одежда на пороге лета выглядит старой и обтрепанной. Оказывается, она ошиблась дверью, и мы всей гурьбой отправились ее провожать к главному инженеру. Толкаясь за ее спиной, мы отпихивали друг друга, наперегонки старались указать ей путь. У нее были крепкие ноги с хорошо очерченными икрами, обтянутые тонкими чулками со швом и высокой темной пяткой. Она горделиво постукивала каблучками, распространяя вокруг резкий запах духов, который в бараке я не ощутил. Пия иногда душилась лавандой с ее целомудренным чистым запахом, запахом субботнего вечера после традиционной еженедельной ванны. Не помню, чтобы когда-нибудь она пользовалась другими духами.
В этот день я вернулся в город со стройки трехчасовым автобусом. Домой меня не тянуло, я решил зайти в местное заведение с громким названием «Ресторан» и выпить пива. Осенью и зимой, когда вся зелень с деревьев облетала, город М. представлял унылое зрелище. Я привык к лесам и перелескам Карпат, и здешний пейзаж мне не нравился. И все же я предпочитал осень и зиму. Дожди и снег смывали грязь и едкую цементную пыль, летящую с местного завода. Летом люди задыхались от пыли. Но гораздо больше, чем пыль, жителей города донимали мухи. Такого количества мух я больше нигде не встречал. Я ненавидел лето, которое пробуждало к жизни полчища этих насекомых. Пия, с ее чистоплотностью, страдала больше меня. Все разговоры вертелись вокруг мух. Летом городок наполнялся их жужжанием. Местные жители изобрели даже своеобразную тактику борьбы с мухами. Я тоже взял ее на вооружение. В ресторане ты заказываешь пятьдесят граммов раскрошенной брынзы и ставишь на край стола. Мухи набрасываются на брынзу, а тебя оставляют в покое. Я пытался ввести эту тактику и в домашний обиход, но Пия устроила скандал, заявив, что это негигиенично. Расположившись за столиком в глубине ресторана, я потягивал пиво и наблюдал за мухами, жадно и настороженно пожиравшими мою брынзу. Я любил посидеть в полупустом ресторане наедине с кружкой пива или стаканом вина. Волна легкого опьянения подхватывает тебя и приятно покачивает, а в голове вспыхивают и гаснут разные дерзкие мысли. По местному радио передавали последние известия. Читал их знакомый монотонно-торжественный баритон. Голос этот, оповещающий нас о последних событиях, я слышу уже десять лет. Известия кончились, последовало сообщение об уровне воды в Дунае, и, чтобы немного развлечься, я направился к музыкальному ящику, стоявшему в углу. Для М. это была новинка. Поначалу люди толпились вокруг автомата, глазели, как он ставит новую пластинку, а отыгранную возвращает на место в стопку других, подобных, терпеливо ожидающих своей очереди. Я стал читать названия пластинок. Это были преимущественно вальсы и танго. Я подумал с раздражением: обитатели М. живут в замедленных ритмах. Самое длинное название едва умещалось на табличке из плексигласа. Я достал из кармана лупу, с которой никогда не расставался, и прочел: «Дай мне свободу и позволь снова полюбить тебя». Такого я еще не слышал. Я попытался представить, как можно пропеть этакую фразу. Нажав на кнопку, я вернулся на место и прослушал пластинку от начала до конца. Понять было ничего невозможно, кроме рефрена, состоящего из этих самых слов; женский голос сначала отчаянно страдал, а под конец замирал, умоляя.
Я собрался уходить. С уровнем воды в Дунае было покончено, и радио перешло к прогнозу погоды, посулив «переменную облачность».
— Поставить другую пластинку? — предложил официант, показывая жетон. Допивая пиво, я мотнул головой. И тут в дверях появилась она, освещенная летним солнцем. Я смотрел на нее поверх пивной кружки. От моего столика до двери было значительное расстояние, и я видел лишь ее силуэт, но узнал ее по осанке. Я поставил кружку и поспешно вскочил, как тогда, в бараке.
Между пустых столиков она пробиралась к вешалке, освещенной солнцем. Я впервые видел женщину с такой прямой, такой вертикальной осанкой и потому тут же подумал: «А как будет выглядеть она в горизонтальном положении?» Мне вдруг показалось, что с момента ее появления в полупустом зале все вокруг как-то уменьшилось в размерах. Объяснить я себе этого не мог, мелькали какие-то обрывки мыслей о перспективе в пустом пространстве. Она повесила манто, и, пока стояла в солнечных лучах, я успел разглядеть ее строгое зеленое шерстяное платье, перетянутое в талии пояском с золотой кистью. Тремя золотыми полосками был отделан подол, и мне показалось это лишним. Она что-то заказала, и, когда ей принесли, случилось то, что и должно было случиться. Ярко освещенные солнечными лучами полчища мух, летающих под потолком, набросились на свежее блюдо. Она беспомощно замахала руками и прижалась к спинке стула.
У меня появился вполне благовидный предлог. Я подошел к ее столу, обогнув его таким образом, чтобы оказаться к ней лицом, лучи солнца били мне в спину. Я не очень ловко представился еще раз, считая, что она не обязана была помнить, кто я такой.
— Мы знакомы. Ведь вы — Ро́мео, разве не так? — С легким иностранным акцентом она поставила ударение на первое «о». Потом протянула мне руку быстрым дружеским жестом, от которого я растерялся и не решился ее поцеловать. Ладонь была немного влажной, взгляд — насмешливый, а в словах, которыми она меня приветствовала, звучала ирония. У нее были зеленые с желтым отливом глаза, как у кошки, греющейся на солнце, цвет их напоминал цвет зрелого винограда.
Я улыбнулся. Я мог чувствовать себя вполне польщенным: меня узнали. Садясь, я заметил, что в рыбной чорбе, к которой она не притронулась, боролось за жизнь по меньшей мере пять мух.
— У нас в М., — произнес я по возможности убедительнее — нет другого способа избавиться от мух, кроме брынзы. Я подозвал официанта, и он принес традиционное жертвоприношение: пятьдесят грамм раскрошенной брынзы — мухи тут же переменили направление атаки.
— Это самый несимпатичный городок в мире, — продолжал я таким тоном, словно давал городу самую высокую оценку.
— Почему же? — возразила она. — Я нахожу его очаровательным. В нем так много ослов. — И она отодвинула от себя тарелку с чорбой.
Я рассмеялся.
— Над чем это ты?
Она сразу перешла на «ты», меня это почему-то не удивило.
— Над ослами, — ответил я.
— Мне нравятся ослы. Ослы и тигры…
— Хотел бы я денек побыть в шкуре тигра.
— Тигры любят ночь. А ты по ночам наверняка спишь.
Это уже был вызов.
— Отчего же, бывает, что и не сплю, а караулю добычу. — Обхватив руками голову, я повернул ее сначала в одну, потом в другую сторону, словно радарную установку.
— Ты ужасно смешной. — Она хохотала, откинув голову назад, ты сделал сейчас точь-в-точь как осел.
Я взглянул на ее ярко накрашенные ногти, будто обагренные кровью. «Шлюха она, должно быть, первостатейная. Ну и влип же ты, братец!» В те несколько секунд, пока она смеялась, я заметил, что у нее нет одного коренного зуба, а передние располагаются неровно и чуть приподнимают верхнюю губу. Это придавало ее лицу капризное выражение. Но ничего неприятного в этом я не увидел. А вот ее манера смеяться мне не понравилась. Смех застывал гримасой в уголках губ. Этот маленький дефект (так я объясню его себе позже) сохранился как рефлекс приветственной улыбки, посылаемой зрителю с арены. Она ничего не ела. Вино было кислым, пиво несвежим, и я заказал минеральную воду.
— Хе́бе! — сказал я кельнеру. Я выбрал «Хебе», потому что это красиво звучало. И взглянул украдкой на часы. Было без двадцати четыре. Я опаздывал.
— В это время всегда наступает тишина, — сказал я.
— Должно быть, пролетает ангел…
— Хлоп-хлоп — пролетает, и надо успеть его услышать, потому что снова начнется гвалт. Мы живем в невероятном грохоте, — пустился я в рассуждения, — Вселенная образовалась в результате чудовищного взрыва, вот уж когда грохотало, так грохотало, а сейчас остались только отголоски того грохота.
От шума я перешел к тишине, которая наступает в эфире, когда прекращают вести передачи все береговые радиостанции. Каждый час без четверти — три минуты тишины, чтобы можно было услышать даже еле слышный зов о помощи. Я рассказывал и сам вдохновлялся, будто разворачивал нить известной увлекательной приключенческой серии «Подводная лодка Докса».
— Интересно! У меня есть знакомый капитан дальнего плавания, но он мне никогда ничего подобного не рассказывал, — произнесла она. Тогда-то я впервые услышал о капитане.
Щелкнув застежкой, она раскрыла сумочку и быстро извлекла оттуда пачку печенья, серебряную пудреницу, помаду в форме пистолетного патрона, коробочку с тушью для ресниц, флакончик духов, заткнутый стеклянной пробкой с шелковой ленточкой, и начатую пачку «Честерфилда». Розовой пуховкой обмахнула круглые, гладкие, словно фарфоровые, щеки. Над выпуклым лбом, который принято считать свидетельством незаурядного ума, волною поднимались отросшие после окраски более темные пепельные волосы. Маленький, слегка вздернутый нос все же нельзя было назвать курносым, а чуть приподнятые крылья ноздрей, как у девушек с журнальных обложек, рекламировавших тонкое белье, производили на меня впечатление. Я успел детально все разглядеть, а когда она принялась красить ресницы, широко раскрыв глаза, я понял, почему их цвет напомнил мне цвет спелого винограда. Однажды я уснул в винограднике, а когда проснулся, увидел тяжелую гроздь, висевшую прямо над головой. Зрачки Леты напомнили мне цвет зеленых с желтым отливом виноградин.
Наконец принесли бутылку «Хебе». Пузырьки минеральной воды с шипением лопались в стакане. Открыв флакончик духов, она провела пробкой по вискам. Запах был тот самый, что я почувствовал в коридоре барака. Через два месяца августовским воскресным вечером я припомню и этот запах, и обед в ресторане с мухами.
…Мы лежали на пляже одни среди дюн в пяти километрах от города М. Запах духов смыло море, остался только запах соленой кожи и венка из полевых цветов, который я сплел днем, когда мы бродили по полю со стогами сена, с ароматами полыни, мяты, базилика. День выдался замечательный. Песок совсем остыл и при малейшем движении шуршал, скатывался по склону дюны, у подножия которой мы расположились. Лета пугалась ящериц и прижималась ко мне, тогда венок колол меня, и я чувствовал запах ее волос, обожженных солнцем. Мы ждали, когда взойдет луна, чтобы бросить в воду венок, это было ее желание. Луна вот-вот должна была появиться, последний поезд в М. отходил в полночь.
— Не поеду я больше в М., — произнес я в темноте.
И тут же почувствовал, как венок из засохших цветов больно кольнул мне лицо…
— Когда-нибудь тебе придется остаться. — Мы всегда обходили эту тему молчанием. В темноте я услышал шорох венка, сухие веточки впились мне в лоб.
— Мужчина всегда бежит, — прошептала она. — Ты из тех, кто болеет за команду противника.
— Мне надоело быть благоразумным, — бормотал я.
— Мужчина создан, чтобы убегать. Он всегда убегает…
Луна не появлялась. Она опаздывала, поэтому мы поднялись, разделись в дюнах и молча подошли к берегу. Я снял с ее головы венок полевых цветов, чтобы бросить в воду. Пока я стоял, закрыв глаза, с венком в руке, вода омывала мне ноги. Море было теплым. Я открыл глаза — кругом простиралось черное пространство, только слева ритмично мигал маяк, расположенный в М. «Судьба, — подумал я, — это сплошное отрицание, она упрямо твердит свое «нет» и «нет». Я вошел в теплую воду и поплыл; я плыл, пока прибрежная полоса не слилась с морем. Вдалеке тысячами огней искрился город. Мы лежали на спине и видели лишь звезды, о которых ничего нового вроде и не скажешь. Я хотел выразить эту свою мысль, но не успел.
— Звезды — это очень дерзкие мужчины.
Это было что-то новое.
— Почему? — спросил я.
— Их много, и они подмигивают.
— Но и женщин тоже много.
— Вроде бы много, но на самом деле это одна и та же женщина. И они не подмигивают, как мужчины. Сравнивать звезды с женщинами — большая ошибка.
Я перевернулся и, перебирая в воде ногами, занял вертикальное положение.
— Итак, — заявил я, ревнуя ее к звездам, — сколько у тебя было мужчин?
Вяло вскидывая руки, она проплыла на спине вокруг меня.
— Если пересчитать все звезды… нескольких будет недоставать…
— Дались тебе эти звезды, — разозлился я.
Резко перевернувшись, она приняла ту же позу, что и я. Мы стояли в воде друг против друга. Мокрые волосы облегали ее голову и плечи, в темноте она чем-то напоминала мне моржа. Я перебирал под водой ногами, словно крутил педали велосипеда.
— Сколько? Можешь сосчитать?
— А тебе непременно надо знать?
— Я понимаю, это глупо, — пыхтел я, — но я должен знать. Дальше будет труднее.
— Дальше? — Она рассмеялась.
— Смеешься! — крикнул я.
— Вовсе нет.
— Тогда говори!
— Тридцать три, — ответила она, выдохнув струю соленой воды.
— Тридцать три! — вскричал я.
Я забыл, что надо двигать ногами, и пошел ко дну, а когда вынырнул, то услышал:
— Тридцать два плюс один, 33.
— Тридцать три — это много, — сказал я, колотя по воде ногами. — Мне придется задушить тебя.
— Прямо в море? Хотела бы я посмотреть, как это у тебя получится…
— Тогда сам утоплюсь. — Я поплыл в открытое море, ритмично чередуя вдох и выдох, словно готовясь к плаванию на длинную дистанцию.
— Нет, уж лучше задуши меня. — Она плыла за мной, с трудом рассекая воду.
Я повернулся и поплыл туда, откуда доносилось ее дыхание. Нырнув под воду, я обнял ее. И, так обнявшись, мы замерли на какое-то время.
— Сейчас я заплачу, — проскулил я.
Она укусила меня за ухо.
— Не стоит, море и без того соленое.
Всерьез меня никто не воспринимал.
Я вытолкнул ее и поплыл к берегу.
— Хочешь не хочешь, а звезды — это мужчины, — крикнула она мне вслед. Маяк вдруг вспыхнул на этот раз справа, оставляя в небе полосу яркого света.
…Вещи исчезли в сумочке, захлопнувшейся с сухим треском. Я пошарил в карманах, вытащил пачку «Мэрэшешть» и спички. Выражение лица у меня, видимо, было отсутствующим, потому что она спросила:
— Где ты был?
— Я уже вернулся, — пошутил я.
Она протянула мне пачку «Честерфилда». Но я предпочитаю курить самые простые сигареты и, чиркнув спичкой, сначала дал прикурить ей, а потом, обжигая пальцы, запалил свой «Мэрэшешть». Я сидел как на иголках: было начало пятого. Грыз печенье, запивал минералкой.
Вряд ли у нее был какой-нибудь шанс устроиться к нам на стройку. Служащих там и без нее хватало, а никакой специальности у нее не было. Она рассказала, что была акробаткой, и назвала свой цирковой псевдоним. Я от удивления вытаращил глаза. Вот, оказывается, с кем свела меня судьба. Я ударился в воспоминания и признался ей, что с детства бредил цирком, в одиннадцать лет влюбился в девочку, которая, изогнувшись в мостике, поднимала с земли платок. Цирк выступал у нас целое лето, и каждый вечер я приходил смотреть на нее. Какое меня охватывало волнение, когда девочка, запрокинув голову, с лицом, пунцовым от напряжения, медленно наклонялась к арене, где миниатюрной пирамидой возвышался накрахмаленный платок. Как я боялся, что она переломится пополам. И, когда она наконец, схватив платок зубами, замирала в этой позе — шиворот-навыворот, выпучив глаза, — мне казалось, что она смотрит именно на меня. Я оживился и подумал, что знакомство наше состоялось только сейчас. Я рассказал ей еще одну историю, случившуюся тем же летом. Над ней потешался весь наш городок. Три месяца подряд цирк давал представления, раскинув свой шатер на общественном пастбище. Постепенно он стал терять зрителей, и тогда дирекция цирка развесила афиши, оповещавшие о том, что известный клоун Флакс, которого мы каждое утро видели с корзинкой на местном рынке, закопает себя посреди арены и пробудет под землей целый час. В этот сенсационный вечер цирк снова ломился от зрителей. Несколько дотошных торговцев, представившись «делегацией от публики», потребовали показать им «установку» — не зарыт ли под землей шланг, по которому может поступать воздух, и не окажутся ли почтенные зрители обманутыми. Что-то вроде этого они там обнаружили и немедленно перерезали всякую связь с внешним миром. Полуживой от страха, Флакс, чтобы спасти спектакль, все же закопал себя. Выдержал он не больше трех минут, подав сигнал тревоги. Лежа в яме, он сжимал в руках веревку, другой конец которой держал директор цирка. Выбрался он оттуда с серым лицом и, даже не отдышавшись, стал поносить торговцев, окрестив их фомами неверующими. Затем, отряхнув с себя землю, скрылся за тяжелыми, отделанными бахромой занавесями.
Я провожал Лету окольными путями к вокзалу: мне стало ясно, что вот теперь-то мы по-настоящему познакомились. Поезд в К. уходил в пять. Мы брели узкой мощеной улочкой между акациями с побеленными стволами. Июньское и без того не слишком голубое небо было затянуто серой дымкой, предвещающей зной.
С противоположной стороны улицы по каменной мостовой нам навстречу с грохотом катилась водовозная бочка. Рядом брел человек в шароварах, понукая впряженного в телегу осла. Вода сильной струей выплескивалась из плохо закрытой бочки. Складывалось впечатление, что назначение бочки разбрызгивать воду, а не хранить ее. И до сих пор мне часто снится мощеная улочка, и водовозная бочка, и осел, и человек в шароварах. Итак, по мостовой с грохотом катилась бочка. Лета вдруг сорвалась с места и перекрыла ей дорогу. Осел остановился, опустив голову, как делают все ослы на свете. Она крепко поцеловала его и также стремительно вернулась обратно. Мне показалось, что она чуть прихрамывает. «Это из-за камней», — подумал и тогда.
— Да ты просто Титания! — воскликнул я, снова вспомнив Шекспира. — Титания и только.
Я подошел к ослу, взял его за уши, как только что сделала она, и, наклонившись, увидел на лбу животного, в центре белого пятна, четкий рисунок губ — след яркой помады.
* * *
Было восемь утра, ждать оставалось еще пять часов. Спустившись со ступенек Морского банка, я отправился бродить по городу. Стояло прохладное майское утро. Солнечные лучи тщетно пытались пробиться сквозь тяжелую сырость густых весенних облаков. По пустынным улицам лениво разгуливал ветер, пахло цветущей сиренью и рыбой — должно быть, ветер был южным, он всегда гонит из Дарданелл косяки ставриды и луфаря.
Располагая кучей свободного времени — целых пять часов, я впервые за десять месяцев с начала моих еженедельных визитов в К. получил возможность поразмышлять над своей авантюрой: сверхурочными заработками, которые я регулярно выплачивал Пии. Более наивного объяснения воскресных поездок я изобрести не сумел. Зато выдать себя с головой мог в любую минуту. Понимая это, я тем не менее не утруждал себя поисками более благовидного предлога. Убедительности ради я даже назначил себе день получки в М. — в четверг вечером я приносил домой зарплату. Эту сумму я выкраивал из квартальной премии, подсчитывая все с точностью до десятых, так что со временем и сам стал верить в доходы, которые себе выплачивал. Это было отвратительно. «Дорогая, вот весь мой приработок, — лгал я, — они не очень-то щедры». Вместе с деньгами я распределял происшествия. Я не сразу выкладывал все недельные события и слухи, кое-что приберегал на последний, воскресный день, так как сам ничего не мог придумать. Воскресными вечерами, возвращаясь домой, я сразу же заваливался спать, отказываясь даже от ужина.
— И когда только кончатся твои сверхурочные, — возмущалась Пия, пока я раздевался. — На кого ты стал похож — кожа да кости!
— А черт его знает, — бормотал я. Потом зарывался в одеяло и притворялся спящим.
На улице пахло жареными пончиками. Неожиданно для себя я оказался на летней ярмарке, которую устраивал местный горсовет. Крутилось колесо фортуны, взлетали кабины на цепях, тир ждал клиентов, торговали пончиками. В этот ранний час я был, вероятно, первым посетителем. Кинув монетку в автомат, я выиграл стеклянную кружку, которую там же и оставил. Купив пончик, отправился дальше. Пончик обжигал пальцы, и я ждал, пока он остынет.
Непредвиденные обстоятельства выбили меня из колеи, и я бесцельно бродил по улицам. Я представлял себя то безработным бродягой, то человеком, недавно подавшим в отставку. Два противоположных чувства соседствовали рядом: безнадежность отчаяния и радость освобождения, которого раньше я не испытывал. Нежданная свобода пугает и манит, как некая рискованная авантюра. Не преследуя в жизни никакой цели, ни за чем не гонясь, можно глядеть на мир независимо, чуть свысока, а только так, наверно, и следует к нему относиться.
С аппетитом уплетая поджаренный, густо посыпанный сахарной пудрой пончик, я почему-то вдруг вспомнил, как на лекции много лет назад кто-то задал вопрос: «А что вы можете сказать относительно воскресений в будущем?» Лектор ответил: «Вся неделя будет состоять из одних воскресений». — «А когда же работать?» — последовал вопрос. Действительно! Я даже перестал жевать, так ясно увидел перед собой педагога: он разглядывал нас как каких-то первоклассников, которым все надо разжевать и в рот положить, «А авто-ма-ти-за-ция? » — произнес он по слогам. Я снова принялся за пончик. В памяти прозвучали слова: «Государство об этом подумает».
Я взглянул на часы — не прошло и получаса.
Пожалуй, стоит посмотреть какой-нибудь фильм. Лета за границей видела много отличных фильмов. Каждое воскресенье она пересказывала мне содержание одного из них, после чего фильмы, которые показывали в нашем городке, не производили на меня впечатления. Я чуть было не стал пересказывать один из фильмов Пии, но вовремя одумался: Пия не выносила, если я ходил в кино без нее. Она наверняка спросила бы меня: «Когда ты успел посмотреть этот фильм? (Точно так же она потребовала бы объяснить, откуда взялась на мне пушинка, если бы она ее обнаружила.)
Неожиданно хмурое небо дало трещину, облака стремительно разошлись, и ярко заблестело летнее солнце.
Я совсем забыл про порт. Вот где кипела жизнь, вот где было на что поглазеть! Я вернулся обратно, снова прошел мимо тира, купил еще один пончик и спустился к порту.
У причала возвышался белый пассажирский пароход, на палубе его толпились светловолосые девушки в белых халатах. Давно я не видел здоровых, упитанных женщин — истинных немок! Моряк, тоже блондин, устроился наверху, на мачте, прикрыв колени клетчатым пледом. Он распоряжался судовым краном, поднимающим с причала ящики, молочные бидоны, корзины с овощами и фруктами. К корме корабля был привязан видавший виды баркас, дно его было выстлано толем. Походил он на тапок, потерявший пару и выброшенный на свалку. Время от времени баркас стукался о причал, к которому были приколочены для амортизации старые автомобильные шины, они отсылали баркас назад.
Люди таращили глаза на немок и слушали, как диспетчер, сидящая в пятке баркаса-тапка, разговаривает по полевому телефону, черный кабель которого спускался в воду. Диспетчер — молодая цыганка с широкими бедрами — была в мужских сандалиях на босу ногу. На смуглой шее цыганки красовался потемневший от времени рубец. Ее выцветшее ситцевое платье напоминало старый негатив, на котором яркие когда-то цветы выглядели теперь блеклыми пятнами. Платье облегало ее, словно шелковое, и было видно, что оно надето прямо на голое тело. С какого-то буксира при швартовке в воду свалились трубы. И водолаз поднимал их со дна одну за другой. Он обвязывал трубу цепью, подталкивал вверх, и тогда лебедка поднимала ее на борт. Иногда на поверхности мелькал его красный помятый шлем и снова с клокотанием уходил под воду. Два дюжих мужика качали помпу на баркасе, но, когда появлялась очередная труба, бросали это дело, ловко подхватывали ее и скатывали на причал. Из пяти труб, свалившихся в воду, осталось поднять еще две. Болтливый помощник крановщика в свой выходной день не нашел лучшего занятия, нежели давать пояснения зрителям. Он здоровался со знакомыми и незнакомыми, протянул руку и мне. Я почувствовал, что у него нет пальца. Одновременно он переговаривался с моряком в клетчатом пледе, сидящим на мачте.
— А какой марки скафандр у водолаза? — задал вопрос рыжий толстяк с портфелем.
— Английский, — пояснил помощник крановщика. — Если хотите знать, то лучшие водолазные костюмы — это английские. Коко — он показал пальцем вниз на дно, — носит костюм «made in London».
— Значит, — подхватил толстяк с портфелем, — мы даже скафандры импортируем…
— Сомневаюсь, — отпарировал помощник крановщика. — Скафандр у Коко старый, ношеный. Его подарил норвежский моряк.
— А что, у нас и с Норвегией установлены связи?
— Конечно. Со всем миром! Коко выпил с норвежцем, и тот подарил ему на память то, чем зарабатывает себе на хлеб.
— А что дал ему взамен наш водолаз? — не унимался толстяк.
— Коко? Ничего. Он напился в стельку. Это наш лучший водолаз. Есть еще два, Коцофанэ в Калафате и Брынзилэ в Джурджиу. Но оба они ни в какое сравнение с Коко не идут.
— Вот уж не поверю, что норвежец отдал скафандр задаром, — настаивал толстяк с портфелем. — Будто это пиджак какой? Не говоря уж о том, что водолазный костюм наверняка имеет инвентарный номер, зарегистрированный в судовом журнале.
— Инвентарный номер! — фыркнул помощник. — Да в Норвегии заходи в любую лавчонку, покупай себе водолазный костюм и расхаживай в нем по улицам, никто тебе слова не скажет!
Толстяк расхохотался:
— Как это расхаживай в скафандре по улицам. Зачем?
— Ну это просто так, для примера…
— А сколько он может высидеть под водой? — влезла в разговор бойкая нянька с ребенком лет четырех.
Грязная вода с расплывшимися на ней масляными пятнами неожиданно забурлила. Все уставились на покрытую илом трубу, появившуюся на поверхности.
— Браво, Коко! Теперь осталась всего одна, — прошелестела в трубку диспетчер. На набережной докер обтрепанным веником очищал трубу от ила. Мальчик вырывался из рук няньки, чтобы подойти поближе.
— Ты будешь слушаться! — крикнула нянька, крепче сжимая руку ребенка. — Слу-шать-ся!
Вода снова успокоилась. Водолаз бродил по дну.
— Поворачивайся живее, Коко, — лениво мурлыкала цыганка в телефон. — Как ты себя чувствуешь? Тебе не холодно?
Выслушав ответ, она захихикала. Видимо, водолаз сказал ей какую-то сальность. Она повернулась к тем двум, у помпы на баркасе-тапочке. Они заработали в быстром темпе, как гребцы на галере, накачивая теплый воздух в красный резиновый шланг, который опускался в воду рядом с черным телефонным кабелем.
Немки тоже следили за происходящим, облокотившись на веревочные перила. Помощник крановщика разглагольствовал теперь о том, что в теплых морях спускают под воду сразу двух водолазов: один охраняет другого от акул, но в Черном море такой необходимости нет.
Цыганка больше не разговаривала по телефону. Она рассматривала корабль.
— А почему на нем столько женщин? — спросила она хмуро, положив руку на рычаг телефона.
— Это горничные, — ответил толстяк. Вытащив из портфеля салфетку, он громко высморкался.
— Понятно. А что, дома у них дел нету?
— Может, и есть, но погулять-то охота, имеют же они право людей посмотреть и себя показать. — Толстяк выбросил салфетку.
— Да пусть их, — милостиво разрешила цыганка, внимательно разглядывая немок. — А с чего это они белые такие, — удивлялась она, ни к кому не обращаясь, постукивая по бедрам тяжелой телефонной трубкой. — И мужики у них тоже белые. Был у меня один такой… Тоска смертная…
Чернявый парнишка в рубашке навыпуск пробивался сквозь толпу на набережной, крепко зажав в руке сигареты. Вскочив на баркас, он сильно качнул его.
— Слоняешься неизвестно где, — обругала его цыганка, схватив за чуб. Парнишка мотал головой, следуя за движением ее руки. Потом цыганка залезла к нему под рубашку и стала чесать спину, приговаривая при этом:
— Кожа у тебя, как у бабы. Ладно, хватит, катись-ка отсюда, — турнула она его. Одним махом парень преодолел полоску воды, отделяющую баркас от причала, и затерялся в толпе.
Солнце скрылось в облаках неожиданно, как и появилось. Цыганка взглянула на небо, держа в руке незажженную сигарету. Один из двух мужиков, работающих у насоса, вскочил, чиркнул несколько раз огнивом с длинным масляным фитилем и поднес красный огонек к сигарете. Потом спрятал огниво в карман, вернулся к насосу и продолжил работу.
Цыганка снова переговаривалась по телефону с водолазом, дымя прямо в трубку. Похоже, разговор не носил служебного характера. Она обводила толпу, собравшуюся на набережной, отсутствующим взглядом и чему-то улыбалась, открывая в улыбке широкие, щербатые зубы.
Последняя труба завязла в тине, и, пока водолаз ее искал, он взбаламутил воду до такой степени, что она стала похожей на кофейную гущу.
— Lisel, willst du spazieren gehen?[5] — крикнула немка с набережной.
— Nein, nein, ich muss mein Kopf waschen[6], — ответила другая, наклонившись над перилами.
— О чем это они? — спросила цыганка.
— Одна зовет другую прогуляться, а та отказывается, потому что собирается мыть голову, — быстро перевел толстяк с портфелем.
— Женщина есть женщина, — высказалась цыганка.
В этот момент на поверхности появилась последняя труба. Заскучавшие было зеваки оживились.
Помощник крановщика крикнул цыганке-диспетчеру:
— Ну, наконец-то все! Это последняя?
— Последняя, — подтвердила цыганка, следя за движениями лебедки.
Солнце снова вышло из-за облаков и запалило во всю свою весеннюю силу. На этот раз облака широко распахнулись. Свинцовая их полоса удалилась к горизонту, за море. День обещал быть погожим. Водолаз поднимался на поверхность. Я заключил сам с собой пари. «Если он молод, — загадал я, — встречусь сегодня с Летой. Если стар…» Сам того не желая, я сплутовал, но догадался об этом лишь позже. Разве мне не достаточно было видеть, как разговаривала цыганка с водолазом? Он тяжело поднимался по лесенке на баркас, вода ручьями стекала со скафандра. Когда он ступил на палубу, суденышко заходило из стороны в сторону, ударяясь о шины причала.
Двое у насоса перестали кричать и разглядывали толпу.
— Коко! — восторженно приветствовал водолаза помощник крановщика.
Водолаз ничего не слышал. Он успел лишь стащить резиновые перчатки и бросить их на палубу. Руки у него были сбиты до крови, он развел их в стороны и расставил ноги, ожидая, когда с него стащат скафандр.
Цыганка-диспетчер поставила телефон, вытащила из ящичка ключ и подошла к нему. Она разговаривала с ним, приблизив лицо к стеклу шлема. Руку она положила ему на грудь, туда, куда для балласта были привешены два груза, похожие на два свинцовых сердца, связанные веревкой. У нее сейчас было такое же выражение липа, как тогда, когда она чесала спину парнишке, притащившему сигареты.
Я сделал свою ставку и теперь ждал. Рядом с водолазом цыганка выглядела малюткой: ей приходилось вставать на цыпочки, чтобы отвернуть ключом один за другим все болты шлема. Это тянулось утомительно долго, особенно если сравнить процесс снимания шлема с тем легким жестом, каким снимают шляпу с головы. Когда наконец водолаз обеими руками поднял над головой помятый шлем, как король корону, я увидел, что волосы у него белые как снег.
— Коко! — Помощник крановщика захлебывался от переполнявших его чувств. Водолаз повернул голову к причалу и неуверенно улыбнулся. Он был хорош собой — седой как лунь, но по-юношески дерзкий и смелый, таким на роду написано оставаться всегда молодыми. Они похожи на саму жизнь, вечно юные и умудренные опытом. Я вспомнил звездное небо, каким его увидела Титания. Я вспомнил Гюнтера, каким я его себе представлял там, в комнатенке на втором этаже бывшего Морского банка и каким он мог быть сегодня, если бы Лета сумела вникнуть… Я вспомнил и Барабора: на какой глубине и по какому дну жизни бродит этот неугомонный водолаз?
Из порта я ушел. Солнце светило победно, день утвердился в своей майской ясности.
Я снова принялся бродить по улицам и почувствовал, что здорово проголодался. В молочном баре я перекусил двумя стаканами простокваши с хлебом. Потом на тихой улочке с цветущими абрикосовыми деревьями я встретил немых. Два молодых парня что-то с жаром доказывали друг другу. Пройдя еще немного, я увидел целую компанию немых, которые направлялись в ту же сторону, что и два первых. На перекрестке стоял дом, похожий на вагон. Он был увит засохшим плющом и огорожен железной решеткой. В узкие щели между прутьями были вставлены рейки, чтобы скрыть двор от посторонних взглядов. У дома-вагона собралось несколько человек, которые переговаривались жестами с кем-то по ту сторону ограды. «Сегодня не иначе как День немых — подумал я. — И впрямь, почему бы им не иметь своего дня. А меня угораздило попасть к ним как раз в этот день то ли на праздник, то ли на съезд». Я подошел к дому-вагону и увидел в его окнах девушек. Их руки мелькали, как крылья ветряной мельницы: молодые люди спешили договориться о свидании. Я свернул налево и пошел по маленькой улочке, ведущей к окраине, разглядывая по пути дома и цветущие сады. В некоторых громко стучали колонки, когда качали воду, в других сохранились старые глубокие колодцы. Я брел по тротуару, заглядывая за заборы. Хозяева выходили к воротам и провожали меня взглядом. Почти на самой окраине, за которой начиналось зеленое поле, я встретил какую-то старуху. Голова ее была закутана платком, она разговаривала сама с собой и направлялась к полуразрушенному колодцу посреди двора, старому деревенскому колодцу с деревянным срубом под навесом, желобом для воды и воротом, на который когда-то накручивалась цепь, теперь же ни цепи, ни ручки у ворота не было. Продолжая ворчать, старуха открыла маленькую дверцу в срубе забитого колодца, и оттуда выкарабкался черный, чумазый поросенок.
Еще немного, и я очутился бы в чистом поле, за чертой города. Устав от бесцельной ходьбы, я решил вернуться. Обратно я шел по одной из новых улиц, параллельной той, по которой недавно прогуливался. По дороге мне попалась церквушка. Дверь в нее была открыта, и под темными сводами трепетали язычки восковых свечей. Громко закричал ребенок. Шли крестины: младенца погружали в купель, нарекали именем. Я давно не присутствовал при обряде крещения и зашел посмотреть. Священник торопливо бормотал текст, то повышая, то понижая голос: «Изжени из него всякаго лукаваго и нечистаго, сокрытаго и гнездящегася в сердце его… Во еже ходити ему по стопам заповедей твоих…»
Давным-давно забытые слова. Я остался послушать. Девочка в кисейном розовом платьице, в белых чулочках подошла ко мне и, ни слова не говоря, приколола на грудь голубую ленточку. Новорожденный был мальчиком.
Я вышел со всеми вместе на свет. Священник трижды повторил торопливо: «Отрицаеши ли ся сатаны?» Женщина, держащая на руках ребенка, завернутого в голубенькое одеяльце, в исступлении трижды произнесла: «Отрицаюся…» Остальные гости наблюдали, как низко над городом летит санитарный самолет. Я оказался в хвосте процессии, впереди шествовали крестные родители с толстыми восковыми свечами, украшенными гирляндами из цветов сирени и абрикосового дерева. Девочка в розовом платьице показала на меня пальцем кому-то из процессии, и тот сделал мне знак присоединиться. Отказываться было неловко, до часу оставалось еще порядочно времени. Скоро мы пришли во двор. Три скрипача и один цимбалист встретили нас бодрым маршем. В тени буквой «п» стояли накрытые столы, на которых тесной цепочкой выстроились пивные бутылки, одни были закупорены, другие открыты, и я подумал, что в них должно быть вино или цуйка. Я присел к столу и в полном неведении налил себе в бокал жидкость из бутылки без пробки. Это оказалось не вино, а бражка. Я уплетал гусиную ножку и беседовал с соседями, словно был знаком с ними сто лет, и они внимательно слушали меня, как слушают видавшего виды искателя приключений, прошедшего огонь, воду и медные трубы. Приканчивая вторую бутылку, я почувствовал себя неважно, выбрался из-за стола, вытащил новенькую сотенную бумажку и положил в колыбель новонареченного, который сладко спал под шелковицей. Это была сумма, которую я должен был заплатить сам себе за «сверхурочные» этого дня. И тут меня охватил безотчетный страх. Я прокрался в глубь сада, перепрыгнул через кусты репейника и, словно переступив некую границу, бросился бежать неведомо куда, в чистое поле, в пустое пространство, без имени, без названия. Удирая, я в отчаянии оглянулся назад…
Вокруг не было ни души, в памяти всплыл вдруг Барабор, который простирал руку, как полководец на поле битвы. «Надо бы захватить с собой и немца-укротителя с его хищниками», — подумал я, словно затевал дальнюю экспедицию.
Я пересек поле, на котором уже появились первые всходы, и упал на землю… прежде чем закрыть глаза, я подумал: «Вот ты и дома…»
Проснулся я, когда солнце уже садилось… Только теперь я увидел, что лежу на склоне холма, у подножия которого дыбится море, солнце освещает волны, пеной разбивающиеся о берег. Было пять часов вечера, я проспал ровно столько, сколько я должен был ждать — от восьми до часу, — целых пять часов. Поезд уходил в 18 часов 05 минут, летнее расписание еще не вступило в силу.
Вполне хватило бы времени забежать к Лете и все объяснить ей; в крайнем случае можно было уехать и последним поездом, в полночь. Я брел по тропинке к городу, решив собрать хотя бы небольшой букет полевых цветов. Но вокруг была только трава: май не август, цветов небогато.
Я брел, осоловевший от сна. Голова трещала.
«Внимание! Стоп! Стоп!» — услышал я и остановился.
— Кто это?
«Ты же проиграл пари», — напомнил мне шелестящий голос, который стрекотом кузнечиков доносился с поля.
— Какое пари?
«Забыл?»
— Ах да, — вспомнил я.
«Ты проиграл и проигрываешь всегда, потому что знаешь заранее, что не выполнишь условия».
— Что верно, то верно, — согласился я и сорвал колосок.
«Ты просто словчил, и я это видел».
— Когда?
«Тогда».
— Ты все знаешь…
Раздалось удовлетворенное шипение.
— Что же мне делать? — Я огляделся.
«Вести честную игру».
— Кто же тогда выиграет? — заорал я.
«Тс-с-с» — (клянусь, это был кузнечик), — прошелестело издалека, словно кто-то призывал меня к молчанию.
— Вы что, были на крестинах? — спросил меня знакомый кондуктор восемнадцатичасового поезда.
— Как вы догадались?
Он ткнул компостером в мой лацкан.
Я увидел на пиджаке голубую ленточку — улику, доказывающую, что были и крестины, и кусты репейника, и граница, которую я переступил, пытаясь убежать от того, что теперь уже обрело имя или название.
Перевод с румынского Е. Азерниковой.
РАССКАЗЫ
Василе Андру ВЕЧЕРАМИ ПРИХОДИТ НЕВЕСТА
— Ждал я ее целый день, — продолжал рассказывать старик. — Думал, придет к полудню. Не таясь, средь бела дня, все равно таить нечего. Придет, как обычай велит, с платком, а я возьму платок и ей, словно госпоже, ручку поцелую. Правда, полагалось бы принести платок еще накануне. Девушка шла замуж за другого, а прежнему зазнобушке платок дарила — так повелось издавна, такой был обычай. Вот я и ждал платка на прощание. Как обычай велит. У вас, молодых, такого нет, свадьбы теперь скоро играют, расписались — и делу конец, позабылся обиход дедов-прадедов. А раньше, раньше-то, ох и долгим праздником была свадьба… Сколько уж лет с тех пор прошло? Я тогда как ты был, парень. А может, и постарше маленько… «А не придет? — томился я. — Тогда что? Самому за платком идти? Соскочу у двери с коня и мимо гостей и столов накрытых прямо к ней подойду, спрошу, что она должна была сделать, да позабыла?» Конь мой у коновязи приплясывал и так гулко стучал копытами, точно у меня в груди сердце. «Должна прийти», — смирял я себя. Год прошел, как мы с ней расстались. А то и больше… Антон был с лица недурен. Потерся среди людей, побродил по свету. Пришелся вот девушке по сердцу, что поделаешь? За девушкой последнее слово. Если б она не своей волей шла, если б парень ее принуждал, тогда было бы из-за чего шум подымать. А так-то вот, что поделаешь?
Столковались они летом, меня и в селе-то не было. Я далеко на косьбу ушел. Не остался на лето дома. Воротился, а с ней уже Антон. В одно лето все и порушилось. Из села уйдешь, а девушке ждать времени нет. Да и как прождать все ясное лето? Так попусту и промаяться? Летом за хорой хора — шесть, а то и семь их бывает за лето. Семь хор — считай, семь свадеб будет. Слова она мне не давала, ничего мы друг другу не обещали, о свадьбе и разговора не было, так что ж ей дома одной сидеть? Такое вот было дело.
И я ждал прощального платочка. То у окна сижу, то у ворот торчу — нигде нет покоя. Родные молчат. Поначалу взялись было меня успокаивать, да поняли, что напрасно. Я уверен был, что она придет. Такой ведь обычай. Не на свидание украдкой, придет открыто, честно, как обычай велит. Пройдет посреди улицы, на глазах у всего села. Дарят тебе платок — значит живи с миром, без гнева и обиды, будь гостем на свадьбе, ты сосед, односельчанин, с тобой хотят жить не ссорясь, и делить с тобой больше нечего. Платком не манили, тяжесть с сердца смахивали. Освобождали, понимаешь? Верил я, что она придет. Смотрел на пустынную улицу и видел: вот она идет, разрумянилась и еще красивей стала под белой фатой. Никого на улице не было, но я так ждал, так хотел увидеть — и видел красавицу, разнаряженную для прощания.
Изредка проходил кто-нибудь из односельчан и небось думал: «Григоре вон платочка ждет». Да не было мне до людей дела, и ни до чего мне дела не было. Может, я и смешон был, да кто на моем месте об этом думал бы! Стыдиться мне было нечего, таков обычай: прежнему зазнобушке невеста платок дарит и, словно госпожа, позволяет поцеловать себе ручку. А если сама идти не хочет, посылает из родни кого, сестру или брата…
«Отложили свадьбу, — думал я. — Она и не идет». Всякое случается. Отложили из-за дурной приметы: шли в церковь, заяц дорогу перебежал, пустые ведра встретили, курица петухом кукарекнула, ястреб над домом круг положил, сова на сарай села, собака завыла, на дворе животина какая сдохла. Случается всякое. Отложили свадьбу, а я жду и жду от нее платка понапрасну.
А тут музыка как грянет. Значит, свадьба в разгаре, все идет своим чередом. И какая музыка! Как играли! Громко, весело, на все село. Правда, мне-то казалось, играют у меня под окнами, чтобы мне досадить больнее. Много было музыки, много музыкантов — богатая, достойная свадьба. «Да-а, — повторял я, — да-а, теперь ей не так-то просто прийти сюда. Если плясать начали, куда как не просто».
И все-таки я надеялся, что она придет, мы поглядим друг на друга и поплачем вместе. Да что! Мне и одной ее слезинки хватило бы до конца дней, и я со всем примирился и жил бы потом и ее позабыв, и этот день, и терзанья свои, и муки.
Мы с ней встретимся у калитки, скажет она «прощай» хрипловато, и бросится бежать, и исчезнет в щемящем плаче скрипок.
«Почему она не идет? — мучился я. — Забыла. И то сказать, забыть — дело не хитрое! Сколько суеты да хлопот со свадьбой, и гости тут, и родня, долго ли потерять голову? Мне-то к чему себя мучить? Забыла — бог ей судья, а у меня и своих дел довольно. Спущусь-ка в погреб, выпью ведро вина, просплю три дня, и делу конец». А потом снова злость и обида меня разбирают. Не могла забыть! Как ты думаешь? Мы ведь будто помолвленные были, два года я с ней одной только и разговаривал, хору не раз вместе отплясывали, просто-запросто такое не позабудешь.
А не кажется ли тебе, что ей жених запретил? Да, так оно и есть, запретил жених. Пошатался он по белу свету, для него наши обычаи — тьфу, порядка нашего он не чтит, все ему кажется бестолковым да бессмысленным. Он ее и не пустил, точно, точно. Она сама собиралась, хотела, чтобы все честь по чести было, знала, что я жду, и село ждет, а ему и дела нет до обычаев, не пустил, да и все тут. Он к тому же ревнивый был. Страшно ему стало, что девушка в глаза мне взглянет, не уверен был в ее любви, побоялся, что потеряет, что старая любовь новым огнем вспыхнет. Это он виноват во всем, что произошло в тот вечер. Во всем, что было потом, он один виноват.
Я думал, что и она, верно, обо мне думает. Не отнесла платок — и места теперь себе не находит. Сердцем чувствовал, что невестин плач ее о девичестве — обо мне плач, о наших с ней вечерах. Она о девичьей поре причитает, а слезы обо мне текут. Скажи, причитают сейчас невесты, как бывало раньше? Ты слышал хоть раз, как невеста плачет-разливается, а музыканты ей песню наигрывают? Она плакала, и не могло быть так, чтобы обо мне и слезинки не выронила. Ты думаешь, я себя утешал? Да нет! Как мне думалось, так оно и было. На веселой их свадьбе не обошлось без меня. Может, из родни кто накануне вошел и спросил: а с Григоре как? Когда ему платок отнесешь? Прикрикнул жених, и всем за него стыдно стало.
Потом мне пришло в голову пойти туда и разогнать свадьбу. Встать на пороге и сказать, что явился я за тем, что мне полагается, измордовать жениха, убить его. Не знаю, что ты обо мне думаешь, все давно быльем поросло, сидим себе и беседуем. А тогда я музыку все время слышал, барабанный гром — тра-та-та, тра-та-та, прямо в уши, от ярости голова шла кругом, гляжу, а в глазах тьма ночная, кромешная, до ума ли тут, обезумел. Тюрьма, полиция — трын-трава! Солнце село, я один-одинешенек, ни бога на небе, ни людей на земле — только закатный уголек в зрачках багровеет. Чувствую, оторвутся сейчас ноги от земли и понесут меня куда вздумают, рука сама нож в кулаке зажмет, я не я, остановить некому. И кто знает, что получится? Но я ждал все-таки, ждал весь вечер. Верил: вечером она придет. Тебе я расскажу все… На конюшне заржал мой конь, мы с ним точно одно существо были. Он тоже обезумел к ночи, бил копытами, словно подавал сигнал, и мотал головой, будто… решился…
Старик смолк и виновато опустил глаза. Я взглянул на дом: на пороге стояла иссохшая старуха. Можно было сразу сказать, не жилец она на белом свете. Ее словно бы из того дерева сладили, из какого крест на могилу ладят.
— Опять та же сказка, — выкрикнула она. — Далась тебе эта свадьба! Проклятье на твою голову! И мне она недешево стала! Ты мой век ею укоротил! Утопиться бы тебе, а страдание твое заместо камня на шею, вот тогда бы и я вздохнула. Во мне тоже живая душа мучится! — Старуха оборотилась ко мне: — А ты чего из него жилы тянешь? Слышал, какая речь ведется, и молчал! Сук осиновый по вас плачет!
И сгинула старуха, будто привидение, — ушла в дом, и оттуда понеслось ее гневное бормотание. Сегодня старик больше слова не вымолвит. Он молчал, глядел сквозь ветви на длинную улицу, словно ждал, что вот-вот появятся на ней крылатые конники с платком от девушки, что жила-была когда-то на белом свете. Не знаю, о чем он думал, и был он будто бы и не здесь вовсе. Сумерки сгущались, и старик становился меньше, меньше, мне стало жутко: вот сейчас он исчезнет в печали воспоминаний, жалобных проклятиях старухи, в глубинах своей памяти. Сухонький, он показался мне осенним листком в ворохе оживших видений. Дунет ветер и унесет весь ворох и его с ним вместе. Гуще и гуще сумерки. Тень укрыла долину, деревья, — тень девушки, что ушла от нас, укутавшись ожиданием и туманом. Колыхался белый платок в небе, словно медленно плывущее облачко. Вечерняя мгла затенила взгляд старика, и он углубился в нее, спеша свидеться со своей возлюбленной, а она идет в кровавом закатном блеске ему навстречу, идет за тем, что ей положено. Вечерняя мгла незаметно заполняет и мои глаза. И я устремляюсь вслед за стариком навстречу ночным видениям. Тело старика тает, словно дымок, готовый лететь за платочком облака. Оно все невесомее, все прозрачнее.
Мне кажется, я могу помочь ему, и я протягиваю старику руку, но там, где он сидел, — никого. Далеко он не мог уйти. Да я и не знаю, ушел он или истаял в вечерней мгле, памяти и видениях. А откуда-то сверху, с высоты, слышу дальний шум, так похожий на топот коня, уносящего невесту на странную свадьбу…
Перевод с румынского М. Кожевниковой.
Тибор Балинт ИМПРОВИЗИРОВАННЫЙ СПЕКТАКЛЬ В ЛЕТНЕМ САДУ
© Bálint Tibor, 1979
Эту необычную историю рассказал господин Шимон, завлит театра, препроводив ее словами: «Если уж речь зашла о театре…»
— Внешне Галошфаи производил тогда впечатление человека потасканного, но актером при этом оставался великолепным, из той породы истинных артистов, у кого ни один жест, ни одно движение никогда не застывают в готовых формах рутины. Мне кажется, выпавшая на его долю судьба помогала ему сохранить душевную свежесть; парадоксальным образом его поддерживала сама жизнь, всю тяжесть которой он ощущал на собственном горбу. Если бы поручили ему ту заветную роль, которой он бредил, то, как знать, может, он до сих пор был бы жив. Одно бесспорно: это был талант под стать Артуру Шомлаи, Анталу Пагеру или Жану Габену…
Он знал наизусть десятки ролей, и, хотя ему частенько случалось просидеть ночь в кафе или за дружеской пирушкой и попасть домой, в свою убогую холостяцкую квартиру, лишь на рассвете, он никогда не опаздывал на репетиции. Получив новую роль, он тотчас пробовал ее на вкус: кончиками пальцев жадно ощупывал со всех сторон страницы, заполненные машинописным текстом, словно расстегивал блузку на трепетной груди, подносил бумажные листки к носу, втягивая в себя их запах, и сладострастно улыбался: «Сделаем из тебя конфетку!» Это была его любимая поговорка, и коллеги завидовали ему: не было случая, чтобы он отказался от какой бы то ни было, пусть самой незначительной роли, и действительно делал из нее «конфетку». Галошфаи ради друга готов был отдать последнюю рубашку, но это не спасло его от сплетен: поговаривали, будто бы он неспроста согласился стать крестным отцом новорожденного цыганенка из ближайшего к городу табора, а в молодости он будто бы до такой степени влюбился в цирковую гимнастку, что и сам не один год прослужил в бродячей труппе.
Но если такие слухи и были несколько преувеличены, то факт остается фактом: Галошфаи тянуло к разным чудачествам и странным привычкам, как мошкару на огонь. Ему нравилось рвать цветы преимущественно с клумб на городских площадях, за что его частенько препровождали в полицию; он мог средь ночи отправиться в город, потому что в доме не оказывалось спичек, чтобы зажечь сигарету. И во время своих ночных вылазок он вытворял самые невообразимые сумасбродства: к примеру, давал денег дворнику, метущему улицу, с условием, чтобы тот пропил их в ближайшей пивнушке, а сам, положив пальто на край тротуара, принимался махать метлой…
В супружеской жизни ему не везло.
Первая жена, танцовщица с провинциальных подмостков, наставила ему рога уже в медовый месяц, и тогда Галошфаи дал в газетах объявление, что за любую цену приобретет оленьи рога. Вторая законная избранница оказалась настырной придирой, отличаясь болезненной ревностью; она задалась целью обуздать этого вполне безобидного гуляку и, кроме того, принесла с собой в приданое двух девочек. Она требовала у мужа отчета в каждой минуте, проведенной вне дома, и постоянно грозила покончить с собой. Артистической натуре Галошфаи претила мелодрама, и, когда однажды его срочно вызвали домой, потому что супруга его повесилась, он не спеша закурил и отправился туда пешком.
Дома, как заранее можно было предположить, самоубийцу сразу же вынули из петли; целая и невредимая, полусидела она в постели, обложенная подушками, и осуждающе смотрела на своего погубителя. Галошфаи было пожалел ее и даже чуть не растрогался, но в тот момент, когда укоризненный взгляд супруги затуманился от неизбывной скорби над своей жалкой участью, а губы дрогнули и разжались, как формочка для вареников, он рассмеялся и опередил ее:
— Помилуй, Матильда, не устраивать же сцены в присутствии детей!
Правда, иной раз на него вдруг нападала хандра, одолевало чувство вины перед вся и всеми. Со слезами на глазах бродил тогда он по сцене и поочередно просил прощения у всех коллег, словно навеки прощался с ними, или останавливался на улице и озирался по сторонам с таким видом, что можно было подумать: этот человек едва унес ноги от какой-то непоправимой беды. И взгляд его при этом вопрошал жалобно: неужто не найдется живой души, кто снял бы с меня тяжкую ношу? После бесчисленных ролей лакеев, полицейских, приказчиков, портье, после дешевой клоунады и балаганного трюкачества он жаждал воплотить на сцене образ человека, стремящегося к чистоте и добру, дабы очистить собственную душу от винных паров и миазмов пропотевшего тела.
С некоторых пор он пребывал в уверенности, что день спасения души близок; как-то, встретив на улице, он обнял меня, поцеловал и со слезами на глазах шепнул:
— Настал мой час: я сыграю Ивана Петровича Войницкого!.. Дядю Ваню!.. Никому не лишить меня этого нрава!.. Я сумею возродиться заново, я докажу всем, что рано хоронить Галошфаи, стервятникам не удастся поживиться мертвечиной!
Я в ту пору был завлитом в Большом драматическом театре; мы готовились к постановке «Дяди Вани» — спектакля крайне ответственного. И надо же было так случиться, что именно тогда директором труппы назначили Шебештьена — человека весьма благообразной наружности и ничтожных актерских способностей. Однако спеси у него было хоть отбавляй, а кроме того, он отличался неистребимой страстью к женскому полу и без зазрения совести вымогал у молоденьких актрис милости в обмен на сезонный ангажемент.
Я до сих пор живо помню тот вечер, когда обсуждалось распределение ролей. Ясс, режиссер театра, сидел напротив директора и, еще не успев раскрыть рта, с какой-то усталой брезгливостью заранее перенял то выражение лица, какое появится у Шебештьена при обсуждении: режиссеру было отлично известно, что Шебештьен сам претендует на главную роль и к тому же терпеть не может Галошфаи.
— Ну что ж, выслушаем ваши соображения. — Директор передал слово режиссеру.
Ясс давным-давно сделал все прикидки и, не глядя в записи, начал без обиняков:
— Роль дяди Вани я поручу Галошфаи…
— В самом деле? — Шебештьен был неприятно поражен, однако постарался сделать вид, будто вырвавшаяся у него реплика была продиктована мимолетным сомнением. — Назовите, пожалуйста, других исполнителей.
И Ясс пошел перечислять: Серебряков — Лайош Червени; Елена Андреевна — Эва Мач; Соня — Амалия Аман, с ее проникновенным и мелодичным голосом; Телегин — старый Йошка Чеп и так далее… У директора были возражения лишь по поводу кандидатки на роль Сони: он втайне успел посулить эту роль одной юной дебютантке, за которой сейчас приударял, но в конце концов вынужден был уступить, понимая, что успех спектакля — равно как и сборы — под угрозой. Правда, тут же постарался взять реванш:
— Но и Галошфаи не будет играть дядю Ваню…
— Дядю Ваню будет играть он, и только он…
— Видите ли, для меня это вопрос престижа!
Ясс пытался сохранить невозмутимость:
— Пусть так, но хотя бы мотивируйте…
Директор посмотрел на него, затем перевел взгляд на окно и деликатно сплюнул табачную крошку.
— Свинья он, этот ваш Галошфаи… пьяница подзаборный…
Ясс никак не мог взять в толк, к чему он это говорит.
— Словом, он человек непорядочный, — решительно заявил Шебештьен. — А вы, дорогой коллега, так же как и я, понимаете, что на этот раз для исполнителя главной роли нам необходим человек безупречных моральных качеств. Мне не хотелось бы ставить себя в смешное положение перед публикой! — И он украдкой взглянул на часы: должно быть, опаздывал на свидание. — На роль лакея, полицейского, жандарма лучшего актера, чем Галошфаи, не сыскать. Но на роль дяди Вани!..
А между тем Галошфаи, обосновавшийся в саду ресторанчика на соседней улице, уже прознал, что директор не желает поручить ему главную роль, которую он выучил наизусть, и с досады пустился в разгул. Укрывшись за баррикадой пивных кружек, он пил ром вперемешку с пивом и чуть ли не плавал в собственном поту, как вдруг, обнаружив брешь в ресторанной шумовой завесе — внезапно смолк оркестр, и звяканье посуды как будто стало тише, — он принялся поносить кабинетного ученого, профессора в отставке Серебрякова, безошибочно воспроизводя несравненно прекрасные чеховские слова:
— «О, как я обманут! Я обожал этого профессора, этого жалкого подагрика, я работал на него как вол!.. Я гордился им и его наукой, я жил, я дышал им! Все, что он писал и изрекал, казалось мне гениальным… Боже, а теперь? Вот он в отставке, и теперь виден весь итог его жизни: после него не останется ни одной страницы труда, он совершенно неизвестен, он ничто! Мыльный пузырь! И я обманут… — вижу, — глупо обманут…»
— Значит, Галошфаи — человек непорядочный? Что вы этим хотите сказать? — обрушился Ясс на директора.
— Только то, что он подвержен слабостям, любит выпить…
— Это не помешает ему великолепно сыграть дядю Ваню…
Шебештьен нетерпеливо прервал его.
— Пьяница подзаборный, — повторил он, — откалывает номера один хлеще другого… всю труппу подводит.
— Вы слишком строги к нему.
— Выхватить метлу у дворника и сгребать в кучу лошадиный навоз на главной площади — надо же додуматься!..
— У каждого свои причуды…
— Охотно верю. — Директор опять покосился на часы. — А красть бегонии с клумбы — это, по-вашему, красиво?
— Судя по всему, он большой оригинал…
— И компанию себе нашел подходящую: записался в кумовья к бродячим цыганам!
— Поверьте мне, все это сплетни!
— А то, что жена из-за него в петлю полезла, скажете, тоже сплетня? Да актеру одного этого достаточно, чтобы дискредитировать себя.
Ясс пытался сохранить самообладание.
— Если бы вы знали, что это за особа! Форменная истеричка, она немало крови попортила Галошфаи.
— Значит, заслужил, скотина… подонок, распоследний пропойца!..
Режиссер вышел из себя.
— Прошу прощения! — Он резко поднялся. — Мне казалось, что я имею дело с культурным человеком… а теперь я вижу, что забрел по ошибке в полицию нравов… — И с этими словами направился к выходу.
— Обождите минуту! — крикнул ему вдогонку директор. — Не стоит решать наспех… Давайте обсудим и другие возможные кандидатуры…
— Какие еще кандидатуры? — выпалил в сердцах режиссер. — Уж не вам ли поручить эту роль? Может, вы на это намекаете?
— Избави бог, — упавшим голосом сказал директор, и нос на побледневшем лице у него вдруг перекосился, будто ему закатили оплеуху. — Хотя, смею вас заверить, и я сыграл бы не хуже… Впрочем, я не имею права претендовать на это… Ну, а что вы скажете о таком актере, как Сентэби?
— Сентэби! — возмущенно вскричал режиссер. — Да я вынужден показывать ему, как чесать ухо!
И он выскочил из директорского кабинета.
Роль дяди Вани сыграл другой актер, но кто именно — хоть убейте, не помню… Память не та стала, да и лет с тех пор прошло немало, и война прогреметь успела… Знаю одно: Галошфаи больше не переступил театрального порога… Днем он старался затеряться среди трактирного сброда, впрочем не переставая настороженно прислушиваться к чему-то внутри себя; его маленькие, как капли ртути, глазки не смотрели по сторонам, а словно были устремлены в глубь души: он готовился к своему ежевечернему выступлению в ресторанном саду, где мог вволю произносить монологи дяди Вани.
— «О боже мой… Мне сорок семь лет; если, положим, я проживу до шестидесяти, то мне остается еще тринадцать. Долго! Как я проживу эти тринадцать лет? Что буду делать, чем наполню их?.. Проснуться бы в ясное, тихое утро и почувствовать, что жить ты начал снова, что все прошлое забыто, рассеялось, как дым… Начать новую жизнь… Подскажи мне, как начать… с чего начать…»
Коллеги были возмущены до глубины души: все понимали, что нельзя было лишать Галошфаи этой роли; актеры намеренно обходили стороной облюбованный им ресторанчик, чтобы своим присутствием не мешать его самодеятельному выступлению. Зато в день генеральной репетиции все участники спектакля явились сюда, словно в последний момент спохватились, что без Галошфаи спектакль провалится. Актеры разместились поодаль от него, а Галошфаи поднял мокрое от слез лицо, ни на кого не глядя, вздохнул и заговорил; казалось, будто он стоит на берегу широкой русской реки, где каждое слово обретает вес, значимость и перспективу.
— «Сейчас пройдет дождь, и все в природе освежится и легко вздохнет. Одного только меня не освежит гроза. Днем и ночью, точно домовой, душит меня мысль, что жизнь моя потеряна безвозвратно. Прошлого нет, оно глупо израсходовано на пустяки, а настоящее ужасно по своей нелепости. Вот вам моя жизнь и моя любовь: куда мне их девать, что мне с ними делать? Чувство мое гибнет даром, как луч солнца, попавший в яму, и сам я гибну».
Чеп, игравший роль Телегина, уже успел после генеральной репетиции пропустить стаканчик. Чуть под хмельком, он поднялся с места — желто-румяный, как спелая груша, в помятой зеленой шляпе с широкими полями, — окинул взглядом ресторанных посетителей и насмешливо продекламировал свой текст:
— «Еду ли я по полю… гуляю ли в тенистом саду, смотрю ли на этот стол, я испытываю неизъяснимое блаженство! Погода очаровательная, птички поют, живем мы все в мире и согласии, — чего еще нам?» — Он поднял стакан с вином. — «Чувствительно вам благодарен!»
Галошфаи взволнованно встрепенулся, а узнав своих коллег, поднялся с места. Губы его искривила болезненная улыбка; сперва он обратился к Икервари, который играл доктора Астрова.
— «Дай мне чего-нибудь…» — произнес он по тексту и показал на сердце: — «Жжет здесь».
А Икервари, точно он находился на сцене, самым естественным образом отвечал ему чеховскими строками:
— «Те, которые будут жить через сто, двести лет после нас и которые будут презирать нас за то, что мы прожили свои жизни так глупо и так безвкусно, — те, быть может, найдут средство, как быть счастливыми…» — Он как следует отхлебнул из стакана и махнул Галошфаи рукой. — «С меня же довольно и того, что мне придется вскрывать тебя… Ты думаешь, это интересно?»
По улице в мгновение ока разнесся слух, что в ресторанном саду идет спектакль с лучшими актерами театра, а Галошфаи, рыдая, произносит свой текст. Через полчаса в саду не осталось ни одного свободного столика, а владелец ресторана запретил музыкантам играть, чтобы они не мешали удивительному представлению, когда актеры, сидя за столиками, обменивались репликами.
У Галошфаи из уголка рта тонкой струйкой стекало вино на несвежую белую рубашку, предусмотрительно прикрытую черным пуловером. Амалия Аман долго смотрела, как старик накачивается вином, а затем, чуть подвыпив, и сама вошла в роль; ласково кивнув старику, она укоризненно спросила:
— «А ты, дядя Ваня, опять напился… В твои годы это совсем не к лицу!»
Лицо Галошфаи приняло тупое выражение, точно он перестал чувствовать, что с ним происходит, он сидел стиснув руки.
— «Годы тут ни при чем», — сказал он. — «Когда нет на стоящей жизни, то живут миражами… Я талантлив, умен, смел… Если бы я жил нормально, то из меня мог бы выйти Шопенгауэр, Достоевский…» — Он стукнул кулаком по столу, и пивные кружки испуганно звякнули. — «Я с ума схожу… Матушка, я в отчаянии! Матушка!»
Рыдая, он упал головой на стол, и коллеги, чтобы не допустить скандала, поспешно подослали к нему Амалию Аман. Девушка схватила Галошфаи за руку и присела перед ним на корточки; ее широкая юбка распласталась на песке. Теплый, проникновенный голос ее доходил и до самых дальних столиков, когда она словами Сони страстно пыталась утешить старика:
— «Что же делать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем жить… а когда наступит наш час… мы обрадуемся и на теперешние наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой — и отдохнем. Я верую, дядя, верую горячо, страстно… Мы отдохнем!.. Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь…» — Голос ее дрогнул. — «Ты не знал в своей жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди… Мы отдохнем…» — Она поднялась и обняла старика: — «Мы отдохнем!»
Галошфаи рыдал так неутешно, что Икервари сердито крикнул музыкантам:
— Играйте же, черт вас побери!.. А то еще подумают, чего доброго, будто мы тут спектакль даем!.. Играйте, нечего попусту глаза пялить!
Хотите верьте, хотите нет, а на премьере не собралось и четвертой части той публики, что побывала на том представлении в саду. Более того, скажу вам по секрету: на театральной сцене «Дядя Ваня» провалился.
Перевод с венгерского Т. Воронкиной.
Джео Богза СМЕРТЬ ЯКОБА ОНИСИЕ
Наступило рождество, и долина Жиу оцепенела. От Лони до Лупени опять царил этот важный и печальный праздник. Над шахтерскими селениями стояла гнетущая тишина, все погрузилось в неподвижность и молчание. В двенадцать часов ночи ушел со станции последний поезд, и с тех пор не слышно было ни одного гудка. Не было обычных гудков ни в десять вечера, ни в четыре утра.
На рассвете слабый туман, стелющийся по долине, быстро рассеялся, и ее затопил какой-то особенный холодный свет. Небо и земля напоминали теперь единую ледяную глыбу, и сквозь прозрачность льда просматривались селения, как бы упавшие на дно замерзшего океана. Рождество, несмотря на свою неподвижность, словно сдвинуло долину Жиу далеко на север, превратив ее за одну ночь в полярный край.
Казалось, что все застыло окончательно и навсегда. Великая тишина ощущалась не только на слух, но и зрительно. Кто посмеет тронуть с места или разбить огромный слой льда?!
И вот тогда-то с двухсотметровой вышины рухнуло вниз человеческое тело и океан тишины пронзил страшный крик. В шахтерских поселках раскрылись двери домов, в окнах появились испуганные лица, и вся долина пришла в движение. В управлении шахтами и в кабинетах горной инспекции, в Петрошани, тревожно зазвонили телефоны.
— Господин инженер, в Дылже с канатки упал человек и разбился насмерть!
Таково было первое сообщение, переданное по телефону в это неподвижное рождественское утро в долине Жиу. Оно было настолько неожиданным и невероятным, что начальник горной инспекции смог только широко раскрыть глаза, повторяя без конца в трубку:
— Не может быть!.. Это же невозможно!
Что он считал невозможным в долине, видевшей на своем веку множество несчастий и катастроф? Инженер утверждал: никто не мог упасть в это утро из вагонетки подвесной канатной дороги, поскольку ее остановили еще вчера вечером, она не работает уже много часов.
— Но человек только что свалился, господин инженер, — упорно повторял на другом конце провода хриплый голос, сообщивший о случившемся несчастье.
Из горной инспекции позвонили на станцию подвесной дороги, в Аниноасу, потом в Петрилу, потом на жандармский пост. По всей долине звонили телефоны, и люди, собиравшиеся отдыхать весь день, услышав длинные звонки, не похожие на обычные, почувствовали, что это не к добру. Но каждый, до кого доходило сообщение о случившемся, откликался на него почти одинаковыми словами: «Не может быть!.. Это невозможно!» Главный инженер из Аниноасы, в ведении которого находилась подвесная дорога, уехал в Вулкан, его стали разыскивать по телефону и в конце концов нашли. Выслушав сообщение, он сказал то же самое, что и другие, но с еще большей уверенностью в голосе:
— Быть этого не может! Дорогу остановили еще вчера вечером.
— Но человек свалился и умер в долине Дылжи. Он только что свалился и умер, снег еще весь в крови…
Представив себе эту картину, все наконец вынуждены были признать факт, который невозможно было опровергнуть, однако сразу же возник новый вопрос, и люди стали задавать его друг другу тоже по телефону: «Как это могло случиться?»
Ответа ни у кого не было. Звонки раздавались всюду, где были установлены телефоны: в рабочих кабинетах, на квартирах, где жили инженеры, в проходных, на шахтах и на конечных станциях подвесной дороги. Все задавали один и тот же вопрос, на который никто не мог ответить. Телефонные звонки взорвали рождественскую тишину, вселяя тревогу во все сердца. Каждого, кто имел телефон, вызывали по нескольку раз из разных мест, после чего он и сам звонил куда только мог. Все это было похоже на то, как будто множество людей, заплутавшихся в лесу, перекликаются друг с другом, пытаясь выйти на дорогу. Люди, звонившие по телефону, находились, однако, в теплых домах, которые им не хотелось покидать, в то время как в заснеженных горах лежал труп. И вот все пытались узнать на расстоянии, что произошло в это тихое и неподвижное рождественское утро.
— Надо послать кого-то с носилками. Нельзя оставлять его там на ночь, тело сожрут волки, — напомнил все тот же хриплый голос, который всех разбудил, а теперь уже звучал так устало, что еле выговаривал слова.
В этот раз он раздался на спасательной станции в Петриле.
Только к десяти часам утра учитель из Аниноасы добрался наконец до рыночной площади в Петрошани, где в этот час было довольно много народа. Подойдя к толпе, учитель сказал:
— Люди добрые, в Дылже случилась беда. Я все видел своими глазами.
Ему не понадобились громкие слова, достаточно было взглянуть на него, чтобы понять всю серьезность сообщения: в расширенных глазах учителя застыл испуг, а лицо, несмотря на мороз, было мертвенно бледным. Очевидцы, находившиеся на площади и слышавшие рассказ учителя, говорили потом, что никогда еще не видели такого бледного лица на сильном морозе. В его глазах, уверяли они, стыла замерзшая, белая как привидение смерть.
Учитель из Аниноасы был свидетелем несчастья. От него всем стало известно то, что безуспешно пытались узнать и понять люди, дежурившие у телефонов. И опять в кабинетах раздались телефонные звонки. В горной инспекции телефон звонил в двенадцатый раз.
— Да, слушаю. Он был в вагонетке и вышел наружу? Господи боже, но что он там делал?
— Он хотел переползти на станцию, держась руками за кабель? Да, понятно.
Так началось расследование самого странного несчастного случая, который произошел в долине реки Жиу. Все дальнейшее будет лишь пересказом того, что было установлено в ходе этого расследования и записано в протоколах, приобщенных к делу.
Из управления шахтами к месту происшествия выехала на двух санях группа людей в черных пальто, среди которых выделялась жандармская шинель цвета хаки. Другая группа, захватив с собой носилки, отправилась из Петрилы напрямик по заснеженным холмам. Вместе с первой группой поехал и свидетель происшедшего, учитель из Аниноасы.
В начале пути солнце слепило путникам глаза, создавая приятную иллюзию тепла. Впереди плавно росла, наворачивалась гора Парынг, поросшая сосновым лесом, с обрывистыми вершинами, покрытыми горным чистым снегом. Солнечные лучи буквально затопили гору, и три ее заснеженные верхушки были похожи на великолепный белый венец. Горные вершины, лежащие на востоке и находящиеся теперь в тени, были окутаны слабым голубоватым туманом. Но на западе все сверкало под лучами солнца, снеговые вершины поражали своим чистым, нежным и одновременно ярким белым цветом.
Некоторое время санки, вышедшие из Петрошани, ехали в западном направлении. Мелодичный звон колокольчиков, пелена снега, покрывшая окрестные холмы, действовали успокаивающе на людей, растревоженных телефонными звонками. Но чем дальше от селений удалялись сани, тем острее давал себя чувствовать мороз. Сани опять свернули, на этот раз в котловину, идущую на север. Высокий холм заслонил солнце, а в образовавшейся тени было так холодно, что путники плотнее запахнули свои шубы.
Кто-то сказал:
— Ночью было двадцать градусов.
От этих слов стало как будто еще холоднее. Однако на западе и на севере небо было залито солнечным светом. Там солнце освещало не только вершины, но и все скаты и ущелья, создавая картину, удивительную по своей живописной прелести. Все вместе напоминало огромное хрустальное царство. Но сани двигались по дну котловины, в тени, и люди лишь изредка поднимали глаза к небу, с недоверием глядя на эту чудную картину, на этот ясный мир покоя и чистоты.
Сани обогнули холм по другую сторону Петрошани. Один из путников, посмотрев вверх, увидел на белом фоне горного склона черную точку, как бы повисшую над пропастью. Она напоминала орла, застывшего в неподвижности в воздухе и следящего сверху за своей жертвой. Вскоре появилась еще одна точка, похожая на первую. По мере того, как сани продвигались вперед, эти две хищные птицы скользили на белом снеговом фоне гор, пока не повисли в необъятном синем небе.
Это были вагонетки подвесной дороги, похожие на огромные ковши, в них перевозили уголь. Вскоре сани оказались под ними на дне ущелья, по обе стороны которого стояли высокие стальные опоры, поддерживающие четыре троса подвесной дороги. Взглянув на головокружительную высоту, на которой проходила канатная дорога, и представив, что здесь произошло, путники содрогнулись.
Узкая тропинка вилась в горы, туда, где пропасть была особенно глубокой, но подняться по ней можно было только пешком. Люди вылезли из саней и начали подъем. Вместо телефонных звонков и однообразного звона колокольчиков они слышали теперь скрип снега под ногами, напоминающий звук распарываемого холста. Не спеша, плавно вырастала перед ними первая опора канатной дороги, обнажая, как на рентгеновском снимке, свою железную конструкцию. И с каждой минутой подъем становился все круче, дышать становилось все труднее, и один из путников сказал:
— На этих обрывах, как бы ни было холодно, все равно прошибет пот.
Эти слова вызвали в сердце шагающего рядом главного инженера недоброе предчувствие. Если бы в это мгновение главный инженер провалился в снег и уснул, он, вероятно, увидел бы во сне приближающегося к нему человека с раздробленными конечностями и лицом, перепачканным углем, кровью и снегом, и повторяющего те же слова:
— Да, на этих обрывах, как бы холодно ни было, все равно прошибет пот!
Сам того не зная, один из путников, карабкающихся в гору, произнес фразу, в которой была разгадка происшедшего здесь несчастья, и она отозвалась в сердце другого смутной догадкой.
Двадцать четыре часа назад эту же фразу произнес человек, который лежал теперь по другую сторону горного ската: «На этих обрывах, как бы ни было холодно, все равно прошибет пот!»
Он и в самом деле был весь в поту — не только лоб, но и грудь, и спина были мокры от пота. А ведь он прошел всего лишь половину пути до Петрошани. Оттуда ему предстояло преодолеть еще три километра до Петрилы берегом реки Жиу.
От Аниноасы до Петрилы было три глубоких котлована, пешая тропа трижды круто падала и трижды столь же круто поднималась вверх. Трудно представить себе более мучительную дорогу! Каждый раз, когда он добирался наконец до вершины и перед его глазами открывался очередной крутой спуск, его охватывала холодная ярость. «Вот наказание!» — шептали его пересохшие губы. И он опять вспоминал, что и в самом деле наказан.
Стыда он не испытывал. Главный инженер, дружески притронувшись к его плечу, сказал:
— Онисие, ты должен понять!..
И он понял: это будет продолжаться всего два месяца, не больше. Авось мир не рухнет! И он смирился и ни о чем не жалел.
Еще осенью, во время варения цуйки, он пришел однажды на работу пошатываясь.
Его не хотели пропустить в шахту. Но он вырвался из рук вахтера и сел в лифт. Напрасно ему что-то кричали вдогонку, когда подъемник стал опускаться в шахтный колодец. Что случилось? Ничего не случилось! И в самом деле, в конце смены все признали, что ничего не случилось. Он, как всегда, пришел в свой забой и молча, спокойно отработал смену, выдав на-гора́ лишнюю вагонетку угля. И все же его наказали.
Ни мастер, ни начальник смены, ни инженер, ведающий участком, не хотели его наказывать. Они-то хорошо знали Якоба Онисие. Но главный инженер был трусом:
— Придется доложить о случившемся в главное управление, в Бухарест.
— А зачем докладывать? — спросил начальник смены.
— Ты молод, — ответил главный инженер, — жизнь тебя еще не трепала. Может случиться, что и другие сделают то же самое, что сделал Онисие, нам придется их наказать. Но они пожалуются в Бухарест и сообщат, что Онисие мы не наказали. И тогда нас спросят: почему вы не наказали Якоба Онисие? Так что придется о нем доложить, и мы будем чисты…
И они сообщили в Бухарест о проступке Якоба Онисие. Правда, они добавили, что он хороший шахтер, работает уже шестнадцать лет, так что его, пожалуй, и не стоит наказывать. Однако через две недели из Бухареста пришел приказ: «Якоба Онисие следует наказать — перевести его на два месяца в Петрилу». Это был неприятный приказ, но его следовало выполнить. Главный инженер именно тогда и сказал: «Онисие, ты должен понять!»
Онисие перевели в Петрилу с первого ноября. От Аниноасы до Петрилы по прямой было всего шесть километров. По прямой шла подвесная дорога. Вагонетки, груженные углем, проходили весь путь за полчаса. Но у Якоба Онисие он отнимал целых три часа. Когда он работал в первой смене, ему приходилось выходить из дому в три часа ночи, жена и дети еще спали. К половине пятого утра, когда раздавались гудки для рабочих первой смены, он преодолевал только два подъема, а в Петрилу приходил в шесть и еле успевал отметиться и получить свой шахтерский фонарь.
Так продолжалось шесть недель подряд. За это время он работал в трех разных сменах. Теперь он был во второй: она заступала в два и заканчивала работу в десять вечера. Еще несколько дней, и вся эта напасть кончится. Хорошо, что все идет к концу, потому что у него нет больше сил. Дорога очень трудна. Он уже износил пару крепких шахтерских бутс. За всю свою жизнь он не преодолевал столько подъемов, да еще по столь обрывистым холмам, как за эти шесть недель. Над его головой все время плыли то в одну, то в другую сторону вагонетки подвесной дороги, похожие на черных хищных птиц. А он шагал внизу, то поднимаясь к вершине холма, то опускаясь на дно котловины.
Наказание началось, когда еще стояла осень и на окрестных холмах видны были одинокие березы, напоминающие белые свечи. Но листва уже пожелтела. Совершай он просто прогулку, он наверняка любовался бы пейзажем: вершины Парынга, покрытые чистым белым снегом, березы, сосны… В горах уже зима, но здесь, на склонах холмов, окружающих Дылжу, люди все еще пасли скот под лучами теплого осеннего солнца. Однако недели через две выпали первые дожди, и тропа, по которой ходил Онисие, покрылась хлюпкой грязью. Дорога стала еще более трудной, и Онисие все время вспоминал господ из Бухареста: «Перевести его на два месяца в Петрилу! А что они знают об Аниноасе или о том, где находится Петрила? О, если бы они пришли сюда и хоть один-единственный раз проделали этот путь, да еще ночью, в те глухие часы, когда и петухи не поют!..» С каждым днем становилось все труднее. Холодные дожди перешли в мокрый снег. Хоть бы ему разрешили пользоваться канаткой! Однако это было запрещено. Только раз в сутки контролер линии проплывал в красной кабине, стоя над пропастью, похожий на огромную летучую мышь с распростертыми крыльями.
За неделю до рождества — Онисие работал тогда во второй смене — начался буран и в три дня покрыл всю окрестность чистым белым снегом. Снегопад продолжался иногда даже ночью, но на другой день жители Дылжи опять протаптывали старую дорожку. Им нужны были деньги к рождеству, и они то и дело отправлялись в Аниноасу или Петрошань, неся на базар кто кошелку с яблоками, а кто поросенка.
Когда Онисие добрался до Петрилы, он увидел старух, продающих у ворот шахты рождественские ветки, украшенные бумажными цветами. В этих местах их называют «соркова». С ними дети отправляются колядовать. Онисие вошел на территорию шахты, однако, вспомнив о детях, вернулся к воротам и тоже купил соркову. Но тут раздался двойной гудок сирены, и он поспешил к входу в шахту. Посреди двора стояла раскаленная железная печурка, у которой грелась девушка в брюках. Проходя мимо нее, Онисие улыбнулся и сказал с ходу:
— День добрый!
Шахтеры, дожидавшиеся у разверстого колодца шахты, увидев Онисие с сорковой, стали отпускать шуточки:
— Ты бы спустился с ней в забой, она станет еще краше!
— Давай, Якоб, поскорее вниз: лошади тоже ждут соркову.
Но он оставил свою игрушку у одного из вагонетчиков и спокойно спустился в забой. Его напарником был шахтер из Кымпа, с которым ему всегда хорошо работалось. Они выдавали за смену четырнадцать вагонеток угля.
В тот день в шахте говорили только о вине, колбасах и свинине.
Своего поросенка Онисие зарезал еще третьего дня, а вино он собирался купить в Аниноасе. В забое шахтеры видели перед собой лишь черный пласт угля, но воображению каждого рисовались куски свинины и всякие другие рождественские яства. От этих видений работа как будто становились более спорой, почти ожесточенной, и огромные куски угля падали один за другим. Только лошади, как на подбор упитанные, продолжали свое дело, не захваченные всеобщей спешкой и нетерпением. Даже старый мерин, знавший множество тайн своей шахты и обладавший, казалось, даром предчувствия, не подозревал, что завтра рождество и что лошадей тоже ожидает подарок: два полных дня отдыха в своих стойлах.
Чтобы все было в полном порядке и ничего не случилось за эти два дня, в конце смены рабочие отложили отбойные молотки и, взявшись за топоры, приступили к укреплению забоя. Они одели угольный пласт белыми досками, уголь скрылся из виду, и по всей шахте распространился приятный запах свежеоструганной сосны. Теперь можно было спокойно оставить шахту без людей на ближайшие два дня, чтобы она тоже отдохнула в рождество.
Из шахты рабочие вышли, когда было уже совсем темно. Шел слабый снежок. В мутном электрическом свете их сгорбленные фигуры, движущиеся к воротам, напоминали тени. Каждый нес под мышкой свою соркову; прощаясь, желал товарищам счастливого праздника. Оставшись один, Онисие ускорил шаги. Он перешел по железнодорожному мосту через Жиу и вышел к поселку Буковина. В темноте над его головой слышен был металлический скрежет канатной дороги. «Сегодня это будет в пятый раз, — подумал Онисие. — Но сегодня холоднее, чем когда-либо, и там, наверху, придется здорово мерзнуть. Все же это лучше, чем идти пешком».
Вот уже четыре раза подряд Онисие украдкой возвращался в Аниноасу подвесной дорогой и теперь собирался сделать это в пятый раз.
Никто ни о чем не подозревал, пока он переносился над глубокими котловинами по прямой, как птица, вместо того чтобы одолевать пешком все подъемы и спуски. Он глядел на них сверху из вагонетки с ненавистью, смешанной с радостью, как на своих смертельных врагов, уже не имеющих над ним никакой власти. Порой ему казалось, что котловины и впадины там, глубоко внизу, похожи на злых драконов, которым очень хотелось бы причинить ему вред. Однако они уже не в состоянии до него добраться. И, проплывая над ними в вагонетке, он мысленно вонзал им стрелы в горло, как это делал святой Георгий, топча дракона.
Якоб Онисие пересек поселок по прямой улице, между двумя рядами освещенных домов, где люди были заняты последними приготовлениями к рождеству. У каждого дома можно было увидеть в снегу пятна, похожие своими очертаниями на странных животных, — следы выплеснутой на улицу грязной воды. Онисие подумал, что и у него дома полы, наверное, уже вымыты и пахнут праздником.
Вагонетки подвесной дороги продолжали плыть в темноте, издавая металлическое кряхтенье, а с ближайшего холма доносились детские голоса: дети уже приступили к колядованию и обходили дома с песнями и рождественскими поздравлениями.
Онисие ловко, по-кошачьи, влез на помост, мимо которого медленно проплывали вагонетки, как вагоны только что тронувшегося поезда, еще не успевшего набрать скорость. Пропустив первые две и убедившись, что из освещенной кабины вахтера никто не смотрит на линию, Онисие бросил в третью топор и соркову и, ухватившись за железный борт, перескочил в нее одним махом. Нащупав на дне какую-то деревяшку, он сразу же опустился на нее и пригнул голову, так как у кабины вахтера громко залаяла собака. Однако он был уже в безопасности. Кто бы смог обнаружить его на такой высоте? Через час он будет дома.
Все те, кто пытался представить себе, как выглядит рай, и описать его, обладали слабым воображением. Эта мысль приходила в голову Онисие каждый раз, когда он начинал свое чудесное путешествие по воздуху, не требующее никакого труда. Позади него медленно уплывали и погружались в бездну огни Петрилы, похожие на созвездие Плеяды в час заката. Но сразу же впереди возникали огни Петрошани, и картина ночного мира становилась настолько удивительной и прекрасной, что дух захватывало. Онисие стоял и смотрел завороженный.
Он видел под собой на большой глубине море огней. В центре Петрошани их было так много, что они сливались в единое зарево. Это скопление фонарей несколько напоминало огромную толпу на огромной площади. Особенно высокие фонари, стоящие особняком, как бы подчеркивали свою важность и нежелание смешиваться с толпой. На окраинах поселка фонари стояли ровными рядами вдоль длинных улиц. Это море огней, которые, несмотря на свой блеск, все же не в состоянии были превратить ночь в день, было рассечено на две части лентой реки Жиу, похожей на черный пласт угля. Однако и на нем виднелись световые сигналы красные и зеленые огоньки железнодорожных мостов, пересекающих реку. На большой глубине внизу, под канатной дорогой, плавала железнодорожная станция, вокруг которой снег был вытоптан, покрыт угольным шлаком и грязью.
Из Петрошани доносился слитный шум, напоминающий жужжание пчел в улье. Вагонетка плыла над этими таинственными огнями и звуками, над этим удивительным ночным миром, спокойно перевозя Онисие в Аниноасу. В обратную сторону медленно двигались огни Петрошани, сливаясь в единое слабое зарево, тонущее в могущественной и всепоглощающей черноте зимней ночи.
Когда вагонетка приблизилась к одной из опор, поддерживающих тросы, Онисие впервые почувствовал, что холод пробрал его до костей, и попытался размять окоченевшие руки и ноги. Вагонетка продолжала медленно плыть, как черное привидение, над молчаливой замерзшей землей.
Вскоре тросы повисли, слегка прогибаясь над глубокой пропастью. Преодолев ее, вагонетка подошла вплотную к высокой железной опоре, на мгновение остановилась, как бы опираясь на нее, и, зарядившись новой энергией, поплыла дальше, над еще более глубокой пропастью, на дне которой слабо мерцали огоньки Дылжи. Но как только Дылжа осталась позади, вагонетка вдруг остановилась. Механический скрип колес, скользящих по тросу, замер, и все погрузилось в тишину.
Это случилось, вероятно, не позднее половины одиннадцатого. Онисие притулился на дне вагонетки и стал ждать. Он засунул поглубже руки в карманы; между ними и рукавами куртки все же оставался узкий просвет, через который проникал такой пронзительный холод, что ему казалось, будто руки стянуты ледяными наручниками. Боль разливалась от запястья вверх, до самой груди, резкая и острая боль, и унять ее было нечем. И тут Онисие впервые подумал, что все же лучше было бы ему отправиться домой пешком. Но он тогда добрался бы до своих не раньше полуночи. Хорошо еще, что сегодня нет ветра. Канатка вскоре опять тронется, и все будет в порядке. Онисие с трудом достал кисет и скрутил себе цигарку.
Он выкурил ее почти до конца, однако вагонетка все еще не тронулась с места. И вот именно в то мгновение, когда он затягивался в последний раз, произошло несчастье. Это было похоже на то, как будто от внезапной искры раздался взрыв. Так случается иногда в шахте, когда скапливается и взрывается газ и вагонетки с углем взлетают в воздух, а на полу подземных коридоров остаются лежать тела, в обгоревшей одежде, со спаленными волосами, рядом с лошадиными трупами, загораживающими проходы.
«Газ», по-видимому, проник в голову Онисие еще тогда, когда он забрался в вагонетку, а теперь взорвался. Если б не вспыхнула искра, вполне возможно, что и взрыва не было бы, но искра все же вспыхнула, и Онисие ощутил, будто где-то глубоко внутри все в нем рухнуло. Редко человек может нанести самому себе такой удар одной-единственной коротенькой мыслью. Вот она, эта мысль, эта искра: завтра рождество! (Кабина дальше не пойдет, канатку остановили на два дня.) Впрочем, последняя мысль, которая, в сущности, была заключена в первой, вряд ли успела всплыть на поверхность его сознания. «Газ» взорвался и в одно мгновение разрушил все.
Дорога остановлена. Онисие оказался пленником холода и смерти. Он почувствовал огромную боль и посмотрел на мир широкими от ужаса глазами, как на хитрого и смертельно опасного врага. Все, что с ним случилось, начиная с осенней пьянки и последовавшего наказания, представлялось ему теперь западней, в которую он попался.
Все люди сидят теперь по домам, в тепле. И шахты, и надземные постройки опустели. Два дня вся долина будет погружена в молчание и неподвижность. А он, Якоб Онисие, застрявший над пропастью в этой вагонетке, умрет от голода и холода. Ему хотелось выть от отчаяния, но вместо него завыл волк на опушке леса, примыкающего к Дылже.
Мучительно медленно будет теперь тянуться время! Что его ожидает? И вот, так же как люди, уцелевшие после взрыва на дне шахты, выходят из галерей, пошатываясь, в обгоревшей одежде и с потушенными фонарями в руках, так и в голове Онисие возникали все новые нетвердые и тягостные мысли. Однако это еще было ничто в сравнении с ясными и резкими физическими ощущениями, которые захватили все его существо. Он вдруг почувствовал сильный голод и по-новому ощутил уже давно мучивший его холод. Против этих двух совершенно очевидных ощущений он был совершенно бессилен.
Тем временем над горой Парынг взошла луна.
Кому из смертных было дано в час агонии увидеть такую чрезмерную, невероятную красоту?! Из глаз Якоба Онисие покатились слезы, но они тут же замерзали на его щеках.
— Господи, боже мой, не оставляй меня, господи, боже мой, — шептали его губы, в то время как глаза не могли оторваться от начавшегося феерического спектакля.
Медленно, плавно пришли в движение тени горных вершин, огромные темные пятна, как бы ощупывая землю, стали торжественно перемещаться по заснеженным пространствам. А горные вершины засверкали и стали переливаться удивительными белыми и голубыми искрами. Плавно и молчаливо плыла и сама луна по замерзшему небесному стеклу. На севере огромные горы напоминали своими линиями великолепные мраморные храмы, созданные неустанным тысячелетним трудом.
— Господи, боже мой, не оставляй меня, господи, боже мой, — продолжал безотчетно молиться человек, повисший над пропастью. И ему вдруг показалось, что весь этот огромный северный пейзаж, в котором медленно и молчаливо перемещались лишь тени гор, оживился. В душе Якоба Онисие зашевелилась надежда. Но, увы, она была нереальной, как и мнимые огни на верхушках гор; надежда не обладала никакой силой и не могла сдвинуть рычага его судьбы.
Как и в предыдущие годы, волки, словно следуя традиции, проникли и в этот сочельник в Дылжу. В поселке было несколько овечьих загонов. Сначала послышались какие-то глухие удары, потом отчаянно залаяли собаки, и поселок пришел в волнение. Всюду раскрылись двери, и в то время, как женщины зажигали огни, мужчины выскакивали на улицу с криками и проклятиями. Захватив грабли, но не успев обуться, люди бежали по снегу босиком к загонам, где шла битва между собаками и волками. Основное сражение происходило, по-видимому, на окраине поселка, где раздавались самые громкие крики, блестели красные огоньки и хлопали выстрелы. Волкам все же удалось схватить овцу, и они пытались утащить ее в лес.
Якоб Онисие смотрел на все это с высоты подвесной дороги, сначала с некоторой надеждой, а потом с безразличием, как на спектакль, разыгравшийся в другом мире. Какое отношение все это имеет к нему? Никакого. Там, внизу, люди стоят обеими ногами на земле. Мысленно он посылал им отчаянные призывы: «Братцы, не оставляйте меня здесь наедине со смертью, братцы…» Но слова застревали в замерзшем горле, ни одно не вырвалось наружу. А если бы и вырвалось, кто бы его услышал?
Вскоре внизу все успокоилось, волки скрылись. Но здесь, наверху, на Якоба Онисие надвигались другие, фантастические волки, созданные морозом, и собирались его сожрать. Он уже промерз до мозга костей. Старая, но все еще довольно теплая меховая кушма, которую он носил на голове, казалась ему теперь не толще папиросной бумажки. Он попробовал снять ее и сунуть туда замерзшие руки, но, почувствовав, что на обнажившийся лоб словно плеснули обжигающей кислотой, поспешно опять нахлобучил шапку. Ног он давно не ощущал, они превратились в неподвижные ледышки. Но все сильнее давал себя знать голод. Он был какой-то особенный, пустота в желудке казалась страшнее пропасти, над которой повис Онисие. Где-то там, внизу, в лесу, волки пожирали добытую в поселке овцу; им было хорошо. Всем, всем, кто стоял ногами на земле, было хорошо, только не ему, повисшему между небом и землей в страшном туманном морозе рождественской ночи.
И агония будет продолжительной и полной обманчивых иллюзий. Несколько раз он уже вздрагивал, когда ему вдруг казалось, что канатка опять приходит в движение. Может быть, она остановилась из-за какой-то неполадки и вскоре опять тронется? От этих мыслей кружилась голова, мир вновь приобретал знакомые, милые очертания, и Онисие снова видел себя дома, в теплой комнате со свежевымытым полом. Но трос не двигался, вагонетка висела по-прежнему неподвижная, оцепеневшая в холодной ночной тьме. Если бы в Аниноасе знали, что он здесь, они бы дотянули вагонетку до остановки. Но что бы он сказал тогда главному инженеру? Его опять накажут… Множество мыслей, образов, обрывков сцен терзали его воображение. По очереди появлялись у борта неподвижной кабины его жена, главный инженер, дети и обращались к нему с вопросами, упреками или советами, а потом исчезали, растворяясь в ночной мгле.
Новая и как будто хорошая мысль медленно проложила себе путь в замерзающем мозгу Якоба Онисие, когда он случайно нащупал около себя ручку топора и чурбан, на котором он сидел после того, как залез в кабину. Он приподнял его и стал откалывать топором крупные щепки, пока не расколол деревяшку пополам. Потом он зажег спичку и подложил ее под груду щепок, но они не загорелись. Вторую спичку он держал долго, пока она не обожгла его замерзшие и негнущиеся пальцы. Однако и это не помогло. Тогда он пустил в дело рождественскую ветку с бумажными цветами — соркову. Цветы вспыхнули, он сунул их под щепки, и они стали потрескивать.
Было уже далеко за полночь, и луна перешла с вершин Парынга к ущелью Сурдук, поросшему сосновыми лесами. Огромные тени гор все еще медленно, не спеша перемещались по белым заснеженным пространствам. Другие тени, поменьше, то внезапно появлялись, то исчезали, свидетельствуя о присутствии человека в этом огромном ночном холодном мире. Костер, загоревшийся в вагонетке, отбрасывал на ее стенки тень фигуры Онисие до пояса, но выше тень его сливалась с окружающей тьмой. А может быть, за пределами кабины она увеличивалась, становясь похожей на тень великана, и достигала подножия гор, где вот уже много веков, как стынут руины крепости Сармиседжетуза. Якоб Онисие был последним даком, проводившим ночь под открытым небом, у костра, на этой древней земле. Но из миллионов людей, с которыми это случалось до него в течение двух тысяч суровых лет, Онисие, вероятно, был самым несчастным.
В Дылже проживал старый пастух, оставшийся пришибленным на всю жизнь от побоев, которые нанесли ему когда-то жандармы. На другой день после трагического происшествия на канатной дороге этот старик рассказал следующее. Прошлой ночью, вскоре после того, как волки были изгнаны из поселка, он вышел во двор и, случайно посмотрев на небо, замер от страха. Он явственно увидел картину ада — казан с горящей смолой, куда попадают грешники, в точности такой, как тот, что нарисован в церкви. Красные огни пламени лизали вертящегося между ними человека. Страшно напуганный этим видением ада в святую рождественскую ночь, старик поспешил в дом. Позднее, когда он опять рискнул посмотреть на небо, в этот раз из окна, он увидел, что адский огонь потух и видение грешника на костре исчезло.
Учитель из Аниноасы, у которого прошлой осенью умерла жена, был приглашен на первый день рождества к батюшке из Петрошани. Чтобы поспеть к утренней службе, учитель вышел из дому, как только рассвело. Стоял сухой и жестокий мороз, но учитель шагал быстро и легко преодолел первый подъем. Спускаясь в долину Дылжи, он увидел на чистом снегу следы ночной баталии с волками: темные клочья шерсти, красные пятна крови. Это неожиданно напомнило учителю больницу, где умерла его жена. Чтобы отделаться от нахлынувших на него печальных воспоминаний, он перестал смотреть на дорогу и поднял глаза к небу. И сразу увидел нечто совершенно неожиданное. Там, наверху, где проходила линия подвесной дороги, какой-то человек вылез из вагонетки и смотрел вниз, как бы измеряя расстояние, отделявшее его от земли. У учителя захватило дух. Как этот человек туда попал? И что он собирается сделать? Времени искать ответы на эти вопросы у учителя не оказалось, и он с ужасом увидел, как человек схватился обеими руками за трос и повис в воздухе. Учитель мгновенно понял, в чем дело: тот человек собирается переползти на руках по железному тросу через пространство, отделяющее вагонетку от ближайшей стальной опоры. Ему предстояло преодолеть метров сорок. Учитель почувствовал головокружение, и ему показалось, что он близок к обмороку.
На фоне чистого голубого неба вагонетка и человек, повисший на тросе, представляли собой два черных пятна. Второе пятно — человек — стало медленно передвигаться в сторону холма. Каждое движение стоило ему большого труда. Как только он отнимал руку от троса, тело начинало дергаться, угрожая сорваться, и он сразу хватался за канат обеими руками. При этом он все время сучил ногами, будто это могло помочь ему двигаться вперед.
Вскоре учитель увидел, что человек, повисший на тросе, теряет силы. Движения его рук замедлялись и напоминали теперь движения смертельно усталого пловца. При этом он удалился от вагонетки всего лишь на каких-нибудь десять метров; паузы, во время которых человек висел на тросе совершенно неподвижно, не делая никаких попыток продолжать свой путь, все удлинялись. Учитель понял, что близится роковая развязка. Человек висел теперь неподвижно над пропастью, только ноги его все еще дергались, как в агонии. Учитель почувствовал, что сердце у него готово вырваться из груди, голова раскалывается от прилившей крови… Потом наступила развязка.
Какая-то птица пролетела столь близко от троса, что человек, наверное, видел ее и, возможно, успел подумать: «О, если б у меня были крылья!» Но это была уже последняя его мысль, потому что в то же мгновение он рухнул в пропасть. Падая, он со свистом рассекал воздух. Это падение пронзило болью учителя из Аниноасы.
Когда путники, выехавшие из Петрошани, одолели подъем, они увидели в долине Дылжи какие-то черные точки на снегу — это были люди, пришедшие из Петрилы напрямик к месту происшествия, они захватили с собой носилки.
Человек, сорвавшийся в пропасть, упал именно там, где накануне произошла баталия с волками. Падая, он, как тяжелый камень, раскидал вокруг себя снег. Его останки, покрытые кровью и угольной пылью, успели замерзнуть. Только лицо погибшего осталось почти целым и чистым, оно было обращено к небу, стеклянные замерзшие глаза глядели на вершину горы, с которой он сорвался. Борьба с роком закончилась. Котловины, через которые он плыл в вагонетке, воображая себя героем, вонзающим стрелы в горло драконов, казалось, отомстили ему страшной местью. Он рухнул в самую глубокую из них и разбился насмерть.
Вагонетка, из которой он пытался выбраться, все еще висела над пропастью, похожая на странную черную птицу. По обе стороны пропасти неподвижно стояли железные опоры дороги. Все, что видели глаза, было совершенно равнодушно к тому, что здесь произошло. Люди, прибывшие из Петрилы, молча взялись за лопаты и стали очищать снег вокруг страшного неподвижного сугроба, который еще совсем недавно был человеком.
Останки погибшего пронесли через его родной поселок в середине дня. Жители, стоявшие на улице или у окон, провожали процессию печальными взглядами. Якоба Онисие знали все, и его трагическая гибель в первый день рождества наполнила сердца глубокой печалью.
На кухне, через которую нужно было пройти, чтобы внести останки погибшего в дом, стояли плачущие дети Якоба Онисие и его жена, в отчаянии рвущая на себе волосы. Соседи, ожидавшие здесь прибытия процессии, молча поклонились носилкам, кое-кто перекрестился. На всех лицах застыло выражение не столько покорности, сколько тяжелой думы и протеста: «Вот еще один шахтер погиб несправедливо…»
Через два дня, когда снова пустили подвесную дорогу и проверили ее вагонетки, в одной из них нашли топор Якоба Онисие и соркову с обгоревшими бумажными цветами.
Перевод с румынского И. Константиновского.
Василе Войкулеску МОНАСТЫРСКИЕ УТЕХИ
— Ну, на сей раз история будет невыдуманная, — начал он, и взгляд его голубых глаз обжег незадачливого рассказчика.
Вот уже десятки лет отец Илие, настоятель городского собора, прогуливал свою красную камилавку и вишневый пояс протопопа по уезду, объезжая церкви, скиты и монастыри. Прирожденной своей услужливостью он снискал благорасположение обеих конкурирующих политических партий, так что, когда одна из них теряла власть, другая неизменно оставляла его как старого, доброго служаку.
Когда он был возведен в протоиерейский сан, волосы его были точно вороново крыло, а борода иссиня-черная. Теперь на щеках его болтались белые клочья, мягкие, словно пена, и дорожный ветер ласкал их, припудривая пылью.
Поскольку платили ему кое-как, а суточные были — сущий пустяк, протоиерей воплотил в жизнь мысль того скептика-законодателя, который, пораскинув мозгами над нашим порядком вещей, определил ему за труды столь скудное обеспечение. Ибо законодатель этот знал, что, как бы велика ни была оплата чиновника, путевые расходы и содержание все равно падут на ревизуемых. И вот протопоп нежданно-негаданно рано поутру оказывался в пригородном селе. Здесь отпускал он телегу, на которой приехал, и шел, подобно апостолам, пешком.
Ежели то было воскресенье или какой-нибудь большой праздник, приходский священник и оглянуться не успеет, а протопоп уже в церкви, где с пристрастием наблюдает, как идет служба. И горе тому, кто служил без должного тщания, пропускал молитвы или проглатывал песнопения!
Затем отправлялся протопоп в канцелярию — обычно комнатушку при поповском доме, — где просматривал документы, счета, бумаги, приходы и расходы, проверял, сделан ли ремонт, определял, по чьей вине нанесен ущерб храму господню, выслушивал жалобы, собирал заявления, не оставляя без внимания и дела миссионерские, и просветительские.
— Почему у тебя ошибки в этой записи о крещении?
Священник заикался, стараясь поскорее перелистнуть церковную книгу, но палец протопопа нависал, подобно гвоздю, над неисправной страницей.
— А где расписки плотника?
— Видите ли, ваше высокопреподобие, Стэнике, плотник… Да то, да се…
— Покажи мне предложения других поставщиков.
— Так откуда их взять, грехи наши тяжкие, — причитал провинившийся, — нету здесь других поставщиков!..
— Почему не искал в городе? Устроил ты торги, чтобы покрыть купола?
Поп, припертый к стене, таращил глаза. Торги? Это ведь когда бьет барабан и выкрикивают, как на аукционе. Да разве такое возможно?
В общем, попробуй потягайся с ним — он заведет дело в такие дебри, что самый ловкий и многоопытный священник запутается!
Ну, поп все-таки мужчина, и даже если он и падал духом, то в конце концов приходил в себя.
Но попадью разбирал страх, и над домом разражалась буря, жертвой которой оказывались сперва ребятишки — им доставалось на орехи, дабы неповадно было проказничать, — а потом или поросенок — тот попадал на противень, — или цыплята — их сажали на вертел… — а иной раз страдали и поросенок, и цыплята, лишь бы его высокопреподобие были милостивы к прегрешениям священника, последний же со своей стороны из кожи лез, чтобы цуйка и вино веселили и умиротворяли.
Протопоп, задав виноватому хорошую баню, быстро смягчался, тем паче что из-за стены вот уже в третий раз доносился зов попадьи:
— Пожалуйте к столу, чорба[7] остывает.
Отцу Илие, который замешкался с ревизией, ничего не оставалось, как принять решение. А то где же ему было найти пищу, приличествующую его сану? На постоялом дворе есть засиженные мухами бублики и пить самогон вместе со всеми странниками? Не станут ли люди смеяться над священником, который отпустил его из дому, не оказав гостеприимства?
Обед под разговоры о детях, о бесчисленных бедах и печалях жизни, о болезнях попадьи и хворобах попа затягивался надолго. Потом, слегка передохнув и подремав, отец Илие, протопоп, угодный обеим партиям, колдовал над актом согласно установленному порядку, подтверждая, что он все нашел в наилучшем виде, и хозяин впрягал лошаденку в бричку или брал у соседа телегу, дабы доставить его высокопреподобие в близлежащее село.
Здесь протопоп попадал — нежданно-негаданно — в распростертые объятия другого священника, который еще с утра получал депешу от своего собрата о грядущей напасти. Попы всего уезда поклялись предупреждать друг друга об опасности. Так что едва красная камилавка отца Илие показывалась у городской заставы, как вся цепочка сельских попов, находившихся на пути его следования, начинала гудеть почище телеграфа — это пономари, пыхтя, сновали взад-вперед с криком:
— Протопоп едет! Уже принялся за нашего отца Михая!
И протопопа угощали и ублажали, носили на руках в каждом приходе, а он продолжал неуклонно свой дозор. О его возвращении домой заботились сообща все священники. Тот, до кого доходил черед, отправлялся в город по какому-нибудь делу и загружал в почтовую карету его высокопреподобие со всеми дарами, которые насильно ему вручали: с гор — цуйку и вино, с равнин — сало и муку, а на пасху — и живую домашнюю птицу.
Бывало, две-три недели еще не пройдут — снова тревога. Красная камилавка показывалась у другой границы уезда, обращая в бегство, точно зайцев, и других священнослужителей. Где только не настигали депеши бедных батюшек! Одних отрывали от отдыха, других — от дел, сгоняли с полей, извлекали из трактиров.
— Протопоп! Едет протопоп!
— Значит, отправился протопоп в свой дозор.
Объезд этот не всегда проходил одинаково. Чаще всего события принимали неожиданный оборот, возникали задержки и осложнения, из-за чего протопоп где замешкается, а где и вовсе свернет в сторону: ежели, например, крестины, да еще с обедом, — глядишь, целый день вон. Другой раз, бывало, пышная свадьба: тут уж остановка получалась не меньше чем на три дня и три ночи. А там, смотришь, похороны с долгими богатыми поминками. Разве уедешь, оставив без утешения людей, собравшихся на тризну? На это тоже надо дня три-четыре.
Не забудьте и про престольные праздники, когда прихожане, точно овцы, стекались отовсюду и их белые стада с волнением и гордостью внимали протопопу, этому величественному гайдуку в ризе, служившему перед всем собором.
Протопоп не только не избегал подобных случаев, но, напротив, отыскивал их с особым тщанием: на праздниках и пиршествах он распускался как цветок.
Однажды в майское воскресенье, проснувшись на заре, протопоп Илие поехал в церковь на окраине города, где служили тогда два священника. Он оставил одного из них заканчивать службу и поспешил с другим, отцом Владом, в его коляске в отдаленную деревню, лежавшую в стороне от большой дороги, куда давно уже не наведывался.
Погода стояла райская. Небо Молдовы, обычно неяркое, а теперь высокое и насыщенно-синее, опускалось своими хрустальными крыльями к далекому окоему, и солнце вставало из-за него, глядя на мир точно сквозь гигантскую слезу.
Прохладное дуновение приносило с цветущих лугов аромат трав, и ядреный, сочный воздух, наводнявший все окрест, постепенно таял, ускользал ввысь, играя всеми цветами радуги. Морем волновались нивы, трещали коростели, стрекотала саранча, выкрикивали свое имя перепелки. Дорога стелилась гладкая, черная, еще влажная от росы и скользкая. Конь бежал бодро и резво, без понуканий. Отец протоиерей чувствовал легкость и воодушевление необычайное; сквозь ноздри, которые щекотали запахи, по бороде, которую разглаживала быстрая езда, оно проникало в богатырское тело и разливалось по нему радостью опьянения и урчанием, пробегавшим в пустом животе.
Мысли рвались вперед, быстрее рыжего коня, к пище, которая — это протопоп хорошо знал — его ожидала.
Добравшись до деревни, он направился прямо в церковь. Был полдень, солнце стояло высоко, пора бы уж кончиться утрене и начаться обедне.
Отец Влад, покинув его у входа на колокольню, вернулся к своей коляске, огрел бичом арабского жеребца — и был таков. В спешке у него не оказалось ни времени, ни возможности предупредить собрата о владычном объезде, и протопоп свалился сюда как снег на голову.
Протопоп Илие величественно проследовал во двор. Какие-то старушонки суетились у могил. Двери церкви закрыты. Оттуда не слышно ни молитв, ни песнопений. Он поднялся по лестнице, нажал щеколду, подергал сильнее — храм божий заперт. Старухи завидели его и, робея, приблизились.
— Где священник? — грозно вопросил он.
— Не знаю, ваше высокопреподобие, — сказала одна из старушек, — с зари поджидаем. Не видать его что-то.
— Вечор он сзывал на молитву? — возвысил голос благочинный.
— Не слыхала я, отец протоиерей, — поспешно ответила другая.
— А ты помолчи, глухая тетеря! Не сзывал он, батюшка. Только мы все равно пришли — даром, что ли, зовемся православными?
— А другие люди — прихожане? — допытывался епархиальный благочинный.
— Постояли-постояли да и разошлись, потому как трактир открылся.
Разгневанный протопоп направился в канцелярию, то есть к поповскому дому, старухи — за ним, и от этого он разозлился еще пуще. А здесь попадья хлопотала по хозяйству, босая, в одной юбке, она рубила траву утятам и время от времени отгоняла прутом стайку детишек, не дававших птице спокойно кормиться. При виде красной камилавки она в забвении чувств опрокинула на птиц целое корыто кукурузной муки и — шасть в дом! Пострелята в испуге дунули к изгороди.
Отец протоиерей подождал подождал, да как начал колотить посохом по полу галереи!.. Никого. Потом стали выползать соседи.
— Посмотри-ка, кто там дома, — мрачно обратился протопоп к одной женщине. — Позови кого-нибудь открыть мне канцелярию.
Соседушка забежала с заднего хода и вернулась со словами, что попадья, мол, просит прощения: она не может выйти, потому что не одета.
— Пусть, это ее дело! Мне она не нужна! — гремел протопоп, потрясенный этаким бесстыдством. — Пускай выходит священник.
— Она говорит, болен он.
— Так ведь не при смерти!.. Пусть выйдет на минуту со мной поговорить!
Женщина опять скрылась, посовещалась с хозяева ли и вскоре принесла ответ:
— Говорит, он совсем заплошал, и она отправила его в больницу.
— Кого? — растерялся его высокопреподобие.
— Батюшку, — выпалила женщина.
Протопопа в жар от злости кинуло. Он снял камилавку, вытер пот полосатым платком и поднял глаза к небу. Трудолюбивое солнце уже встало. Голод давал о себе знать. И негде было разжиться пищей или хотя бы повозкой, чтобы доехать до соседнего села, к попу Макарию — небось тот живо, в одну минуту схватит цыпленка, обваляет его в кукурузной муке и зажарит.
— А давно ли болен батюшка? — вспомнил его высокопреподобие свои обязанности христианина, требовавшие жалости и снисхождения к страданиям ближнего.
Женщина, которая, как соглядатай, переносила слова с улицы в дом и из дома на улицу, смутилась и снова бросилась было бежать к попадье, когда вмешался какой-то мужчина:
— Да какой он больной, когда я его чуть свет видел здесь неподалеку, на Озерной поляне. Их много людей там было, задумали они косить траву. Всем миром работали, как обычно в воскресенье. Я спросил, почему он не отложит это дело на после службы. А он говорит, как бы потом не пошел дождь.
Протопоп от удивления рот раскрыл, у него даже пересохло в горле, а то бы, пожалуй, выругался.
Тут-то и объявился как из-под земли пономарь.
— Сию минуту батюшка бежит сюда, — выпалил он, едва переводя дух. — Нас мальчонка предупредил, что вы изволили пожаловать, — суетился он, целуя руку, вцепившуюся в палку.
— Значит, не болен он и не в больнице! Все это ложь! — скрежетал зубами протопоп.
— Да нет, больной он, только что делать, работа не ждет, — пробормотал пономарь. — Батюшка едва ноги волочит. Да вот и сам он явился.
Поп Болиндаке еле передвигал ноги, и вид у него был виноватый; извинениями и мольбами он склонил протопопа, по-прежнему гневавшегося, смилостивиться и войти в дом, где все и разъяснилось. Поп был болен и ушел на рассвете, попадья же подумала, что он — как и собирался — в больнице. Но он не решился оставить работу, которую задумали всем миром еще среди недели.
— Хорошо, но служба? Ведь сегодня воскресенье! Как ты осмелился оставить народ без божественной литургии? — гремел протопоп.
— Так ведь, ваше высокопреподобие, такое дело, я-то все равно не могу служить, едва на ногах стою, — ответил греховодник. — Сговорился было тут с отцом Митрофаном, из монастыря, чтоб он за меня отслужил службу. Ему и поминания принесли, и ладану да еще полтора лея посулили. Разве могло мне в голову прийти, что он не сдержит слова! — стонал поп, ломая руки. — Кабы знать, я все равно стал бы служить, пускай прямо в алтаре упал бы…
— Почему вечор не сзывал на службу?
— Так ведь я — сами изволите видеть — сильно больной был!
— А звонарь?
Звонарь (которого здесь не было, и поэтому о нем говори что душе угодно), звонарь напился и запамятовал.
Туда-сюда, в общем, поп повернул дело так, что виной всему — отец Митрофан из монастыря, он-де и должен быть в ответе и искупить прегрешения. А так как еда не была еще готова — попадья ведь тоже хворала, — то отцу Болиндаке удалось направить стопы протопопа в монастырь, он был неподалеку, и они туда попадали как раз к обеду. У монахов за оградой пруд, они варят тороу из рыбы и подают сарамурэ[8] с перцем — пальчики оближешь!
И чтобы замолить все свои грехи, поп Болиндаке, исцеленный чудесным образом от соприкосновения с его высокопреподобием, запряг свою прекрасную белую кобылу. Кобылу звали Лиза, и была она знаменита на всю округу, а сам поп на нее молился. Он держал ее взаперти, за семью замками, будто наложницу, и берег как зеницу ока. Запрягая кобылу, он рассказывал его высокопреподобию, как воры раза три или четыре пытались ее выкрасть. Вот и на прошлой неделе взломали конюшню. С тех пор при ней в яслях спит сторож.
И в самом деле, кобыла была что надо: тонкая, нервная морда, глаза большие, горящие и умные, нос словно точеный, дрожащие ноздри, шея напруженная, как тетива, мощная грудь выпячена, живот подтянут, бабки тонкие, точно перевязанные, и маленькие копыта, которыми она то и дело била в нетерпении. На ходу корпус ее будто распластывался, и она летела, точно борзая. Одно удовольствие было смотреть с козел, как играла она мускулами крупа — ровно танцевала и бежала будто своею волей…
— Но-о, Лиза! — любовно понукал ее поп. — У воров она всегда на примете. Только я не плошаю: если что — она со мною и спит в комнате, — исповедовался Болиндаке протопопу. — Потому что днем ворам из-за детей дорога заказана. У меня детишек пока что семеро. Выходит, помимо меня, четырнадцать глаз и еще четырнадцать ушей.
— Ну, с разбойниками ты не равняйся, — насторожился старик. — Вот хотя бы теперь — едешь один. Нет чтобы взять с собою мальчонку.
— Э, если богу угодно, еще засветло будем дома. Перекусим маленько — к тому-то времени попадья уже что-нибудь приготовит — да и спать, а завтра в котором часу велите, ваше высокопреподобие, будем где пожелаете.
— Да где ж еще? У отца Георге…
— У отца Георге, в Скулени? Чего проще! Туда езды не больше часу с половиной. — И мысленно он сказал себе: «Ну, я ему, отцу Георге, тоже приготовлю гостинец, не хуже того, как мне преподнес этот негодник поп Влад. — И поп послал проклятие своему неверному собрату. — Пускай и ему протопоп как снег на голову свалится, да и этому старому хрену будет наука, чтоб не совался к людям без предупреждения…»
Обогнув дубовую рощу, спустились в ложбину и взяли направо по проселку, окаймленному кустами цветущего шиповника, увитыми хмелем и чудоцветом. Вдали, защищенный со всех сторон холмами, засаженными виноградом, показался из-за зелени монастырь: белый ковчег — церковь — в хороводе келий.
Здесь новая неожиданная напасть. Тяжелые ворота из тесаного дуба на замке. Постучал поп концом кнута, постучал протопоп — еще нетерпеливее — своим посохом, звали, звали, кричали, кричали, даже бросали камни — никого. Ну просто мертвое царство. Поп уже надежду потерял сунуться со своей белой кобылой и красной камилавкой протопопа в ворота и повернул вдоль высокой, точно крепость, монастырской стены до заднего проулка, через который проносили сено, проезжали телеги с дровами да подвозили бочки с вином к погребку. Здесь они нашли решетку из тонких планок, можно справиться с ней одним пальцем.
И вот они уже во дворе, и на них, шатаясь, надвигается разъяренный отец-привратник в заплатанном кафтане и монашеском клобуке на взъерошенных волосах. Счастье еще, что в каждой руке у него по оплетенной полной бутыли, а на голове — третья, и того тяжелее.
— Чего вам здесь надо, воровское отродье!
Протопоп покраснел как рак и поднял наподобие щита посох. Поп схоронился за спиной кобылы.
Но тут как раз у входа в погреб, что под монастырской гостиницей, показался игумен Иоасаф и, едва завидев протопопа, подбежал к нему, обнял и радостно поцеловал в лоб, в подбородок, в плечо — точно крестом осенил. Был отец Иоасаф очень весел, и от него пахло добрым вином. Увидев такое, показался и поп из-за кобылы и тоже был осенен, как крестом, поцелуями.
— Пожалуйте наверх! — И хозяин повел их чуть ли не в обнимку.
— Отец протоиерей пойдет. Мне-то нельзя, — сказал священник, озирая двор.
— Почему?
— Я кобылу одну не бросаю — как бы не украли. Пока не найду, где ее запереть или человека какого-нибудь посторожить, мне нельзя ступить ни шагу.
— Ничего, батюшка, это я устрою.
И игумен приказал отцу-привратнику не отходить от лошади, ибо ответит за нее головой.
Через мгновение они уже поднялись в гостиницу.
— Вы ели?
— Какое! Умираем с голоду. — Протопоп раскрывал рот, точно рыба, выброшенная на берег.
Игумен ударил в ладоши.
— Принесите нам закуски… Не посетуйте, вы застали нас врасплох, — оправдывался он. — Мы сами тоже не ели. Вот уже три дня, как мы разливаем вино в погребе — май месяц, оно, проклятое, забродило, и так в трудах мы позабыли о нуждах телесных.
— Служили сегодня? — озабоченно спросил протопоп.
— Там, внизу, в погребе, — со святой невинностью ответил игумен, — ведь бог не в одном только месте, он повсюду.
— Да как же это?!
— Прочли несколько молитв и поклонились смиренно.
— Среди бочек?
— Бочки, они тоже драгоценную кровь Христову сохраняют, — разъяснил игумен.
Протопоп, оторопев, не сказал ни слова… тем паче что прибыли закуски. Удивление он проглотил вместе с несколькими кусками сыра. Затем воспоследовали крутые яйца, нарезанные ломтиками, копченый окорок, пастрама из ягненка, брынза, свежее масло, розовая колбаса… И все это омывалось цуйкой из садов святого монастыря.
По мере того как протопоп утолял голод, мягчал и его гнев, который, видно, взыграл от пустоты в желудке.
— А что, если, пока приготовят настоящий обед, нам всем спуститься в погреб? Там еще осталось разлить бочку рубинового. Вся братия внизу, не покидать же их, несчастных…
Гости с радостью согласились. Взяв остатки провианта, процессия бодро протиснулась сквозь узкий вход в погреб. Здесь при свете коптилок монахи, подоткнув свои рясы и засучив рукава, с котелками, горшками и деревянными ковшами в руках, пошатываясь, бродили от бочки к бочке. Уже у самого входа ударял в нос, душил, проникал до самого мозга костей винный дух, пьянящим паром висевший в спертом, пронизанном плесенью воздухе.
Протопоп, задохнувшись, остановился.
— Смелее, — подбадривал его отец Иоасаф. — Это только вначале тяжко, а потом привыкаешь и даже приятно.
Так оно и случилось. Протопоп привык вскорости, как будто бы там родился, среди винных бочонков. И, захмелев, стал тоже слегка пошатываться.
— Что это, отец игумен? Я понимаю, ваше высокопреподобие, вы здесь уже три дня валандаетесь. Но я ведь не выпил и десяти рюмок цуйки…
— Тому виною глубина и застоявшийся воздух, — разъяснил хозяин. — Вы не пьяны и не думайте, будто мы все здесь пьяны. Просто захмелели от винных паров, которые вдыхаем, они во сто крат крепче вина, принимаемого внутрь. А как выйдем на свежий воздух да отведаем жирной пищи — так сразу в себя придем, пока прочтем «Отче наш» — и не узнать тогда, что с нами было.
Протопоп, поверив, отдался на волю дурманящих паров и попечению игумена, который потребовал солидной пищи и устроил там, под землей, весьма приятную пирушку из запасов, взятых сверху. Так, прямо стоя, отведали они голубцов из свинины с кислой капустой, которую монахи держали в погребе в забитых бочонках, и потому она не портилась до самого липеца, то есть до июня месяца; жаркого из свинины, вымоченной в уксусе со специями, а потом зажаренной на гратаре; колбасы, свежей, как утренняя роса, и прекрасной мамалыги — не слишком жидкой и не слишком густой, какую умела готовить только та проворная девица, что служила у святой Пятницы. Все это запивалось вином из глиняных кружек.
В полдень, повеселев, вышли они на свет божий и сели за настоящий обед, поданный в большую трапезную.
— Вот теперь мы закусим, как полагается, — вздохнул игумен и посадил протопопа на противоположный конец стола, а монахов разместил по обе стороны.
Отец-привратник, призванный колоколом, дабы не нарушить приказа, привел кобылу к окну трапезной, чтобы она была на виду у хозяина и за ней следили и ее защищали все святые отцы разом. Кобыла всунула в окно свою умную голову и заржала, словно что-то проворковала хозяину. Ей привязали к морде мешок с овсом, животному тоже ведь закусить надо.
Как раз кончили молитву и собирались приняться за еду, когда, посчитавши, с испугом увидели, что их тринадцать — иудино число.
— Нельзя! Надо найти четырнадцатого, — решил игумен.
Только откуда его взять? Они вертелись по комнате, тщась отыскать четырнадцатого.
— Сними со стены икону Спасителя, поставим ее на стул, а перед ней прибор, как в Кане Галилейской, — предложил в конце концов отец Минодор, румяный женоподобный юноша, баловень игумена.
— Замолчи, дуреха! — одернул его игумен. — Во времена брака в Кане Галилейской Иисус был во плоти и ходил среди людей. Теперь же он наш бог и нас накажет!
Женоподобный не унимался, он продолжал, опустив длинные мягкие ресницы:
— Тогда я не буду есть, а постою за вашей спиною и стану вам прислуживать.
— За мной ты постоишь в другое время и на другом месте, — улыбнулся, смягчаясь, игумен. — А теперь сядь рядом со мною и спой. Недаром ты иеродьякон. Не тревожься, найдем и четырнадцатого.
Вдруг отец-привратник, которому надлежало не сводить глаз с окна, дабы видеть лошадь, из-за чего ему было бы не до трапезы, вскочил, озаренный мыслью:
— А что, если привести в дом кобылу? Тоже ведь божья тварь. Посадим ее во главе стола, чтобы было ей просторнее и чтоб нас не стесняла, повесим ей на голову мешок с овсом, а кадушку с водой на стол поставим.
— Говорят, лошадь равна семи людям, — подтвердил игумен. — Так что мы намного превысим число Искариотово.
Хитроумное избавление от возникшего вдруг препятствия было встречено криками радости.
Угощения следовали одно за другим. Суп с фрикадельками, голубцы, вырезка и отбивные, зажаренный на противне поросенок с капустой и картошкой, тефтели маленькие и большие, величиной с ладонь, шипящие сардельки, из которых, стоит дотронуться вилкой, брызжет сок. И все это окроплено пятью сортами доброго вина, которое пили из глубоких хрустальных бокалов. Поскольку брат Минодор чувствовал большее расположение к женским сладким винам, игумен, его повелитель, в отеческой своей заботе разъяснял ему когда словом, а когда примером и направлял его к винам мужским, крепким, вселяющим мужество.
В самый разгар трапезы кобыла, съевшая многовато, стала исторгать переваренную пищу с непристойным шумом и дурным запахом.
— Скотина, она и есть скотина! — с отвращением сказал отец-привратник, поспешно перевязывая ей мешок с морды на хвост.
Но напрасно. У кобылы были и другие мерзкие нужды. Она без стеснения расставила задние ноги, и полилась та пахучая влага, которая способна отрезвить пьяниц. Лужа достигла ног святых отцов, отчего те были принуждены поднять их на перекладину.
— Выстави ее на улицу, — приказал игумен. — Пускай делает у окна, что ей вздумается.
И Лизу привязали к решетке; кобыла просовывала сквозь решетку голову и, казалось, улыбалась шутке, какую сыграла с монахами.
— Теперь принесите четырнадцатый прибор сюда, ко мне.
И, шаркая ногами по луже, оставленной грешницей, игумен Иоасаф вновь уселся во главе стола. Согласно его приказанию справа и слева ему поставили по миске и по бокалу, а по бокам с двух сторон положили вилку и нож.
— Я, — разъяснял он братьям, — ем по крайней мере за двоих, да вас двенадцать — итого четырнадцать. Но на сей раз, может, одолею и за троих.
Взяв в правую руку ложку, а в левую — другую, он опустил их в суп, потом сунул обе в рот одновременно, как будто ели сразу двое. Тем же манером, вооруживши обе руки вилками, он заглатывал сразу по два куска жаркого и по два колесика огурца, размалывая их с легкостью зубами и смакуя, точно сладости. А когда взял в обе руки по бокалу и чокнулся сам с собою, то воцарилось священное молчание. Все с удивлением и завистью смотрели, как ловко он поднес их к губам и опустошил оба разом, слегка откинув назад голову, и при этом ни капли не пролил.
Обед длился до позднего вечера за болтовней, побасенками и историями, но пуще всего за светскими песнями и стихирями. И не прервался бы, если б не кобыла. Забота о ней протрезвила попа Болиндаке и отца-привратника, попечению которого была она вверена. Отцу же привратнику было желательно поскорее вернуться на пиршество, с которого он принужден был уйти раньше срока.
Где запереть ее на ночь? Поповские страхи — будто ее преследуют разбойники, карауля, чтобы украсть, — усугублялись, подстрекаемые вином, от которого, как известно, тревоги разрастаются по крайней мере вдвое. А тут еще подул ветер и спустилась тьма, так что попу везде мерещились схоронившиеся бандиты.
Монастырская конюшня — развалющий сарай, прохудившийся, грязный, где стояло несколько кляч, — была не для Лизы. Не запереть ли ее в келью? Один черт! Разбойник ударом плеча может высадить дверь. Разве если кто там спать будет. Но заботливый хозяин понимал, что, кто бы, принеся себя в жертву, ни лег с лошадью, все равно спать будет как убитый, без просыпу. В кельях для приезжающих, где крашеные стены и циновки на полах, она снова набезобразничает. Да и кельи эти как следует не запираются.
Отец Нафанаил, старик с пучками бровей, точно два хохолка, упавшие на сверлящие глазки, высказал соображение, что стоило бы запереть ее в церкви. Толстые каменные стены, кованные железом двери, стальной замок с потайным запором и окна высоко — сам дьявол на них не вскарабкается.
Но игумен возмущенно воспротивился и принялся хулить Нафанаила на чем свет стоит.
— Как можешь ты, отец, рассуждать, точно юнец неразумный? — распекал его игумен. — Смеем ли мы осквернять дом господень?
И стали снова обсуждать, куда укрыть кобылу. Пока они изрядно так друг друга мучили, попу вспомнился его забытый дом, попадья, заждавшиеся дети…
— Воротимся домой, отец протоиерей, — забеспокоился батюшка. — Доедем поздненько, однако всех найдем бодрствующими, и стол ломится от угощения. Теперь женка, как я ей и велел, зарезала гусыню и двух кур. Пироги испекла из кукурузной муки. У меня и цуйка, и доброе винцо, за которым можно побеседовать.
Протопоп туго стал соображать и мешкал. Игумен же и другие монахи на них набросились и в один голос со всех сторон твердили:
— Да как такое возможно! Никогда не позволим. Уезжать среди ночи? Чтоб на отца протоиерея напали разбойники? Чтобы у попа украли кобылу? Не разрешаем уехать, и все тут! Слыханное ли дело так попирать законы гостеприимства!..
— Беги, брат, — приказал игумен привратнику, — возьми себе кого-нибудь в помощь, заприте изнутри, как зимой, большие ворота. Чтоб никто не ушел и особливо чтоб никто не вошел и нас не потревожил. Да задвинь их покрепче на засов — словно от бандитов.
И другие гигантские дубовые ворота, что были рядом — у того проулка, через который въехал Болиндаке, — тоже были заперты. Теперь монастырь стал как крепость. Чтобы туда проникнуть, надо было взять его штурмом!
— Ну, что ты теперь скажешь? — спросил игумен.
— Скажу, что кобылу мою скорее здесь украдут, где над ней нету крыши, чем на дороге, — резонно возразил поп на похвальбу игумена. — Выходит, ночь ей здесь проводить посреди двора, и роса на нее падет или дождик намочит. Потому как в конюшню вашу я ее не поведу.
Старец почесал затылок.
— Накроем ее одеялами.
— Нет… Я скажу другое. Оставлю я в монастыре отца протоиерея — пускай живет, сколько заблагорассудится.
— Ему надобно пожить здесь не менее трех дней, как положено в обители, — оборвал его отец-привратник.
— Пускай остается, на сколько захочет, — продолжал поп, — а вы доставите его дальше, куда ему нужно.
— Нет!.. Такое тоже невозможно! Что ж это, ваше высокопреподобие у нас гостем всего на один-единственный день, как первый попавшийся проходимец? — выговаривал ему игумен. Он сидел развалившись, расставив ноги и раскинув руки. — Через мой труп, не допущу такого! — бушевал он.
Тут уж со страху все заголосили и при большом шуме, точно на поле боя, потребовали от гостей послушания и повиновения, как то приличествует священнослужителям.
— С кобылой мы все устроим, сами знаете, она тоже имеет право на гостеприимство.
В этот миг в мозгу отца-привратника жужжала, точно муха, мысль, которую он тем не менее никакими силами не мог изловить. Однако она была, монах это чувствовал. И вдруг он ухватил ее.
— Погодите! — завопил отец-привратник трубным голосом. — Я придумал!
— Что? Что?
— Спустим ее в винный погреб…
— Нельзя, — перебил его игумен. — Вино, проклятое, ведь всякая какая мерзость там случится — оно весь этот запах примет. Довольно она вам трапезную запоганила.
— Да и я не разрешаю, — всполошился поп, задетый, что его кобылу унижают. — В погребе сырость, чего доброго, схватит ревматизм, она ведь нежная. И потом, запах спирта и страшная плесень: мы-то люди, и то от этого захмелели, а она совсем отравится. Завтра придем, а она спит или подохла.
— Другое, — рявкнул привратник.
— Что другое?
— Поднимем ее на колокольню. Первое — никому не придет в голову искать ее наверху, будь то хоть вор из воров. Второе — и захочет, так не сможет украсть. Дубовая дверь устоит и перед пушкой. Запоры с немецкими замками не поддадутся, даже если их будет трясти Самсон, разрушивший капище филистимлян. И наконец, на колокольне чисто и здорово — даже чахоточному побыть не вредно.
— А если у воров разрыв-трава есть и они отопрут замки? — вмешался брат Минодор.
— Ни черта у них нету! — отмахнулся привратник. — Да пусть хоть разрыв-переразрыв-трава будет, и то им с замками не справиться.
Так и порешили. Кобылу напоили-накормили, потихоньку повели под уздцы и, лаская, гладя и похлопывая по крупу, довели ее до входа. Впереди шла белая кобыла, а за ней черная толпа — казалось, она тянет за собой погребальные дроги.
У входа небольшая заминка: лестница узкая, скрипящие и крутые ступени. Кобыла замешкалась, отступила, потом испугано попятилась.
— Не хочет, — забеспокоился поп.
— Захочет, деваться ей некуда! А ну, принесите ведро овса!
И с помощью овса — ведро то подсовывали к самой морде, то ставили как приманку на ступень выше, чтобы кобыла к нему поднималась, поощряя и завлекая ее — тут, глядишь, ласково подтолкнут в спину, там с сердцем переставят ей ноги, — помучившись изрядно, терпением и ловкостью отцам удалось взгромоздить кобылу на колокольню, где они и оставили ее гулять на свободе. Закрыли верхнюю: дверь, чтобы ей не вздумалось спуститься, и нижний вход замкнули множеством запоров, потом замотали цепями, словно на крепостной башне.
И, покончив с этой заботой, успокоенные, вернулись за стол в трапезную, ибо от таких трудов и раздумий почувствовали голод.
— Сегодня по порядку была свинина, — объяснял им игумен свои кулинарные планы, снова поглощая голубцы, вырезку, отбивные и другое жаркое. — Завтра же — день птицы. Позаботься, брат повар. Отыщи откормленную гусыню, поймай того петуха-гуляку, попортившего нам всех кур. Да не забудь влить им в глотки две чашки рому. Соверши набег на цыплят, что вылупились на рождество, наметь примерно с два десятка. Не удалось мне развести фазанов, — с огорчением обратился он к протопопу. — Но мы зарежем несколько каплунов, у них такое же мясо… Слышишь, брат! Да не забудь про голубей для чуламы[9].
Повар кивал при упоминании каждого нового сорта птицы и брал все себе на заметку.
Пировали без устали и ночью, поддерживая себя дымящимся кофе, который стал появляться все чаще, и сигаретами — их скручивали тут же.
Игумен, развалясь в кресле, тоже курил, держа на выставленном вперед колене брата Минодора. Круглые щеки, томные голубые глаза, еле приметно пробивающиеся на верхней губе черные усики, кольца волос, ниспадающих на спину, делали его похожим на ангела, прикорнувшего на груди у святого старца.
Ангел пел мелодичным голосом «Монаха из старого скита», а старец ему вторил. Привратник трубил, отец Нафанаил мурлыкал «Воскресный тропарь», протопоп бормотал заупокойные песнопения.
Заря понедельника застала их за этим благочестивым и веселым занятием. Утро прошло быстро, незаметно и оставило их на том же месте.
В обед прибыли блюда, заказанные накануне, и весь понедельник пиршество шло под знаком домашней птицы, приготовленной в виде супов, соусов, десятка разных жарких — с картофелем, капустой, на вертеле, на противне, в печке, варенных с чесноком и уксусом, а также жареной печенки, желудка, петушиных гузок и грудки каплуна.
По этому случаю переменили и вина — на сей раз на более легкие и игристые.
Свинина, чтоб растворить ее жир, требует вин более терпких, пьянящих, крепких и старых; к птице же идут вина потоньше, повоздушнее — красное, пенящееся профирэ, белое, из которого, как из минеральной воды, выходят колючие пузырьки, а особливо рубиновое, более спокойное и уравновешенное, — оно подходит и к жирным жарким и пирогам из кукурузной муки, а также к пахлаве, печенью с медом и с орехами. Все это выполнялось в точности. Сорта три белого, два — золотистого, как янтарь, и огненно-красное с легким привкусом базилика стояли на столах, разлитые в большие кувшины… И снова песни, на этот раз плясовые, и снова смех, крики и шалости брата Минодора, который, танцуя польку, кочевал из одних братских рук в другие.
Вторая ночь застала их на своих местах, неколебимых, как во время большого, торжественного бденья. За малыми делами они уже не выходили, вдохновленные примером кобылы, память о которой жила еще у них под ногами и по-прежнему отдавала в нос. И потом, отхожее место было так далеко — в конце темного зала, добраться туда можно было только ощупью.
А места у стены много, хватило бы на целый полк, не то что на тринадцать монахов.
Главное же, что на них снизошло просветление, отрешенность, забвение всех забот, точно какое-то колдовство замкнуло их на счастливом острове. Такое, быть может, почувствуем и мы с вами, когда перенесемся в мир лучший. А они были там уже сейчас, и на заре третьего дня, то есть во вторник, игумен поведал братии об ожидавших их благах — то бишь прочел меню, — это будет день рыбный: значит, раки, икра, устрицы, улитки. «Потщись, брат повар! Аминь!»
— Да смотри, как бы не забыть про остропел[10], — не унимался весьма обеспокоенный игумен.
— Остропел из рыбы? — причмокнул протопоп. — Тысячу лет не едал!
— Живите на здоровье еще тысячу, а уж как наш повар его готовит — такого нигде не найдете! Это его гордость!
И игумен, как нектар, проглотил набежавшую слюну.
А потом снова стук, и хлопки, и танцы, и хороводы под кларнет одного из братьев, который скрывал свой талант, пока не получил приказ от игумена.
Третий день — значит, вторник — был, как и решили, днем рыбным, ихтиос. Монастырские пруды, прочесанные неводами, явили миру и прислали к столу, словно в сказке, готовых — вареных и жареных (ибо как иначе мог успеть отец повар все это приготовить?) — лупоглазых сомов, толстопузых карпов, гибких щук, золотистых усачей, сплющенных лещей, линей со змеиной кожей, угрей, устриц, раков в самых разных закусках и видах: в чорбах, в маринаде с луком, с капустой, фаршированных изюмом, орехами, под соусами из чеснока и орехов; потом шли пилафы из раковых шеек, гювеч на противне, с оливковым маслом, с маслинами Воло, пена икры, штабеля раков, красных, как щеки святых отцов.
— А знаете, ваше высокопреподобие, что нужно, чтобы икра вышла порядочная? — обратился игумен к протопопу, вонзая свою вилку в гору икорной пены.
Протопоп не знал.
— Нужен расточитель, который лил бы оливковое масло, и безумец, который бы ее сбивал. А вот у нас брат повар, когда речь идет об икре, он сам себе и рука щедрая, и сумасшедший.
К рыбе и вина идут другие. Значит, переменили напитки, сперва дали вино немножко покислее, чтобы перебить тяжелый привкус тины и болота; потом появились иные, более крепкие прозрачные вина, отдающие коньяком, в которых рыба не плавает, точно в воде, а сразу растворяется.
— Ой! Ты забыл про воблу… — огорчился игумен. — Беги, брат, скорее!
И повар, вспыхнув, поспешил принести вместе с несколькими пучками лучин воблу, которую тут же опалили, побили, посыпали перцем, петрушкой и полили уксусом и постным маслом.
— Форель тоже принести? — спросил повар.
— Принеси немножко, отведаем.
— Форель — здесь? — удивился протопоп.
— Нет, нам присылают ее братья из горных скитов — из Секу и Дурэу — в обмен на водку, которую мы им дарим…
Целого дня вторника не хватило на то, чтобы истощить все дары господни, хотя монахи, как и гости, бились изо всех сил. Понадобилась третья ночь для завершения труда — особливо потому, что рыба и рак требуют в еде тщания. Надобно аккуратно отделить их от костей, очистить от панциря, кожи, разрезать, высосать, обглодать — это ведь не чистая и не легкая работа, как, скажем, со свининой или бараниной. Порой и очки наденешь из-за проклятой щуки, а то зазеваешься и придется брату привратнику лезть тебе пальцем в глотку, чтобы вынуть кость, которая не желает выходить ни с вином, ни с хлебной коркой.
Но закончился и день ихтиос, то есть рыбный.
На четвертый день, иными словами на среду, заказали баранину в трех ее ипостасях: жареный молочный барашек, овца и баран, как обычный, так и холощеный, то бишь кастрированный, и все к ним причитающееся — от мозгов, вымени и головы до срамных мест; пирог с ливером, который зовется еще потрохами, холодный борщ, баранину тушеную, кушанья с эстрагоном, потроха на вертеле и, наконец, кишки, вывернутые наизнанку и вымытые десять раз в воде. Само собой разумеется, все подходящие к случаю салаты: из одуванчиков, жабника, кресс-салат, салат из зеленого лука и чеснока, шпината и особливо салат-латук, взлелеянный на монастырских огородах; а в заключение блинчики с вишневым вареньем, пончики, пироги-вертуты и слойки.
Труднее было выбрать вино. Ягненок требовал одного, баран — другого, к овце из-за привкуса сала нужен был сорт особый, примерно такой же, как для свинины, а супу приличествовали сорта вин вроде тех, что к рыбе. Было решено поставить на стол, чтобы иметь под руками, все сорта, полагающиеся к четырем разным кушаньям: свинине, птице, рыбе и баранине, и пусть каждый пробует и решает, что к чему подходит.
И пятнадцать больших, полных доверху графинов торжественно прошествовали в трапезную и столпились на столе.
— Этот способ, когда вино подается в одних и тех же постоянно наполняемых графинах, — разъяснил игумен, — намного выше той примитивной манеры, что принята в местах развлечений и в большинстве домов, где вино ставится в бутылках, и, опустошенные, они выстраиваются в ряд, подобно плачевным останкам. Это не только портит доброе расположение духа, но и постоянно напоминает гостям, становясь своего рода счетом, сколько они выпили, а у слабых духом пробуждает мысль о мере и тревожит идею сытости и равно всех невольно заставляет думать об определенных нуждах и потребностях, явно связанных с количеством выпитой влаги, которое, будучи непрерывно перед глазами, их пугает. Тогда как при постоянно наполненных графинах, не убирающихся со стола, все происходит естественно, потребность возникает сама собой и отправляется свободно, словно по вдохновенью.
На этом утром четвертого дня, то есть среды, распахнулись врата праздника в честь барашка.
Только что покончили с предварительными закусками — тушеными почками, жареными мозгами, вареными языками, гландами и другими железами в винном соусе, с вареными глазами под хреном и перешли к срамным частям, огромным, как арбузы, когда вдруг до ушей их, закрытых для всех грешных шумов, донесся принесенный неистовым ветром тревожный звон. Они прислушались и узнали. То был большой монастырский колокол.
Звон становился все громче, все яростнее, точно рука великана вознамерилась расколоть колокол.
Дрожь пробежала по спинам монахов. Что за нечистый дух решил посмеяться над ними и над монастырем? По всему видать — дьявол. Это его проделки. Потому что никто другой — дитя человеческое — не мог проникнуть сквозь все ворота и двери…
— Полноте! — произнес игумен после краткого раздумья. — Сатана колоколов боится, он к ним не притрагивается, ибо они освященные. Это может быть только делом ангелов! Узнайте же, что один из них снизошел к нам, недостойным… возвестить о Вселенском соборе. Мы заслужили милость за наши унижения и смиренную молитву!
Но набат все усиливался. Вступил и другой, еще больший колокол, зазвонил, застонал то коротко, то протяжно, точно язык его дергал нечистый.
— Не к добру это, братья… — испуганно произнес игумен. — Берите чудотворную икону и кресты, пойдем посмотрим.
С чудотворной иконой в руках, вооруженные большими и малыми крестами, отцы отважились ступить во двор и издали посмотреть на колокольню, откуда неслись сигналы тревоги. Ничего не было видно. Лишь ураган стонущих звуков сотрясал воздух. Пришлось подойти ближе. Поразмыслили, поразведали, сквозь узкое окошко разглядели, как мечется по площадке привидение в белых одеждах.
— Так и есть, ангел! — подтвердил игумен. — Злые духи — они черные.
Вдруг поп Болиндаке, протрезвев, провел рукою по глазам и завопил как оглашенный:
— Это кобыла!.. Моя кобыла…
И он стал звать ее:
— Лиза, Лизушка, детка, подожди, я сейчас!
Теперь было еще труднее отомкнуть запоры и отодвинуть засовы, обмотанные проволокой, чем четыре дня назад, когда их запирали. После многих усилий дверь поддалась, и все ввалились разом.
Тут и поняли: кобыла, три дня и три ночи без воды и пищи, ржала, тыкалась в окна, пыталась грызть дерево двери, вертелась, металась, билась головой о стены, пока, отчаявшись, не разглядела, подняв глаза, веревки колоколов, висевших над нею, и не принялась жевать их. Она вытянула шею, схватила веревку и потянула ее книзу. Язык колокола пришел в движение и забил тревогу. Когда колокол закачался на крючке и вырвал веревку изо рта у Лизы, кобыла принялась за другую, она в отчаянии ее потянула, и снова раздался звон. И опять колокол сдвинулся с места — вниз, вверх, — и лошадь выпустила изо рта веревку, но не сдалась. Она вернулась к первой веревке, которая теперь не двигалась, и снова схватила ее в зубы, и колокол, дрогнув, жалобно застонал.
Поп проклинал себя, бил кулаками по лбу: как мог он забыть про кобылу так надолго — бедняга осталась без капли воды и без клочка сена! Но теперь она не желала сходить на землю. Взбираясь вверх, она и не видела, какая под нею пропасть. Сейчас, едва высунув голову и завидев круглые ступени, она напугалась, отпрянула и упрямо норовила лечь набок. Никакими силами нельзя было сдвинуть ее с места. Показали ей ведро с водою, манили вниз мерой овса, ласкали ее, понукали, подталкивали, хватали за ноги, вязали веревкой. Кобыла только больше пугалась. Она вырывалась, била копытами, брыкнула нескольких монахов и, придя в бешенство, стала скалить зубы, кусаться, а то и защищалась, повернувшись спиной точно от волков.
Поп Болиндаке плакал, игумен в замешательстве чесал бороду.
— Давайте завяжем ей глаза, — посоветовал наконец игумен. — Она не будет видеть и смело пойдет, куда мы ее потащим.
Закрыли ей глаза платком, завязали его за уши. Кобыла трепетала, как тростинка, не понимая, чего от нее хотят. Теперь она шла, но как слепая, ставя ноги куда попало. За дверью она провалилась бы в пропасть, если бы хозяин не кинулся к ней и вовремя не предотвратил несчастья.
— Так не пойдет! — крикнул он. — Надо ломать стену и расширить окошко. Тогда мы спустим ее на веревках.
Врат Минодор тоже пришел и подал свой ангельский совет: пусть кто-нибудь сядет ей на спину. Почуяв на себе человека, лошадь осмелеет и, ступень за ступенью, спустится на землю. Монахи испуганно переглянулись.
— Что же, вы и садитесь, ваше преподобие, — проворчал, обращаясь к Минодору, привратник, — вы будете полегче.
— Нет, нет, — встрепенулся игумен, напугавшись, не приключилось бы с любимцем несчастье. — Пускай садится хозяин.
Но тот признался, что кобыла не приучена к езде верхом. Выходит, извлечь ее можно, только если расширить окно… И он попросил инструменты, чтобы разобрать стену.
— Погоди! — остановил его отец Нафанаил, старик с кустистыми, нависшими на самые глаза бровями. — Есть у меня управа на твою кобылу! Разрешишь мне сделать, что я намереваюсь?
— Только бы ее не изувечить, — взмолился несчастный.
— Нет, я даже доставлю ей радость, — пообещал старик. — Принесите мне…
Монахи навострили уши, думая, что он попросит цепи, колодки и кандалы.
— Принесите мне полную кадку крепкой водки и бутылку чистого спирта.
Два монаха мигом предстали со странными орудиями, востребованными спасителем кобылы.
Отец Нафанаил подкрался и поставил кадку поближе к злосчастной кобыле. При виде питья она с жадностью к нему прильнула, сделала несколько глотков. Потом остановилась, ноздри у нее задрожали, и она снова опустила морду, отыскивая воду, глубоко вдохнула пьянящие пары, висевшие в воздухе колокольни, и опять притронулась к водке, замотала головой, окропляя святых отцов брызгами. Еще раз с надеждой наклонилась она к кадке, но теперь уже пить не стала. Однако пары спиртного, блуждавшие над кадкой, ее слегка опьянили.
Тогда отец Нафанаил, неторопливо размешивая рукой в ведре овес, щедро полил его водкой. Затем тихонько подтолкнул ведро к кобыле. На этот раз она, ослабев с голодухи, стала есть; через силу, кое-как жевала она овес, размоченный в водке. Съев полведра, она немного повеселела и успокоилась. Теперь легче можно было к ней подступиться.
— Подержите мне ее, братья, и раскройте ей рот…
Двадцать рук схватили лошадь за что ни попало, в то время как отец Нафанаил, всунув бутыль в раскрытый рот кобылы, влил в него крепкий, как огонь, спирт.
— Теперь погодите немножко, она превратится в ягненка, — предсказал старик.
Кобыла тихонько, нежно заржала, мотая, как колоколом, головою, задрожала, раскрыла рот, закачалась в подпитии, опустилась на колени и, окончательно захмелев, улеглась, заснула и захрапела.
— А теперь поднимите ее, — распоряжался укротитель, подводя подпруги под седельную луку.
— Тихонько, стойте, помаленьку…
И ее, как бесчувственный труп, с передышками, от ступеньки к ступеньке, выволокли на землю.
— Положите здесь, на свежем воздухе. После обеда она протрезвится и снова будет в состоянии работать.
— А до тех пор — скорее за стол, ужас как есть хочется, — молвил отец игумен. — Теперь вы можете спокойно ее оставить, — обратился он к отцу Болиндаке, — никакому вору к ней не подступиться.
И так благополучно прошел четвертый день — под знаком барашка, и превеликие почести воздали они отцу Нафанаилу, тому, кто хитростью спустил кобылу с колокольни.
К вечеру кобыла проснулась смурная, выпила три ведра воды, съела две меры овса, зевнула и заржала в тоске по дому.
— Как бы не пристрастилась она к спиртному, — забеспокоился поп Болиндаке, которому показалось, что кобыла ведет себя как-то необычно.
— Позабыли мы о чорбе из птичьих потрохов — и для кобылы, и для нас, — хлопнул себя по лбу отец-привратник.
— Но кувшин крепкого кофе можете влить ей в глотку, — посоветовал игумен.
Только отец Болиндаке и на это не дал разрешенья.
— Оставьте, лучше не надо. Слава богу и отцу Нафанаилу, что мы видим ее внизу. Спасибо и вашим преподобиям за гостеприимство! — крикнул он, приглашая протопопа в телегу.
— Бог вам в помощь! — благословил их игумен. — Счастливого пути и пожалуйте снова поскорее к нам в гости, — провожал он их, размахивая широкими рукавами рясы. — Отвлечете нас от монастырской тишины, от постов да молитв ежедневных.
И гости двинулись в путь, проехав на сей раз под величественным сводом главной арки, где и исчезли, оставив опечаленных, покинутых монахов, красная камилавка протопопа и белый хвост чудесной кобылы, звонившей в колокола точь-в-точь наподобие ангелов.
Когда за дубовой рощей стали поворачивать в сторону, протопоп, будто проснувшись от глубокого сна, вспомнил о ревизии, ради которой приехал…
— Эх, отец Болиндаке, позабыли мы расспросить их да распечь отца Митрофана за то, что не сдержал обещания и не служил у вас в воскресенье. Может, вернуться?
Поп, испугавшись, хлестнул изо всех сил кобылу, и она полетела, как борзая.
— Мы больше не вернемся, потому как, если нас снова поймают святые отцы, не уйти нам от них раньше чем через неделю, и попадья подумает, что нас уже нет на свете…
Протопоп глубоко вздохнул и подчинился.
Перевод с румынского Татьяны Ивановой.
Василе Войкулеску АЛКИОН БЕЛЫЙ ДЬЯВОЛ
В былые времена конокрады жили огромным сообществом, сетью охватившем десятки стран. От западных окраин Австрии, через пределы Турции протянуло оно свои нити, и сходились эти нити далеко, на персидских конных ярмарках.
Кое-где были у конокрадов главари и везде — сотоварищи, подмастерья и ученики, друзья и служители, свои места для ночлега, привалы и тайники, где терялся след лошадей и откуда, словно из настоящих красилен и лабораторий, кони выходили преображенными, сменив не только масть, но и все другие приметы. Свершались чудеса: гривы, которые росли раньше направо, теперь были приучены лежать налево, кони вдруг становились белоногими, шерсть, некогда тусклая, отливала точно вороново крыло, а хвосты укорачивались или, напротив, куделью волочились по земле. Одновременно меняли лошади свой нрав и привычки, обретая иные, и глядишь — прежний рысак превращался в иноходца.
Сердцем этой гигантской державы были Венгрия и Румыния. Венгерская пуста и наш Бэрэган способны были сокрыть целые табуны, украденные из знаменитых конюшен и конных заводов Европы и Азии.
В отличие от других воров конокрады не были обычными разбойниками. Они не грабили и не убивали. Более того, если брали упряжных, то оставляли не только сбрую и коляску, но даже бросали своих кляч, на которых приехали и которые теперь лишь стесняли бы их при погоне.
Некоторые из них достигли большой славы и доказали, что во многих иных отношениях и при иных обстоятельствах это люди чести и свое слово держат. Коли сказали, например, что уведут у тебя лошадь, то уж не успокоятся, пока не выполнят обещания. В общем, можно было на них положиться, пока не завидят они знаменитого каурого или не заслышат о горячем буланом или норовистом караковом. Тут уж они теряли головы. Крали от превеликой любви от чересчур пылкой страсти.
И то сказать, слишком много знати и бояр запутались в их сетях, чтобы считать это обычным воровством. Иногда в игру вступали зависть коннозаводчиков, ревность графов, вражда богатых землевладельцев, подстроенные или неудавшиеся козни, борьба честолюбий — как в современном спорте, — страсти, вполне объяснимые в этих знойных степях, над которыми маячат миражи.
По ту сторону Карпат отличился из всех конокрадов один, по имени Эгон, белокурый, с длинными усами, мягкими, точно желтый шелк, статный, сильный и гибкий, словно тростник, — так клонился он в вихре неудержимого галопа. Эгон стал грозой магнатов, и напрасно те запирали лошадей в каменных конюшнях замками величиной с ведро. Кто знает — была у него разрыв-трава, нет ли, только он везде проходил.
У нас в Валахии славился своими набегами седой человек с голубыми, детски-невинными глазами; был он худ, тщедушен и верток, как змея. Имя ему дали по матери — Амоашей, то есть «сын моаши», повивальной бабки. Чаще всего его мать звали к тяжело рожавшей скотине, потому что широко разнеслась молва о ее легкой руке. Если телок застрянет в коровьей утробе или кобыла принесет полуживого жеребенка, тут уж не обойтись без повитухи. Бывало, скотина громко стонет с закрытыми глазами, а бабка засунет ей в утробу по самый локоть свою сморщенную правую руку, смазанную освященным маслом, плавными движениями гладит, помогая левой снаружи, успокаивает и укладывает развороченное нутро; так ей всегда удавалось и мать спасти, и детеныша живым вынуть.
Конокрад с малолетства сопровождал мать везде, где была нужда в ее искусстве. Звали повитуху далеко — иной раз за пять уездов. Из-за нее чуть ли не дрались. Бояре сами присылали за ней коляски. Или, бывало, вскочит она на коня и мчится во весь дух, чтобы застать в живых рожавшую скотину. А сын — всегда при ней; так он проникал во все конюшни, видел все тайны, знал повадки скота, особенно лошадей; он рос вместе с жеребятами, как брат, и полюбил их больше всего на свете.
Потому нетрудно ему было стать самым большим барышником, а затем — главарем конокрадов. От брода Черны, вниз по Дунаю, через Бэрэган и Добруджу, до самой Херцы Буковины Амоашей приказывал и передвигался, ровно владыка, и страна его была обширнее, чем у Мирчи Воеводы.
Законы большой политики империи конокрадов предписывали владыке пусты подать через Карпаты руку правителю Бэрэгана. Так встретились и побратались Эгон-венгр и Амоашей-валах, и сходились они, когда была в том нужда, в горах десятки раз, в десятках мест, но особливо — по эту сторону Карпат, на наших землях.
В канун дня Ивана Купалы, славного своими конными ярмарками, конокрады съезжались на Лошадином мосту над горой Пентелеул. Там, наверху, под бездонными одинокими небесами, есть величавое плато — люди называют его мостом, — длинное и просторное, как царские угодья, оно утопает в траве и цветах; целые табуны лошадей могут пастись и резвиться на этих лугах, и никто об этом не прознает.
Здесь конокрады обменивались наживой. Лошади, добытые Амоашеем, перегонялись на запад, в Австрию, и дальше. Взятые же Эгоном до времени скрывались в землянках Бэрэгана, а потом двигались к Браиле. С дунайских причалов они переправлялись через Босфор и тут превращались в коней анатолийских или персидских.
И конечно, побратимы обменивались не только кобылами и жеребцами, но и советами, как бы лучше, втихую свести коней с хозяйских дворов. И, рассказывая о своих подвигах, раззадоривали друг друга и состязались в храбрости и ловкости.
Увести простых лошадей — пустяк, забава. Сам главарь такой работой даже брезговал. Посылал ученика. Тут только приманить собак, одурачить хозяина, неслышно шапкой отомкнуть засов, а уж конь идет послушнее ягненка. Для этого правой рукой, как клещами, кладут лошади на храп закрутку, и, зайдясь от боли, она подчиняется. Хозяин проснется поутру, а стойло уже пусто.
С теми, кто посмелее, кто мог взять их за горло, вернее сказать, где они знали — добром дело не кончится, конокрады пускались на разные уловки. Травили дворовых псов, поили сторожей, крепко связывали работников, заговором усыпляли хозяина, и он, против обыкновения, спал без задних ног; тут-то они и грабили конюшни. Для этого случая у них всегда при себе была «мертвая рука», усыплявшая сторожей.
А чтобы окончательно сбить всех с толку, они обували копыта украденных лошадей в другие — из войлока и кожи — задом наперед, так что конские следы заводили пострадавшего в тупик.
Эгон показал себя дерзким, удачливым и храбрым. Правда, иногда чересчур жестоким. Если он видел, что никакими силами не может завладеть добычей, на которую зарился, то пробирался ночью и поджигал конюшню. Охваченные страхом лошади громко ржали, метались, бились о стойла — поднималась тревога. Сами же конокрады кричали во все горло: «На помощь, пожар!..» Хозяева вскакивали, спросонья и впопыхах открывали или выламывали двери конюшни и выпускали коней, те вырывались вон и, ошалев от страха, разбегались кто куда. Тут-то Эгон со своими сообщниками и ловил их. Пользуясь общим переполохом, конокрады вскакивали на них верхом — и поминай как звали…
Что иногда при этом калечились и гибли дорогие кони, а иной раз сгорали целые хозяйства и умирали люди — до этого Эгону не было дела. Он своего добивался.
Амоашей был помягче и дело решал только миром. С хозяевами справиться — для него легче легкого. С лошадьми бывало потруднее… Как-то раз попался ему конь такой норовистый, что никто, кроме хозяина, не смел к нему притронуться, да и тот подходил с приманкой. Так что хозяин перестал даже замыкать конюшню. Припрет, бывало, колом дверь — и только. Потому как хорошо знал: его рысака украсть не удастся. Но вот конокрад положил на коня свой невинный голубой глаз. Пытался он не раз подойти к нему на пастбище. Конь взвизгивал, оскаливался и, повернувшись к нему спиной, как к волку, начинал рыть землю копытом. Такого добром не уведешь. Конокрад — в город, шапку снял, прохаживается, заглядывает в снадобницы. А когда вернулся, подослал в конюшню мальчонку, и по наущению конокрада тот под вечер примешал в овес из кулька какое-то снадобье. Ночью Амоашей объявился с четырьмя забулдыгами, они потихоньку погрузили на носилки каурого — тот не шелохнулся, спал, как младенец, — и преспокойно со двора и вышли. Опиум не так жесток, как огонь, полегче. Эгон, прослышав об этом, поморщился: у валаха бабьи приемы… Но Амоашей и наперед поступал, как ему подсказывали ум и сердце… В другой раз он играючи свел со двора распрекрасную кобылу благородных кровей, да еще обещавшую принести такого же жеребенка. И всего-то ему понадобилось для этого дела око рому, разбавленного крепким спиртом, да переметная сума сахару. Кобыла, не хуже бабы падкая на сласти, напилась в стельку: конокрад за полночи до отвала накормил ее сахаром, смоченным в хмельном спирте, и она по доброй воле вышла из конюшни, весело покачиваясь на всех четырех ногах, она следовала за вором, как за родной матушкой.
Но в конце концов нашла коса на камень. Жил-был в тех краях, около Бузэу, знаменитый боярин, и звали его Маргиломаном-старшим. Род его велся, как он сам говорил, от прославленных конокрадов. Так что с ним шутки были плохи, к тому же был он с властями в дружбе. И Амоашей обходил его стороною.
И все же, когда у старика в конюшне завелся белый, легкий, как ветер, арабский жеребец, Амоашей забыл обо всех страхах и стал ходить около него кругами. Жеребец был норовистый, горячий — сущий огонь, чуткий и такой неукротимый, что с ним, даже стреноженным, не могли сладить четверо. Делать нечего — его не выпускали из конюшни. На свет божий не выводили — ведь, того и гляди, вырвется и убежит — пойди ищи его. Но даже в темноте, спутанный цепями, он метался и вопил, как разъяренная баба, стоило войти к нему конюшим. Нужно было прежде схватить его закруткой, а потом уж нести овес и воду. Ясли изгрыз, перегородки разнес все… О коновязи и говорить нечего. Он бил копытами так, что половицы взлетали до самой крыши. Приходилось его, как дикого зверя, запирать в одиночку: он кусал лошадей, с которыми поначалу его поместили. Служители кликали его не по имени — Алкион, а по прозвищу — Белый Дьявол. Хозяин ожидал из заморских стран объездчика, чтобы приручить его и выездить.
У Амоашея глаза разгорелись от вожделенья, и стал он чахнуть… Конюшня хорошо охранялась и была добротная, каменная, с несколькими маленькими форточками — ласточка и та с трудом проникнет. Дверь — с железными щитами. Сторож спал в соседней каморке. Конь был злее кровожадного зверя. Конокрад дал знать Эгону, и тот, подкрутив свои шелковистые усы, явился.
Ночью они оглядели всю округу; двор за высокими стенами, кованые ворота, конюшню, к которой с трудом подобрались. Оттуда неслись хрипение и топот… Выходит, деваться некуда: надо принимать план Эгона. Да и это дело не простое. Стало быть, длинный шест просунуть в форточку и поджечь изнутри конюшню, или сено, или ясли. Потом разбудить народ во дворе и, пользуясь испугом и суматохой, выкрасть коня…
— Только как выкрасть? — спросил Амоашей. — Ведь огонь его еще пуще взбесит, от тебя Одно мокрое место останется…
— Вскочить на него с разбегу и стиснуть бока ногами. Одной рукой в гриву вцепиться, другой — ухватиться за холку, и езжай куда душе угодно.
— Сам займешься?
— У себя занялся бы сам. Здесь — нет, — ответил венгр, надменно улыбаясь, и они разошлись холодно.
Амоашей просто заболел с досады. И вот скрепя сердце отправился он за советом к одному бывшему конокраду, на старости лет раскаявшемуся, с которым некогда враждовал и ссорился. То был священник Стоян из Липии, горбатый старик с глубоко посаженными черными глазами-буравчиками, глядящими из-под косматых седых бровей, с острым, как резец, носом и бородой, пучком ковыля свисавшей ему на грудь.
Стоян поднял было его на смех, но потом загорелся и сам, и они проговорили долго. По совету священника конокрад взял на подмогу еще одного толкового сотоварища, Скороамбэ из Волчьей Долины; вместе и принялись они за дело.
Первая трудность была — миновать всех стражей, пройти через все заслоны и пробраться на чердак конюшни.
В один прекрасный день Амоашей, гарцуя, подъехал к воротам и сказал, что хочет поговорить с боярином. У него, дескать, есть на примете кобыла — другой такой не сыщешь.
Боярин велел передать, что, мол, «в другой раз», сейчас он занят. Делать нечего — конокрад проглотил пилюлю и, пришпорив лошадь, повернул назад, а батраки дивились на его золотохвостую красавицу рыжую.
— Передайте Маргиломану, что коня я все равно уведу, — надменно бросил Амоашей через плечо. И скрылся.
Прошла почти неделя, и боярин, столичная штучка, укатил в Бухарест. Через несколько часов подъехал на бричке к его имению незнакомый священник и говорит, что, дескать, боярин приказал ему окропить святой водой и освятить конюшню, дабы изгнать из жеребца беса. Управляющие нехотя, но совестясь отказать священнику, согласились, открыли запоры и впустили его во двор. Священник — сразу за конюшню, распряг своих кляч и бросил им по большой охапке сена из брички. Потом надел рясу, набросил епитрахиль, свершил молитву и уехал, оставив целый стожок сена. Когда спустились сумерки, стог задвигался, и из-под него, точно змея, выполз Амоашей. Пока поп снимал чары, а батраки осеняли себя крестным знамением, он вылез через дыру в днище брички, прокрался под лошадиными ногами в стог сена и там спал до самого вечера. Даже не отряхнувшись, весь в сене, вскарабкался он на белую акацию, с нее перебрался на другую и, улучив удобную минуту, спрыгнул на крышу конюшни. Потом, как привидение, исчез в проеме чердачного оконца и там затаился.
Внизу, в конюшне, конь забился, захрапел диким зверем. Но стоило ему немного утихнуть, как конокрад просунул через отверстие под яслями палку с клоком волчьей шерсти и принялся дразнить скакуна, проводя шерстью ему по морде. Жеребец встал на дыбы, потом с грохотом опустился на пол и заколотил задними копытами по двери, по стене — по чему ни попадя, сотрясая до основания всю постройку.
Люди, поднятые с постелей этаким шумом, спросонья с фонарями да ружьями кинулись смотреть, что случилось. Ничего. На жеребца ни с того ни с сего напала падучая. Может быть, он испугался мыши? Кто знает, что померещилось этому дьяволу!.. Они видели в окно, как он бьется, как мечется из стороны в сторону, и глаза его полны ужаса, ноздри раздуваются, а грива встала дыбом. Видно, снова на него нашло. Люди говорили, сглазил его поп, вместо того чтобы снять чары, еще хуже раззадорил. Но слава богу, тут бояться нечего. Пусть бесится взаперти хоть до самого утра. И, успокоенные, они разошлись.
Среди ночи их снова разбудил грохот… Конокрад бесперечь дразнил жеребца, и тот, весь в пене, метался по конюшне, пока не разнес стойло в щепы… Слуги еще внимательней оглядели двери, окна, стены. Опять ничего. Просто взбесился этот черт и час от часу свирепел все больше, а пот так и лил с него ручьями. Валясь от усталости, работники снова разошлись спать — кто на чердаки, кто в лачуги. А конокрад не отставал ни на миг от жеребца, изводил его палкой, как норовистого быка, пока конь совсем не обессилел — ноздри дрожат, дыхание хриплое — и не упал на колени, моля о пощаде. Ведь он, точно мышь в ловушке, бился и извивался в тесной конюшне почитай круглую ночь без устали. Несколько секунд он не приходил в чувство. Потом снова вскочил. И застыл, глаза выкатились, горят фосфорическим светом, ушами от страха прядет, а зубы хищно оскалил. Ну чисто сатана, только сатана, которого оставили силы. Того-то конокрад и добивался.
И вдруг конь оживился, вздрогнул… Внезапный озноб прошел по нему от спутанного хвоста до взлохмаченной челки. Он вытянул шею… С чердака пахнуло чем-то возбуждающе-сладким, пьянящим, запах будоражил коня, щекотал ему ноздри… Потом чья-то мягкая рука подтолкнула к его морде волшебную шкуру, от которой хмельно пахло разгоряченной кобылой.
Жеребец расширенными ноздрями глубоко втянул колдовской дух и, опьянев, снова задрожал, теперь уже по-другому, и заржал нетерпеливо, но беззлобно.
Тут конокрад, как кошка, неслышно подкрался к жеребцу. От этого человека с головы до пят — от его волос, поддевки, от штанов — исходил все тот же магический запах.
Человек размахивал шкурой, смоченной в плодоносном соке. И вдруг жеребец тихонько опустил послушную голову на плечо своему укротителю, а тот ласкал его взмыленную шею, похлопывал по спине — значит, все в порядке. И уж пустяк был для ожидавшего на улице отомкнуть дверь конюшни и выпустить конокрада и его добычу.
Дворовые спали сладким сном третьей стражи ночи. Когда же конокрад выехал за ворота, он сидел на Белом Дьяволе как влитый — будто всю жизнь с него не слезал. На дороге его ожидал второй сотоварищ верхом на горячей кобыле, тихонько ржавшей. Жеребец заржал в знак привета и одним прыжком оказался рядом с нею… Потом они бежали взапуски, как два штормовых вала в море ночной тьмы.
Первой весть о краже жеребца долетела до Эгона. Он был в это время в пусте, где арканил коней из барских табунов. Его сопровождала надменная графиня, потерявшая голову из-за храброго конокрада. Оба верхами на превосходных ретивых скакунах, с арканами у седельных лук, В окружении друзей гонялись за жеребцами по огромным степным просторам. Коней сперва выслеживали в подзорные трубы. А когда на заре журавлиные шеи колодцев вздымались вверх и лошади приходили на водопой, конокрады арканили их, даже не спешившись. Тут начинались бешеные скачки, белый пух так и валил с отцветшего ковыля.
Целые версты «добыча», зайдясь от сдавившей ей шею петли, тянула за собой охотника… Наконец, выбившись из сил, конокрад пришпоривал свою лошадь и заставлял ее поравняться с диким скакуном. Тогда погоня кончалась. Пойманная лошадь от усталости сбавляла шаг, подлаживаясь к прирученной, они шли ноздря в ноздрю, и скачки постепенно переходили в прогулку; так дикарь оказывался среди объезженных коней, и те встречали его радостным ржанием.
Эгона весть эта озадачила. Она заставила его прервать охоту и двинуться к восточному краю Карпат, к Валахии. Впрочем, приближался день Ивана Купалы — самое время ворам встретиться, чтобы уговориться об уже начавшихся конных ярмарках.
Вторым заволновался священник. В ночь набега он на виду у всех пировал на свадьбе. Люди дотащили его до дому и оставили на крыльце, где он валялся несколько дней кряду. Так что власти и не брали его в расчет при дознании. Священник полулежал в постели, притворившись больным, и понапрасну сгорал от нетерпения, ожидая Амоашея, который как сообщнику должен был, согласно уговору, отдать ему часть выручки. Конокрад не показывался. Растревожившись, старик призвал к себе Скороамбэ. Тот ответил, что, дескать, не может, занят… Делать нечего. Поп проглотил обиду и стал прикидывать в уме, как быть.
Последним узнал о набеге на конюшню боярин. Перепуганные управляющие сперва замешкались, они надеялись, что сами изловят воров и вернут рысака восвояси. Отправили челобитную в волостное управление, в префектуру, повсюду разослали лазутчиков, собрали отряды… Но вскоре отчаялись: поняли, что все без толку, и послали боярину в Бухарест депешу о том, что случилось.
Боярин хотя и увяз по горло в увеселениях, но тут же спохватился и — к высшим чинам. Отдали суровые приказы во все префектуры, поставили кордоны во всех таможнях, проездах и заставах, перевернули вверх дном все воровские притоны, обыскали все известные их тайники, схватили и посадили в колодку многих заподозренных, пообещали за поимку тысячу лей в награду. Только все напрасно… Даже кто увел коня — не знали. Первые подозрения пали на Амоашея. Но может, это и кто другой.
В конце концов боярин с пустыми руками вернулся к себе в имение и начал розыски на свой страх и риск — через бродяг и батраков, которыми наводнил базары и ярмарки.
Между тем Эгон ждал в горах, на Лошадином мосту, и прямо удила грыз от нетерпения. Он привел с собой на обмен табун рысаков, но день Ивана Купалы миновал, а Амоашей так и не показывался. Объявились другие конокрады, помельче, с прекрасной добычей. Эгон в их сторону и не глянул. Но все отчаяннее допытывался, где Амоашей и где белый скакун. Никто не мог ему ответить. Наконец со страшной бранью отправился он восвояси, негодуя на пренебрежение, выказанное валахом.
Сыщики Маргиломана добрались тем временем и до попа, и тот встретил их больной и благостный. Он ничего не знал и тем не менее посулил, что попытается выследить разбойника. Только хотел он говорить с самим боярином, и по секрету.
Боярин тут же послал за ним бричку и принял его, как именитого гостя, понимая, что это за птица.
Священник, лакомясь вареньем, потягивая кофе и опрокидывая одну за другой стопочки цуйки, повторил, что ничего не знает. Но обещал, что по мере слабых своих сил начнет розыски и они уж как пить дать наведут его на след белого жеребца. Есть у него свои средства. Пусть только боярин откроет, у кого купил лошадь.
Какая уж тут тайна — у Яни.
Поп, заслышав это имя, глубокомысленно подпер рукою подбородок.
Яни был грек, родом из Пирея, вырос в Венгрии, женился в Буковине; он скупал оптом зерно на Украине, в Австрии славился как барышник, в Малой Азии — как торговец коровами, в Стамбуле был известен как перекупщик «живого товара», а в Молдове слыл знаменитым браконьером и проводил несколько месяцев в году на румынских ярмарках в Галаце и Бухаресте.
— А у Яни он откуда? — спросил священник.
— Откуда? Он аглицкий.
— Быть того не может! — закричал поп.
— Как это не может быть? Мне и давеча коней оттуда доставляли.
— Почем ты знаешь?
— А потому я знаю, что есть у меня все родословные. У скакуна — честь честью — и грамоты все были. Чистокровный. Папашу его так-то звали, мамашу — эдак… — И у боярина аж рот на сторону, пока он слова эти коверканные выговаривал.
— Бумаги-то липовые, — отрезал поп. — Жеребец — из страны, где лошадей не крестят в примарии и не выдают им купчую с именем и родословной. Слишком уж он дик… Ты по имени его когда-нибудь кликал?
— Да, — сказал боярин.
— И он становился добрее, заслышав свое имя, в бумагах записанное?
— Нет… Еще злее, — признался боярин.
— Вот видишь, не его это имя, — важно объявил поп, тряся ковылем бороды. — Надул тебя грек.
— Зачем ему было надувать? По мне, ведь все едино — откуда бы конь ни был…
— Надул, как он есть мошенник из всех мошенников, — разъяснил поп. — Надул, дабы замести следы.
— Замести следы? — удивился боярин.
— Да… Скакун-то краденый, — упорствовал слуга божий.
Боярин нахмурился и наконец вышел из терпения:
— Как так? Говори, если что знаешь!
— Это пусть Яни скажет, коли захочет. Пошли за ним, боярин. Да меня не забудь — позови, когда он пожалует. А потом уж я тебе еще кой-чего расскажу…
Вскоре два гонца верхами — кони по земле стелются — летели к греку с приказом предстать перед боярином. Хоть и был Яни иноземец, но приказу тому подчинился и, не теряя даром времени, отбыл в карете, изготовленной для него в Вене; большая и мягкая, плыла она по дорогам, как корабль по волнам. Ибо Яни не умещался в обычную пролетку: лоб-то у него был с вершок, а вот зад — в три локтя. Пузатый, как бочонок, весь в веснушках и в колючей щетине, с рыжими бакенбардами, кряжистый и тучный, глаза навыкате, красные веки без ресниц, на тонких и кривых ногах-козлах он как две капли воды походил на гигантскую мерзопакостную лягушку в английских одеждах; у грека все было в клетку, все доставлено прямиком из Лондона и сшито по самой что ни на есть последней моде.
Боярин встретил его дружески, хоть и в халате и ночных туфлях. Крепко пожал ему пухлую руку, и не успел усадить в кресло, как словно из-под земли объявился поп. Господин Яни, лишь заслышав о краже жеребца, принялся причитать и до того разошелся, что стал на себе рвать одежду.
— Да как такое может быть? А я-то думал, позвали меня продать каких-нибудь лошадей из ваших табунов!.. Дошли до меня слухи — уж не прогневайтесь! — будто вы много проиграли в штос, и я подумал…
Боярин остановил его великодушные речи, спросив — как научил его пол, — не продаст ли ему конокрад назад скакуна.
— Да как вам пришло такое в голову?! — захлопал глазами Яни.
— Ты, может, и не заметил, — разъяснил боярин. — Может, он совсем на себя стал не похожий, может, его покрасили, царской водкой смазали да еще через пар пропустили, как шелковичный кокон. Где ж тебе его узнать-то?
Господин Яни клялся и божился именем детей и всех родных, что ничего не ведает, но обещал не спускать глаз с товара, который будет проходить через его руки. Боярин может на него положиться.
Когда же принялись толковать, откуда жеребец родом, грек даже подскочил в кресле, глаза выпучил, а руку, которой размахивал, до того сжал, что затрещали суставы. Весь он стал алее пламени… Так-то боярин в лошадях разбирается! Спрашивает, верно ли, что конь аглицкий? Да и на кой тогда важные бумаги и расписка? Да ему за всю жизнь таких оскорблений не было! Да ведь он доставляет коней для гаремов падишаха…
— Ты, может, хочешь сказать, одалисок, — поправил его боярин.
— И кобыл, и одалисок! — горячился грек, не допуская мысли об ином происхождении лошади.
Ничего не могли от него добиться, кроме свирепых протестов, клятв и проклятий.
— Спроси его, боярин, — тут поп дипломатично спрятался за спину хозяина, — а не осталось ли хоть самой малости из старой того коня упряжи, тоже аглицкой?
Господин Яни не мог взять в толк.
— Уздечки, куска седла, удил, наконец, какого-нибудь малого знака…
— Да зачем это надобно? — недоверчиво спросил грек.
Ему не ответили. Он пялил глаза на попа. Удила? Уздечка? На кой ляд? Потом торопливо: нет, он не думает, не помнит…
Боярин насупился. Но конечно, как только Яни прибудет в Галац, то уж непременно обыщет все до нитки. И коли чего найдет, тут же вышлет. Или сам явится.
Чем больше темнел боярин, тем любезней становился Яни. Но напрасно пытался грек его умаслить — дескать, хочет он посмотреть хваленые его табуны, дескать, готов тут же купить и пшеницу, и мед… Старик разъярился и выставил его за дверь да еще велел пошире раскрыть ворота. И тотчас же приказал возжечь курильницу с благовониями и растворить все окна. Господин Яни отбыл, вздымая клубы пыли, в которых, как корабль на волнах, покачивалась его венская карета.
Тут уж и поп отбросил в сторону осторожность.
— Ну, боярин, я так тебе скажу: скакун не аглицкий.
— А какой же?
— Оттуда он, где кони растут злые и дикие, словно кормят их человечиной. От татар или от казаков. Из Буджака, а может, и более дальних мест.
Маргиломан молчал, глаз не поднимая от застланного ковром пола.
— Коли будет на то твое соизволение и твои монеты — пойду по его следу. Я так думаю, что только хозяин, который его растил да холил, может его выследить.
Столковались без труда. Боярин вытащил кошелек и вложил его попу в руки. Уходя, поп сгибался под тяжестью золота, и горб его торчал на спине пуще прежнего. Маргиломан глядел ему вслед недоверчиво.
Вскоре, запасясь разными бумагами и грамотами, поп на своей серой кобыле, привязав к ее хвосту другую лошадь, направился в Барбоши. За несколько дней под цоканье копыт пересек он Бессарабию, с ее светлыми полями подсолнечника, переправился через Днестр и затерялся на дорогах, утоптанных кочующими отарами. Но особливо — как в сказке по следам пепла — тянуло его к местам былых его конских краж, содеянных на этих землях… Он ехал из села в село, от ночлега к ночлегу и повсюду спрашивал, точно в песне, то по-румынски, то по-русски, то по-татарски о пропавшем белом жеребце, горячем и диком, другого такого на всей земле не сыщешь. Сетовал он на то, что нет у него куска уздечки, обломка подковы или стремени, чтоб предъявить их как доказательства, что он владелец коня, дабы ему поверили и наставили на след конокрада.
Усатые казаки слушали его и удивленно поднимали брови. Татары, с глазами за решеткой длинных, как у турчанок, ресниц, принимали его ласково и провожали из аула в аул, потчуя водкой и кумысом.
И сказ о легендарном жеребце, словно ветер, донесся до Кубани, где томился хозяин этого чуда, который, едва о том заслышав, ураганом пролетел десятки верст навстречу чужестранцу, принесшему весть о его Мураде, отпрыске той самой белой кобылицы, на которой Магомет въехал в рай.
К ильину дню священник воротился в сопровождении рослого русского мастерового, не молодого и не старого, в голубой рубахе, приплюснутой кепке с маленьким козырьком, в шароварах с напуском поверх коротких, ниже колен, сапог. Тот прибыл опоясанный разными ремешками, шнурками, веревками, на которых висел весь его инструмент: ножи и ножички, шила и иглы, крючки, рогатки и полированные палочки для холощения жеребцов.
Русский явился к боярину, но тот отложил холощение двухлетних и трехлетних жеребчиков, потому что стояла жара. Впрочем, ему разрешено было оставаться при боярском дворе до весны, когда погода будет благоприятствовать.
Русский между тем отправился бродить по деревням. Были там и кабаны для оскопления, и бычки для холощения, и запаленные лошади, и засекшиеся упряжные, и овцы, страдавшие сибирской язвой; он все науки превзошел и лекарства имел от любой болезни. Иной раз помогал ему поп — тот служил толмачом и зарабатывал на этом кой-какие деньги. Достойный человек был этот русский. Выпить был не прочь, но вел себя весьма уважительно. Одна водилась за ним слабость, от нее не мог бедняга избавиться: день и ночь насвистывал он казачью песенку. Где бы ни появился — в деревне, в хлеву, на ниве, — где бы ни проходил — мимо двора, мимо гумна, по городу или по чистому полю, — везде, куда б его ни занесло, он знай себе насвистывает. А потом стоит и прислушивается, нет ли отклика. Однажды выбил плечом дверь постройки, откуда помни́лось ему в ответ ржание.
Так, позвякивая инструментами и насвистывая свою песню, странствовал он — один и с попом вместе — по всем ярмаркам, большим и малым. Не было теперь для них ни одного нехоженого города, ни одной неизведанной вотчины, ни одного обойденного табуна. Длинные, просторные дни, пропитанные синью, провели они в дороге. Исходили вдоль и поперек весь Бэрэган, проплыли вверх и вниз по всем рекам, обшарили прибрежные пещеры, землянки, лачуги Власии. Порою снова возвращались на Яломицу, там делали привал, а потом спускались к Галацу. Спали на нивах под присмотром звезд, и огромная кобза поля стрекотала над их головой; умывались росою, а пили дикое молоко недозрелой кукурузы… Так протянули они нити, заткали основу, завязали связи, сплели новые неводы, зачинили износившиеся сети в старых притонах и новых, к которым с трудом пробрались. Ничего!.. Одно только всплыло: якобы найден был когда-то где-то на обрыве труп приземистого человека и рядом павшая белая лошадь. Стало быть, выходило, будто Амоашей покинул нашу землю. Только ведь поверили этому одни недоумки и еще те, кто не точил на него зубы. Русский же с попом неслись к тому месту не щадя силы. Прискакали — никто ничего не видел. Слышать слышали, только это не здесь было… И труп человека с падшим белым конем растворялся, стоило к нему приблизиться, точно призрак, вставший из мертвой воды. А потом снова замаячил на горизонте.
Но это не отвратило ни попа от его упорства, ни казака от его посвиста.
Созрели арбузы… Уже олень справил свою нужду в воду, и преображение сзывало толпы купцов, барышников и воров на другие прославленные ярмарки страны.
Эгон злился, но все еще выжидал, пока графиня, задетая за живое, не вывела его из терпения, и он не порешил перейти горы и смешаться с ярмарочной толпой, дабы напасть на след неверного товарища и его проучить. Изменив обличье и одежды, Эгон с графиней и со своею челядью пробрался через перевал Бузэу к сердцу Валахии, гоня табун венгерских лошадей. Потом они скрылись в притонах, где их встречали земными поклонами, но смотрели за ними в оба.
Лазутчики сообщили попу об этом немедля, и святой отец посторонился, освободив венгру дорогу для расправы над Амоашеем. Однако велел следить за каждым шагом Эгона. А сам занялся другими делами.
По рассуждению священника, Амоашей, чтобы легче поверили, будто он умер, порвал со всеми старыми друзьями и завел себе новых. У одного — единственного, заподозрил поп, могут быть сведения о конокраде. У старого его ученика и сотоварища по воровским подвигам — Скороамбэ из Волчьей Долины, того самого, что помогал Амоашею в последней его краже.
Поп тут же уведомил Скороамбэ, что ищет с ним встречи. Тот прикинулся дурачком. Тогда священник, оставив русского, подвязал полы рясы, сел верхом на кобылу, и к вечеру его горбатая, усталая фигура появилась перед воротами Скороамбэ. Постучал. Свора псов со страшным лаем кинулась на него, готовая растерзать в клочья. Вышла жена Скороамбэ. В оглушительном шуме священник едва разобрал из ее ответов, что хозяина нет дома… Вот уж почти месяц, как уехал, и где теперь — неизвестно.
Святой отец попросил у нее пристанища — не идти же ему назад ночью. Женщина, злыдня, приютить его отказалась, кивая на то, что, мол, хворает ребенок — будто саднит у него горло. Даже ворота не приоткрыла, не подала страннику воды напиться, а быстро вернулась в дом, оставив его разъяренным псам на растерзанье.
Священник, взяв под уздцы лошадь, потащился прочь, а сам нет-нет да оглянется. На другом конце села тайком зашел он к добрым людям, и они не знали, как лучше приветить этого слугу господа бога.
Вот тут-то, слово за слово, и узнал он, что Скороамбэ дома, только скрывается. Подучил жену отвечать, будто он уехал, потому что боится всех на свете — как бы не украли его великолепную кобылу, которая ему дороже жизни. Так и спит на конюшне. Из-за нее-то во дворе и свору бесноватых собак держит. Ночью чуть какой шорох — Скороамбэ из дому и с ружьем наготове.
Священник переспал на крыльце, поднялся с петухами, тайком вернулся к дому, откуда был изгнан, и устроил около него засаду. Подождал немного — дверь конюшни заскрипела, и оттуда вышел человек с ведром — набрать воды в колодце. Священник окликнул его по имени. Делать нечего — Скороамбэ пойман был с поличным. Пришлось ему подойти хотя бы к изгороди. Старик осведомился о его здоровье, о делах и еще попросил, не поможет ли ему Скороамбэ повыгодней распродать скот.
Скороамбэ отрезал: мол, ему недосуг. Только что вернулся и сегодня снова уезжает.
— Кобылу продавать, — поспешил он добавить.
— Правильно делаешь, — подхватил поп. — А то ведь вся деревня с нее глаз не сводит. Далась им эта кобыла. Будто других нету.
Скороамбэ пожал плечами.
— На днях, — продолжал поп, — я тайком встречался с Амоашеем.
— С Амоашеем? — разинул рот конокрад. — Быть того не может!
— Почему ж не может?
Скороамбэ не ответил.
— Он не зря приехал, — улыбнулся поп. — Я ему пригоршню монет в шапку насыпал.
Конокрад молчал.
— Все о Маргиломановом скакуне хлопочем. Про тебя тоже шла речь. Такой же он завистник и скряга остался, наш друг-то.
Скороамбэ навострил уши.
— Убивается, что подарил тебе кобылу, — добавил поп. — Товар что надо! Не сегодня-завтра сведет ее ночью. Так я думаю, очень уж глаза у него горели, когда о ней речь повел. Никак ее не забудет.
И, вонзив Скороамбэ нож в самое сердце, батюшка удалился.
Наутро вся Волчья Долина дрожит от страха. Село гудит, как растревоженный улей. На кладбище обнаружилась свежая могила, а между тем вроде вот уж несколько месяцев никто не умирал и никого не хоронили. Не иначе как чужаки бросили здесь своего покойника. Кто знает, может даже, и убийца так следы заметает… Только, видно, убитому не спалось в могиле; вурдалаком в развевающихся белых одеждах бродил он по селу и стучал засохшими костяшками пальцев в окна к добрым людям.
Женщины не пускали детишек из дому, и с наступлением темноты село вымирало. В страхе пород привидением люди задвигали все засовы. Помани их золотом, и то бы не открыли. Дверные петли натирали чесноком, смоченным в святой воде, рамы кропили базиликом. В окнах выставляли иконы, и около них день и ночь горели свечи.
На четвертую ночь, когда страх достиг апогея и собаки — круглые сутки начеку — с лаем кидались на прохожих (правда, тут же замолкали), у дверей Скороамбэвой конюшни раздался грохот. Из конюшни доносилось лишь хрипение кобылицы. Новый грохот, еще более громкий, и третий раз — даже дверь заплясала, вот-вот соскочит с петель, — тут уж сам хозяин зашевелился. В щелке двери с ружьем показался грозный Скороамбэ. Но… крик застрял у него в горле, и он камнем упал на землю. Перед ним развевались белые одежды вурдалака: голый череп с глубокими глазницами сидел на костяшках шеи, от нее шли рядами белые ребра, они напоминали позументы на дырявой грудной клетке, которая опиралась на раскоряченные ноги уродливого, оскалившегося скелета. Наутро Скороамбэ без чувств нашли на пороге; он лежал на ружье с бессильно раскинутыми руками. Хорошо еще, что ружье не разрядилось. Конюшня была пуста, кобыла исчезла. Собаки же по-прежнему трудились, обгладывая мозговые кости, такие огромные, что с ними и не сладить.
Тут село отправилось раскапывать могилу и вбивать вурдалаку кол в сердце… Только оказалось, что это вовсе не могила, а просто взрыхленный холм, под которым нашли дохлого петуха… Впрочем, с этого дня и вурдалак перестал появляться.
Скороамбэ долго покою не давал призрак. Он бредил несколько дней, как в тифу, пока не посетил его старый священник, не помазал лампадным маслом, не прочел над ним молитву и тем не поставил его на ноги…
С трудом убедили Скороамбэ, что всему виной не вурдалак, а хитрости Амоашея, который давно задумал свести со двора его кобылу… Сразу видно, это его проделки! Ведь иначе если бы вурдалак был настоящим, то зачем ему кобыла?
На исповеди Скороамбэ признался, что, расставшись после кражи скакуна, с той самой ночи, он ни разу не видел Амоашея и не знает, где тот скрывался. Но он клянется на кресте и на Евангелии, что разыщет его и в змеиной норе и теперь-то уж непременно выдаст, дабы отомстить за причиненный убыток и за злую шутку.
Священник наставил его при встрече с Амоашеем притвориться, будто он не знает, кто свел у него со двора кобылу. И еще сделать вид, будто пришел к нему поплакаться и попросить совета. И даже намекнуть, что подозревает в краже кобылы самого священника, чтобы тем самым войти в доверие к конокраду. И обезумевший от гнева Скороамбэ обещал, что так он и сделает.
Со всех сторон ловцы надвигались теперь на Амоашея, и против него расставлены были четыре сети.
Эгон с графиней — об этих его тут же предупредили, и за ними он шпионил через людей из шайки самого венгра.
Священник и русский — зачем последний был нужен, Амоашей не слишком понял. Тут он больше всего боялся подвоха.
Маргиломан со своими шпионами да с прихвостнями властей — об этих он позабыл и думать. И наконец, Скороамбэ, о беде которого он уже знал, но о вражде которого не догадывался.
Ловцы действовали вслепую, наугад, и он оставался для них невидимым и недостижимым. Будь у конокрада любовница, тогда было бы легче — все-таки в руках нить. А тут — никакой зацепки. Говорили, ему по сердцу молодые кобылки, которых он тщательно себе отбирает. Будто в год меняет он их по две. Конокрад посмеивался, когда слышал это, но не отнекивался, пускай люди верят. Ему это на руку. Оно даже безопасней.
Так как Эгон зарвался и не только не уезжал, но и подошел совсем близко к одному из его тайных убежищ, Амоашей подал ему знак, чтобы венгр вел себя потише. Но тот упорствовал, и Амоашей решил, что его проучит.
Однажды утром в Бузэу лудильщик, перепачканный сажей и обвешанный гроздью кастрюль, вошел во двор префектуры; посуда звенела у него за спиной, как колокола собора, а сам он кричал во все горло: «Лудим кастрюли!..» К нему тотчас же спустился сам исправник Мардаре, и они торговались, как цыгане, битый час, пока не договорились о полуде медной посуды.
Прошло еще немного времени, и один из людей Эгона привез венгру весть, будто видел, как Амоашей ввел белую лошадь в конюшню заброшенного имения на окраине деревни Падина. Эгон подкрутил бравые усы, собрал свиту и, немедля отправившись к имению, устроил засаду за холмом у деревни. Оттуда он через подзорную трубу стал наблюдать, что творится в конюшне.
К вечеру он разглядел белого коня, взметнувшегося на дыбы, и какого-то человека, который его едва сдерживал. Мелькнули, как молния, и исчезли. Коня и человека поглотила конюшня. Но Эгон взвыл от радости. С трудом дождался он ночи и дал своим команду скакать к зажатой кольцом скотных дворов конюшне. Он сам первым перемахнул через стену, а за ним остальные; точно привидения, они окружили конюшню. Прислушались, потом Эгон легко взобрался на окошко и, спрыгнув в конюшню, упал в объятия верзилы, который подстерегал его заранее. И тут из конюшни, со двора, изо всех углов толпою хлынула стража во главе с исправником; они схватили конокрадов, крепко-накрепко связали и отправили их в погреб. Так гордец Эгон вместе с графиней и всей своею свитой попал в капкан, без труда расставленный валахом. Хитрости потоньше конокрад хранил для священника. Скрутив венгра, он лишь потирал руки. На попа же облизывался, как на лакомство.
Весть о провале Эгона тут же разнеслась среди конокрадов. Теперь священнику опять открылась дорога. Он хотел знать, с какой стороны ему грозит бо́льшая опасность. Значит, надо беречься властей и Амоашея… Священник призвал на совет Скороамбэ. Венгр от большого ума решил, что перед ним скакун с Амоашеем. Он и не понял, что все это был обман, что и лошадь, и человек — приманки. Но это было сигналом, что конокрад близко, что он работает тайно и бьет сильно и без промаха. Значит, надо соблюдать осторожность.
Скороамбэ опорожнил мешок с вестями… С конокрадом он встретился в Галаце. Они удалились в трактир, где Амоашей хотел напоить его на славу, чтобы вытянуть из него все, что он знает о священнике и других старых его товарищах, а особливо — о русском. Скороамбэ притворился пьяным и пошел нести всякую околесицу. А когда речь зашла о краже, то изложил свои подозрения по поводу батюшки. Тут Амоашей якобы засмеялся своим заливистым смехом и сказал:
— Куда ему, бедолаге, ни в жизнь он такого не сделает… Никогда ему не додуматься до этой затеи с привидением. Тут видна рука человека храброго и хитрого… Скорей всего, это Эгон, посланный своими людьми. Или, может быть, я, как ты думаешь? Скажи, ты меня не подозреваешь?
Тогда он будто снова улыбнулся Скороамбэ. И, расплатившись, тотчас же исчез — как наваждение. Позже Скороамбэ признал Амоашея в хромом чернеце, в меднике с кастрюлями за спиной. Но выслеживал издали, чтобы конокрад не распознал его, иначе лежать ему в сырой могиле!..
— Где он? — алчно выспрашивал поп.
Все в Галаце. Посему он тотчас же заподозрил, что если конокрад вертится там, то уж, без сомнения, у него с Яни на дороге назначены встречи… И уж конечно, по поводу скакуна. Стало быть, и конокраду прискучило жить под таким надзором и захотелось его избегнуть и от заботы избавиться.
Священник, довольный, поддакивал.
И Скороамбэ рассказал священнику, какие предпринял меры. Прежде всего заслал в помощники конюха к Яни своего человека, серого, ничем не приметного парнишку, который притворился придурком. Он состоял при лошадиных хвостах, блюдя их чистоту, и прислуживал за столом батракам стоя, точно боярам. Водку таскал им целыми ведрами. Ему дан наказ смотреть во все глаза и в особенности слушать во все уши.
Скороамбэ, подвязав седую бороду и волосы, облачившись в благопристойную валашскую одежду, снарядил телегу, запряженную двумя молодыми бычками, погрузил на нее бочку цуйки и полный бочонок уксуса и пригнал все это к конюшне Яни. День и ночь сидел он там в своей крытой телеге, набитой сеном, и, как паук, плел паутину вокруг тех, кто входил и выходил из конюшни.
— Жду, что мне попадется монах или медник… Вот и жалко терять здесь время, — заключил Скороамбэ и поспешно скрылся, пообещав давать о себе вести.
Оставшись один, священник стал думать думу. И решил: нечего ждать от других известий.
Давно миновала Малая Пречистая. Священник — теперь прямой как свеча, в одежде липованина, метелка бороды подстрижена и подкрашена в золотисто-желтый цвет, за спиной сеть — смешался с толпою бродяг и рыбаков Галаца. Ночи проводил он в землянке, скрытой в полях созревшей кукурузы, волны которой с трех сторон наступали, готовые поглотить город.
Там, растянувшись на земле и заложив руки за голову, глядел он на небо — как кружатся в хороводе звезды; задремывал поздно, завидуя сну казака, забившемуся барсуком в землянку.
Утром и вечером наведывался он к телеге валаха, где не спеша выкушивал стопочку водки или наполнял штоф сливовым уксусом для мамалыги с вареной рыбой.
От эдаких мучений и от ожидания его одолела болотная лихорадка и трясло его каждые два дня с такою силой, что зубы у него стучали, как костяное било. Он дрожал мелким бесом, но уповал на то, что страдает недаром.
Скороамбэ напал на след Амоашея. Парнишка из конюшни выведал, что там втайне готовятся принять дорогую лошадь. Петля затягивалась. Однажды ночью, когда подвыпивший казак в сотый раз поведал, как он вырастил Мурада — холил его и лелеял пуще, чем самого царевича, — глядь: перед ним, откуда ни возьмись, Скороамбэ. Он узнал, что старший конюший получил от Яни приказ подвести на заре к его крыльцу коляску в сопровождении двух вооруженных конюхов верхами. Это поведал сам конюший батракам за стаканчиком цуйки; ему, сказал он, грек открыл, что должен встретиться с одним купцом для покупки лошади… Но застенчивый купец не хотел сводить свой товар в город. Он просил разрешения встретиться за городской чертою на скошенном кукурузном поле, у бывшего турецкого редута. Уговорились быть там на восходе солнца. И чтобы конюший вместе с двумя верховыми попридержал купца, если тот переменит свои планы.
Из рассказа конюшего, как это передал парнишка, Скороамбэ стало совершенно ясно: конокрад уговорил грека принять коня втайне. У него не хватило смелости привести скакуна в город даже ночью. Может быть, чувствовал слежку.
С другой стороны, Яни не пошел бы на сделку, кабы речь не шла о коне, по которому он сохнет, то есть о белом Алкионе.
— А деньги? — вымолвил священник.
— Про это парнишка ничего не слышал. Думаю, грек привезет их.
— Но если по дороге его ограбят? — И батюшка, прикрыв один глаз, заговорщически пожевал бородку.
— Тогда жеребца упустим, — возразил Скороамбэ. — А так захватим и коня, и грека, и хозяйскую награду за голову Амоашея.
Святой отец вздохнул с облегчением.
— Молодец, Скороамбэ… Ты меня осмотрительней. Я-то в одних лошадях смыслю, в людях же ошибаюсь, — закончил он, лукаво вздыхая.
Но втайне подумывал: хорошо бы избавиться и от русского, и от боярина и, вырвав скакуна из когтей конокрада, оставить его одному себе на радость.
После торопливого отъезда Скороамбэ священник всю ночь провел как на угольях, терзаясь тревожными мыслями. Мучительно пытался он себе представить, как встретятся грек с конокрадом, и не мог. Кто кого надует?
Он так и видел Яни в пролетке с зажатым в ногах мешком денег. А Амоашей? Верхом на жеребце или ведя его под уздцы? И как передаст его? То есть как произойдет обмен? Грек протянет конокраду деньги. Но как тот вручит греку лошадь? Ведь разбойник может, сидя верхом, схватить деньги и дать деру. Три скачка — и он уже далеко, а Яни остался с носом… До Яни ему какое дело — только о себе его забота. Значит, непременно нужно, чтобы конокрад вначале спешился… И священник ужаснулся глупости грека.
Но он все возвращался к тому же. Может быть, грек, как человек осмотрительный, потребует, чтобы до начала торга коня передали его людям, и только потом отсчитает деньги. Здесь поповские мысли окончательно смешались, и он совсем запутался. Но быть может, слуга удержит коня, невзирая на его норов?
Батюшка поочередно влезал в шкуру каждого — то конокрада, то грека, силясь предугадать их мысли и защитить интересы. В своем воображении он поучал их, какие меры должен принять каждый, дабы не быть обманутым и, наоборот, провести другого. Потом, оставив их в покое, вернулся к себе и к русскому. Предположим, что Яни купит скакуна. Как заполучить его у грека прямо там, на месте? Казак поручился, что ему не понадобятся ни люди, ни оружие, ни даже петля. Только бы это оказался его Мурад — казак у дьявола его вырвет, не то что у человека. А он как идиот… Послушался этого дурня. Даже не задержал Скороамбэ… И все — тут он себе признался — одна только жадность. Теперь он видел, какие совершил ошибки: грек уведет у него добычу из-под носа. И еще до наступления темноты погрузит ее на корабль и увезет в Стамбул. Что еще может прийти в голову Маргиломану?
И снова его охватила дрожь: а если конокрад знает, что за ним идут по пятам? И сам напал на след их? Может, даже через Скороамбэ, может, тот подкуплен? И, стакнувшись с Яни, расставил ему капкан, как Эгону? В конце концов, чего и удивляться сделке между греком и конокрадом? Один берет деньги, другой — лошадь. Если Яни продает властям конокрада, то потеряет лошадь. — конь попадет тогда в руки боярину. Значит, ему нет смысла быть нечестным. Амоашею, таким образом, нужно избавиться от скакуна, к которому он попал в рабство, и снова выйти на свет божий — к новым делам и наживе. Между ними стоял единственный недруг — он, священник… Может, они сговорились его уничтожить? До самого рассвета батюшка не сомкнул глаз — так мучили его тревожные мысли. На заре он порядком помаялся, пока проснулся казак, который спал как убитый…
Рассвет застал попа с русским в высокой и густой, как завеса, кукурузе; и вдруг они увидели коляску грека: убранная с истинно восточной роскошью в золото и пурпур, она въезжала в полосу укреплений. На козлах, кроме кучера, сидел конюший, а два гайдамака с карабинами скакали по обе стороны.
Немного погодя зашуршала кукуруза и с противоположной стороны выскочил на белом коне Амоашей, держа рядом на поводке другую лошадь. Поп подтолкнул локтем русского — мол, погляди, что происходит. Русский глазам своим не верил. Он ожидал, что его любимец переменился. Такого он и не мог себе представить. Конокрад не посмел коснуться лошади. Не решился осквернить ее великолепия. Свет играл на ее гордой белизне, как на мраморе, Русский не стал долго думать, он засвистел своего казачка, с которым обошел — как с разрыв-травою — всю страну от края до края.
Белый жеребец под конокрадом остановился как вкопанный, навострил уши, задрожал и, вытянув шею в направлении зова, ответил долгим ржанием. Он застыл, прислушиваясь к звуку. Все повернули голову. Конокрад, заподозрив ловушку, схватил поводья зубами, раскорячил ноги, вонзая шпоры, и потянулся за пистолетом. Но не успел его вынуть: из кукурузы выскочил казак и одновременно послышался по-русски окрик: «Стой!» Конь застыл белой скалою, не сводя глаз с хозяина. Напрасно конокрад вонзал ему в бока шпоры. Теперь никакая сила в мире не могла сдвинуть его с места.
Русский облегченно вздохнул — словно гора с плеч — и отдал новый приказ. Конь вздрогнул. И прежде чем конокрад спешился, Мурад рухнул на землю, подмяв под себя левую ногу всадника. Все, даже стоявшие далеко, слышали, как кость хрустнула.
Еще один приказ хозяина, и жеребец вскочил, оставив конокрада на земле.
И тогда казак, обезумев от радости, крикнул: «Мурад!», а конь, словно желая обнять его, встал на дыбы и устремился к нему навстречу. Священник позднее рассказывал, будто он видел у коня на глазах слезы. Прыжок — и русский оказался в седле. С быстротой молнии ринулся он на коляску и вырвал мешок с деньгами из рук окаменевшего грека. И, залихватски выругавшись, прежде чем кто-либо пришел в себя, скрылся на востоке, поглощенный солнцем, в которое вошел, как в гигантское поле света. За ним оторопело бежала кобыла, приведенная конокрадом; она ржала, призывая исчезнувшего скакуна.
Перевод с румынского Татьяны Ивановой.
Раду Косашу ОЛИВКОВАЯ ВЕТВЬ
Тинибальда предложила уйти в горы, на Пьятра Краюлуй, чтобы забыть обо всех и вся. Я любил ее. У нее были широкие бедра, но ей на это было наплевать. Совершенно. Ее не волновало, что тесные платья, которые она носила, не шли ей, зато Тинибальда обожала яблоки джонатан и грызла их постоянно, остальное, говорила она, неважно… Она верила в мой талант, но, когда я спрашивал, что она больше всего в нем ценит, отвечала, что я и без подробностей не умру. Что ж, не умру, конечно, другие и от голода не умирали. Ее отец, к примеру, в тридцать восьмом объявил голодовку. Ну и что, умер? Не умер. После его пятнадцатилетнего участия в профсоюзном движении — с сорок пятого по шестидесятые годы — Всемирное общество защиты мира назначило ему пенсию. Тинибальда боготворила его, но меня с ним не знакомила.
— Вы психологически несовместимы.
— С чего ты взяла, что я психологически несовместим со старым подпольщиком?
— Уж поверь мне… Поехали лучше в Пьятра Краюлуй.
Моих денег не хватало даже на то, чтобы доехать до вокзала в Китилэ. Тинибальда заявила, что деньги — это вообще не проблема. Я расхохотался, и она потащила меня в кино.
Мне всегда везло на девчонок, которые просто с ума сходят по кино. Мое амурное образование шло рука об руку с кинематографическим. Я ни за что не сумел бы отделить одно от другого. Между ними была диалектическая взаимосвязь. Тинибальда появилась после «Сказания о земле сибирской» и «Кубанских казаков»; итальянский неореализм она заедала хлебом и яблоками. Она любила есть фрукты в кино и напоминала мне одну частную преподавательницу французского, которая в соответствии с сезоном приходила на занятия то с черешней, то с вареной кукурузой, то с черносливом. Она не давала мне сосредоточиться. К тому же еще и чавкала. А вот Тинибальда ела тихо и незаметно, в полутьме, никому не мешая. Она, можно сказать, смаковала фрукты. Нищета и пафос итальянцев захватывали ее, мелодраматизм не раздражал. «Ну и что с того, что это заставляет меня плакать?» — говорила она. С «Двух грошей надежды» Тинибальда вышла «мокрой тряпкой» — ее выражение — и в молчании шмыгала носом до самого дома. Держась за руки, мы поднимались по неосвещенной черной лестнице, я чувствовал, как вздрагивают ее плечи — она плакала. На втором этаже я прислонил ее к кухонной двери адвоката Маноловича и поцеловал долгим поцелуем. Она была податливой, мягкой и теплой. Вдруг за дверью послышалось: «Марчеликэ, ванна готова!» Мы быстро поднялись к себе.
Это вовсе не означает, что после «Сказания о земле сибирской» со знаменитыми кадрами концерта Листа и озера Байкала она выходила в более радужном настроении. Черта с два! На Пырьеве она просто белугой ревела.
— Дай нареветься всласть, в противном случае я ничего не пойму.
Я и не мешал, но как понимать это ее «в противном случае»? Можно сказать «иначе», «а не то»…
— Почему ты не говоришь нормально?
— Откуда мне знать, почему я не могу говорить нормально, когда плачу?
Она была права. Я поцеловал ее посреди улицы.
Одно только мне не нравилось — горы. Если уж ехать, чтобы забыться, то на море. Но Тинибальда не поддалась на мой маневр. На нее иногда накатывали припадки холодной и острой ревности:
— Я не собираюсь ездить по следам твоих романов.
Она знала о Диане, потому что прочитала «Границы» в рукописи — умяв при этом четыре джонатана. Роман ей не понравился, но все же она не отшвырнула его.
— Я прекрасно понимаю, почему его не напечатали, — свирепо провозгласила она, стерев с груди сок от яблок.
— Сам знаю почему. Я пишу не для публикаций.
— Для чего же?
— Чтобы ты плакала.
— Ну так я не плакала. Когда ты выглядишь дураком — я не плачу. Я ни за что не опубликовала бы его, — повторила она приговор.
— Года через два-три он появится, вот увидишь, — настаивал я, раздражаясь.
— Через два-три года ты уже не будешь со мной. — И она повернулась лицом к стене.
— Знаешь, у тебя плечи точь-в-точь как у Дианы…
— Даде-даде, — ответила она, следуя нашему уговору. Как-то, в одно из воскресений, на рынке, когда мы покупали у крестьянки из Ардяла сметану, та, отвечая соседке по прилавку, произнесла непонятные слова: «Даде-даде». Товарка тараторила, ругала ее за то, что она любит недостойного человека, но арделянка вместо объяснений лишь твердила: «Даде, даде»… «Что значит даде-даде?» — спросила Тинибальда, поддев пальцем огромную глыбу сметаны. Арделянка рассмеялась: «Да вроде как ладно-ладно». Вот мы с Тинибальдой и уговорились каждый раз, если только между нами будет возникать опасность военного конфликта, как заклинание, говорить друг другу «даде-даде», чтобы отвести призрак надвигающейся ссоры. Само собой разумеется, что за такой ответ я долго целовал предложенное мне плечо, наконец она повернулась ко мне и прошептала, что если мы не поедем в Пьятра Краюлуй…
Горы совершенно выводили меня из равновесия. Слишком уж они велики. Они заглядывали в квадрат моего окна — гигантские, давящие, грозные. Я просто не мог смотреть на них. Отворачивался, испытывая неподдельный ужас. Их вид наводил на мысли о смерти и собственной ничтожности. Эти исполины с мрачной сосредоточенностью и жестокостью утверждали: мы останемся, ты — исчезнешь. Бесстрастная откровенность такого сопоставления заставляла меня содрогаться в постели на турбазе, пока Тинибальда, оставив меня в одиночестве, готовила сандвичи и кофе.
Но кофе мне не помогал: следуя совету Тинибальды, я выпивал его до дна, но по странной прихоти солнечного освещения стакан с черной кофейной гущей проектировался на окно, а оттуда, словно зловещее наваждение, на меня глядела все та же жуткая каменная стена Пьятра Краюлуй.
— Ну-ка, лежебока, по коням! — подбадривала меня Тинибальда, затягивая потуже ремешки и застежки рюкзаков.
Меня раздражала ее энергия. Но она объяснила, что у Эйнштейна вычитала: если хочешь избавиться от черных мыслей, сосредоточься с утра на чем-то одном, как это бывает, когда ты зашнуровываешь ботинки. «Откуда у нее-то взяться черным мыслям?» — думал я про себя. Она помогала мне надеть рюкзак, сама надевала меньший и не давала роздыху до самого вечера, пока в каком-нибудь мирном, солнечном уголке мы не набредали на турбазу. Я понял: она решила излечить меня с помощью физических нагрузок, долгих и сложных маршрутов. В один из вечеров ей пришло в голову остаться на лесосеке рубить лес. Но рабочие нас не взяли. Не упустив случая пошутить, они послали нас подальше, то есть к подножию горы, где асфальтировали горное шоссе. А вдруг нам понравится запах смолы… «Пошли!» — сказал я, и Тинибальда с готовностью ринулась в путь, перепрыгивая с кочки на кочку, а в рюкзаках за нашей спиной весело дребезжали миски и кружки, словно пародируя мотив какого-то вакхического танца.
Кажется, с той ночи и началось мое просветление, спать я пристроился возле вагона-цистерны. Черная, опаленная трава пахла смолой, лежать на ней было тепло и хорошо. Дул горный летний ветерок. Мне с детства нравился запах бензина, скипидара, которым дома чистили паркет. Тинибальда тоже не капризничала. Где ни остановимся на ночевку — «Если я с тобой — всюду хорошо»… «Боже, как здесь красиво!» В ту ночь мне приснился сон безо всякой психоаналитической мистики: будто я проснулся возле бака со смолой, спустился с гор к вокзалу в Синае, откуда мы начали свое восхождение. Там, прямо на вокзале, я принялся убеждать начальника станции, что должен отправиться на паровозе до Оради. «Хочу написать лучший репортаж в моей жизни, — говорил я. — Про ночь на паровозе. Хочу воспеть огонь, труд и железные дороги Румынии». Начальник станции не возражал, но одного не мог понять: почему именно до Оради. Да потому, что там в пятидесятые годы я добровольцем пошел в армию, хотя мог остаться на заочном факультете — служить в армии со всеми наравне было для меня делом принципа…
Утром Тинибальда поцеловала меня в лоб, потом в губы. Лица рабочих при этом идиллически засветились, на черном фоне сверкнули в ослепительной улыбке их белые зубы — точь-в-точь как на старых рекламах сапожной ваксы.
— Раз тебе такое приснилось — за дело! Едем в Бухарест, и немедленно, надо поговорить с Паулом.
Паула Тинибальда, конечно, не знала, но, как всякий член Общества Красного Креста, обладала восхитительной верой в гуманность слова и человеческих отношений. В том же дребезжащем сопровождении мисок и кружек мы спустились с гор в Буштенах, и я показал Тинибальде библиотеку, где в отрочестве во время старорежимных, по определению Тинибальды, каникул читал Мирчу Элиаде и Камила Петреску. «Знаю, знаю, ты рассказывал о своем темном прошлом!» Потом мы сели в поезд и поехали в столицу. Она уснула у меня на плече, надломленная, как оливковая ветвь.
Паул не возражал против репортажа с паровоза: «Что ж, поезжай, командировку оформим, когда напишешь — посмотрим». Я подумывал о местном маршруте, скажем, Сигишоара — Одорхей. Но Тинибальда была неумолима: «Снова по старым следам?» И правда. Сигишоара — это Диана. Тинибальда сохраняла неусыпную бдительность. Решили так: развернем карту страны, она закроет глаза и наугад ткнет в нее пальцем. Куда попадет — там и пункт назначения.
— Ты поедешь со мной?
— Конечно.
— Что же будет с институтом?
— Оформлю командировку, для меня всюду найдется работа.
Она положила карту на крепкие ляжки. Закрыла глаза.
— Тимишоара.
— Признайся, у тебя там что-нибудь было?
— Маленькое приключение в вагоне-ресторане. Очистил штук десять апельсинов в компании фантастической женщины.
— Подумаешь! Апельсин — не фрукт.
— А что же?..
В Тимишоаре она сопровождала меня всюду, включая управление железных дорог, где я торжественно объявил о том, что еду на паровозе скорого поезда Тимишоара — Орадя и что с техникой безопасности знаком. Пока я подписывал документы, а Тинибальда преданно маячила за моей спиной, начальник управления удивленно таращил на нас глаза. В этот момент ему наверняка казалось, что он присутствует на церемонии регистрации брака. Ему еще не приходилось переживать ничего подобного. Ночью, в двадцать три часа двадцать четыре минуты, я посадил Тинибальду в вагон, а сам по насыпи зашагал к паровозу. Как и в горах Пьятра Краюлуй, меня била нервная дрожь: камни всегда наводили меня на мысли о смерти, исчезновении. Увиденное, прочитанное, пережитое вспыхивало в сознании отдельными словами, обрывками фраз: «вокзальный киоск» — «Кио»[11] — «локомотив» — «Мальро» — «человеческая доля». В кармане у меня лежали блокнот и карандаш. К цианистому калию вел другой путь, со своей насыпью. Он не привлекал меня. Я никогда не думал о самоубийстве.
Машинист и кочегар приветливо улыбались, они уже ждали меня. Им еще не приходилось отправляться в рейс в обществе журналиста. Они были веселы, словоохотливы, спокойны, на черной от угольной пыли скамейке лежал большой развернутый пакет с луком и салом. Они ели, освещаемые снизу пламенем топки. Тут же и меня пригласили подкрепиться, говоря, что отправляться в путь на пустой желудок нехорошо. Я послушался. И вот состав тронулся, вначале я впал в почти буддистскую сосредоточенность, потом меня охватила страсть пролеткультовца, который на рабочего смотрит как на божество, а на интеллектуала — как на простого смертного; выбравшись из туннеля идолопоклонства, я с позиций неореализма взглянул на этих людей, с их детьми, зарплатой, женщинами, с их невинным старанием скрыть жизненные тяготы и рассказать лишь о своем добросовестном труде, лишенном героического ореола. Они мне нравились. Было тепло, темно, вспыхивали красные блики, ночь дышала тайной, крошечные вокзалы салютовали нам звоном лилипутских колокольчиков; степь молчала, чувственная, щедрая, лишь ночной полет нашей разгоряченной машины будоражил ее. Наше товарищество достигло уровня окопного братства, и я рассказал об одном из немногих своих железнодорожных приключений на линии Клуж — Орадя, когда служил в армии. Моей соседкой в вагоне второго класса оказалась тогда ничем не примечательная крестьянка, она мне в матери годилась, но, кажется, не догадывалась об этом. Мы с ней словом не перемолвились, разве что переглянулись, и, лишь только поезд нырнул в туннель, обнялись да так и просидели весь долгий путь до Оради. Там она не успокоилась, пока я не обещал, что на следующей неделе приеду к ней в Ножорид.
— И вы не поехали, — эпически заключил кочегар.
— Нет, потому что с Ножоридом меня связывали неприятные воспоминания: я был курсантом кавалерийского училища и впервые на открытой местности Ножорида пустил лошадь галопом; и надо же было самолету пролететь над нашими головами, лошадь испугалась и выбросила меня из седла, после чего я еще долго разыскивал ее в окрестностях, ибо отвечал за нее головой… С тех пор я проклял Ножорид.
Собеседники засмеялись.
— Вы решили, что с той крестьянкой тоже вылетите из седла, — спокойно прокомментировал мой рассказ машинист и взглянул на часы, освещенные пламенем.
— На то и армия, — раздумчиво заметил кочегар.
— Таковы мы, мужики, — неопределенно хмыкнул машинист.
Тинибальда во что бы то ни стало хотела вернуться в Бухарест самолетом. Я разозлился. Неужели она не знает, что я не переношу самолетов? Что, когда мне приходится отрываться от земли, испытываю панический ужас? Оказывается, знает, но это неважно. Человек, видите ли, должен испробовать все скорости. После паровоза — самолет. Кажется, она намеревалась, как Прометея, подвергнуть меня испытаниям. Стоя перед кассой среди людей и кур, я заорал на весь вокзал: «Пошла ты со своим самолетом ко всем чертям!» В поезде, обняв ее за плечи, я терпеливо объяснял, что не могу работать в панике, самолет выбил бы меня из колеи, а мне так хочется написать лучший в моей жизни репортаж, ведь эти люди грандиозны, мне нужно лишь немного тишины. Она стряхнула мою руку, усмехнулась:
— А что, этот вокзал тоже фигурировал в твоих прежних маршрутах?
— Да, — тупо подтвердил я.
— И ты всерьез воображаешь, будто все, что пережил с ней, нужно…
— Да пойми те, дурочка, Дианы не существует в природе!
— Все, о чем ты пишешь, — существует, ты никогда не сумеешь выдумывать!
— Даде-даде…
Но весь долгий путь до Бухареста она дулась.
В конце концов репортаж получился «а ля Мальро», весь проникнутый духом солидарности и братства. Гольфстрим неореализма сглаживал шероховатости книжных оборотов, разумеется, я не упомянул ни о Кио, ни о крестьянке из Ножорида. Свет повествования падал то на часы машиниста, то на лопату кочегара и на его детей, то на ночной ужин с луком и салом, но за всем этим — будто пепел и алмаз — сияла идея мужского братства. Репортаж назывался сухо — «Ощущение». «Посвящался «Т».
— Госпоже «Т»? — шутила польщенная Тинибальда. С шутливым видом я стер посвящение.
— Не мешало бы и еще кое-что убрать, — еле сдерживая ярость, заметила она. Я помрачнел: не только укротительница Прометеев, но и цензор?
Паула в редакции не оказалось, он уехал на месяц в Нок-ле-Зут или еще куда-то. Начал выезжать в большой свет — я судорожно вздохнул. Не оттого, что захотелось в Европу — я всегда спокойно относился к заграничным поездкам, а визы казались мне ненужными бумажками, — меня потрясла мысль о том, что я попал в руки Стойкэнеску, сурового (особенно в таком тяжелом случае, как мой) редактора, непримиримого врага «всяческого негативизма, в какие бы одежды он ни рядился» (цитата из его статьи). Иными словами, верный поборник оптимистического содержания, Стойкэнеску всегда разоблачал негативизм, в какую бы форму тот ни облекался. «Никакая форма, сколь бы хитрой она ни была, не может скрыть его (негативизма — примечание автора) ослиные уши». Это другая важная цитата, которую я почему-то твердил про себя, двигаясь вдоль узких коридоров редакции к заветной уединенной комнате, где в качестве заведующего отделом прозы трудился Стойкэнеску. Я застал его за столом — все знали, что этот человек покидает кабинет лишь в двух случаях, связанных с чисто биологическими процессами, а в остальном ведет непорочную жизнь волшебника из страны Оз. Сам я чувствовал себя львом из той же сказки — боязливым, ласковым и сентиментальным. Оно и неудивительно, ибо в минуты крайнего напряжения моя душа предпочитала бренному телу смутное царство литературных героев: от Мальро меня кидало к сказкам Петре Испиреску, от «Волшебной горы» — к «Кавалеру Золотой звезды», и скоро я уже не знал, Кастор я или бесплотная красавица.
Стойкэнеску тут же принялся за рукопись, он был весьма любезен, от товарища Паула — он не называл его по имени — ему известно, что меня посылали в командировку; он против этого не возражал, ибо полагал, что каждый имеет право однажды попытать счастья. Он предложил мне сесть и подождать, пока прочтет материал. Что ж, литературу тоже не упрекнешь в неоперативности. Разумеется, я подожду. Я вышел на балкон и расстроенно махнул рукой Тинибальде, которая, раскинув руки, сидела на скамейке во дворе как раз против окон Стойкэнеску, с поразительной интуицией угадав мой путь по редакции; на мой отчаянный жест Тинибальда спокойно ответила, что подождет, и выбросила вверх сжатый кулак, как бы говоря: «No pasarán!» Я умилился, с достоинством уселся на стуле перед столом Стойкэнеску. Я сразу понял, что он читает внимательно, неторопливо, без формализма. Через полчаса мышцы мои одеревенели, и, решившись, я уселся в плюшевое кресло, все изъеденное молью. Он не отрывал глаз от рукописи. Все более отчетливая усмешка пробегала по его лицу. Я отметил, что он не делает поправок, даже карандаша в руки не взял. Его замечания на полях: «неужели?», «занимайся своим делом», «внимание к идеологии», «опасный поворот», «и это наша действительность?», «с каких пор мы возобновили мелодраму?», «нам не свойствен гамлетизм», «зеленое дерево жизни намного богаче», «быть кретином — еще не решение вопроса», «автор не читал Ленина?», «приехали!», «это для буржуазного издательства» — стали притчей во языцех и передавались из уст в уста. И вот сейчас он не вертел карандаша в руках. Он просто усмехался. Когда наступили сумерки, Стойкэнеску торжественно протянул мне рукопись, я вскочил, машинально взял ее, еще не представляя, что за этим последует. Последовал сжатый, хорошо аргументированный, беспощадный акт обвинительного заключения: этот субъективный, банальный, плоский, не раскрывающий темы репортаж появится в печати только через его труп; мой и без того хорошо известный негативизм, за который, видимо, я пока недостаточно поплатился, теперь приобрел еще более коварные формы, ибо апеллирует к светлым чувствам и даже доброте вообще; таким образом, мой негативизм есть не что иное, как мелкобуржуазный сентиментализм, взращенный на спине трудового класса; рабочие забросали бы меня камнями, увидев, как я искажаю их жизнь и чувства, как прикрываюсь их «спецовками специально в целях спекуляции».
— Спекуляции? — подскочил я.
— Мы тоже знаем, кто такой Кио, не сердитесь…
— С каких пор вы стали каламбурить? — попытался я перехватить инициативу.
— Ничто человеческое нам не чуждо, — изрек Стойкэнеску и, вполне довольный собой, поднялся.
Мне стало жаль себя. К стыду обретавшейся в литературных высях души, моя человеческая оболочка жаждала компромисса:
— И что, ничего нельзя исправить?
— Только могила исправит. — Он все же протянул мне руку.
Пока мы, стиснутые толпой, шли вдоль бульвара, Тинибальда внимательно слушала мое точное, очищенное от полемических страстей изложение фактов.
— Так что надо будет дождаться Паула, — заключил я, раздраженный необходимостью продираться сквозь толпу, да еще излагать при этом на ходу идеи — совершенно дурацкая ситуация! Похоже, ее не смущали ни сутолока, ни толпа. Последовательная в своем неореализме, она в конце моего отчета попросила бублик.
— У меня с собой ни гроша.
— Ты говорил, что у тебя десять лей.
Я купил ей бублик, угостил газированной водой. Потом мы направились к кинотеатрам, по дороге она то и дело откусывала бублик. Анданте мы начали почти в унисон: до чего надоела твоя кислая физиономия! — нет у меня никакой физиономии — есть — бывают несчастья пострашнее — какие же? Распираемый праведным гневом, я отвечал тут же, не раздумывая, внезапно решившись перейти к финальному скерцо. Мы прошли улицу Эдгара Кине — куда пойдем? Ночью хорошо бы… Ничего не хорошо. И тут я взорвался:
— Нет большего несчастья, чем быть неопубликованным…
Она протянула мне кусочек бублика:
— Ты вроде бы говорил, что не хочешь публиковаться. Сам себе противоречишь.
— Идиотка, — с наслаждением выговорил я. — Идиотка!
— Даде-даде…
Мы стояли у ресторана «Капша».
— Может, угостишь судаком «бонфам»? Угостишь — скажу, что переделать.
— Мне нечего переделывать. Я не желаю ничего переделывать.
— Ты должен сделать его оптимистичнее…
— Что я должен сделать? — Я кричал возле магазина «Ромарта». — Что я должен сделать?!
Тинибальда смотрела мне прямо в глаза, толпа опасливо обходила нас.
— Ты с ума сошел, — проговорила она.
— Повтори, повтори, что я должен сделать?
Стемнело, и на светящейся витрине «Информации» появились новости дня: «В Могадишо…»
— Ты с ума сошел? — Она попыталась погладить меня по лицу. Я оттолкнул ее руку. Филателисты, стоявшие вокруг «Ромарты», прекратили обмен марками и окружили нас:
— Потише, молодой человек, а вы, девушка, бросьте его, не связывайтесь!
Тинибальда, красивая, как никогда, смотрела на меня в упор.
— Ответь, — кричал я, — ответь сейчас же, что там не оптимистично, и откуда тебе знать, что оптимистично, а что — нет?
Раздался смех. И тут я принес неореализму самую разнузданную и одновременно раболепную присягу: я ударил ее по роскошному бедру, завершив этим публичную сцену между мужчиной и женщиной, обожающими друг друга. Она повернулась, пытаясь выбраться из круга, слово «Камбера» играло на ее губах, и я, подражая героям этой картины (о, эти страстные французские фильмы, смотри в фильмотеке Габен — Морган), так схватил ее за плечо, что она вскрикнула. Кто-то ударил меня по руке:
— Эй, парень, не зарывайся!
— Сейчас же отвечай, что я должен переделать? — Она молчала, потирая плечо. — Доконать меня решила? Спасти меня вздумала? Несчастная!.. Больше не стану писать для тебя…
— Не пиши, — мудро рассудил какой-то филателист.
— Тебе нужно, чтобы я писал глупости? А я вот не могу… Не хочу…
— Да пиши ты что угодно! — не выдержала Тинибальда. — И катись ко всем чертям со своими идеями!
Наконец она выговорила решающую фразу.
Я дал ей перейти дорогу, но тут же бросился за ней сквозь расступившуюся толпу. На террасе открытого кафе эстрадный оркестр играл «На персидском базаре». Я не видел, сколько человек бежало за мной, не обращал внимания на машины; водители ошеломленно тормозили. Тинибальда свернула к кинотеатру «Трианон», и я вдруг вспомнил, что утром она собиралась посмотреть «Дилижанс». На смену золотому веку кинозвезд пришел первый вестерн. Я не мог оставить ее одну. Я не мог упустить первый в ее жизни вестерн. Я крикнул:
— Погоди! Я с тобой! Не ходи без меня!
Она не оборачивалась, вокруг смеялись, подгоняли меня, то и дело раздавалось:
— Не упускай!
— Держи ее!
— Осторожно!.. За трамваем и за женщинами не бегают, приятель!
Я кричал:
— Тини, девочка моя… Даде-даде…
Движение не прекращалось, троллейбусы с душераздирающим визгом катились под гору к парку «Чишмиджиу», телеграфная лента прохожих двигалась дальше; Тинибальда шагала легко и быстро, летнее платье облегало ее крепкие бедра, я снова крикнул:
— Даде-даде…
Какой-то мужчина на ходу со смехом поставил диагноз:
— Свихнулся!..
Кажется, во второй раз заклинание подействовало: Тинибальда остановилась возле Военно-исторического музея, прилепившегося к кинотеатру «Центральный». Она ждала. Я приблизился, вокруг никого не было.
— Возьми меня с собой на «Дилижанс», — прошептал я своей оливковой ветви, задыхаясь от внезапной нежности.
— …если ты обещаешь переделать его!
Позеленев, я заорал:
— Ничего менять не буду!
— …если ты обещаешь…
— …я ничего не обещаю!
— Я не могу жить с сумасшедшим, — произнесла она тихо, внятно и бесстрастно. Ее спокойствие и логика ошеломили меня. — Только сумасшедшие…
Я глубоко вдохнул и из самой глубины легких выдохнул воздух прямо ей в лицо, словно надеясь, что она, как злой дух, сгинет в ту же секунду. Тинибальда не сгинула, но и не договорила до конца самую верную изо всех когда-либо приходивших ей в голову мыслей. Конец фразы меня не интересовал, в ее глазах я был безнадежным неудачником.
— Что же, увидимся, когда появится…
— Значит, через сто лет? — съязвила она, посыпая соль на рану.
— Значит, через сто лет!.. — И я одним, преувеличенно бодрым прыжком очутился в кафе «Гамбринус», где, как и полагается истому уроженцу Бухареста, заказал себе пирог с брынзой и кружку пива.
Я никогда больше не встречал женщин, с которыми расстался. Со дни появления репортажа прошло девять лет, но — как и предсказывала Тинибальда — я и впрямь не научился писать о том, чего не испытал, не научился выдумывать, чтобы выжить. Однако до сих пор рана моя не зажила — время от времени я звоню любимой женщине и вместо слов тяжело дышу в телефон — в знак того, что я существую. После чего вешаю трубку.
Перевод с румынского С. Флоринцевой.
Мирча Хория Симионеску ГЕОГРАФИЯ И КАША
На мякине меня не проведешь! Я — стреляный воробей, хоть мне еще и шестнадцати нет, и переэкзаменовку на осень я еле выклянчил. Не верите? Спросите господина Икима, он вдалбливал мне тригонометрию и повторял: «Обломаю об тебя синус-косинус, будешь меня помнить», с этим и табель выдал. У доски трудно доказывать, что котелок у меня варит, но кое в чем посложней я дока. Вот скажем, дядя Таке командует противовоздушной обороной и вечно торчит на башне примарии, но я-то лучше его знаю, что ни один самолет, жди не жди, не загудит у нас над крышей раньше положенного часа. Это им ни к чему. Нет у них на то оснований. Бомбежка — дело ответственное, шаляй-валяй им не занимаются, не в игрушки играют — воюют. Вчера стоило только дяде Феликсу потереть руки и оставить в покое приемник, как сквозь чириканье на коротких волнах прорвался Лондон: «Немец сел в большую лужу! Честь ему и хвала! Лавочка накрылась!», или что-то в этом роде, и я уж было решил, что войне конец и можно будет поехать отдохнуть в Эфорию.
Но, честно говоря, не так уж все складно, самолеты не стая уток, и палкой их не разгонишь. У них свой порядок. Каждый день в тот же час, тем же строем, с той же целью, неизбежно и непреложно, как чай поутру в те времена, когда мы его еще пили, прилетают самолеты. Назвался бомбардировщиком, соблюдай расписание, а то тебя дети малые засмеют, — а не будь у них расписания, как бы я, скажем, встречался с Мариленой, купался, ходил в «Глорию» на фильмы с Генрихом Георгом и ругался с дурнем Тимишем из-за марокканских марок?! Красота — самолеты выныривают из облаков, стой себе и поглядывай, что они делают и что будут делать, а тем временем их мощный гул накатывает на тебя, и аэростаты заграждения ему не помеха. Потом, если не веришь в чудеса, увидев самолет над головой, спасай шкуру в любой канаве, в любом погребе, потому что положенный час — не час и секунда — не секунда, а грозный, жестокий, смертельный миг, который обрушивает на тебя металлический град и огненную бурю.
Но сегодня расписание может измениться, самолеты прибудут несколько позже, дело в том, что ночью у меня прихватило живот, и я часа два торчал в саду, глядя в небо: над Киндией клубились тучи, погодка для бомбежки не та, что надо. Голову даю на отсечение, так оно и будет, расчет и учет вероятностей подкрепляют мою уверенность.
И плевать мне на сирену, которая воет так, что кажется, будто лиловые ленты вьются по небу и задевают верхушки тополей. Пусть надрывается как ненормальная за целый час до налета, это означает только то, что и она, как и все вокруг, потеряла от страха голову, что немецкое командование заставило всех наложить в штаны, да будет мне позволено такое выражение, и всем мерещится невесть что. А как же быть с полной победой, с воззваниями, фюрером, «новым порядком» и прочими фанфарами?
Да никак! В конце концов, до начала бомбежки времени у меня предостаточно, и я вспоминаю, как мы с дядей Тандикэ ходили на рыбалку и ничего не поймали, кроме двух жалких пескаришек, как сладко мне спалось под ивами, а шелковистая гладь воды так и манила потом искупаться. Времени хватит, чтобы вспомнить и ту блаженную пору, когда мама готовила обед и звала нас, и пар поднимался над тарелками, а рядом стояла плетенка с душистым румяным хлебом, и Титире, мой братец, шептал, что на третье у нас птичье молоко, или, скажем проще, скворчащие оладьи — он их видел под салфеткой на кухне. Час до налета — вечность, можно привести в порядок планшет, карты и компас и трижды схорониться в какой-нибудь канаве. Если, конечно, она не кишит медведками и сколопендрами, которые вылезли послушать сирену. Все, что происходит вокруг, кажется мне несусветной глупостью, словно кто-то поставил себе целью перебалтывать нам мозги, а впрочем, так оно и есть, и немцы в этом преуспели.
Я смотрю из окна сарая: дядя Таке и три солдата бегут к будке на переезде. Железнодорожники торопятся, у них свои маневры. За мостом разводят вагоны по запасным путям. Можно не беспокоиться: составы не разбомбят. Вагоны разнесут по отдельности, как это не раз уже бывало. И лучше всех это знают железнодорожники, поэтому и ругаются, натягивая маскировочные сетки на пушки и зарядные ящики, полнехонькие, только из арсенала. Честно говоря, жаль только сеток — остальное пусть летит в воздух! Дядя Таке, начальник противовоздушной обороны, пыхтя, прыгает по шпалам от стрелки к стрелке, размечтавшись об ордене «Боевая доблесть», а госпожа Врэбяска — на той войне за ней охотился цеппелин — спешит угнать индюшек, застрявших среди проволок семафоров: не дай бог, американские пулеметы расстреляют.
С тем же спокойствием я наблюдаю суету и по другую сторону станции. В окно сарая я вижу и господина Марическу; он негодует: как, и сегодня нет поезда на Бухарест? Прощай французские духи, его торговля терпит крах. Начальник станции советует ему нанять военный грузовик, их тут хватает. Марическу вопит, что подобный ответ недостоин начальника железнодорожной станции. Чувствую я себя превосходно, пожалуй, лучше даже, чем всегда. Голову теряют те, кто не знает географии. Расчет прост: самолеты вылетают из Фиджии не раньше пяти утра, со средней скоростью двести сорок километров в час. Ясно? Расчет, и только. До обеда, если люди теперь обедают, они к нам не прилетят. Разумеется, если верховное командование союзников тоже не потеряло голову и не приказало эскадрилье выкинуть какой-нибудь финт. Предположим, самолеты увеличат скорость. Ну и что? Рассчитаем и это. Инструмент у меня самый точный: глобус, подарок тети Фидучии, карта Голландской Индии (прячу за зеркалом: комиссара Стэнеску, который время от времени производит обыски, почему-то волнует вопрос колоний) и, наконец, металлическая линейка и компас. Конечно, маленький «Ларусс» мне бы не помешал (бабушка все обещает: я тебе подарю, если выдержишь переэкзаменовку), как не помешал бы и атлас, я его сплю и вижу, подробный, со всеми островами Океании. Но и с тем, что у меня есть, я свое дело делаю неплохо, а уж путешествую, скажу без ложной скромности, просто замечательно.
Жуть до чего люблю географию. А по путешествиям с ума схожу. Когда закончился учебный год, а рано или поздно учеба кончается, утешала только оценка по географии. По прочим предметам, как всякий порядочный ученик, я хромал. Выручили меня бомбежки: из-за них нас распустили раньше. А что такое переэкзаменовка по сравнению с двумя месяцами потрясающих каникул! Читай сколько влезет книги о путешествиях, пособия по географии и вдобавок «Наставление егерским стрелкам» из библиотеки дяди Паула, пока он вместе со своим полком занят завоеванием планеты. Неподалеку от станции стоит сарайчик, в добрые времена отец держал в нем дрова и добытые на охоте вонючие шкурки, там и сейчас все в целости, только, если тронуть меха, взовьется моль и посыплются рыжие черви. В этом-то сарайчике я и оборудовал себе кабинет, наподобие кабинета Монтеня, как он изображен в учебнике французского. Чтобы избавиться от непрошеных посетителей, я повесил на дверях табличку и под собственным изречением поставил имя Гёте: так запрет выглядел более внушительным даже для Марилены, которая слыхом не слыхала о Гёте и не услышит во веки веков.
По утрам мои домашние расходились на работу, и бомбежка, как и привычные рези в животе от крапивной похлебки со сливовым уксусом, настигала их кого где. А я по-королевски располагался в продавленном кресле и, прикрывшись грубым солдатским одеялом, отчаливал навстречу приключениям. Часам к девяти рези в животе давали о себе знать, и я отправлялся в сад подышать свежим воздухом и взглянуть на небо. Легкие перистые облака обнадеживали. Они обещали, что налет будет впечатляющим, ни в коем случае не коротким, а с громами, молниями и всем прочим, что положено, не исключая и парашютистов. Часам к десяти являлась Марилена и спрашивала, не пойду ли я с ней к тете Тейеш. Марилена очень мила и не сомневается в моих чувствах к ней, у нее фигурка что надо, яркие, пухлые губки выговаривают несусветные глупости и сводят меня с ума, к тому же она частенько прикусывает нижнюю губу, зубки у нее так и сияют белизной, а в уголке рта родинка, и от нее просто голову теряешь. Обнимая Марилену, так и хочется сжать ее покрепче, чтобы она слегка застонала, но вовсе не от желания высвободиться. «Сегодня я никуда с ней не пойду, — решительно говорю я сам себе, покидая этот континент, — хоть вертушке это не понравится. У меня нет времени исполнять ее капризы, меня ждет Сахара, зовут Гваделупа и Антильские острова…»
И вот я брожу вокруг пирамид, порывы знойного ветра засыпают мне глаза песком, вслушиваюсь в таинственный плеск Нила, прикидываю, сколько кубометров воды в этой необъятной реке, и сравниваю ее экзотическую флору с бурьяном железнодорожной насыпи перед дверью. Тропы в горах Испании неодолимо влекут меня, я отыскиваю пещеры с неизвестными наскальными рисунками и по дороге сражаю мечом несколько ветряных мельниц, раскиданных по холмам. На верткой лодчонке плыву по одному из озер Черного континента. Я уже на озере Виктория, когда взвывает сирена. Дядя Таке несется к наблюдательному посту, я слышу ровный стук бегущих по рельсам вагонов и лязг буферов на стыках и стрелках.
Меня злит эта преждевременная суматоха, нужная как консервная банка в канаве. И Врэбяска, которая честит немцев за то, что они первые начали… Времени, чтобы увести своих индюшек с линии и из-под моста, у нее вполне достаточно. Просто смех разбирает! Со стратегической точки зрения наша станция — ноль, хотя мимо днем и ночью с оглушительным грохотом идут на фронт цистерны с бензином и составы с лесом. Господин Приецану — безногий на тележке, он торгует значками и шнурками — утверждает, что лес сгодится Европе на гробы. Я рассчитал точно… Мне надо срочно возвращаться из путешествия: Средиземное море, Черное, Дунай, и я дома как раз вовремя. Сижу на окне и сквозь мутное стекло вижу станцию, нефтяные вышки с канадскими насосами, мост через Яломицу. При взгляде на мост у меня почему-то сводит желудок, словно изнутри его сгребла когтистая лапа… Почему, кто его знает…
Я могу поесть каши, мама сварила ее, хорошенько укутала и оставила в кладовке. Но если сейчас ее не трогать, на обед останется полная порция. Кашу я люблю не меньше географии. Прямо окажем, жаловаться мне не на что. Лишь бы крупы хватило на подольше, иначе мама ушлет меня на край света, к дяде, директору почты в Гэешти, и прощай тогда путешествия, чтение и Марилена. Я люблю географию и кашу, липкую, серую, безвкусную. Люблю, и ничего мне больше не нужно.
До кладовки надо добираться задами станции, пройти по саду (где Марилена в шезлонге подставляет солнцу свои очаровательные ножки и делает вид, что читает), затем отодвинуть кол, которым приперта дверь, спуститься на несколько ступенек — и кладовка… Но у меня уже нет времени. Высчитанный час настал. Часы на кухне показывают двенадцать, командование союзников ничего непредвиденного не выкинуло, дядя Таке уже исполняет свой патриотический долг, наведя бинокль на дом Некулчи, того самого, у которого молоденькая жена, я думаю, на ее окна. Как всякий исполнительный служащий, дядя Таке ответственно относится к приказам из Бухареста и поэтому включает сирену с утра пораньше, чтобы выполнить приказ заблаговременно. По служащим из Бухареста видно, что Антонеску нагнал на них страху, и они ошалели от новостей с фронта, где у немцев «по заранее намеченному плану» земля горит под ногами. Какой самолет ни загуди у них над башкой, они в панике, и ситуация до того захватывает дух, что никакого кино не надо.
Уже слышен знакомый рокот, глухой, нарастающий, словно глубоко под водой работает огромный молот. На секунду кажется, что великан тяжело вздохнул и забасил потихоньку. Я вытаскиваю из чемодана карту Балкан, перепрыгиваю через забор Дьякону и направляюсь в глубину сада.
Наше бомбоубежище — жалкая канава, наполовину прикрытая досками, присыпанными землей. Это самое удачное сооружение моего дядюшки Виктора. Он архитектор и несчетное число раз судился с клиентами, недовольными его творениями. В убежище две дощатые скамьи — со стен на них осыпается земля, — зарешеченное окно и наверху люк с крышкой из неструганых досок. По вырытым в жирной глине ступенькам в убежище спускаются наши соседи, все, включая семейство Преотеску и полковника Замфиреску. Господин Преотеску норовит занять уголок поукромней. «Сударь, вы трусите? Уж не наследственное ли это?» — издевается над ним полковник. «Вот еще! — отвечает Преотеску. — Я просто-напросто осторожен». Если не варит обед, то приходит и Мариетта Сима. Кто-то из служащих станции, искоса поглядывая через люк на небо, прикидывает, на какой высоте летят бомбардировщики. «Две тыщи пятьсот! — говорит один. — Ниже, чем вчера. Чувствуете тактику, с каждым днем все ниже и ниже, пока не пойдут на бреющем полете». — «Придумали тоже! Не меньше четырех тысяч!» — высказывается полусонная Мариетта. Она портниха и в системе мер разбирается. Полковник, он уже несколько месяцев как в отставке из-за злоупотреблений, допущенных при снабжении фронта продовольствием, возмущается: «Шпаки! Как это можно прикидывать? Пять тысяч пятьсот, и ни метра выше или ниже!»
Размеренным шагом, с возмутительными остановками по тропинке под сливами движется свекор Мариетты Симы, надменный старичок, лет под восемьдесят, прямой, будто проглотил трость. В руках у него шомпольная двустволка. «Сюда, скорее сюда, господин Ютеш», — торопят его из убежища. «Пусть летят, мне на них начхать», — гордо отвечает старик. «Вы нас демаскируете, — волнуется полковник, — с такой высоты даже пуговицы на жилетке видно. Заметят, что вы вооружены, и вытряхнут на нас всю коробочку…» Но упрямый старик выбрал местом для засады ореховое дерево и исподтишка поглядывает на самолеты. Еще твердой рукой он забивает заряд в ствол. «Сумасшедший», — шепчутся в убежище, теснясь друг к другу на узкой лавке. Самолеты уже над головой.
Я смотрел на небо. Тополя казались мачтами, облака парусами, и какие только фантастические картины не рисовались на них! Из голубых вод появилась великолепная Италия, колеблющаяся, высокая, с заливами, мысами и портами, полными кораллов. Там, где по ночам мерцает Большая Медведица, из кучевых облаков вышел рыцарь с алебардой и следом за ним — вставший на дыбы огромный конь, весь в пене, и тут же все волшебно изменилось, и возник отчетливый профиль моей тетушки, которая до 1932 года прожила в Вене и до конца своих дней искала ожерелье, похищенное у нее в день свадьбы, профиль превратился в шар Пикара, и я любовался его гондолой, привязанной к небу, затем явился солдат, похожий на ручную кофейную мельницу, но ростом с Италию. В синей воде расплывались звезды и гасли, погружаясь в глубину. Но это были не звезды. Один за другим рвались зенитные снаряды и заполняли лагуну белыми цветами, а заливы — дымом. Один самолет сбили — от его рева содрогнулся воздух. А эскадрилья продолжала свой путь дальше, на Кымпину, на Плоешти.
Это все из-за нефти. Юнкеры и бароны отведали ее. Нефть что надо! Вот и не хотят выпускать из рук. Будто нефтью можно насытить голодного. Как кашей… «Не упрямьтесь, господин Ютеш! Плохо ли прожить лишний годок?» — «И дня жить не желаю! — величественно отвечал старик. — Так и знайте, — продолжал он, — я не я буду, если не собью хоть одного из них. Из левого ствола я бью без промаха на двести метров. Глазом моргнуть не успеете, как самолет будет сбит!» — «Пусть, пусть старая перечница надсаживается!» — вмешалась его невестка, Мариетта, а Преотеску умолял быть осторожнее с грубыми словами, потому что мы на военном положении и любой акт насилия может повлечь за собой ужасные последствия.
Правильность моих расчетов подтвердилась, с чем я себя и поздравил в момент передышки. А разве не так? Разве есть сомнения, что они вылетают из Фиджии на рассвете со средней скоростью двести сорок километров в час? А из Плоешти возвращаются ровно в половине второго, чтобы не обедать впотьмах? Ну и концы у них! И весь их маршрут — вот он, на этой карте. Ежедневный маршрут. Чем выше летишь, тем, видите ли, путь короче. География — самая интересная вещь на свете. Честное слово, ради нее одной стоит жить. Уверяю вас… Я лично люблю географию. И кашу тоже люблю. Какими бы были мои путешествия без каши… Ну и ну, увлекся самолетами и пропустил время обеда.
Если бы эти умники не разбегались, как крысы, по убежищам, а следили, как я, за ходом событий… Когда в страну явились немцы, господа вроде Преотеску позволили задурить себе головы. От «нового порядка» у них мозги набекрень, думают, будто вся география на кончике пера у какого-нибудь типа в канцелярии рейха: сегодня заштрихует эту половину мира, завтра сотрет это государствишко. А на самом деле немцам нужны хлеб и нефть. Но на свой лад они тоже занимаются географией. Это ясно. Бедный адвокат зря лез из кожи, добывая полковнику Штурму Шиллера в румынском издании. Преотеску, Замфиреску и еще двое, чьи имена только я и знаю, воображают, что немцам не хватает Шиллера, это немцам-то, которые со времен Гутенберга ничего, кроме Шиллера, и не печатали. География учит всему, между прочим и тому, что такие, как Замфиреску или еще двое, чьи имена называть не хочу, жалкие трусы. География показывает, кто простофиля по сравнению с остальными… И я тоже простофиля и слабак — не буду этого отрицать потому, скажем, что сегодня не ел каши. Мамину кашу мы съедим все вместе в четыре часа, когда все вернутся с работы с чувством выполненного долга в пропахшие плесенью бомбоубежища. География — самая замечательная наука на свете, она определяет, кто ты такой и чего ты хочешь. Вот из этой малюсенькой точки на карте — я польстил ей и жирно обвел тушью — можно видеть людей и мир четко и ясно. Общее место? Будто я сам не знаю… География, что бы там ни говорили учителя, — это распахнутое окно… Наука бегства от жизни… Что за чушь?! От чего бы это бежать? Все прекрасно, все делают свое дело, поезда бегут, мы с удовольствием отсиживаемся в убежище, кое-кто сопровождает немцев на фронт, а кто-то патриотически распевает по радио в «час солдата». На что жаловаться? Я свободен как птица, читать могу сколько душе угодно, могу глядеть в окно на станцию, а в саду любоваться небом, исполосованным дымом зенитных снарядов. Могу пересечь Сахару.
Ячневая каша! Необоримое желание отправиться в погреб и всадить ложку в эту чуть сладкую от сахарина, вязкую массу. Наесться на целый день. Не может быть, чтобы мои домашние не перехватили чего-нибудь во время бомбежки. Все знают: от страха просыпается такой голод, что не знаешь, на каком ты свете…
Я облокотился на подоконник и смакую каждую ложечку. География — наука точная, потому что представляет собой как бы наглядные примеры. Необыкновенная каша… вкус у нее… даже не знаю какой, но питательна на вид невероятно, иначе бы не поблескивали в ней такие крупные зернышки. География проясняет людские намерения, ну, например, касательно жизненного пространства… Не думаю, что у меня заболит живот, зерно есть зерно, застревает в зубах, попадает под язык, но жевать, к сожалению, нечего. Вот эти красные линии на карте указывают, где бы хотел отобедать Гитлер (после завоевания мира, разумеется). Наши предки много веков сохраняли себе здоровье кашей, солдаты Наполеона завоевали… А теперешние вояки? Они — исключение. Каши не едят, географии не знают. Грецию считают тевтонской провинцией, Ливию тоже к себе пристегнули, кашу заменили эрзацем и какой-то бурдой — чаем доктора Хольста. Они не оценили каши. И на здоровье! Но они об этом еще пожалеют. Они расширяют себе желудки наперекор советам медиков. Жрут и жиреют. Ночи напролет к их складам движутся битком набитые составы. Каша хороша, когда разварится, да еще вареньица в нее положить, если оно есть, впрочем, и без него, разорви меня бомба, еда царская. Вчера мимо нас шли составы с птицефермы Корбеску, вагоны-холодильники со свежим маслом, красиво завернутым в пергаментную бумагу. А ты съешь две-три ложки каши — и сыт. Ну и каша! Из Бездяда кымпулунгскому гарнизону отправлено два вагона телят. И не только вчера. Не мое вроде бы дело пересчитывать вагоны и поезда, у меня каша, никто на нее не посягает, и, честное слово, она густая и вкусная. Сколько составов прошло за эту неделю? Виктор Потынга говорил, что на фабрике они день и ночь работают на немецкую армию. Душистые колбасы, каких мы сто лет в глаза не видели, розовая ветчина, не слишком жирная, проваренная, дымящаяся, с красным перчиком, она во рту так и тает со свежим хлебцем. Сосиски по мюнхенскому рецепту, с пряным, веселящим душу ароматом, как пишут в книгах, разумеется готическим шрифтом. Все это хорошо пошло бы и с кашей… Из тонко смолотой крупы каша с маслом любую ветчину за пояс заткнет, лишь бы мышами не пахла.
И чего их химики не готовят бульонов из ячневой крупы? Дешево! И войну бы нипочем не проиграли. Нет, они предпочитают страдать, пожирая сметану, мед, масло и кур. Там, где такое еще водится. И водится еще кое-где. «Для войны в Норвегии, дядя Иоане», — говорит примарь, подписывая ордер на изъятие продуктов. Тоже не лыком шиты, знают географию! В Корбеску составы набивают всякой вкуснотой, она прекрасно воздействует на моральный дух армии, и особенно на немецкое командование в Бельгии. О нефти и лесе помолчим, люди теперь засыпают не под тихий шепот звезд, а под оглушительный грохот составов, от которого ходуном ходит станция. Цистерны, цистерны, полные под завязку, платформы с бревнами и досками для дотов в Нормандии. Разбомбят союзники Франкфурт или Гамбург, немцы их залатают лесом из Морени или Пэдукёсул, да еще пару мостов наведут, чтобы было по чему отступать. Быстро и удобно, с помощью транспортных средств. Конечно, нетрудно вообразить себя вождем человечества, если с утра пораньше тебе составами подают мясо, яйца, колбасу и нефть. Комиссар Стэнеску затыкает рот любому, стоит вякнуть о чем-нибудь этаком, поторчал бы он хоть ночку у моего окна, познакомился бы, как я, с географией, да каша бы у него в животе бурчала… Молчу. Что-то я разворчался, честное слово, терпеть этого не могу. С некоторым, конечно, преувеличением можно сказать: я счастлив. Каша есть, в хлеву у дядюшки, директора почты в Гэешти, с навозом не вожусь и путешествовать могу где угодно. Кто сомневается, что мир принадлежит мне? Я прикрываю крышкой кастрюлю с кашей, беру папку с открытками — и привет! Торжественно вплываю в Ламантенский залив Гваделупы (60 градусов широты, 20 градусов долготы) и небрежно приветствую цепь высоких вулканов.
Сейсмические смещения бывают самые разнообразные и зависят от вызвавших их причин. На Антильских островах сдвиги глубинных слоев образовали огромные ступени, высотой до полуметра. В Прикарпатье земля трясется потому, что ее четверть часа долбят «летающие крепости», направляющиеся к Кымпине, Бэйкой и Плоешти. Последний самолет оставляет на прощание дымный шлейф и, слегка поцарапанный осколком, направляется домой, на базу. А может, ищет пастбище или лужайку, чтобы приземлиться по-человечески. Опять изо всех сил взвыла сирена. Возвращаясь со своего поста, дядя Таке приостанавливается: «На сегодня все! Расчеты оправдались. До завтра можно заниматься своим делом. А завтра, глядишь, повезет с дождичком. Как поживаешь?» Вопрос что надо! «Спасибо, дядя Таке, как всегда…» Антильские острова, Таити, Берег Слоновой Кости… «Полковник пошел домой?» — «Да, давно уже».
Настроение у него вроде хорошее. Зато у господина Ютеша… Ему так и не позволили пальнуть по самолетам! Кретины! Из одного левого он сбил бы не меньше трех! Вот я его позлю сегодня за покером. «Может, и ты придешь, Мариетта будет рада… Приходи, не валяй дурака…»
Дурака-то я валяю, да не на их манер. Сегодня вечером, например, я совершил такое, что редко кому удавалось. Играть в покер я не пошел: ясно было, что продуюсь. Я нацепил кошки, прихватил веревки и одолел самый высокий пик Памира. Внимательнейшим образом я выбирал, куда поставить ногу, и поздравил себя с умением рассчитывать. Предприятие, без сомнения, было рискованное. Солнце, распластавшее свою огненную гриву по вершинам, потихоньку сползало за край света.
В дверь постучали. Я бросился открывать. «Марчел Якоб! — вырвалось у меня после небольшой заминки. — Вот и новые лица». — «Тихо, тихо, — сказал он, ущипнув меня за руку. — У тебя никого?» — «Как видишь!» — «Тогда давай начистоту. Я спешу и рассчитываю на тебя». Марчел, казалось, был чем-то напуган, он с трудом перевел дыхание, плюхнулся ко мне на кровать и закурил что-то вроде сигареты. «Я знаю, ты славный малый. Найдется у тебя какое-нибудь тряпье, ну там брюки, ботинки, кеды?» — «Все может быть». — «Видишь ли — только, черт тебя дери, никому ни слова, — я сбежал. Я — дезертир», — произнес он трагически, разом объяснив мне свое положение. И рассказал, что работал на военизированном заводе, что немцы его ищут… «Гляди, как я одет… Меня сразу же могут схватить — и к стенке. Мне надо что-нибудь гражданское. Только быстро!»
Он всегда был видным парнем. На три года старше меня, грудь колесом, одни мускулы. Мы росли на одной улице, и он был заводилой самых увлекательных игр. Несколько лет тому назад его вместе с Нуку Воронкой задержала полиция, когда они отправились исследовать Африку. Они учились тогда в пятом, и их исключили без права поступления в какие-либо школы.
Я смотрел на него, и мне хотелось видеть в нем, теперешнем, крупицу величия отлученного от alma mater. Марчел выглядел жалко. Глаза запали, на лице глубокие морщины. Худющий, немытые волосы, как ком пакли. Но глаза иногда вспыхивали, и тогда было видно, как глубоко он запрятал себя и как ему горько. Мне хотелось всмотреться в него получше, но я боялся его обидеть. На нем был грубый солдатский френч, вылинявший от дождей и пропитавшийся угольной пылью. Брюки клеш с какого-то моряка, вместо ботинок старые туфли, обвязанные шнурками, и обрывки солдатских обмоток. Чучело чучелом.
Чтобы не усугублять неловкости и избавиться от ощущения, что в доме под видом давнего приятеля какой-то незнакомец, я побежал в кладовку и принес старую отцовскую одежду. «Великолепно! Ты настоящий друг!» — «Я тебя одел, дружок, с головы до самых ног!» — пропел я, подбрасывая фетровую шляпу. «Нет, я серьезно. Как влитое», — сказал он. «То, что получше, хранится у тестя», — откликнулся я.
Мы рассмеялись, но нам было невесело. Он быстро переоделся. Обул рабочие, на резиновом ходу башмаки отца. «У дезертира, как видишь, и сороковой размер сходит за сорок третий. Нет времени даже у колонки ополоснуться. Ну ничего, Яломица у истока чище, чем здесь».
Я не очень понял, что он хотел сказать, но мне стало как-то не по себе из-за дезертирства и еще из-за чего-то, о чем комиссар Стэнеску имеет самое определенное мнение. Что до разговоров, то поначалу говорил только я: рассказал, каким чудом школа закрылась раньше обычного, как обстоит дело с бомбежками, как точно я высчитываю время налетов. Рассказал о своих географических изысканиях и на закуску произнес похвальное слово каше, питаясь которой мир стал бы лучше. «Ячневая, говоришь? Я сожрал ее целый вагон. Хорошо, что напомнил». И он высыпал на газету из холщовой сумки килограмма два крупы, золотой крупы, серебряной. Вместе с блестящими зернышками из сумки вывалились две чудесные гранаты. «Суп без приправы не суп, — сказал Марчел с улыбкой, — возьми и их. Увидишь, какой супчик сварит тебе из этих штучек твоя мамуля. Спрячь, и чтобы ни одна живая душа не знала!»
За эту ночь Марчел мог бы убедиться, что и у нас ничего особенно хорошего нет. Часа в два объявили тревогу. И сирена на этот раз взвыла с опозданием, как раз когда самолеты были уже над нами. У Мариетты Симы в окнах не был погашен свет. Разбомбили нефтеперерабатывающий завод, переворошили кладбище. Бомбили что надо! Станция уцелела. Всю ночь грохотали составы. Цистерны с нефтью, вином, какой-то химией. Я смотрел на все это довольно спокойно, мне помогала география. Ход событий мне был ясен: поезда, не попавшие под бомбежку нынешней ночью, движутся к более крупным железнодорожным узлам, и там-то уж им бомбы не избежать. Дневная бомбежка им обеспечена. Впрочем, с недавних пор иные поезда и до узловых станций не доходили. В Предяле об этом пекутся железнодорожники. За перевалом в сторону Сигишоары и Арада — кто-то другой, кто его знает, кто? Поезд у Крайовы, как рассказывали проезжающие, поскакал прямо в чистое поле и развалился на сто кусков, потому что рельсы сняли заранее.
Теперь у меня запас ячневой крупы на несколько недель, и это вторая причина моего глубочайшего спокойствия. Каша — чудо, она хороша до чертиков, набиваешь ею живот, она просит глоток, другой воды, а потом начинает уверять, что мир прекрасно обойдется и без тебя. Но почему же без меня?
Ясно, что без тебя, человека, у которого на пальце крутится земной шарик со всеми морями и континентами, миру не обойтись. Иначе и быть не может! Нужно немножко знать географию, чтобы понять, что без тебя миру с места не сдвинуться. Даже здесь, в этой крошечной точке на карте, одни убивают и жиреют, а другие дрожат по щелям, покрываются потом и не знают, увидят ли завтра солнце. В сущности, цвета, разделяющие на карте твердь и воду, не имеют смысла. И вращение Земли не имеет смысла. Цифры, обозначающие количество тонн зерновых, подсолнечника и картофеля, — тоже. В сущности, одни обучаются, как поджигать, другие изучают географию. Какой во всем этом смысл? Одни как ненормальные бегут в атаку, другие жиреют в столице. В сущности, кое-кто нагуливает жирок и у нас, здесь. В сущности, я понял, когда по радио трепался Мариняну: мир делится только на мрак и свет. Кто заштриховал Европу? В сущности, разве не намекал вчера Марчел, что Яломица у истоков чище? Мудрость в том, чтобы выкарабкаться на свет. Вращение по кругу тоже работает на свет — чувствуете, как я заговорил? Чертов Якоб знает, куда идет. Он из тех, кто смыслит в географии.
Я все глядел из своего сараюшки на линию. К составу прицепили еще три вагона. Налет окончился. Дядя Таке внимательно осматривал стрелку у семафора. Никто его на это не уполномочивал. Избыток усердия, кретинский патриотизм. Солдаты привыкли к нему, считают за своего. И любовно, с ленцой посылают куда подальше. Этот состав — целый мир. Несколько цистерн из Франции, одна датская, штуки четыре австрийских — и вот тронулась Европа, подъезжает к мосту, скрипя и лязгая под тяжестью нефти. Мне снова хочется есть: ведь пришлось потрудиться, полазить под мостом, чтобы как следует их закрепить на опорах. Закрепить гранаты, подарок Марчела. Черт знает, заденут ли колеса запал? Думаю, должны, я их прочно скрепил проволокой, отвернул головки плоскогубцами, чтобы колеса не миновали запала. Хорошая штука — каша, питательная, но живот от нее болит. Я лежу на дне канавы, где уже не раз приходилось укрываться от бомбежки. Если поезд взлетит на воздух, мне придется смываться в горы — родники там прозрачнее хрусталя, и мир сверху так хорош, так хорош… Жаль, что резь в животе началась именно в этот великолепный, необыкновенный и страшный миг…
Но о необыкновенном зрелище, которое последовало за взрывом, сообщить вам ничего не могу. Стыдно сказать, из-за чего я не смог отнестись к нему с тем вниманием, какого оно заслуживало и как бы я сам того хотел…
Перевод с румынского М. Кожевниковой.
Арнольд Хаузер В ПУТИ
Он не задавался такой целью, это же по чистой случайности она сидела рядом с ним в поезде уже не один час и ехала в том же направлении. Он откинулся на мягкую спинку, колени, согнутые под острым углом, торчали до середины купе, правую руку он поднял вверх, вцепился в багажную сетку, а левую опустил безвольно, и она легонько покачивалась в такт стуку колес; он зевнул.
— Так вы, стало быть, студентка, — неожиданно заговорил он с ней, — почти вдвое моложе путешествующего инженера. — Он пальцем ткнул себя в грудь. — Это нам теперь друг о друге известно, но, к сожалению, не более того… Пока, — добавил он, надеясь, что слова его прозвучат бойко, поощрительно, но, видимо, дело обстояло иначе, она едва улыбнулась.
Он, когда она вошла в купе, положил ее чемодан в сетку, что ж, ладно… Он уступил ей место у окна, и это ладно. Но потом сидел молча, не думая вовсе затевать разговор, и тогда она взяла книгу, почти два часа держала ее на коленях, не понимая толком, что читает, пока не перевернула последнюю страницу, пока не отложила книгу и не подняла глаза на него. Теперь ей от этого просто-напросто не увильнуть. И она устремила на него взгляд, но ей хотелось, чтобы это было незаметно, точно бы случайно. Он заметил ее уловку.
— Разрешите мне курить? — спросил он.
Она кивнула, приветливее, чем сама сознавала.
— Хорошо бы, — предложил он, — если бы вы что-нибудь рассказали, что-нибудь, ну, может, о каком-то событии в своей жизни или… о каком-то, скажем, интересном приключении. Давайте?
Этого она, по правде говоря, не ожидала, это было совершенно неожиданно после долгого молчания… И все-таки он не казался ей навязчивым, наоборот, он был ей очень симпатичен. Этакий взрослый ребенок с сединой на висках. Его предложение, однако… Она взглянула на него. Что ей об этом думать?
— После вас и я что-нибудь расскажу, — продолжал он настаивать. И тут ему показалось, что ее маленький рот сжался. — Вы пожелайте что-нибудь, пусть что угодно нелепое, что-нибудь невероятное, а я расскажу, если вы захотите.
Он искоса взглянул на нее, вытянул губы, сдвинул брови. Она улыбнулась, ведь он без всякой к тому причины скорчил гримасу, невинную, собственно говоря, вполне безобидную. А что такого, если она и расскажет что-нибудь, какую-нибудь пустяковую историю.
Ну хоть бы о прогулке в лесу, когда ей было семнадцать, и ее с подругой застал там дождь, им пришлось даже выжимать одежду, вода буквально текла с их юбок и блузок. А потом небо внезапно прояснилось, стало тепло, выглянуло солнце, погода разгулялась, птицы явились вновь и многообещающе защелкали, но мелодии до конца не доводили, они начинали все снова и снова и, точно смеясь над ними, внезапно обрывали ее. Вот и все.
Нет, до сих пор она ни слова не произнесла, не было к тому повода. Только кивнула, когда он уступил ей место, место у окна по ходу поезда, хотя оно ей было ни к чему, на улице стемнело. Ночь. До Бухареста уже недалеко, может, час, самое большое полтора.
— Хорошо, — сказала она, подняв голову. — Хорошо, я кое-что расскажу. Так, пустяк. А если вам станет скучно, прервите меня. Можете спокойно прервать, я не рассержусь. — И, помолчав, добавила: — Мне полезно поговорить, мне это нужно, для моих занятий в институте. Я изучаю педагогику.
Так. Стало быть, учительница или преподаватель высшего учебного заведения… Очки, серый костюм с пятнами мела. Палец вверх, пронзительным окриком призывает класс к порядку. Жаль… Но тут она начала.
Весенний лес. Смола, мох, сырая земля, светло-зеленые листочки, папоротник. Кустарник, еще не такой густой, чтобы не разглядеть гнезда. Коноплянки, снегири, зеленушки — все вьют гнезда. Еще вьют, время высиживать яйца наступило не для всех.
Две девчонки, семнадцатилетние — короткие юбочки, светлые блузки, — держась за руки, шагают в тени. Они шагают босиком, легкие туфли раскачивают в руках. Щебечут, хихикают, их босые пальчики погружаются в мягкие комья прошлогоднего перегноя, что усеивают лесную дорогу; нашпигованные осенними листьями, эти комья тихо шуршат и, словно ожидая, кого бы приласкать, лежат тут, и там, и на той стороне, и везде, куда ни кинешь взгляд, ждут, чтобы на них наступили белые, благоухающие мылом девичьи ноги.
Косынки, одна алая, другая голубая, завязанные вокруг шеи, развеваются на ветру — а шаги все быстрее и быстрее, ноги едва касаются тропы — и одновременно взлетают, словно их подхлестывает и гонит незримая, гигантская, неведомая химера, гонит куда-то в глубь леса, где высоко над ними темнеют буковые листья, а осенние листья лежат под ногами толстым сырым слоем и пробиваются между белыми пальцами, теперь уже пахнущими не мылом, а лесной землей, плющом и смолою.
В лесу едва заметно, как-то исподволь, мало-помалу темнеет. В этом лесу, думают девушки, в этом лесу почему-то темнее, чем везде. Они не знают, что над кронами деревьев уже промчались серые тучи, а теперь нависли грозно-черные, закрывшие свет солнца, лишившие его силы. И тут оно началось. Кажется, по буковым листьям осторожно, словно о чем-то напоминая, миллионы раз что-то повторяя, одновременно бьют сахарные кристаллики, шум этот созвучен настроению девушек, их семнадцатой весне, с ее шорохами, шепотом, гнездами и травами, жужжанием и постоянно обрывающимся щелканьем птиц.
Ну и дождь! Им такое и во сне не снилось. Жуть берет, наступает отрезвление, им холодно. Все на них промокло. Они насквозь промокли, вода с них течет ручьем. А дождь все льет и льет, зубы у них стучат все дробнее, дробнее, они дрожат от холода. А вот та, плачет она, или это капли стекают с бровей на ресницы. Глянь! Там что-то шевельнулось. Что это? Широкие листья с каплями воды слишком тяжелы, ветка, чересчур нагруженная, не выдерживает их веса. Обламывается и шлепается на землю. Страшно… Два тела прижимаются друг к другу, влажные, ищущие поддержку, нежные, тугие, вымокшие. И волосы у них мокрые, висят прядями, вода стекает с них струйками. Сотни ручейков бегут по плечам, груди, по спине и по лбу. Конца этому не видно.
И все еще конца не видно.
И все еще не видно.
Они плачут в унисон с журчанием воды. Теперь дождь хоть и барабанит по листьям, но тихо. Правда, отовсюду еще льет. Вода еще отовсюду стекает на землю, впитывается в землю, течет по канавкам меж корней, вниз, куда-то в долину, утекает, утекает куда-то вдаль. Может быть, там, меж стволами, где светло, уже тише. Там капает, но редко. Да и эта капель кончается. Постепенно.
Хорошо, что ни гром не гремел, ни молнии не сверкали. Девушки улыбаются. Зубы, белоснежные, меж бледными от страха губами. Никого кругом, кто бы это видел, ни одного человека. И ни единой капли больше сверху. Ничего, но у них все вымокло, и кожа у них гусиная от сырости. А по спине бегут мурашки. Комья земли, аморфные, мягкие, черные, застревают меж пальцами. Туфли они перевернули. Смеются.
Птица чирикает. Не пострадало ли гнездо? Синий глаз вверх, на крону, запоздалая капля — в глаз. И опять смех. Все еще ни души вокруг. Платок долой. Тряхнем кудрями, капли с волос. Блузку долой. Юбку долой. Щеки опять розовеют. Откровенный взгляд друг на друга.
Последние капли выжимают из юбок и блузок, волосы расчесывают пальцами. А потом, когда все подсохло, они отправляются домой. Идут не спеша, рука в руке, как две сестры, спокойно; теперь их никто не подгоняет, никто и ничто. И вновь сияет солнце…
Она замолчала, смотрит в сторону.
— Вот и все, — говорит она. — Больше нечего рассказывать.
А он? Он собирался было рассказать что-нибудь о своем заводе, как он проектировал агрегат, как проект приняли, но поначалу все были против, и директор тоже, и как в конце концов он все-таки оказался прав, его премировали, он купил себе машину, «фиат-1300».
Он достает из пачки сигарету левой рукой, правая затекла — слишком долго он держался за сетку. Теперь вены наполняются кровью, вздуваются на тыльной стороне руки, обретают фиолетовый цвет. Закурите? Он предлагает сигареты, она берет из пачки одну, он дает ей прикурить. Она затягивается. При этом она смотрит на него, рот ее чуть кривится в улыбке, едва заметной, но достаточно уверенной, чтобы поубавить его самоуверенности, заставив его искать выход, которого он не находит. О чем им говорить? Что за дурацкое предложение, рассказать о каком-нибудь событии из жизни. Но теперь ему нужно что-то сказать, иначе молчание затянется надолго.
— Жил однажды человек по фамилии Оружейник. Оружейник… — Он вынул сигарету изо рта, погасил ее и сильно выдохнул.
Она смотрит, как струя воздуха рассеивает остатки дыма, смотрит на его подбородок, видит щетину, которую он только что потер рукой, и снова слушает его…
— Фамилия эта редкая, один из его предков во время Семилетней войны попал в Трансильванию, был, видимо, наемником, фамилия как-то вдруг объявилась, ее упоминали вместе с упоминанием косицы и трубки, принадлежала она плотнику, ремонтировавшему алтарь, тогда еще, а потом у него родились сыновья, один из них стал сапожником и отцом сына, который в виде исключения стал не сапожником, а каретником (причина неизвестна). Этому ремеслу два поколения Оружейников оставались верны, их уважали, они пользовались авторитетом в цехе каретников, и шкаф, в котором хранились цеховые грамоты, стоял в сенях рядом с ларем, в котором хранилась пшеница. Грамоты были испещрены витиеватыми подписями, украшены штампами и печатями.
А позднее, через много лет, началась война, первая мировая война, и сын Оружейника стал оружейным мастером в армии кайзера. Когда война была проиграна, он вернулся, женился и тоже родил сына. Но тому не суждено было стать ни оружейником, ни каретником. Для следующей, для второй мировой войны слишком юный, для каретного дела отца более ненужный, он стал инженером по машиностроению. И он тоже отец, у него есть сын, и он подарил малышу конструктор, с колесиками, винтиками и гайками, с пронумерованными деталями, из которых, свинтив их в должном порядке, можно смастерить автомашину, кран и экскаватор, и для него, шестилетнего, они значат то же, что для его отца проекты, машины, которые он конструирует, или «фиат», в котором он ездит, часто с женой и сыном, весной, например, когда леса пахнут смолой, плющом и перегноем, и над всем сияет солнце…
— Вот, — он сует руку во внутренний карман пиджака, вытаскивает фотографию, — вот он, младший отпрыск. Порядочный озорник.
Ему приходится ждать, пока она наконец берет фотографию, и берет как-то нерешительно, держит ее мгновение оборотной стороной вверх. Потом смотрит на отца, потом уже на карточку и снова на отца.
— Красивый мальчик, — говорит она, и голос ее звучит иначе, чем до сих пор.
А когда он вымученно хохотнул, она опускает голову, и прядка волос падает ей на лоб, скрывая вспыхнувший румянец. Она возвращает фотографию, она уже взяла себя в руки, считает по крайней мере, что взяла, но что-то в ее взгляде заставляет его отвести глаза, заставляет его стать серьезным.
И нет никого, кто помог бы им преодолеть эти трудные секунды. Как же глупо, что вот так, вдвоем, они, не в силах вымолвить ни слова, чувствуют себя до предела опустошенными своим разговором — с грохотом в ушах, без единой мысли в голове, — и ничего, ни единого словечка нет у них желания сказать. Молчание. Грохот.
— Знаю, — наконец говорит он, и голос у него какой-то чужой. — Моя фамилия — это фамилия нынче некоторым образом бесполезная, от нее можно отказаться. Символически по крайней мере.
Он умолкает. Говорит вот так в пространство, ведь никогда не узнать, как тебя понимают… Ох, надавал бы он себе оплеух. Она уже довольно долго смотрит в темноту за окном. Подобное ощущение бывает у человека, когда он прощается на вокзале, а сигнала к отправлению поезда не подают, когда уже давно все сказано, и нет ничего больше, ничего мало-мальски интересного, о чем стоило бы поговорить. И хочется только оторваться друг от друга: разве поезд не смахивает в каком-то смысле на судьбу? Одному нужно на работу, другому куда-то в противоположный конец страны — к матери, отцу, брату. Они смотрят на часы, чувствуют, что оба понимают, в чем дело, молчат. Но вот наконец раздается свисток. Они облегченно вздыхают, каждый надеется, что другой этого не заметил…
Поезд подъезжает к Северному вокзалу: Бухарест. Он поднимается, тянется к сетке, подает ей чемодан. «Благодарю». Она быстро надевает пальто, пока он свое снимает с крючка. И они выходят.
— Скажите… Но, пожалуйста, правду!
Он кивает удивленно.
— Если бы у вас не было жены, сына с конструктором и всего прочего… Вы бы… вам бы?..
Он опять только кивает, останавливается, хочет уйти, но в конце концов берет обеими ладонями ее голову, целует. Он улыбается, но как человек, которому лучше бы не улыбаться, и уходит.
Перевод с немецкого И. Каринцевой.
Справки об авторах
Деметриус, Лучия (1910) — прозаик и драматург, неоднократный лауреат Государственной премии. Наибольшей известностью пользуются ее сборники повестей и рассказов: «Семейный альбом» (1947), «Люди и звери» (1956), «Что приносит заря» (1967), «Молодость» (1971), «Я земной житель» (1973), а также пьесы «Новый брод» (1951), «Родословное дерево» (1957) и др.
Повесть «Зеркало» была опубликована в сборнике «Люди и звери».
Папп, Ференц (1924) — современный румынский прозаик, пишущий на венгерском языке, автор многочисленных повестей и романов, среди которых особенно популярны, помимо публикуемой повести «По разные стороны», были следующие: «Первый снег» (1961), «Под корнями» (1964), «Человек, спустившийся на землю» (1966) и др.
Цою, Константин (1923) — популярный романист, новеллист, публицист — завоевал особое признание литературной критики и читателей сборником повестей и рассказов «Воскресенье немых» (1968) и романом «Беседка, увитая диким виноградом» (1976).
Повесть «Воскресенье немых» взята из одноименного сборника.
Андру, Василе (1942) — популярный прозаик, автор рассказов, опубликованных в сборниках «Возможная Ютланда» (1970) и «Вечерами приходит невеста» (1973), а также романа «Жених» (1975).
Рассказ «Вечерами приходит невеста» взят из одноименного сборника.
Балинт, Тибор (1932) — румынский романист, драматург, очеркист, пишущий на венгерском языке, автор романа «Больное путешествие» и рассказов, вышедших в сборниках «Тихая улица» (1963), «Видение после мессы» (1979).
Богза, Джео (1908) — старейший прозаик, завоевавший широкую известность прежде всего как автор острого социального очерка. До 1944 года выступал в защиту шахтеров — «Люди и уголь в долине Жиу», «Каменная страна», а также писал очерки о гражданской войне в Испании. После 1944 года выходят книги его очерков: «Величественные ворота» (1951), «Советские меридианы» (1953).
Рассказ «Смерть Якоба Онисие» впервые был опубликован в 1949 г.
Войкулеску, Василе (1884—1963) — врач по профессии (автор научных исследований по медицине), завоевал популярность как поэт сборниками стихов: «Стихи» (1916), «Из страны героя» (1918), «Первые плоды» (1921), «Поэмы с ангелами» (1927), «Судьба» (1933), «Восхождение» (1937), «Видения» (1939), «Последние, воображаемые сонеты Шекспира в воображаемом переводе В. В.» (изданы посмертно в 1965 году).
Настоящую сенсацию вызвала посмертная публикация в 1966 г. двух сборников рассказов В. Войкулеску: «Голова зубра» и «Последний Беревой», поставившая их автора в число лучших румынских прозаиков.
Перу В. Войкулеску принадлежат также пьесы: «Дочь медведя» (1930), «Накануне чуда» (1934), «Тень» (1935) и роман «Слепой Захей», опубликованный посмертно, в 1970 году.
Рассказ «Монастырские утехи» был опубликован в сборнике «Голова зубра», а «Алкион Белый Дьявол» — в сборнике «Последний Беревой».
Косашу, Раду (1930) — новеллист, очеркист, публицист, автор сборников рассказов и очерков «Свет» (1961), «Ночи моих товарищей» (1962), «Понято или не понято» (1965) и др., а также романа «Персональные обезьяны» (1968).
Рассказ «Оливковая ветвь» взят из сборника «Выжившие» (1977).
Симионеску, Мирча Хория (1928) — прозаик, новеллист, автор рассказов, опубликованных в сборниках «Степной выдумщик» (1969), «Общая библиография» (1970), «Половина плюс один» (1976) и др.
Рассказ «География и каша» был напечатан в сборнике «После 1900, в полдень» (1974).
Хаузер, Арнольд (1929) — румынский прозаик, пишущий на немецком языке. Новеллист, очеркист. Его перу принадлежат книги рассказов: «Познанный мир» (1965), «Поздний снег» (1968), «В пути» (1971), «Повседневное испытание» (1974), а также роман «Сомнительное донесение Якоба Бюльмана» (1967).
Рассказ «В пути» взят из одноименного сборника.
Т. НИКОЛЕСКУ
Примечания
1
Потому что сейчас как раз подходящее время (франц.). — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
Госпожа — истинная Золушка (англ.).
(обратно)3
Pipirig — осока (рум.).
(обратно)4
В. Шекспир. Ромео и Джульетта. Перевод Б. Пастернака.
(обратно)5
Лизел, не хочешь прогуляться? (нем.)
(обратно)6
Нет, нет, я должна вымыть голову (нем.).
(обратно)7
Чорба — национальное румынское блюдо, суп.
(обратно)8
Сарамурэ — рыба под острым соусом.
(обратно)9
Чулама — птица, приготовленная под белым соусом.
(обратно)10
Остропел — жаркое, чаще из барашка или птицы, с чесноком, мукой и уксусом.
(обратно)11
Кио — герой романа Андре Мальро «Человеческая доля», покончил жизнь самоубийством, отравившись цианистым калием.
(обратно)


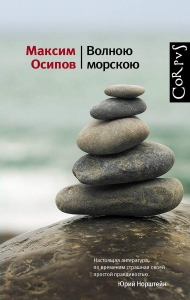

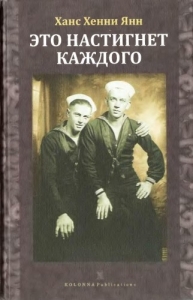






Комментарии к книге «Повести и рассказы писателей Румынии», Лучия Деметриус
Всего 0 комментариев