Полковник
ПРЕДРАССВЕТНЫЕ ОБЛАКА
I
С коридором, можно сказать, повезло. Из конца в конец — семьдесят два его шага. Это метров пятьдесят. Он высыпает из коробки, где наклейка — уссурийский тигр, спички на широкий подоконник, накрывает ладонью и размазывает-шевелит, что-то строит, не глядя. Смотрит в окно на крыши. Крыши в инее блестят, дымятся в горизонтальных лучах солнца. Или крыши матовые, в тени, усыпаны листьями, вблизи четкими, словно вырезанными из цветного серебра, а дальше — сливающимися в пятна… Душа, и тело, и мысли его так далеки в эту минуту друг от друга, как, может быть, лишь было до рождения, когда все это, возможно, уже и существовало, но еще не знало друг о друге.
Осторожно оглянулся. Еще пустой коридор, светлое пятно посередине — дежурная медсестра с настольной лампой. Перевел дух. Стал опять цельным куском, со взглядом-точкой, взглядом-фокусом, все прожигающим, немигающим взглядом, змеиным. Берет спичку и несет ее через весь коридор. Кладет на точно такой же подоконник, гладкий и широкий, кофейно-успокаивающего цвета. Идет обратно за новой спичкой.
Словно серьезную работу, зажав в руке тонкую спичку (и губы тоже — в ниточку), со вспухшей через весь лоб жилой — раз, два… раз, два… С застывшей спиной и таким же взглядом — словно в гляделки: кто кого! — непроницаемый, непробиваемый… Раз, два… раз, два… Только в глубоких глазницах, прикрытых сведенными вместе клочкастыми, как у Деда Мороза, но лишь черными бровями, нет-нет да и мелькнет словно бы отблеск, отсвет каких-то далеких пожаров. Когда, позабыв обо всем, засмотришься на огонь…
Когда больница начинала просыпаться, он успевал обычно перенести половину коробка. Чаще звонили телефоны, гремела внизу посуда. Кашляли палаты, и уже показывались их обитатели. Показывались, словно бы призраки собственных ночных кошмаров. Мятые, сгорбленные, неопределенно-полые человеки, жадно вынюхивающие среди скверных больничных запахов свою единственную любовь — Надежду. Теперь тверже шаг, насколько позволяет малиновая дорожка, напоминающая краснощеких хохотушек медсестер…
Человек, стерегущий по утрам предрассветные облака, ну и перепугался же ты, когда началось это…
Жара спала, прохлада успокоила тебя. Лежал поверх одеяла, заложив руки за голову. Белели в уплотняющихся сумерках полоски пижамных брюк, сливались, теряли четкость. Легко дремалось, легко просыпалось. Убаюкивала музыка из парка. А надо б было встать, зажечь свет, разрушить сладкое наваждение, за которым уже предчувствовалось нечто. Но налетят ночные бабочки, будут падать обожженные. Думалось так, и начало мелодии ты пропустил. Да и не предвещала она вначале ничего опасного. Только с правильным интервалом повторялась одна нота. Как будто всё пытались порвать одну струну. Она звенела пронзительно, догорающе. И все казалось — в последний раз. И уж больше ничего не будет. И вот опять… опять…
Сначала появилось слабое ощущение неуютности, ощущение чужих, как перед отъездом дождливым вечером туда, где тебя никто не ждет, и пройдет немало времени, пока обвыкнешь. Потом эта монотонность, с которой повторялся резкий, страстный звук, незаметно, плавно поднялась, словно бы на какой-то пик, где уже чувствовалось невыносимое томление скрюченного в три погибели тела. Поднялась и… покатилась, покатилась вниз, наращивая ком невыносимой боли. Как при японской казни от слабых, но бесконечно падающих в одну и ту же точку капель воды. Ты понимал, что надо просто встать, сбросить, как липкую простыню, эту расслабляющую дремоту. Встать, зажечь свет… Но налетят ночные бабочки, будут падать обожженные. И было сладко думать: пусть поживут еще ночные бабочки, пусть поживут…
Можно, разумеется, встать, окно сперва закрыть, потом уж свет зажечь. Но тогда увидишь ночной парк. Вернее, не парк — переплетение стволов, веток и веточек. Силуэт, кровеносную систему, аорты, артерии, капилляры того, что только днем вновь станет парком. Нет уж, думалось, — подожду. Ты ждал. И ожидание длилось. Так замерло, остановилось все в тебе. Остановилось. Остановилось и продолжало стоять — черным, как силуэт парка — комком в твоем сердце.
И вдруг прорвалось в ярких брызгах света, пены, яростной радости. Но только на миг. На миг свежий ветер всколыхнул тину, сдул зеленую ряску, на мелководье, цвета вчерашнего чая, обнаружил песчаный берег и след босой и детской ноги…
— Точить ножи-ножницы, бритвы править!.. — встряхнуло плавную парашютность сумерек и на миг обмануло нищету. И вновь околдован вечный мальчишка. Медленно-пушистые в фиолетовом воздухе огромные искры от точильного колеса, похожие на хлопья первого снега. Перехватило от счастья на миг дыхание, но круг уже бешено вращался, искры слились в сплошное огненное колесо.
Ты встрепенулся было на высоких подушках, привстал, потянулся к звонку. Пустой полосатый халат взмахнул, салютуя кому-то. И опрокинулся ты навзничь. Тяжелым затылком, как грузилом, — бульк! И накрахмаленный угол наволочки загнулся в полураскрытый горячий рот.
Торжествующе забили барабаны, дурно взвизгнула флейта, орган гремел, и как-то втиснулась меж ними шарманка. Хоралы, гимны, хохот сатиров, вой обезьян и нежный романс «Ах не любил он, нет — не любил он…» — под улюлюканье и щелканье бича неслись, подхваченные гигантским смерчем; рушились и распадались, оставляя пыль и смрад, города и небоскребы, пирамиды и эйфелевы башни. И поколения прошедшие, настоящие и грядущие, как золотистые снопы, валились друг на друга. Бледнела изъеденная молью цивилизация, и сквозь нее уже вставало нечто. Все летело, кувыркаясь и стеная, вопя, взывая к чему-то. Все улетало в тартарары. Так мотоцикл с мотоциклистом на вертикальной стене цирка с заглохшим вдруг мотором медленно, неудержимо срывается вниз… И вот закручено уже все в штопор, в гигантскую воронку, в утильсырье — на переделку. Превратилось все в бешеный пропеллер, взревело, сорвалось, звук поднимая до тишины. Когда реальность, совсем как детская хлопушка, тихонько — хлоп! И пополам. И половинки не хотят соединяться. Меж ними вата, пустота, вода иль белый сахар — что хотите. Из той — чужой уже половины — пропущенный сквозь воду-вату голос дежурного врача. Вспотевший, настойчиво пробирается к тебе.
— Ну, батенька… Ну и напугали же вы нас! Разве ж так можно? Ну, ну, ну… вот нам и лучше, не правда ли, а?
Матовый звук. А ты — как рыбка в аквариуме. И матовый свет над головой.
— Х-галочка, золотце, теперь еще два кубика ему… в левую. Ну-у, пожалуйста… — Грассирующий баритон, берущий сразу женщин в плен.
И вот уже вдоль сине-белых пижамных полос, как по рельсам. Приблизилась к тебе, нагнулась и кольнула. Свежим, еще не успокоившимся дыханием, как павлиньим опахалом, как вечерней волной на закате… «Ах, на Гаити любовь так доступна…»
— Ну а теперь нам совсем хорошо! — бархатно, портьерно. — Ну, не правда ли? А? Ну, ну, ну… — солидно, мягко, как дилижанс на рессорах. — А? Что? — Достойно к тебе чуть склонился, медузообразно переливаясь, животик втиснул в полные колени свои, еще нагнулся ближе. — Музыка?.. играли?.. где играли? — уже начиная красиво капризничать от неудобства позы. — Ах, там — на танцплощадке. Только что? — Втянул нижнюю губу — крупную розовую фасолину, — пососал, уставившись на сестру, и выплюнул, оттопырил губу. — Можно послать узнать, а?
Сестра, рыжая до высокомерия, согласно плечиками отвечала.
— Да нет, — собрался с силами и ты, — я просто так… просто так…
А с коридором, можно сказать, повезло. С пяти утра, словно серьезную работу, зажав в руке тоненькую спичку… Раз, два… раз, два!..
По-видимому, он мог вставать и на час раньше — все равно ведь не спал, в полудреме силясь хотя бы раз застать рождение предрассветных облаков. И тогда бы успевал перенести весь коробок еще до пробуждения больницы. Но не вставал. А после последнего приступа созрело решение — написать обо всем жене Марии. Вернее, если уж быть точным, то окончательное решение — написать — пришло после сегодняшнего утреннего визита врача. В руках у врача была папочка-скоросшиватель за тридцать две копейки. На ней неровная, даже небрежная надпись «История болезни Круглова И. Ф.». Папочка была такой тонкой, такой легкой, а врач так легко держал ее двумя пальцами за белые кальсонные завязочки, что ты враз вдруг и ослаб… И решил писать Марии.
Тут мелькнула, коридор пересекая, какая-то комиссия — несколько человек в белых халатах. И прежде чем скрыться в ординаторской, одна из женщин рассеянно взглянула на него, несущего очередную спичку, на лоб, где ярко вспыхнула вена буквой «зэт». Взгляды их встретились, и Ивану Федоровичу на ум пришел образ засушенной красивой бабочки. В ее же глазах, больших и серых, широко посаженных на смугловатом чистом лице, мелькнуло вдруг ошеломление.
Тамара Сергеевна третий день как перешла старшим ординатором в эту клинику. Первые два дня на новом месте принесли ей удовлетворение и облегчение. Вечером она, конечно, по-прежнему сразу ехала к мужу в лечебницу. Разумеется, это уже не на целый день, как раньше, но он-то все равно ничего не почувствовал. Как, впрочем, она и предполагала. Сомнения, грусть, самоупреки за эти два дня в душе Тамары Сергеевны если и не исчезли совсем, то во всяком случае сильно поубавились. И надо же! Вот эта нечаянная встреча на третьем этаже, так сильно испугавшая.
* * *
А парашют похож на хризантему. Да, раскрывшийся парашют похож на хризантему в голубом. И только.
А нераскрывшийся? О-о-о… на многое. На вырванный и смятый лист книги. На гимн Солнцу, который поет бесстрашный сван в минуту смерти. На упоительно-безрассудный бросок орла на «ТУ-104». И все же больше всего нераскрывшийся парашют похож на спокойствие пространства, не знающего другой опоры, кроме непреходящего. Чтобы понять пространство, надо когда-то остаться без опоры. И тогда узнаешь пространство и радость от этого.
Но сначала стремительно летишь на твердые камни. Теряя опору, теряя рассудок. Весь в липком тесте ужаса. И лихорадочно дробится рассудок, словно каждый волос на твоей голове поднялся сам собой, лепечущей зажил антенной.
Последние мгновения, последние минуты, дни… Они не имеют земного значения. Они вставлены в золотую раму — последние. Они другие. Как, скажем, патроны в последней обойме. Помнишь, Иван Федорович, бой под Сосновкой?
Но до того, как началось это ужасное ускорение, ведь был разгон, было медленное, почти незаметное начало. Вызвавшее даже не испуг — недоумение. Когда Иван Федорович неожиданно почувствовал, что его оттесняют. Последний раз принесли отчет на подпись два месяца тому назад. Звонки с работы, раньше частые, взбудораженные, с горячим дыханием, что ли, пульсирующие, как взбухшая от быстрой ходьбы жила на его потном лбу, теперь были хоть и ежедневные, но в них уже чувствовалась безупречность забиваемых в доску холодных гвоздей. По четыре на доску. Порядок, оскорбляющий жизнь. Звонки уже не радовали, усиливали чувство несправедливости. Уже поташнивало, когда снимал трубку телефона. Вспоминалось некстати, как давным-давно, еще в студентах, в общежитии однажды украли всю стипендию. Такие милые, помнится, ребята.
Исчезли с тумбочки книги (читать Ивану Федоровичу вредно), прекратились консультации старших специалистов института по вторникам прямо в палате. Прогулки во двор прекратились. Напоминало это хорошо организованную облаву, куда ни сунься — красные флажки. И все это на фоне уколов, таблеток, всевозможных анализов, консилиумов медицинских светил. Теперь по многим признакам видел Иван Федорович, что его оттесняют. Тихо, настойчиво, непреклонно…
Такой наполненной казалась раньше окружающая реальность. А вот стоило ей однажды пошатнуться, и не смогла больше прийти в себя. Сдвинулись контуры, исказились перспективы, усталость сочилась по всем швам. Как будто переставляли декорации после спектакля — легко передвигали их два алкоголика. Оттенок декоративности все креп, призрачность набирала градус. Да и Иван Федорович, словно на что-то обидевшись, полуотвернулся. Уже нет-нет да и посматривал искоса туда, где мерцало, перехватывало душу глубокое, как черный омут, оно. И затихают у него за спиной, у костра, и смех, и разговоры… уже и тепло не доходит, последний отблеск затерялся среди деревьев, похожих на силуэты. Все большей тоской охвачен Иван Федорович по тому костру…
Живой, горячий, неразумный, порой наказывающий сам себя. Продолжает ошибаться, продолжает лезть на ледяную стенку, разбивать нос. Бесшабашно-трепетный, яркий костер среди вечной ночи. Не затушить его никаким потопом.
Костер, костер, какая сила В твоем немеркнущем лице, Здесь нет раздумий о начале, Здесь нет печали о конце…Низко стелется в ветер, в бурю, словно разбег берет. Зато когда тихо — до самого неба тогда. И согреет, словно мать, если озяб, устал. Но только возомни себя спасителем-христом, сожжет ведь. Как будто и впрямь не хочет знать никаких человеческих путей-спасений. А хочет просто радостно и трепетно гореть. Подчеркивать, оттенять своею животрепещущей яркостью и жаром тот вечный мрак и холод, что сразу за ним. А больше — ничего.
Но отчего ж дрожишь ты так, Иван Федорович? Разве ж все непонятное — обязательно ужасно? Разве ж раньше среди дружеской беседы на рыбалке у костра не вставал ты вдруг, изумленный внезапным желанием, разве не шел ты куда глаза глядят, послушный неясному зову? Только чтобы остаться одному, послушать шорохи ночные. Эти непонятные ночные звуки. Затаиться, словно и впрямь подслушиваешь чье-то возвышающее душу молчание. И внезапно почувствовать сладкий укол в самое сердце — горчащую связь, родство твоей души и всего этого молчаливо мерцающего мириадами блесток снежного наста, медленно раскачивающего своим дыханием верхушки деревьев над тобой, изливающего неправдоподобную искренность и сочувствие.
Но все эти умилительные свидания кончались тем, что возвращался ты к костру, от которого лишь на минуту отходил. Расталкивал, занимал свое место. Тогда все было не так, как сейчас. Таинственные шорохи Вселенной — эти странные звуки были полны очарования именно потому, что тебе и не надо было их понимать. В этом не было необходимости. Это все было от тебя так далеко, как, скажем, лев… в клетке. Посмотришь, послушаешь нестрашное рычание и вернешься к телевизору. Теперь же ты словно вошел к нему в клетку, и от того, как ты поймешь его, а он тебя, зависит: будешь ты или тебя не будет вообще. Сначала ты дрожишь, не воспринимаешь реально случившегося, все кажется тебе кошмарным сном, когда… ночной необъяснимый звук… потом еще один… еще… явственнее… две двери — два входа, много окон… со всех сторон — открыт — закрыт — открыт… закрыт… открыт… тупая боль в животе, чуть отвлекает, просто досадная помеха… но шорох… шорох… скрип половиц… уже шаги… вянут руки, вянет тело, вянет мысль… Мысль — то в жар — бежать, кричать, спастись… через форточку… не успеть… И вот подходят… медленно… спокойно… неотвратимо, неотразимо, невозвратимо… Ах, если б мимо! Не закричать, и не забиться, и не обнять, и не проститься… ах, если б мимо! Но нет — к тебе… Покорно ждешь…
Так и тут (со львом в клетке): сперва готов ты броситься на толстые железные прутья. Грызть, ломать их… А может, лучше лечь, глаза закрыть и будь что будет… Тук, тук, тук — отсчитывает маятник, ночные шорохи и мысль, блуждающая среди них, как в лабиринте, — всё двери, двери, а что за ними? Ночная ли роса и соловьи или опять дерутся два больших кота? Всё двери, но ни одна из них не ведет к выходу из лабиринта, а время уходит, шуршит не спеша. Так улетают разноцветные шары — навсегда. И вместо них поселяется в нашем сердце пустота.
Пространство же не терпит пустоты и заполняет ее единственной своей опорой — спокойствием непроходящего.
Да, тебе придется какое-то время находиться здесь. Пока не позовут туда, за последнюю дверь, перед которой стоишь. А пока ты стоишь в прихожей, в предбаннике, в приемной. И словно ждешь сигнала выйти из подводной лодки в океан. И жутковато, и уже тянет: «Скорее уж, что ли». И даже чудится существующая какая-то, заранее предусмотренная церемония, ритуал перехода. А пока дано время подготовиться, осмотреться в приемной. Вроде бы от этого будет зависеть то, что ждет тебя там.
И ты начинаешь озираться жадно, страстно, пытаясь по тому, что тебя окружает здесь в последний раз, составить, может быть, представление о законном хозяине, какое-то настроение почувствовать — как же все-таки вести себя при встрече.
Еще пока в отсутствие самого́ ты все спокойнее расхаживаешь по приемной, осваиваешься, прислушиваешься к отдаленным звукам часов, циферблат которых не круг, а… ш-ш-ш… шорох… это первый пока, еще есть время. Рассматриваешь вещи. На них жутковато-обычный облик, словно бы давно знакомые предметы, принадлежащие тебе, причастны тебе, а ты причастен им. Скажем, низкая луна в конце аллеи парка. Но ты вдруг ощущаешь, что причастны они тебе лишь формой, обликом — своим отличием от других обликов. Круглая, крупная, запорошенная снегом — вот и всё, чем принадлежит тебе (и всегда принадлежала) луна. Сейчас ты напрягаешься, хочешь вникнуть не в это — облик луны, висящей низко в конце аллеи. Ты страстно хочешь ухватить, подсечь совсем не облик — глина, глина, первородность! — подсечь то, чем мыслится сама твоя мысль о луне. Откуда она — энергия мысли? Что это? Причина или сгусток причин — создатель всего сущего! А вместо этого — холостой выстрел — всего лишь банальная метафора: луна похожа на засыпанного снегом немного сонного ночного сторожа, немного пьяницу, философа немного, — скучно.
«Подобно тому как кусок соли без внутреннего и внешнего есть лишь сгусток вкуса, так и тут, — думается странно Ивану Федоровичу, — есть луна на небе и есть отдельно мысль о ней. Избавиться бы как-то от раздвоенности, лизнуть разок то, что останется после ликов, — сгусток лунной причины, родившей то и другое».
Так думает он, так проводит в основном теперь время, как бы пока все кружа на подступах к главной своей теме… Еще бы лучше совсем уйти в дремоту, уйти… Чуть не столкнулся со старичком в галифе. Сорок пятую как раз Иван Федорович несет спичку, за ней — сорок шестую… И останется ему еще… Да, да, уйти бы навсегда в блаженную раскованность духа-тела, в рефлексы, инстинкты, тогда, возможно, вывезет сама естественность бытия. «…Где есть лишь единство всего, где как бы… — тренированный ум требует ежедневной, ежесекундной пищи, во благо ли, во зло — кто теперь ответит! — но ни на секунду нельзя оставить ум без пищи, — да, да! — с головой уйти в единство всего сущего, — где как бы по одному куску глины познается все созданное из этой глины. Наименование ликов, различие их — всего лишь метафоры, видоизменения, обороты нашей грамотной речи… — красиво думается ему, несущему очередную спичку. — Истина же в глине — этой истинной причастности, причине того всего, что окружает здесь нас. Ведь только благодаря этому мыслится немыслимое, познается непознаваемое. Это надо познать. Это, наконец-то, всем нам надо срочно познать…»
Но нужен толчок. Без него конечно же не выйти из мертвой петли. Мир не хочет оживать. Ну никак! Напрасно греешь его своим дыханием, как домашнего котенка. Напрасно напрягаешь близорукие глаза — все то же одиночество. Теперь одиночество покоя. Но чем оно лучше одиночества суеты?.. То же ощущение заживо погребенного. Дух распрямляет плечи, насколько это возможно в тесноте. Ищет, ищет жадно, страстно в этой холодной мигающей бездне. На коленях, руки простирая к звездам…
Все обострилось в тебе до предела. Так наркоман, чувствуя уже ускользающую точку блаженства, обостряет в себе все чувства, стараясь удержаться хотя бы мгновение на этом восхитительном пике. Так все обострилось и в тебе в надежде не пропустить, услышать этот маленький толчок…
Мятежен, беспокоен ветер твоих мыслей, их безголосый хор подхватывает твое слабое дыхание, твое тепло, вырывает из ладоней, уносит за хребет в холодный сон…
Ты слышишь, как на первом этаже звенят посудой. Это словно двадцать кабин московского переговорного пункта одновременно, бессмысленно кричаще, рычаще, бренчаще, неотвратимо наступают на тебя… Шаги медсестры в коридоре — страшные шаги циклопа, ночного пришельца из кошмаров. Голос нянечки — «пенсия сохраняется» — иерихонская труба.
Как будто ты с отказавшим мотором долго-долго падал и почти у самой земли он заработал вновь, и ты повис и тянешь изо всех сил штурвал на себя, пытаясь преодолеть инерцию. Инерцию школьной логики, инерцию здравого смысла, безрассудной веры в четыре правила арифметики. Ты тянешь, напрягая все силы, безуспешно пытаясь увести свой грубый самолет, вот-вот готовый врезаться в такую же грубую, черствую землю. Вывести, надо обязательно вывести его из мертвой петли неверия, глубокими корнями баобаба цепляющегося крепко за землю. За одну только землю. А ты сейчас до боли скрученный нерв — одно желание: увидеть хоть краешек голубого неба, неба детства. Когда… зачем же так быстро взрослеем мы! Мама, да сделай ты хоть что-нибудь… ведь пропадаю ж, мама… И вот ты как будто б и увидел, ты как будто б на самом перегибе, на самом волоске своей параболы. Но видишь, видишь же! Ты как на качелях — туда… обратно… и всё теплей и радостней из-под мартовского снега и сосулек, несмотря на крепкие еще утренники, капля за каплей собирается в путь-дорогу звонкий ручеек… Вот он — перегиб кривой, по которой ты только что несся вниз. Твоя кривая — это… это… что-то такое… подъем, подъем, разумеется, подъем, а как же… нельзя же-с… Вон, Глеб, твой лечащий врач, согнулся у самой земли. Глеб свою кривую рассматривает — понятно, совсем другого порядка, да-с — кривую температур больного Круглова И. Ф. «Эй, Глеб-дружище, да забрось ты к черту этот график, бюрократ! » А-а, шут с ним — тебе сейчас не до Глеба. Ведь смерть его будет проста и примитивна, согласно его же воззрениям и взглядам. Это такая последовательность: речь, входящая в мысль, мысль — в дыхание, дыхание — в жар, в высшее из божеств. И он перестанет узнавать своих родичей. Он перестанет видеть различия, но он к тому времени уже опоздает — он умрет до этого. То есть он, разумеется, придет к тому же — Великий закон един, но он придет путем потерь. Ты ж, Иван, сын Федора, придешь путем обретения истины. Твоя речь сперва плавно войдет в огонь, зрение — в Солнце, мысль — в… в… что это за женщина была рядом с Глебом… на обходе? Новая медсестра? Но странно… глаза… такие серые и в то же время… такие ясные… нет, нет… не надо сбиваться с последовательности, а последовательность должна быть такова. Твоя речь войдет в огонь, зрение — в Солнце, мысль — в Луну, слух — в страны света, дыхание — в дыхание Ветра. И став всем этим, став среди них там божеством, коим ты всегда и желал стать, ты гордо уйдешь прочь, чтоб навсегда остаться всем этим… И спичку очередную будешь нести своим утром, бормоча шаги под нос: пятьдесят два, пятьдесят три… словно каждый раз из конца в конец семьдесят два не получается… пятьдесят четыре, пятьдесят… И тридцать шесть тысяч огней будешь видеть при этом…
Тридцать шесть тысяч огней увидел ты в серебряных широких плошках. Уходящих вдаль по коридору. Звенят тихонько-мелодично они. Не тонкие стаканы с оранжевым киселем на подносе они — огни — звенели в прозрачных драгоценных плошках. С одним в руках остановилась, спросила что-то полная няня. Что-то, наверное, тебя спросила.
— А? Что? — встряхнул ты головой.
— Черного хлебушка, говорю, кусочек положить?
И странно и даже испуганно глядит добрая женщина с золотистой плетеной хлебницей в руках. Глядит, как ты осторожно хлеб берешь, сосредоточенно рассматриваешь, словно и не знаком. Так же сосредоточенно рассматриваешь коридор, куда вынесены уже некоторые койки. Внимательно Иван Федорович с куском хлеба в руке рассматривает коридор, обитателей коридора, которые, понимая, что это уже край, изо всех сил цепляются иссохшими мышиными лапками за металлические перекладины над койками. На краю люди превращаются в безобразных летучих мышей. Но в каждом, в каждом — Иван Федорович ясно видит — горит в серебряном прозрачном сосуде драгоценный огонь. Тридцать шесть тысяч огней увидел он сразу.
С одним огнем подошла рыжая медсестра Галочка:
— К вам, Иван Федорович… посетитель…
Из-за ее головы, как из рыжего тумана, выплыло смугловатое правильное лицо, большие серые глаза, недоумение.
— Можно? — И тонкие холодные пальчики со вздохом протягивает. — Тамара Сергеевна — старший ординатор. — Хотела улыбнуться, не получилось, и еще раз шумно вздохнула.
Иван Федорович насупленно усмехался:
— Ну и о чем же мы с вами, дорогая Тамара Сергеевна, будем беседовать? История моей болезни, так сказать… общеизвестна…
— Ах, да что вы! — Тамара Сергеевна вспыхнула, побледнела, отмахнулась, потом, покачивая хорошенькой головкой, нервно рассмеялась. — Нет, нет, — сквозь переливчатый смех говорила она, — вы не подумайте ничего такого… зачем же… мы можем просто поговорить о чем угодно… если, конечно, вам не трудно… — Мимо них проехал мальчик на коляске с большими велосипедными колесами, грусть в его больших глазах никуда не могла спрятаться, пронесли утку, рыжая Галочка у своего столика считала градусники и все пыталась наморщить лобик.
— Ну что ж, — сказал Иван Федорович, — тогда пойдемте в палату, что ли… здесь, в коридоре, как-то не очень, а?
— Да… — слегка пошатнулась Тамара Сергеевна. — А впрочем, как вам угодно, — торопливо добавила она.
II
Игорь Серафимович, уже вторую неделю исполняющий обязанности директора недавно созданного Центра Науки, еще раз прокрутил видеозапись этого эпизода и, глядя вслед скрывшейся в палате паре, с досадой подумал: «Надо обязательно и в палате установить наблюдение, потом хлопот с этой энергичной бабенкой не оберешься… Интересно: о чем они там?»
А там, входя в палату, Иван Федорович, полуоборачиваясь, спрашивал:
— Ну, так в чем же дело, Тамара Сергеевна?
— Да дело все в том, — отвечала она, глаз с него не спуская, продолжая нервно посмеиваться, — дело в том, что я вас люблю…
Года два тому назад, истерзанная душевной мукой, забрела она в безлюдный парк. На скамейке, недалеко от входа, сидел мужчина. Шляпа лежала рядом, и большие залысины блестели от дождя. Эти блестящие залысины, этот глубокий вздох, который он сделал, почти незаметный, когда она проходила мимо, — все это свидетельствовало не столько о внутренней силе, сколько о спокойствии, даже величественности мысли. Мысль была несомненно его богом. И это было и страшно (в тогдашнем положении Тамары Сергеевны), и невыносимо притягательно. С трудом она заставила себя покинуть парк, но странный образ унесла с собой и с тех пор не расставалась с ним.
Жизнь после стольких лет существования возле больного мужа, возле погасшего давно его сознания вдруг всколыхнулась в ней неожиданной страстью к этому случайному, в парке встреченному человеку — хмурому, асимметричному. Она помнила скорбные складки по углам крепко сжатого рта, руку, на которую он опирался, другую — до половины засунутую в карман, хмурый взгляд — снизу, от земли, отчего острые, темные зрачки его плавали, полузатопленные желтоватым, восковым отсветом белков, — и дождевые, скатывающиеся по лицу капли. Этот человек так нужен был ей, нужен не столько силой, сколько беззащитностью перед собственною силой, которою был наделен несомненно… И она все разжигала, разжигала в себе это далекое, вполне безопасное чувство… к человеку, которого никогда-никогда ведь больше не встретит в своей жизни…
— И вот встретила, — закончив, умолкла она, не глядя на Ивана Федоровича. — Что же делать теперь?
— Да, да, — начиная волноваться, как эхо за ней повторил Иван Федорович, — что теперь делать?
Игорь Серафимович еще раз вернул видеозапись: коридор, Иван Федорович, Тамара Сергеевна.
— Что же, тогда пойдемте в палату, что ли…
— Да… а впрочем, как вам угодно…
И он опять уперся в закрывшуюся за ними дверь, ах! — как хотелось бы ему сейчас туда. «Надо, надо обязательно подключить и палату, а то потом хлопот не оберешься с этой… изюминкой… лет тридцать… с небольшим. Надо в дело заглянуть».
Недовольно пощелкав пальцами, он достал записную книжечку и на букву «Н» записал — Наутина Тамара Сергеевна, против фамилии поставил: «??++» — условные, одному ему известные обозначения. И надолго задумался. Посторонние линии, стягивающиеся к предстоящему Эксперименту, требовали, во-первых, срочной обработки на ЭВМ. Во-вторых, и это главное, необходимо было как можно строже оберегать собственную логику, то есть логику собственного естественного поведения в этом неотвратимо надвигающемся событии — Большом Эксперименте. Поэтому придется подумать об этой Тамаре Сергеевне. Крепко подумать.
Игорь Серафимович Калганов хотя уже вторую неделю и исполнял обязанности директора Центра Науки, созданного с весны этого года, но знал наверняка, что директором ему не быть. Впрочем, от этого он ничуть не страдал. Есть кандидат более подходящий, мало того — единственный, учитывая уникальный характер деятельности Центра Науки. Поэтому, несмотря на приказ, назначающий его «и. о.», Игорь Серафимович по-прежнему считал себя лишь первым замом, что само по себе было, разумеется, немало и не могло не льстить его самолюбию. Впрочем, назначение на такой высокий пост он воспринял как должное, на поздравления коллег отвечал сдержанно, правда, от полагающегося в подобных случаях банкета не отказался — устроил. Все, так сказать, честь по чести — то есть естественно. Но привычек своих конечно уж изменять ни в коем случае не собирался. А потому и встал нынче так же рано, как всегда, еще затемно, и отправился в лес, который начинался сразу же за коттеджем научного городка, куда не так давно он перебрался.
Лес стоял перед ним молчаливый, сумрачный и влажный. Игорь Серафимович разделся, спрятал вещи под скирду соломы на опушке, глубоко вздохнул и с разбегу бросился в туманцем подернутую ложбинку. И сразу вскрикнул, почти с головой окунувшись в росистые, по-ночному незнакомые травы. Он стал бегать, растирая руками грудь и все тело, пыхтел, фырчал и не слишком громко на всякий случай изредка вскрикивал. Бегал до самого восхода солнца, продираясь грудью сквозь кусты ольшаника, орешника, перепрыгивая через темные ручьи, проваливаясь во мшистые ямы. Выкарабкиваясь из них, цеплялся за что попало и хохотал, словно от щекотки. Порой корень, за который хватался Игорь Серафимович, не выдерживал, обрывался — и он скатывался обратно в яму. Но тут же вскакивал, обсыпанный прошлогодними листьями, трухлявыми гнилушками и прочей лесной чащобной неразберихой, встряхивался всем телом и вновь бросался вверх. Чтоб дальше мчаться через низинку, прикрытую туманом, по водополью, далеко разбрызгивая густую утреннюю воду, лавируя, словно горнолыжник, между причудливых коряг.
Иногда рука его резко выдергивала из земли какой-нибудь корень или мимоходом срывала воздушный цветок. Игорь Серафимович подносил к глазам цветок или корень, либо далеко отшвыривал, либо прятал в брезентовую сумку, висящую сбоку. А уже рассвело настолько, что различались отдельные цветы. Но все это были опять не те, не те… Когда-то, в далеком детстве, упал он в глубокий овраг за деревней Упырьевкой, и разбился, и сознание потерял. Тогда бабушка его, баба Вера, дала ему понюхать какой-то цветок — оберег, и такая сила была в том цветке обереге, что не только вернулось сознание. Пока он слышал запах этого цветка, видел мир он другими глазами. Вот и ищет Игорь Серафимович до сих пор этот цветок, а все не те попадаются… А тогда он встал сразу и пошел, даже разглядеть толком не успел. Родители у Игоря Серафимовича уже на пенсии, продолжают жить в зеленой зоне в двухэтажном доме у реки, где еще и сам недавно жил Игорь Серафимович. Это сейчас он зимнюю дачу наконец приобрел, один зажил. А баба Вера доживает век в заброшенной Упырьевке. Туда через лес, напрямик, часа на три всего хода. Но Игорь Серафимович редко бывает у нее, все дела, дела… Да и не помнит уж баба Вера ничего, годы немалые… Уж не раз спрашивал он про тот цветок — не помнит. А ее так в деревне и звали — берегиней. К ней, в домик среди берез, шли все, кто заболел…
Как только солнце взошло достаточно высоко, Игорь Серафимович растерся крапивой и стал глядеть на него широко раскрытыми глазами. Исколотый, искусанный, медленно обсыхающий на солнце, он стоял неподвижно и глядел. Минут десять — пятнадцать. Солнечный круг все более и более плавился в его глазах, приобретал подвижность, начинал скользить, вертеться как блин на раскаленной сковородке.
Его комната забита высушенными растениями. Домой вернувшись, он сразу прошел на кухню, достал из сумки цветы, засыпал в чайник настоящего китайского фарфора и заварил. Дал настояться полчаса и выпил сразу три стакана. Лег на тахту, пальцы ног сунул между секциями парового отопления и стал ждать. Но ждать долго не пришлось, он убедился, что растения и на этот раз не те. Тогда со вздохом он поднялся, не глядя взял с полки еще не прослушанный диск, включил.
— О-о-о… Что с ним, коллега? — спрашивал глуховатый, с легким брюзжанием голос.
— Да! Уникальный случай! — отвечал мелодичный голос — Возможность, которая больше никогда в науке не повторится. Профессор Круглов, да вы же знаете сами, теперь это уже не секрет, так вот Иван Федорович Круглов проводил опыты по радиационной генетике…
— Да, да, слышал… и, кажется, м-м-м… вроде бы был близок к тому, чтобы расшифровать генетический код.
— Да что там близок! Он расшифровал его! Рас-шиф-ро-вал.
— Но это же, позвольте, — это же переворот в генетике!
— В генетике, ха-ха-ха… Да разве ж только в генетике? Никто не представляет даже, что это такое!
— Невероятно… да-да, я слышал, но как-то… даже дрожь берет, невероятно, но… но это же самый настоящий научный подвиг, и за него… за него…
— Разумеется, ну, разумеется, коллега, разве можно сомневаться. И Круглова наградили, наградили всем, чем только можно, все премии, все возможные в наш век ордена…
— Да нет — я имею в виду трагическую развязку. Плату, так сказать, за это колоссальное открытие. Разумеется, он сознательно шел на риск, проводя все опыты на себе. Григорьев, Пастер, умирающий Павлов, диктующий ученикам все признаки приближающейся агонии, — все это так, путь ученого всегда тернист. Но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с Кругловым.
— Да, да, да… прискорбно, весьма… Тут и личная неосторожность, и невероятное стечение обстоятельств: психологическая настройка, доза радиации, а самое главное, как выяснилось потом, соотношение орбиты Меркурия и, кто бы подумал! — нашей старушки Луны выразилось числом «пи» с точностью до девятого знака!
— Невероятно!
— Увы. И в результате — редчайшее заболевание, которое отныне так и войдет в Большую Историю Медицины — РКа — Распад Круглова. Уже в филиале Центра Науки работает спецкомиссия по утверждению этого нового медицинского термина.
— Распад?
— Да, конечно. Круглова ожидает распад. Ведь то, что с ним уже сейчас происходит, это в миллионы раз ускоренный процесс регресса, обратная, так сказать, эволюция человечества. Вниз, вниз, вниз… опять в ничто.
— И-и… что — этот процесс никак нельзя остановить?
— По-омилуйте, коллега, распалась решетка гена, просто взяла и растаяла, как снежный узор на окне. В принципе ее уже нет, понимаете — нет! У него как у формы вроде бы всё пока на месте, но внутренней-то связи уже нет. Нет! В том-то все и дело — это, по сути, уже один обман. То, что мы сейчас воспринимаем как Круглова. На самом же деле это, как радиоактивный распад, с каждой минутой набирает силу. С каждым днем набирает! Распад мышления, логики и, наконец, распад физической оболочки. Он на наших глазах, можно сказать, будет опускаться опять в… в ничто… в черную дыру, а мы… мы!.. история нам этого никогда не простит, если мы пропустим этот уникальнейший случай, не выжмем из него все, что есть ценного для науки, для человечества! Я лично думаю — это наш долг.
— Я понимаю, понимаю… конечно… пропустить такое — это преступление. Это, если можно так выразиться, научная диверсия. Да это будет просто свинство с нашей стороны!
— Я думаю — не допустим. Уже готов приказ о создании Центра Науки по организации Большой Соботки.
— Большой Соботки?
— Да. Так назвали это великое событие, когда наконец-то в одном месте соберется вся мировая наука. Да уже прибывают первые поезда ученых, так сказать, первые ласточки, первые десанты. Съезжаются со всего мира. Каждому ведь хочется принять участие в этом невероятном Эксперименте. Так что времени, коллега, терять нельзя! Никак нельзя. Уже сейчас организованы предварительные наблюдения, фиксируется каждый шаг Круглова, каждый вздох, каждое мгновение этого уникального события. Вы правы, коллега, грядущие потомки никогда не простят нам, если мы потеряем хотя бы крупицу знания, хотя бы самый незначительнейший фактик, — все, буквально все сейчас архиважно! Я лично считаю, а я так и сказал на Большом Совете, этот случай — подарок нам, ученым всего мира, подарок за тот тернистый путь, полный лишений, тягот, жертв и незаслуженных забвений, путь, которым идет Великая Наука, завоевывая все больший авторитет и признание. И наша первостепенная задача — взять из этого случая максимум, чтоб не кусать потом локти, локоточки чтоб потом не кусать.
— Да, да, да… Только, знаете ли… н-да… как ученый, как ученый, дорогой коллега, я в целом — за! Такой уникальный случай нам, разумеется, уж больше не представится… С другой стороны… с другой стороны, все-таки в какой-то степени мы… н-да… имеем дело с живым, так сказать, в какой-то мере еще человеком… или я не совсем правильно оцениваю ситуацию?
— М-м-м… да-а…
— И потом, ведь не надо забывать, что все-таки именно он, Круглов, открыл генетический код, секрет этого кода, и-и… тут как-то, не кажется ли вам, коллега… несколько… э-э…
— Совершенно с вами согласен… совершенно… жаль… да, да, жаль, весьма жаль… беднягу. Но не забывайте, коллега, Круглов все-таки добровольно проводил опыты на себе… в конце концов, есть официальная от него расписка, нотариально заверенная, заметьте! — чтоб никого не винить… Так что это уж где-то и девятнадцатый век, сантименты там всякие, всякие там гёте-гейне-лореляи. А мы-то с вами, слава богу, пока еще ученые! Помочь ему в этой трагедии никак нельзя, а вот использовать ее на благо науки и человечества — это и в наших силах, и наша сверхзадача на сегодняшний день. Центр Науки практически уже создан. Дело лишь за Директором, которого должны не сегодня завтра утвердить. А им должен обязательно быть человек, хорошо знавший Круглова в течение многих лет… в той еще его здоровой, нормальной жизни, до этого, так сказать… прискорбного случая… н-да…
— И кто ж этот счастливчик, если не секрет, я сгораю от…
— Пока это строжайшая тайна… Но… из достоверных источников… хе-хе… без них не проживешь в наш век… так вот, кажется, это будет Глеб Максимович Даньшин — его давний друг, в прошлом фронтовой товарищ, прошли вместе всю войну, как говорится, из одного котелка — тет-а-тет, так что по всем статьям, тьфу-тьфу, лучшей кандидатуры и не найти. Только он.
— А я тут что-то такое слышал про Бушинского-старшего…
— Это из ВАКа, что ли? Ну нет — он и в подметки не годится нашему Глебу Максимовичу. Да Глеб Максимович — друг семьи Кругловых! Да вы что?! Нет, нет, только Глеб Максимович!
— А если все-таки сам откажется?.. Именно потому, что друг семьи и-и… прочее… Ну, в порядке бреда, так сказать, а?
— Да вы что?! От такой должности! От такой высоты! Да в твоих руках наука всего мира! А это в наше время ведь все равно что весь мир в твоих руках!! Ну нет — дурных нэма, как говорят у нас на Гуцульщине.
— Да, вы правы, коллега… пожалуй…
Игоря Серафимовича, наверное от трех выпитых стаканов настоя, слегка поташнивало, он выключил магнитофон.
* * *
С девяти до двенадцати, несмотря ни на что, занятия. Этому правилу Иван Федорович и в клинике не изменил ни разу. Поэтому сразу после завтрака он направляется в палату.
По старой привычке работает лежа. Пишет, не признавая переносов, очень быстро, и от этого строчки у края начинают загибаться, съезжать вниз. Нужных книг давно нет, нет и последних журналов. А главное — нет атмосферы почти непрерывных открытий, которые шли в биосфере в последнее десятилетие, чем жил, дышал до этого. Здесь в клинике все в нем как-то разделилось на два состояния: на собственное отчаяние и на сострадание к чужому горю.
Позавчера отправлено письмо Марии, дело сделано. Труднее в собственной душе прийти к чему-то единому. Иван Федорович пожимает плечами — не уверен: правильно ли с письмом поступил. Вздыхает: «Эх, Ваня, Ваня!» И все ж так, наверное, лучше. Пытается что-нибудь прочесть на лице входящего в палату Глеба.
— М-м-м… — мычит тот, рассматривает график температуры.
— А-а, — говорит Иван Федорович бодро, — ну его к черту, этот график, давай-ка, Глеб, партийку сгоняем, — он небрежно смахивает с тумбочки на кровать тетрадь, куда только что писал, достает с полки шахматную доску. — Я тут вчера разобрал одну партию… игранную еще в тысяча шестьсот пятьдесят шестом году… знаменитым итальянцем Джоакино Греко, и ты знаешь — неплохо, совсем, брат, неплохо. Глянь-ка.
— Старик, да у тебя, кажется, лихорадка. Может, брома?
— Да пошел ты со своим бромом! Расставляй фигуры, сейчас я покажу тебе лихорадку!
— Нет, право же, Ваня, так нельзя, — и руку тянет к твоему лицу, ко лбу.
— Не тронь! — вскричал Иван Федорович.
И сразу сморщился весь от душевной муки. Зачем? Зачем он так на Глеба, нельзя. Сейчас как раз-то и нельзя. Надо бы исправить — да ведь только хуже будет. Да теперь уж что ни делай, все к одному. А Глеб так странно посмотрел и молча вышел. Иван Федорович, стиснув зубы, быстро, без переносов писал в тетрадке: «Всем известно, что каждое мгновение в глубинах Вселенной гибнут и возникают звезды. При взрывах сверхновых или при возникновении «черных дыр» в космос должна выбрасываться огромная энергия в виде гравитационного излучения. Как результат прохождения гравитационной волны мы имеем искривление пространства. Прохождение же через человека кусочка переменной кривизны выразится следующим образом: в тысячные доли секунды мы удлинимся и вернемся к исходному состоянию примерно на две тысячные доли диаметра атомного ядра. А поскольку это происходит непрерывно…» Тут кольнуло: «Мария! Как же она будет… без меня?! — И начали возникать перед мысленным взором Ивана Федоровича невидимые миру пласты человеческой жизни, подводные сталкивались течения, холодные и теплые, сшибались, рождали новые, наступали, гнали воду рек противоестественно вспять, где-то гасло вдали, снова разгоралось где-то… Мария мелькала то там, то здесь, подхваченная силами, которые отныне Иван Федорович мог созерцать, словно заглядывая со стороны в карты игроков. Мелькали ее слабые руки у далеких берегов, слабый, как с той школьной фотографии, голос звал… — Но что я сейчас-то могу, — начиная волноваться, оправдывался Иван Федорович, — да и тогда — во время твоей болезни, — что мог я тогда… смешно… романтично… только, школьную фотографию прислонив к телефону, твердить как заклинание: «Если ты умрешь, умру и я!» Вышагивать в пустой квартире и твердить это обоям, стенам, углам, лампе… а главное — школьной фотографии твердить как заклинание… главное, ночью твердить… и вслух, и про себя. Главное, ведь ночью это было делать. Кризис чаще ночью. Это должно быть очень страшно — умирать ночью… когда все спят и утром все проснутся без тебя… Но что я сейчас-то могу, — думал Иван Федорович, — я сдал эту мысль о Марии в музей. Да, да — я сдал эту мысль, наивную, как Дон Кихот, в музей. Ведь не это спасло ее, не мои заклинания, а пенициллин, его полно в любой аптеке… Эх, Ваня-Ваня, — не то укорял, не то оправдывался, — ну что ты можешь сейчас, ну лезет график температур, лезет и лезет вверх неукротимо. Как страшный раб к восстанию! И ничем ты его не остановишь… — Да и без графика все яснее вокруг становилось. Как осыпающееся в ветер дерево, все менялось в нем. — Но я же делаю все, — глотает он холодный комок, — с девяти до двенадцати работаю каждый день, с утра по коридору пятьдесят раз туда-обратно со спичками, процедуры все выполняю… вот только тошно каждый день видеть в ванне собственное тело…»
* * *
«— Я теперь стала просыпаться по ночам и прислушиваться. Знаешь, Глеб, без него наша пятикомнатная квартира с этими высоченными потолками, зашторенными окнами по ночам мне кажется затерявшейся в океане яхтой. Или еще впечатление, что все вокруг меня происходящее — под водой или в аквариуме. Если же я включаю приемник — музыка, треск, писк морзянки, разноязыкость эфира, — это впечатление только усиливается, впечатление затерянности. Как будто я всех слышу, весь мир, а ответить не могу. Тогда я начинаю чувствовать десятикилометровую глубину под моей яхтой и начинаю хвататься за что попало… В конце концов я останавливаюсь перед его портретом, вот он — смотрит на меня. «Кто же ты все-таки, — я спрашиваю, — святой, блаженный или…» Наверное, с таким, как он, всегда так… трудно. Наивно-умные глаза… Наивность, ну а вдруг и она обязательна?
Я ведь, признаться, мало понимала в его работе, хотя он и пытался порою что-то объяснять, даже, смешно сказать, пытался иногда советоваться со мною! Ну а если серьезно, то я сразу поняла — моя роль опекать его как ребенка, заботиться. И надо сказать, что с этим-то справлялась я неплохо. Носки, рубашка, галстук, — все приходилось продумывать до мелочей, сам он вполне мог уехать в институт в пижаме. А если его не взять за руку и не отвести, как маленького, за стол, он мог и по три дня не есть. Пожалуй, и без тебя, Глеб, любовь к нему сама бы со временем перешла во что-то материнское, нечто теплое, солнечное и… не больше. Так что ты здесь совсем не виноват…
— Спасибо тебе, Маша.
— Не ерничай, Глеб, не стоит. А дело, дружок, действительно не в тебе, дело во мне. И даже не во мне, а в моем праве на какую-то жизнь, в праве иметь рядом просто человека, равного со мной. С тобой хоть можно было поговорить о чем угодно, о новом платье, о знакомых, даже о твоей работе мне было понятнее. А с ним — вон, как с его портретом…
Вроде бы и шутит, и заинтересованность какую-то показывает, например, вдруг появится на кухне, чтоб показать какой-то научный способ щелканья семечек, а приглядишься получше, ан нет — похоже, да не очень, холодно ведь. Все эти шуточки-разговорчики на фоне ни на миг не прекращающейся внутренней работы, непонятных устремлений к чему-то. А мне-то нужен был просто теплый человек, мне казалось, что я и молода, и имею какое-то право, пусть не на такое высокое предназначение, как он, но право…»
* * *
Игорь Серафимович выключил магнитофон, откинулся свободно в кресле, широко зевнул. Окутавшись облачком первой хорошей затяжки, он стал не торопясь размышлять над «гусиками», так для себя он окрестил эту пару.
За долгий век в науке Игорь Серафимович мог вполне убедиться, что первый зам в любом предприятии — это, по-существу, человек, который непосредственно на себе несет если не всю ответственность, то всю тяжесть. Директор, разумеется, директором, но главным исполнителем, а чаще — и повелителем всегда был, есть и будет первый зам. Всю жизнь он был первым замом и хорошо понимал, что это такое. Сейчас его ожидало чертовски трудное предприятие, невероятно трудное. Большой Эксперимент. Большое событие. «Соботка» — как окрестили его уже в научном мире. От того, как удастся ему понять всех участников, успех события зависит. От директора (хорош «гусик»!) во многом зависит. От Тамары Сергеевны — энергичная бабочка, ничего не скажешь. И не от того, что они будут делать, говорить, нет. Тут они сами не ведают, что творят. Предприятие настолько специфического толка на сей раз, что успех его зависит в первую очередь от психологической настройки всех его участников, особенно в последней фазе исполнения, от законов внутренней логики действий отдельных людей, которые придется неукоснительно исполнять, от переплетения всего этого с тем, что философия официальная именует объективной причинностью. А в конечном счете все же от того, насколько ясно все это увидит сам Игорь Серафимович, насколько правильно сумеет он все объяснить самому себе, первому заму в любом деле. Пока еще непонятна была до конца доля собственного активного вмешательства в Эксперимент, но это он, по-видимому, почувствует по ходу дела; возможно, что доля будет не больше чем травка в табачной смеси, которую он с удовольствием покуривает сейчас. А может статься и так — дело-то на этот раз уж больно щепетильное, — что личное участие Игоря Серафимовича вообще к нулю сведется, он не в обиде будет, нет, нет. Что, естественно, не подлежит и обсуждению. Главное сейчас разобраться, кто есть кто, в расстановке главных сил разобраться. Тамара Сергеевна, например. «Гусики» эти. «Ох-хо-хо!» — вздохнул Игорь Серафимович, включив вновь магнитофон.
«— Нет, нет, разумеется, Иван пытался и меня как-то приобщить к своим интересам, но безуспешно. Главное-то было то постоянное горение, которое вечно жгло его, которое мне было совсем непонятно, чуждо, словно бы он уже перешагнул какой-то предел и ему теперь каждый раз приходится делать усилие, чтоб спускаться к нам, грешным…»
Сладко зевнув (здесь было все ясно, не то что с Тамарой Сергеевной), Игорь Серафимович отправился на кухню поставить еще один чайничек. Магнитофон работал, «гусиков» хорошо было слышно.
«— …Все было гипертрофировано в Иване, ну буквально все, увеличено до предела, уже близкого к взрыву. Уже не идеалы были — идолы, где белизна как саван. «Физика из вас не получится», — помню, какому-то мэнээсу кричит по телефону. «Почему?» — «Да потому, что вы — болван!» А ведь, наверное, с живым человеком разговаривал. Нет, нет — нелегко все годы шла моя жизнь, нет, нелегко…»
Игорь Серафимович колдовал над чайником, разных травок добавлял-убавлял, длинный нос до половины в чайник засовывая. Прислушивался.
«— Как же я устала двадцать лет твердить эту роль. Хоть ты теперь послушай, Глеб.
— О чем?
— Бог мой! О том, что я не виновата, конечно. Право, можно подумать, что когда-то наступит Страшный суд и разведут всех на правых и виноватых. Так вот — я не виновата! И ты тоже.
— Благодарю…
— А-а-а, брось, Глеб, твой тон не к месту здесь. Действительно, мы не виноваты с тобою, а виновато… что-то другое… Ты не помнишь, ходил тогда такой смешной пароходик по реке, еще название такое смешное… две трубы пыхтят… в тот первый день мы с тобой плавали еще на нем…
— «Пчелка»?
— Во-во, «Пчелка» ж, «Пчелка», как это я забыла! Мы еще целый вечер тогда просмеялись над названием. Мы, помнится, тогда отчего-то такие смешливые были. От силы, что ли, от желания жить, жить. Торопились всё успеть, и театры, и концерты, и на пароходике вниз по течению на Нижний остров, и… всё никак не уставали, а? А ты знаешь, ты ведь тогда меня не любил… не-е… желать желал, а чтоб любить, то нет — а?
— Ну, Маша… ну какое это сейчас имеет значение, двадцать же лет прошло, и… потом, это ж в принципе, что в лоб, что по лбу…
— Ну, не скажи, мой друг, не скажи… ты ведь уже сегодня пил?
— Практически — нет, видишь: вот и сейчас налил точно по ободок обе рюмки. Глаз — ватерпас.
— Да-а-а… ты у меня молодец… ты у меня, Глеб, молодец… И за что же мы выпьем, дружок?
— За него… за нас… н-ну, прозит. — Всхлипнуло, булькнуло, проглотилось, Игорь Серафимович при этом непроизвольно облизнулся и неизвестно кому подмигнул, лицо вытянулось, ноздри трепетали, рот чуть приоткрылся, словно б он пытался определить, что за коньяк пили «гусики». — Хороший коньяк!
— Да, сначала обожжет… Хороший коньяк, ты прав, Глеб, — сначала обожжет, а теперь так хорошо… спокойно… В конце концов, в чем моя вина, если разобраться? Ведь в отношении Ивана я осталась совершенно такой же — я-то знаю это наверное. Он получал от меня то же самое, что и раньше, я так же выполняла свои обязанности, может, даже еще лучше. Странно, но мне всё кажется: меня вполне хватало на вас обоих, тем более что вы такие разные. Я стала как-то спокойнее, мудрее, добрее. Как знать, может, именно близость к обоим дала мне это ощущение счастья, а? Даже уверена в этом. Во всяком случае, что отдавала я тебе, ему совсем было и не нужно, и непонятно даже. Так что я даже и не знаю, в чем мне себя и винить… Ты что так смотришь на меня, ты что, до сих пор меня любишь?.. Или, может быть, ненавидишь, я грязная, да? Циничная, да?.. Хотя за что тебе меня ненавидеть, если разобраться, а? А может быть, одновременно и любишь и ненавидишь?
— М-м-м…
— А ты стал больше пить, Глеб. Скучно? Со мной?
— Скоро совсем перестану, наверное…
— Пора, давно пора…»
Игорь Серафимович вернулся в комнату и немного вернул ленту обратно:
«— А ты стал больше пить, Глеб. Скучно? Со мной?
— Скоро совсем перестану, наверное…
— Пора, давно пора…»
Еще раз прослушав отрывок, Игорь Серафимович выключил магнитофон и, откинувшись в мягком кресле, прикрыл надолго глаза. Дыхание его было ровным, глубоким, скорее всего, он задремал…
III
«Глеб, Мария, — шептал Иван Федорович. — Мария, Глеб, — шептал он в отчаянии, забылся только под утро, и то через пять минут просыпаясь и шепча: — Мария, Глеб… Мария…» И снится сон ему. Сначала дом как будто. Он входит, поднимается по лестнице, кажется, к знакомым надо ему зайти. И чем выше поднимается он, тем все меньше вокруг остается перил, стен, полов — опор, одним словом. Вообще одна стена остается, заглядывает он за нее — там пустота, а сам вроде бы лежит теперь он животом на этой стене, каменной воронкой уходящей так далеко вниз, что дух захватило. Как же ему теперь спуститься, когда еле-еле он, бедненький, равновесие на животе держит. Лицом вниз падать — в воронку каменную свалишься, ногами съехать — и того хуже: что там у него за спиной — лучше уж не оглядываться. И начинает он потихоньку из-под живота кирпич за кирпичом вытаскивать и отбрасывать подальше, и хоть работа эта тяжела, по сантиметру все же вниз он спускается. Спускается и все большей радостью охватывается… Все большей уверенностью и силой полнится. Хоть и понимает через чуткий сон свой, что и сила эта, и уверенность не ему — Ивану Федоровичу — принадлежит, а двоюродному племяннику Лёльке…
Паскаль, Эйнштейн, Лейбниц — кумиры мысли, где были вы, когда кудрявый, полноватый красавец Лёлька, в котором сто двенадцать килограммов, стукнул бутылкой по столу и крикнул на весь дом:
— Ну, вздрогнем, други!
Иван Федорович вздрогнул и проснулся. Тамара Сергеевна заглядывала в палату, улыбаясь, приложила пальчик к губам и исчезла. Ивану Федоровичу стало так легко, словно ее улыбка осветила безнадежно скучную шахматную партию. Когда вдруг радостно, непонятно и откуда заработает внезапно интуиция, подхватит, понесет и радостно замрет сердце. Теперь бери, не думая, любую фигуру, ходи — и это будет именно то, что надо. Кропотливый разбор позднее обязательно подтвердит это.
Так люди-счетчики считают совершенно необъяснимо. Помимо их воли, разума, желания — считается само собой, и все тут. Так сидит в пижаме на постели Иван Федорович, пожимающий с улыбкой плечами. Рассеянно сон вспоминает, встречу года полтора тому назад с племянником Лелькой (вот приснился же), когда выбрал время, наведался к двоюродной сестре в деревню, помочь копать картошку. Потом, усталый с непривычки, умиротворенный, лежал на теплой лежаночке. Лился самоварный тихий, теплый разговор на кухне двух старушек, уютный такой, как мурлыкающий кот у Ивана Федоровича под боком. Лился словно тихая река. И оборвался. С приездом племянника, стадвенадцатикилограммового кудрявого красавца, словно в насмешку названного Лелькой.
И запрыгала по комнате с шумом, громом, гиканьем, и гневным матом, и детским искренним смехом дикая кудрявая сила. Стаскивала с себя мокрые одежки, швыряла по углам. То к порогу, то в красный угол к иконам. И, оставшись в одних трусах, хлопал Лелька звонко себя по крутым плечам, спине и шее, хохотал и гоготал:
— Ну, нет, а? Я его помыл, трактор-то! Кто его еще помоет, а? Ха-ха-ха… гы-ы… Ну гад, ну гад! Я ему — тяни! А он стал. А я на самой середине. Я ему — сука, езжай домой! А он, гад, взял да и уехал. Ну, я бы никогда товарища не бросил. Ни за что! Теперь стоит по самую кабинку, гы-ы-ы… ха-ха… трактор — рыбак-любитель! А? Нет! Пусть помоется. Вентилятор — р-р-р… Брызги, как у катера, фары как подводная лодка, как наутилус какой! Во-о-о! Ключ на тридцать два утопил. Ну гад, бросил! А?! Домой укатил. Я бы никогда! Я ему — езжай, сука, без тебя обойдусь, я ему — тяни! А он остановился. Ну? А? Одна кабина, а? Сейчас из сапог выливать буду — посмотришь! Где, спросят, Лелька, трактор? А утопил!
— Утопил! — взвизгнула глухая бабушка-соседка. — Неужто утопил, родимый?!
— Утопил, утопил, бабка, — одна кабина торчит!
— Э-эх… — вздохнула бабушка-соседка не то с восхищением, не то с сожалением, словно бы ей, старой, хотелось, чтоб уж совсем, чтоб и кабины не было видно.
— Ой, Лелька, Лелька… Ой, Люлька, Люлька, — ходила причитала мать, — ой, родимый мой, родимый мой… — И были в том причитании и покорность, и восхищение, которое как-то передавалось невольно Ивану Федоровичу.
— Да ты что, ты, что, мать, не плачь, да завтра ж вытащу, да я в таком месте поставил — никто не подойдет!
— Ой, Лелька, Лелька…
— Да пусть помоется, ха-ха-ха… воды там — во-о, по шейку.
— Вот на сухое, оденься.
— Зачем, не холодно. Греет еще, — похлопал себя по заду, сел за стол. — Ну, вздрогнем, други!
Они чокнулись и выпили вместе. И вместо тоста был общий вздох… Теперь, вспоминая все с подробностями, Иван Федорович мягко улыбается, пожимает слегка плечами, в такт воспоминаниям слегка покачивается, все еще сидя в пижаме. Все-то тесно было Лельке, мало, жарко, все-то он вскакивал, метался, лил самогон через край стаканов, смахивая на пол закуски-заедки, стучал бутылкою об стол:
— Ну гад! Да я бы! А?! Ну, вздрогнем, други!
И они выпили еще раз, и вместо тоста опять был общий вздох, неосознанный предвестник будущего, которое, в конце концов, у каждого из нас наступит. Плывешь ли ты тихой речкой, ловишь рыбку, любуешься живописными берегами или распеваешь песни, впереди тебя ждут повороты, перекаты, водопады. Будущее немо, но бывают ночи, когда начинает давить немота, хочется тогда потянуться всем телом, ощутить позабытые за сидячей работой мышцы, выйти в ночь на крыльцо… Звезды светили ярко, была глухая полночь, спала деревня, лишь далеко за околицей сонно взбрехнула собака. На косогоре за речкой белела заброшенная колокольня! Отголосок той радости, той силы явственно коснулся Ивана Федоровича, вспоминающего сейчас все так подробно, словно бы это было так важно в данный момент.
И он, сидя на койке, покачивался с грустной улыбкой, глаза его увлажнились, и сквозь них снова заглянувшая в палату Тамара Сергеевна предстала добрым ангелом — одним из тех, что кое-где сохранились по стенам деревенской колокольни. Иван Федорович зажмурился и кивнул, и она, все поняв, тихонько дверь затворила.
А Иван Федорович подумал, что белоснежный платок милосердия, накинутый Тамарой Сергеевной, это же поистине то же самое, что и пространство. Когда уже не видят ничего иного, не слышат ничего иного, не осознают ничего иного — только радость. То это и есть бесконечно большое, это и есть — пространство.
Иван Федорович был застигнут врасплох любовью Тамары Сергеевны. Он тогда, правда, пошатнулся, но все же дошагал, донес до конца свою спичку. Только подумал, перестав считать вслух шаги и слыша лишь удары сердца: «Вот опять — когда-то так оно уже и было. Я умирал и снова воскрес!»
Мысль эта была неожиданной, словно приоткрылась дверь, куда он идет безупречно. Легко ему теперь от этой неожиданной мысли. А вот воспоминания, наоборот, теперь словно остановились. Как часы, когда забудешь их завести, стоят — показывают время, а какое? Десять минут или десять лет тому назад. Или года полтора тому назад, тогда, в деревне… на заброшенной колокольне…
Чернота, теснота, не проход, а холодный каменный мешок, крутые покатые ступени, повороты, неожиданные ниши, куда соскальзывает локоть, которым, поднимаясь, придерживаешься за стену. И вдруг простор, свобода, ветер, звезды — восьмиугольный шатер колокольни древнего храма. Иван Федорович сидит в проеме стрельчатого окна звонницы, спиною к камню, которому четыреста лет. Конус над его головой со светлыми глазами-отверстиями похож на купол школьного планетария… Глухая ночь на сто или тысячу лет отбросила все назад. Так тихо в деревне, даже собаки не лают, уснули в пруду лягушки. Как близок ночью крест на куполе, звезда на нем горит… как сто, как двести, триста лет уже… отец и мать венчались здесь, и дед, и прадед его, и прапрадед, наверное. Что за люди это были? — похороненные тут же за церковью, среди могучих лип. Наверное, похожие на тех, кого только что оставил в избе у самовара, а сам тихонько выбрался и пошел в темноте. Через невидимую речку по шаткому мосточку, по чуть заметной дороге, а сбившись, махнул напрямик по косогору, к невесомо белеющей сквозь липник церкви…
Что ж погнало Ивана Федоровича в столь поздний час тогда? Ведь, отшумев, забрался на печь Лелька, в мертвый сон до утра погрузился, за самоварчиком на кухне возобновился уютный разговор, и сам Иван Федорович уже лежал себе в чистой горнице, гладил мурлыкающую кошку на животе, приятно чувствовал мозолистость заскорузлой ладони. Да, было обильное чувство прощения. В чем-то прощен, пожалован лопатой как наградой, ломотой в пояснице, каким-то пробуждением мужицкой силы, тяжестью во всем теле, обжигающей рюмкой первача, обедом и приятной дремотой на старом расстроенном диване под ходиками, с теплым котом на животе. А на кухне по-прежнему журчит разговор о том о сем, а в общем-то и ни о чем, а в общем-то бессмысленный, если вырвать его из бесконечного в обе стороны времени.
— У тебя набрата́ семенная-то картошка? Просила Маруська набрато́й…
— А-а-а, картошка-то, да я давно набрала два мешка, одела, чтоб не прозябла. Мои тож скоро пожалуют. Все едут да едут, а злом покрывают…
Приятны полузабытые слова за тонкой перегородкой.
— Злым делом не кайся, добром не похваляйся!
— Да я для них мучаюсь, оглохла уже, вон вижу, в телевизоре бегают с мячом, а ничего не слышу. И все плохая остаюсь. Нет дешевле куска мужнина, нет дешевле куска жениного, ни сын, ни дочь — всё не то, у всех своя семья…
Наверняка было предчувствие связи, но с чем? Прошлым? Иван Федорович прощупывал словно бы это прошлое, спиной прижимаясь к холодному камню, которому четыреста с лишним лет. Но нет, не мог он вспомнить всех, что лежали внизу, в ночи, средь молчаливых лип, ну, деда с бабкой вспомнил, правда уже с трудом, и обрывалось прошлое, переходило в купол над головой, пронизанный точками-светляками… Может быть, связь с будущим так ощущалась? Вот с этим ярким днем в больнице, в коридоре, в палате? Совсем не знает Иван Федорович, куда и скрыться от людей со своей какой-то, по-видимому, со стороны неопрятной, прямо-таки идиотской улыбкой. Но что ж ему делать? Как, чем прикрыть искрящиеся глаза, разогнавшееся сердце? Куда б ни двигался он, обязательно оказывается на втором этаже возле ординаторской, за дверью которой — она. «Неужели, ах ты… — он шепчет и ломает, пощелкивает пальцами. — Как же быть-то теперь?.. »
Конечно, связи с будущим, с сегодняшним днем, в больнице он разглядеть тогда б не смог, не дано никому это, но то, что день такой придет и сладкой болью будет пронзен, и еще откроются океаны человеческих прекрасных качеств, — все это через немоту волшебной звездной ночи вошло в него. И встал он логике вопреки с теплого дивана, хрустнул натруженными за день суставами и словно бархатную откинул портьеру, вышел в ночь, пошел по шаткому мосточку, через невидимо журчащую речку, где утопил свой трактор Лелька. Пошел к холодным древним камням, назад на сто лет или вперед, вот в этот день в больнице, когда споткнулся неожиданно со спичкой в коридоре, и вспомнил: «Я умирал уже и вновь воскрес», — и вспомнил так подробно и эту ночь на колокольне, и звезды, и ветер, и отчаянную сладость нераспечатанного будущего, в котором будет этот день — сегодняшний. Самый счастливый, пожалуй. Как горько догадаться ему об этом. Но и эта горечь уже была в том ветре, обдувающем колокольню со всех сторон и во все времена. Главное, и ветер теперь вспомнился.
Когда обрушилась любовь на Ивана Федоровича — это словно прохладный бальзам приложили к ранам, это словно свежий ветер подул, подул-приоткрыл окошечко туда, где вещи расставлены правильно. Еще, значит, до того, как передвинул их человек. Где ледники холодны, а костры горячи. А любовь… такая… такая… что Иван Федорович в каком-то немом смятении, в необъяснимой горячке, а в то же время — никогда еще не было так все просто, прекрасно… Он вспоминает: колокольня на другой день утром вот так же была необъяснимо проста и прекрасна, в зеленой дымке уже распустившихся берез, словно невеста под фатой, в сдержанной шероховатости лип, в достойности какой-то. Дождь пробежал, и опять солнце, только испарения смягчали яркость апрельского дня. И от этого был, наверное, странно приглушенный, отрешенный свет какой-то… словно бы уже оттуда, где Иван Федорович сейчас. Могилы сверху, с колокольни, куда он забрался, чтобы укрыться от утреннего дождя, могилы были нарядны, а некоторые, словно дорогая мебель, укрыты в полиэтиленовые мешки. Бродила среди могил, кланяясь налево и направо, какая-то жаля — вся в черном, согнутая, лица не разглядеть. В деревне пели под гармошку: «Ко-онь гулял на воле-е…» А лес впереди и позади был густ, упруг и темен, еловый лес, с кошачьей дымчатостью, полосами-подпалинами, белел светлыми участками осин…
У Тамары Сергеевны привычка плавно кивать вопросительно головкой снизу вверх и немного вопрошающе вперед. Тогда она становится очень похожей на грациозную лошадку… вот-так… вот-так… Иван Федорович, глядя в зеркало, усмехается без горечи. Не таланту, а вот этому широкому лицу с залысинами с пятнадцати годов обязан он, да носу картошкой, да коротким и тонким для массивного тела ногам обязан он, а не таланту. Одним словом, голоду в тысяча девятьсот… каком-то году обязан, да еще отцу с матерью обязан, что не дали умереть да надорвались сами. Не талант — уродство вытащило его наверх. Но даже и от этого не чувствует он горечи, глядясь в зеркало и вспоминая привычку Тамары Сергеевны грациозно вопрошающе кивать головкой… вот-так… вот-так… Что же сейчас-то ведет его, показывает дорожку… все на второй этаж, на второй, конечно, этаж… Что же пропустил, не заметил он в своем прошлом, которое остановилось сейчас и стоит, как часы, когда забудешь завести их… Может, остаток фресок той случайной колокольни, их цвет тепло-коричневый и бездонно-синий — цвет земли и неба. Кто же сейчас, взяв за руку, приводит всякий раз на второй этаж, где портреты медицинских светил, где дверь одна есть… где, кажется, все просвечено солнцем, продуто, открыто всем ветрам, всем солнцам… как та колокольня, что выстояла, несмотря ни на что… Можно гадить, ломать, выдирать двери, сбивать зубилом фрески, разрисовывать стены вместо украденных икон автопортретами своими — ничем не осквернить, не убить простоты и красоты чьей-то души, вложенной в этот холодный камень, которому четыреста лет…
У Тамары Сергеевны вместо того, чтобы спросить о чем-то, привычка плавно кивать головой… вот-так… вот-так… Ах, уж эта привычка! Что делает она с Иваном Федоровичем! Затуманились от неслыханной нежности глаза, старческая почти что слеза побежала — вот досада, — все в зеркале вкривь и вкось пошло, а сердце затрепетало, забилось тревожно-тревожно, а ветер подул, ожил, понес, приоткрыл окошко на сто лет вперед или на полтораста назад… Когда, наверное, с такой же одышкой и императорской брезгливостью на полных щеках пробирался узким крутым проходом наверх колокольни сам Бонапарт (сохранилось местное предание), соскальзывал локтем в неожиданные ниши, чертыхался по-своему. И сердце билось так же, трепетало изловленной добрыми руками птичкой, и к горлу подступал комок, а душу охватывала окрыленность… На колокольне долго стоял, глядел, обдуваемый ветрами, на запад, где за пожарами лежала его Франция. «Пономарь сбежал, спросить бы…» Ходил по звоннице, руки за спину, а внизу, в темноте, ждали верные его генералы и всхрапывали в нетерпении кони. Наверное, так же ощущал настоящее, как одно из положений хребта, с которого текут реки в разные стороны… «Цвай грэнадирен нах франкрайх цоген», — фальшиво напевая, выглянул из палаты Иван Федорович, часы в конце коридора показывали половину четвертого — у процедурной на втором этаже в это время никого нет, пора! Иван Федорович рассчитал все — он будет на процедуре последним, с Тамарой Сергеевной сможет побыть немного вдвоем. Спускаясь по лестнице, мраморные ступеньки которой изъедены за много лет мягкими тапочками, Иван Федорович вспоминает сон недавний, странный. Как много снов он видит здесь в больнице! Один сон другой порождает, словно потребность какая-то действует.
А сон такой: как будто у него на лице — на лбу — на самом видном месте расцвел цветок. Сам-то по себе цветок был прекрасен, но вот то, что он расцвел у Ивана Федоровича на лице, да еще на самом видном месте, — это ужасно. Иван Федорович поэтому всех сторонится, отворачивается, выбирает пустынные улочки, куда-то спешит, прикрывая лицо. А все ведь видят все равно. И вот вроде бы светлый, чистый туалет, не знакомый, не больничный — зеркальный, вроде театральных. Сюда, значит, он и спешил. И никого нет, можно все рассмотреть подробно. Он подходит, опускает руку, которой прикрывался, — а вдруг да исчез! Цветок прекрасен, но лучше бы его не было вовсе. Как и у других. Но куда там! Еще пуще распустился, еще заметнее, ярче. Иван Федорович прячется в туалете, где так светло, ибо слышит голоса людей, пришедших в театр. Теперь уж нет сомнений, это всё в театре. Людям вообще-то и дела нет до Ивана Федоровича — они в театр пришли. Это они случайно, в общем-то, внимание на него обращают, когда он мимо проходит. А ему надо выйти как-то отсюда; до вечера, до спасительной темноты еще далеко. Да еще ему надо одного человека разыскать. Есть еще один человечек с таким же цветком на лице. Вот и надо его разыскать…
И вот они вдвоем с Тамарой Сергеевной в ординаторской. В белоснежности бинтов и простыней, солнечно играющего никеля, воздушных занавесок. Только телефон — черная царапина в этой белизне — звонит иногда, отчего оба одновременно вздрагивают. Развернув на столе его ладонь, Тамара Сергеевна прижалась к ней щекой и прошептала: «Боже мой!» Иван Федорович ужаснулся тому, какая бархатно-гладкая кожа на ее щеке. Потом почувствовал он холодную, как ртуть, слезинку, скользнувшую меж пальцев, и замер как изваяние.
Возвращаясь с работы домой, рассеянно следит Тамара Сергеевна за женщиной, сидящей напротив нее в купе электрички.
Хорошо одетая, модная. Своеобразное лицо — и круглое, и продолговатое одновременно. Глаза темные, небольшие, но выразительные. Брови высокие, четкие, лоб чист и высок, прическа пышная и высокая. На коленях сетка, кое-что завернуто в бумагу, кое-что можно рассмотреть. Десять пачек крепких сигарет «Дукат», круглое зеркальце, какие-то пузырьки с лекарствами, мягкий, вышитый бисером кошелек.
Женщина, отрывая кусок газеты, нагибается, чистит туфли. Плюет и снова аккуратно счищает с них грязь. Грязные бумажки бросает на скамейку рядом с собой. Выкладывает сигареты, отыскивая зеркальце, — начинает рассматривать глаза. То широко их открывает, то щурит. Глаза же независимо от этого остаются яркими.
Провожавшему ее мужчине, сутулому, неопределенного возраста, с мелкими чертами лица, когда в вагон зашли, говорит: «Меня глаза выдают, красные становятся. Мой-то скажет: «А ну, Зинка, дыхни! Дыхну — ничего. А глаза сразу выдают. — Громко смеется, качнувшись от невзрачного своего провожающего, который то ли поддерживает ее под руку, то ли сам за нее держится. — В три должна была вернуться, а уже семь… — Вдруг строго, в упор спрашивает мужчину: — Мы завтра встречаемся?!» Тот не отвечает, с горячечной жадностью вглядывается в ее лицо, яркие губы, сумасшедшие немного глаза, вслушивается в низковатый сиплый голос. Он не отвечает, но все и так ясно. И тогда женщина говорит: «То-то! Ну, скачи, Скачков!»
Теперь достает флакончик духов, смачивает указательный палец и несколько раз проводит им по волосам и совсем небрежно — по воротнику и газовому шарфику. Коротко вздохнув, нюхает задумчиво палец. Потом, быстро все упрятав в сетку, кладет ее на колени. Достает таблетку холодка и жует, закрыв глаза.
Заходит мужчина лет пятидесяти, косится на грязные бумажки, садится на ту же лавку, подальше, глядит на женщину, догадываясь, чья работа, вот-вот уже готовый ей что-то сказать. Вскидывает на мужчину глаза смело, открыто. И тот конечно же ничего не говорит, ерзает, хмыкает, вертит головой.
А Тамара Сергеевна уже вошла в свою квартиру, где так чисто, светло и тепло. У них отличный район, лесопарк рядом. Дом первой категории, окна на юг выходят. Если она весной защитится (а иного и быть не может!), можно будет откладывать на машину.
Да, когда-то жалела, что не родила от мужа. Но теперь, может, и к лучшему: ведь неизвестно, кто б родился… от такого… Немного устала она, да, устала… Вот и перешла на другую работу. Обязательно надо было перейти, сбросить многолетнее какое-то напряжение, неуверенность.
Она все расхаживала по квартире. Но глаза ее не замечали хоть какого-нибудь беспорядка. Не лежала не на месте тряпка, не валялась на полу бумажка, подушки на софе расположены симметрично. Ничто нигде не выпирало, не тревожило. Хотела было Тамара Сергеевна поправить коллекцию бабочек — брат привез из экспедиции, — даже подошла к ней, но и коллекция висела идеально. Под стеклом, на нержавеющих гвоздиках, ровными рядочками радовали глаз экзотические красавицы. Собственная жизнь какой-то засушенной бабочкой представилась — не полетала, не порезвилась, не порадовалась… а тридцать три уже… муж… жертва… восемь лет уже… Да на что ему ее жертва, если он все равно ничего не осознает, как бы в другом мире постоянно пребывает. Жертва! Какое, оказывается, глупое слово! Раньше казалось таким красивым, а теперь просто — глупое, глупое! Противное слово, тридцать три, уже почти старуха. И такую невыносимость почувствовала Тамара Сергеевна, что не мяукни за дверью кошка в это мгновение, она не знает, что стало бы с нею. А тут вскрикнула: «Ах!» — вспорхнула, легко пробежала по коридору и, даже не выглянув предварительно в глазок, распахнула дверь.
* * *
А в комнате с опущенными шторами и мягким светом торшера все тянулся и тянулся разговор:
«— Ну, разумеется, Глеб, нет никаких оснований нам укорять друг друга, не мы виноваты, а виновата та весна, бесконечные командировки Ивана…
— Цветы, Маша, которые я тебе дарил, ломая в больничном садике… денег-то…
— Да, да, жили впроголодь, а как вспомнишь те годы, так кажется, что лучше их и не было… Знаешь, иногда мне кажется, что он все знает.
— М-м-м…
— Нет, друг мой, ты определенно что-то хотел сказать… относительно этой писульки, этого бреда… вот, вот… «Прости, Мария… любовь сильнее меня… прости и забудь» — господи, как это все глупо… вот… а вот еще… глупее: «…постарайся, Мария, дорогая моя, поскорее ощутить себя свободной, меня позабыть и найти свое счастье, которое ты обязательно заслуживаешь, прости и прощай!» — бред какой-то, а?
— М-м-м… в последнее время он, знаешь ли, сильно изменился…
— Еще бы… господи, как это страшно! Ты знаешь, Глеб, я все-таки никак не могу себе это представить… — Голос ее перешел на шепот. — Пытаюсь и-и… не могу… не у-кла-дывается…
— А этого действительно никто не может себе представить, потому что этого никогда не было.
— Да нет, просто творится что-то… что-то не земное, а-а космическое, просто космическое нечто, потому и не могу.
— Космическое? Космическое, несомненно, участвует. Ведь уже точно доказано, что орбита Меркурия…
— Знаю, знаю — соединилась с орбитой Луны…
— Да не соединилась, а…
— Ладно, замнем для ясности… это не так уж и важно, меня другое тревожит… вдруг он все-таки все знает… нельзя же за двадцать пять лет не догадаться хоть как-то, а?
— Нет, нет, успокойся, Маша, он, конечно, ничего не знает. Ну а само письмо, я думаю, наивная попытка как-то ослабить удар по тебе, сам факт того, что неизбежно с ним должно случиться.
— О боже! И ты спокойно так говоришь!
— Мы — медики.
— Да-а… вы медики… Кстати, она реально существует, эта Тамара Сергеевна? Или это его выдумка?
— Да нет… существует… это наш новый врач — ординатор… перешла к нам из психдиспансера, там муж у нее… много лет уже в безнадежном состоянии, вот и перешла.
— Час от часу не легче: муж сумасшедший! Ну хорошо, а Иван тут при чем? Ведь она же, раз медик, наверняка знает, что уже началось всё… ну, этот… начался уже распад этот… то есть уже конец всему. Знает она?!
— Да знает, знает…
— Ну и-и…
— А шут их разберет. Я ж говорю, Иван сильно изменился. И внешне, и-и… душевно как-то.
— Любовь, что ли?
— Да нет, конечно… какая там любовь, когда распад уже начался. А-а, ладно… Коньяк остался?
— На кухне, кажется, полбутылки. Или лучше, Глеб, если не трудно, возьми в баре, налей и мне… только подогрей сперва. И шоколадку возьми там же, хорошо? Слушай, ты пил уже сегодня?
— Теоретически.
— Друг мой, я смотрю, у тебя уже система — по вечерам напиваться, да? Или я ошибаюсь?
— Как всегда — и да, и нет. Вечерами в моей квартире так одиноко…
— В моей теперь, как сам понимаешь, тоже.
— М-м-м, относительно…
— Не паясничай!
— Извини, пожалуйста. Ну так вот — а за окном ведь у меня весь вечер и всю ночь поезда идут. Всё идут, идут куда-то, и-и… от этого еще более одиноко. Ты же знаешь, у нас там напротив поворот, и поезда поэтому замедляют ход. Ну и-и… периодически от этого моя квартира как бы оживает, возникает полузабытое ощущение, что еду куда-то… как в молодости когда-то… уезжаю далеко-далеко, где всё, конечно, будет совсем по-другому. И уже по-другому все вокруг меня становится… ведь все подрагивает в такт составов тяжелых… все свой голос имеет… колеса постукивают по стрелкам… Ну, а иногда в такие вечера возникает совсем уж определенное ощущение, что еду опять в солдатской теплушке, вокруг свои…
— Ну, теперь пойдут воспоминания — как молоды мы были…
— А вот и нет! На этот раз не угадала. Я, знаешь ли, я, собственно, вот к чему… позавчера, да, позавчера, после третьего, естественно, стакана пришла мне в голову такая мысль: а что, если сложить все мысли людей в одну, некую равнодействующую мысль? Что бы это за мысль была такая? Злые бы мысли гасились добрыми, умные — глупыми… Что б в результате осталось? А-а что ты скажешь, по-моему, не так и глупо? Ну а потом сравнить бы этакую всеобщую мысль нашего века с веком предыдущим… а еще лучше с грядущим веком — куда мы в этом плане идем? Или с шестнадцатым, скажем, веком, когда настоящие мужчины шли куда? В запорожцы, конечно. И все ж, заметь себе, не в этом прелесть моих одиноких вечеров…
— Прелесть? Фи! Манерно все это, друг мой, манерно. В твои-то годы… ох-хо-хо-хо…
— И все ж, заметь себе, я повторяю, не в этом прелесть моих одиноких вечеров. Главное же… Впрочем, устал я… ах, если бы кто знал, как я устал!
— Наверное, надо бы сделать перерыв… со стаканом-то, а?
— Да, да, ты права, ты, как всегда, права… вот последний допью и-и… всё, надо как-то… собраться… пора, пора… пора решаться как-то… надо…
— На что решаться, Глеб?
— На что? А — нет, хе-хе… ты скажи мне сначала, почему я на Луне буду весить в пять раз меньше, согласно объективным законам, а он — Иван — и на Луне будет такой же? Ну где тут справедливость!
— Пьян… ох-хо-хо-хо… уже пьян, быстро ж ты теперь…
— Маша…
— Ну что Маша?
— Маша… я это… решил, значит… ну-у… директором-то…
— Спятил, что ли!
— Да нет, сказали — пиши заявление, я написал, утвержден уже… С сегодняшнего утра.
— Ты что — серьезно?
— Ага.
— Сволочь ты, а? Глеб, ты сволочь, да?
— Кому-то надо быть… и сволочью, то есть я хотел сказать директором Центра Науки. Помочь ему уже не может сам господь бог! А вот науке тут можно очень помочь, и не только можно — должно! И это должен сделать я! Я, я, я!!! Так уж сложилось, пойми, Маша, так уж сложилось… может быть, еще двадцать пять лет тому назад. Все, что казалось нам тогда случайностью, все уже тогда вело нас всех троих сюда, вот в этот жуткий день, в этот жуткий эксперимент. Здесь никто не виноват, пойми меня, все другое будет просто глупо… да, да, просто глупо… В конце концов, нельзя же становиться наперекор законам, не нами придуманным, нельзя! Вот… Ну что ты молчишь? Ну, скажи хоть что-то…
— А-а… что я могу сказать… что? Наверное, все так и есть, как ты говоришь. Дай сигарету… спасибо… прикури сперва, что-то руки дрожат… я вся дрожу… мне так зябко, так зябко, Глеб, и-и… и еще такое чувство, словно нас подслушивают…»
Игорь Серафимович выключил магнитофон и грубо захохотал. Взволновавшись непонятно отчего, вскочил, заходил по комнате, стал трубку набивать.
А утром состоялась первая встреча нового директора со своим замом. Игорь Серафимович в общих чертах обрисовал ему структуру Центра, называя без запинки отраслевые НИИ, отделы, секторы и даже группы, ведущие самостоятельные исследования, двумя-тремя фразами давая попутно характеристику руководителям этих подразделений. Он старался говорить без пауз, подолгу не задерживать взгляда на лице директора, поскольку видел, что потрясения последних недель очень уж напрягли это лицо, что чувствительность сильно обострилась, догадливость преждевременно возросла. В то же время и совсем избегать директорских глаз никак нельзя было. Вот и приходилось ему лавировать, как между айсбергов.
Но как бы там ни было, первый час общения показал обоим, что слишком многое разделяет их и друзьями они никогда не станут. На простую человеческую привязанность и то надежды, по-видимому, не было. И все-таки явно выраженное у обоих ощущение определенности своего места обещало в дальнейшем взаимопонимание. Это было сейчас главным.
— Будем работать! — на прощание пожимая заму руку, сказал директор.
— Обязательно будем! — с улыбкою отвечал зам. — Обязательно!
IV
А в своей палате, закрывшись одеялом с головой и поджав к груди колени, тихонько бормотал Иван Федорович:
— Великое спрашивает тебя: «Кто ты?» И ты должен отвечать: «Я время года, — или лучше: — Я — потомок времени года, рожденный от пространства как материнского лона, жар года, душа каждого существа. То, что Ты есть, есмь Я». Тогда тебя спрашивает Великое: «Кто есть Я?» — «Истина», — должен отвечать ты. «Что есть истина?..»
— Ваня, голубчик, очнись, ведь это же я, твоя жена Мария!
И все построенное с таким трудом опять полетело ко всем чертям. Иван Федорович, конечно, не ждал ее, он растерялся. И это бросило его в объятия плачущей жены.
О сладкий грех кандалов плоти! О дух, слабеющий под тяжестью ее! Упругой, гладкой, потной, сладкой и жаркой. Томящей толчками крови, дрожанием мускула, убийственно родным ароматом, до головокружения — о гордый дух! — до грехопадения! Адам, низвергнутый из рая, Адам, не понявший до сих пор, наказан он или прощен…
С утра дует ветер. Тучи всё ходят друг перед другом, примериваются друг к другу, словно борцы, сперва почти не касаясь друг друга. Темно-сизые и розовые, легкие, строятся, перестраиваются, опять расходятся и снова сшибаются — кто кого! То закрывают солнце, то снова оно высвечивает их фантастическое нагромождение. Иногда ветер приподнимает их, и тогда становится виден дальний лес и речка, блестящая, текущая навстречу солнцу…
Иван Федорович в конце коридора остановился, подошел к зеркалу. И отшатнулся — наконец-то разглядел он то, что до сих пор находили у него на лице врачи лишь под сильным микроскопом: серые безжизненные точки. Он не смог бы их описать. Основным их свойством была заметно меньшая температура по сравнению с окружающей тканью. От этого возникало неприятное чувство рассеянного пульверизатора, направленного постоянно на лицо.
Опираясь руками на подоконник, он задумался, глядит в окно, вспоминает сон, покончивший с последними сомнениями. Там кто-то, словно верша высшую справедливость, позволил Ивану Федоровичу дожить все то, что как бы Ивану Федоровичу и принадлежало. Причем, посади Ивана Федоровича с листом бумаги, заставь пофантазировать, додумать, домыслить, дописать свою жизнь до последней страницы, как думал бы прожить ее, чего еще добиться в оставшиеся (из расчета средней продолжительности лет в семьдесят) годы, — ведь не сумел бы Иван Федорович так описать, как в этом сне, где прожил он ее всю до конца. Так ярко, так подробно, но главное, что подтверждало реальность, было неожиданное ощущение, о котором Иван Федорович, будучи человеком средних лет, не подозревал, да и не мог подозревать. Осадок усталости от жизни, естественным путем приведшей к старости и дряхлости. Когда все выполнено уже, достигнуто все, собственному делу дано продолжение, в надежных руках оно. Когда назад уже оглядываешься: все ли сделано как надо, до конца ли, все ли прибрано за собой. И с удовлетворением думаешь: «Ну вот — пора, видно, и на покой».
Вот этот осадок усталости, о котором Иван Федорович и вообразить не мог бы, дописывая самостоятельно свою жизнь, и убедил его в том, что он действительно ее прожил, всю эту длинную, яркую свою жизнь. По-настоящему, со всем, что было ему предназначено, со всеми ощущениями, какие могли бы быть, проживи он ее наяву, на самом деле, а не во сне. Вся то разница лишь в том, что только прожил он ее как бы в сильно сжатые сроки. Но там, где был Иван Федорович, земное круглое время не имеет силы. Он жил там года и десятилетия, съел и выпил то, что здесь на земле съел бы и выпил за десятилетия. И столько же и любил, и страдал, терял и вновь обретал, прожил до старческой усталости. А за это время по круглому будильнику прошло минут десять всего, пятнадцать, как раз то время, что прикорнул Иван Федорович после обеда в кресле-качалке с газетой на коленях. Вернее, Иван Федорович сначала прислушивался к сердцебиениям, возникавшим теперь вдруг без всякого повода, а потом и задремал в кресле-качалке.
Да и сейчас, у окна стоя, мизерной частью сознания следя за ударами сердца, главной же сутью своею оставался он по-прежнему там еще, где можно какой-то непостижимой силою растягивать минуты на года, а час — почти до бесконечности. И сам этою же силою продолжает расти теперь, распространяться во все стороны, как газ в сосуде, лишенном вдруг стен, заполняя пространство во все стороны. Так и душа его сейчас пытается заполнить Вселенную, чтобы упиваться силою, порожденной Великим Спокойствием. Ибо сила в покое — это надо знать. Как Илья Муромец, просидевший в покое тридцать три года, накопил великую силу. Так и сейчас эта сила копится в Иване Федоровиче, уже творя чудеса, достраивая в его здании этажи и балконы, прекрасные сады и водопады… где мягко катят дилижансы, отбивают веселую мелодию старинные часы, и вот-вот уже мелькнет средь вековых дубов белое платье любимой и желанной женщины. Имя которой — истина.
…Там живописно благоухают сады и брызги водопадов долетают до твоего лица, там мягко катят дилижансы и отбивают веселую мелодию старинные часы. Душа там принимает наконец свой первоначальный вселенский облик — там движется она, поглощает пищу, играет, развлекается с женщинами, или ездой верхом, или беседами с друзьями, не вспоминая о рожденном теле. Как вьючное животное запряжено в повозку, так и твое бессмертное дыхание запряжено в тело. Поистине смертно это тело. Смерть держит его, однако ж оно обиталище бессмертной души. А потому никак нельзя презирать его, раньше срока отказываться… это надо, понять…
И вот берет он со светло-коричневого подоконника первую спичку, начинает считать шаги по коридору: «Один, два, три… — пускай себе идет: может быть, и это зачем-то нужно, ведь никогда нельзя ни о чем ничего сказать заранее. — Четыре… пять…» А ты, счастливый, легкий и свободный, среди вековых дубов, где мягко катят по тенистым аллеям дилижансы, ты весь в предчувствии восхитительного момента — вот-вот мелькнет белое платье любимой женщины. Ты уже слышишь звон браслетов на ее руках, и легкие шаги, и волнующие звуки: «Ау, ау! Где ты?! Где ты?!»
Эпоха в том мире, куда ты так спешил, хоть и была неопределенной, чаще всего ощущалась почему-то как средневековье. Словно там — посредине веков — было действительное равновесие между материей и духом. Чаще всего в тумане показавшийся облик прекрасного здания напоминал благородные, грандиозные формы средневековых соборов — символов величия человеческого духа. Хотя эпоха эта легко менялась, скажем, тот же сон, где Иван Федорович стал членкором, потом академиком, затем почетным членом Лондонской, а через два года — Парижской академий, где прожил он до седой старости, — эпоха там была, естественно, другая. Известная до мельчайших подробностей, вплоть до такой знакомой подписи секретаря Академии наук с наклоном сильно влево, с несколькими резкими подчеркиваниями, почти зачеркивающими собственную подпись. Даже шутка по этому поводу ходила одно время в научном мире. Или взять возникшее в том сне чувство легкого огорчения (несомненнейший продукт уже нашего века) оттого, что в его некрологе в центральной газете было на пять подписей меньше, чем в некрологе коллеги Ивана Федоровича профессора С-ва, от инфаркта умершего в прошлом году. Кстати, некролог в том сне не удивил, тем более не огорчил Ивана Федоровича, наоборот, — так и должна была закончиться достойно его жизнь. Мелькнувшее огорчение связывалось лишь с меньшим количеством подписей — этот признак тщеславия, в зародыше, по-видимому, во всех присутствующий, дополнительно лишь подтвердил ему реальность сна. Дополнительно подтвердил реальность прожитой второй половины причитающейся жизни. Правда, протекала вторая половина жизни в страшно спрессованном времени. Но ему ли, ученому нашего века, этому удивляться?!
Да, скорее, ты склонялся к тому, что там было все реальнее, чем здесь, где, если повнимательнее присмотреться, все тотчас начинает расплываться по швам, таять, как утренний туман под лучами яркого солнца, идущего вслед предрассветным облакам. Возникали эти облака обычно часу в четвертом, правее открытой форточки, как раз под ковшом Малой Медведицы. Ковш в этот ранний час почти перевернут, и вполне предрассветные могли выпасть из него. Обычно в это время думалось о Марии. Но не так, как раньше, как надо бы, а глухо как-то, дремотно, еще не проснувшись, еще до конца не вспомнив, не осознав всего, что с ним произошло. И поэтому Мария ощущалась лишь какой-то главной древней силой, как бы всё здесь и вся породившей, в том числе и его самого, и предрассветные… Хотя их и нет еще, глухая ночь вокруг. Лишь взгляд, скорее рефлекторно, чем осознанно, все тянулся в этот смутный час к окну — самой светлой части замкнутого сероватого куба палаты. И вот тогда появлялись в твоем окне, правее форточки, они, всегда неожиданно, как бы выпавшие из ковша Малой Медведицы. Ты затаенно следил за ними, находясь как бы в единственном числе, ну а тот, другой, тягуче и дремотно все больше ощущающий свою Марию, не мешал. Он в такт дыханию, простыни на груди колыша, ощущал всю Марию теперь с ног до головы, каждый волос на ее теле, запахи, она окутана была теперь чужим, неверным запахом, но и своих, еще прежних, сладких, предостаточно было, оттенки голоса, капризно-подвижные брови, привычка, слегка округляя глаза, мигать ими одновременно — всё такое знакомое за много лет в Марии ощущалось теперь чем-то цельным, избыточно-напрасным, тихо накатывающим смешком, в котором сквозь утреннюю дремоту уже узнавалось чужое возбуждение. Собственно, именно такой она и предстала неожиданно в последнее ее посещение, когда бросился Иван Федорович к ней в страстное объятие, поцелуи, ласки, нежный шепот, стараясь сбить в себе, загнать подальше в угол тоскливое желание сделаться маленьким-маленьким, забиться куда-нибудь в темноту, тесноту и одиночество…
А для тебя все явственнее из предрассветных облаков выплывали белые паруса фрегатов и корветов. Там, где вода и небо так плотно прижались друг к другу, так сине сливаются одно с другим, что и линию-то между ними можно провести лишь воображаемую, белые паруса проходят так свободно, так легко, величаво, вольно… и слышно, как на флагмане отбивают склянки в медный колокол, и радость доносится до тебя вместе с утреннею свежестью и чистотой.
Нельзя сказать, чтобы это торжественно-радостное шествие, причастие к великой истине проходило гладко. Мешали, разумеется, и внешние больничные помехи, но с ними как-то научился Иван Федорович справляться, а Марию попросил пока не приходить к нему. Но все же главное было внутри, всего-то такое маленькое «но», вопросик, точка, запятая, неуловимость построения над тобой, когда, к примеру, скажем, увидишь вдруг в березово-светлом пространстве стройной аллеи старуху в черном, свернутую в запятую, и с клюкой. «Но» — откуда же берется все это? Предрассветные облака, фрегаты эти, сладкие звуки. Все эти тебя окружающие облики лишь производное того единого, что словно глина заключает в себя всё. И это представлялось чем-то пока неясным, неуловимым. Да, может быть, неуловимость и была самой верной характеристикой этого? И первичная-то глина именно и заключена в неуловимости? Ибо оно и было где-то совсем рядом и в то же время как бы и не существовало на самом деле. Не взять его ничем. Ну а тебе, человеку Земли, порожденному ее законченностью и конкретностью, хотелось ясности, оформленности какой-то: в формулах ли, образах, логических умозаключениях — неважно. А тут лишь радость, а тут лишь необъяснимый, сжигающий душу восторг — единственный путь туда. И сразу же плывет неуловимость эта по зеркалу души твоей прекрасным золотистым лебедем желанной радости… Правда, всё как-то несколько сбоку плывет, как бы на самом краю твоего зрения, как и предрассветные, из Ковша выпадающие в самом краю открытой форточки, справа. А повернуться, сдвинуться в дреме так не хочется. Да и потом, что толку — ты повернешься, чтоб разглядеть получше, и ровно настолько же, только в другую сторону, уж все сместилось, опять повисло на последней реснице твоих глаз, трепетно-восторженной слезой повисло, радужно-радостной, меняющей мир до неузнаваемости. Осторожней! Не стряхни… уже идут, слышны шаги… И приходится тогда покорно протягивать то руку. «Зачем?» — «Для укола». То ногу: «Зачем?» — «Для массажа». Открывать надо рот, произносить: «А-а-а…» Все время приходится обнаруживать себя, хотя бы по частям появляться из мира огня и ветра — твоих теперешних коней. Ибо ведь всё из огня возникает и всё, в конце концов, ветром разносится. Прекрасен мир огня и ветра, где ты плывешь по Реке, не имеющей возраста, к озеру Желания и поешь Великому хвалебный гимн. А тебе: «Откройте рот и высуньте язык». Ну что может быть бессмысленнее высунутого языка, если б только знала эта рыжая до высокомерия медсестра, кажется, Галочкой зовут…
По это ж бытийно невозможно, чтоб так существовали, друг друга не замечая, два противоположных мира. Один в другом. Но, может быть, они лишь отражения один другого?.. Тогда какой же все-таки реальней? Может быть, на месте этой комнаты, где так сейчас спокойно, тихо, там — в отраженном — на этом самом месте шумный пляж? Или, скажем, взять человека, сейчас сидящего напротив, с лицом уверенно-спокойным, а потрясти, копнуть — наверняка ж на дне иль в закоулках души разыгрываются и бури, и трагедии. «А мы конем на это поле… — произносит после долгого молчания Глеб, — и-и… как вам нравится, маэстро? Такой отличный ход!» А ведь действительно, и как это Иван Федорович так глупо просмотрел, теперь мат в два хода, да еще и спертый мат! «А не хватай чужую королеву! — доволен Глеб, возбужден выигрышем, трет энергично руки и все повторяет с нервическим смешком: — А не хватай чужую королеву, не хватай… не хватай…» Королева… конечно… но там, вдали, среди тенистых твоих деревьев, уже доносится до тебя мелодичный звон браслетов, вот-вот и белое платье мелькнет… королева. Нет, просто любимая и желанная женщина, имя которой истина. И как слово «женщина» всегда состоит из трех слогов, и как всякая женщина — Мария, Тамара — состоит из трех слогов, два из которых наверняка правда и один посередине — ложь. Так и истина… где ложь всегда окружена правдой, всегда побеждена правдой. Это и есть истина. Ты слышишь звон браслетов на плечах желанной женщины, — чу! — легкие шажки, опять мелькнуло платье. «Ау, ау, Ванечка, где ты?»
— Иван, ты что — уснул? Тебе, старик, пора сдаваться, а ты…
— Ага… пора, пора…
— Или еще партийку, а? Реванш не хочешь?
— Да нет, не в реванше, брат, дело… нет, нет… всё не то…
И там и здесь проходит жизнь в одном и том же пространстве, но в разных как бы плоскостях. Два мира, каждый занят своим, другого замечать не желает да и не может. Больничные процедуры, свидания с женой, приходить, несмотря на его запрет, не переставшей, две-три ежедневные партии с Глебом. Всегда заканчивающиеся тоскливой утомительностью, когда, словно провожание на поезд, ждешь не дождешься сигнала к расставанию, чтобы после каждому можно было вернуться к своим делам.
А к тебе, к твоей койке, уже ведут белых, как куропатки, студенток, делающих обход по этажам. «Обратите внимание…» — красиво грассирующий баритон, берущий сразу женщин в плен, в руках, поросших шерстью, тоненькая папочка с кальсонными завязками вроде каталога музейных древностей. И тут же стремительно вывешен желтый знак «Проезд и проход запрещен!» в твоей заповедной аллее, где вдаль по-прежнему уходят хрустальные широкие вазы, а в них, словно порции пломбира, порции огня…
Но все ж, в конце концов, ушли. Успокаивается вода, оседает поднятая муть, светлеет глубина, возвращаются обитатели подводного мира к прерванным делам. Из обрывков, как из обломков, когда-то прочитанных книг, старинных манускриптов, древних свитков, словно из цветных осколков, опять завязываются тончайшие кружева, клеятся витражи, на которых в такой солнечный день, как сегодня (предрассветные не обманули!), появляются заманчивые образы. Но только-только Прекрасная Мопаси и подобная ей Чакшуша, взяв цветы, начинают снова ткать эти чудные миры огня и ветра, как на втором этаже хрипловато раздается: «Капельницу в четвертую палату! Утку — в пятую!»
Ты весь день добираешься до пристанища «Непобедимый», входишь в прохладный чертог «Все пронизывающий», и блеск сопричастности Великому уже проникает в тебя. Ты делаешь робко шаг, другой к трону «Смотрящий вдаль», чтобы опуститься на ложе «Всемогущее». Тебе навстречу уже идут восемьсот нимф, сто с плодами в руках, сто с притираниями, сто с одеяниями, сто с благовониями. Они убирают тебя соответствующими украшениями, и, зная величие Великого, ты идешь к нему, ты переходишь озеро Желание одной лишь мыслью.
Ты приходишь к дереву Илья, и благоухание Великого проникает в тебя. Ты приходишь в пристанище «Непобедимый», и силы Великого проникают в тебя. Ты приходишь к трону «Смотрящий вдаль», к ложу «Всемогущее». На этом ложе восседает Великое. Ты знаешь это, ты восходишь на это ложе одною ногою. Великое спрашивает тебя:
— Кто ты?
Ты должен ответить:
— Я — время года.
Или лучше:
— Я — потомок времени года, рожденный от пространства, как материнского лона, жар года, душа каждого существа. То, что ты есть, есмь я.
Тогда тебя спрашивает Великое:
— Кто есть я?
— Истина, — должен ответить ты.
— А кто есть ты?
— Это же я — твоя жена. Ваня-голубчик, огурчиков твоих любимых принесла и гранатового соку…
И все построенное с таким трудом летит ко всем чертям собачьим, все начинать надо заново… И опять с тяжким вздохом убеждаешься — до поворота ровно семьдесят два твоих шага. С глупой спичкой, зажатой в кулаке, подобный маятнику — туда-обратно… туда-обратно… Пить через силу полезный гранатовый сок, следить за процедурами и в то же время твердо знать, что стоит лишь пристальнее приглядеться к окружающему тебя, такому, казалось бы, вещественному, реальному, как все оборачивается тотчас же обидною видимостью, все испаряется с легкостью облачка. Работа, друзья, семья — какая же большая, оказывается, иллюзия все это… в том турбулентном потоке, который несет и несет тебя. «Десять… одиннадцать… двенадцать… семьдесят два… подоконник… спичка… как все это глупо… просто глупо, и все!»
И опять стоит он, в окно глядит. Три ворона летят в окне, за ними гром катится, с тучи на тучу, вот-вот догонит. «Только вместе, я обязательно спасу тебя, мой дорогой!» — Тамару Сергеевну вспомнил. Как и тогда, защемило сильно сердце, все покатилось, все покатилось в нем, руками взялся он за подоконник, окрашенный в светло-коричневый успокаивающий тон. Стал вспоминать последнюю встречу, разговор слово за словом, опять возникло горьковатое чувство облегчения от того, что Тамара Сергеевна не знает всех условий. Не знает, что ставить какие-то условия тому, с чем (или с кем?) решила она поспорить, никак нельзя, ибо все это безусловное. Я же вне игры, горько думалось Ивану Федоровичу, мне подсказать никак нельзя. «Мы должны быть вместе, вместе, и обязательно в этой жизни, я спасу тебя, мой милый, я сильная, вот увидишь!»
Весь день давило приближение грозы, но она так и не разразилась. Лишь ожидание целый день, скорее б, что ли, он прошел, бесконечный какой-то. Скорее б вечер наступил. Ночь за ним, когда утихнет все.
Тамара Сергеевна тоже в этот день ощущала тяжесть на душе, торопила часы. И вот, когда день прошел и ничего так и не случилось на ее дежурстве, уже после одиннадцати, когда одна в ординаторской осталась, отчего-то горько расплакалась. Плач был какой-то преждевременный, и это сильно поразило Тамару Сергеевну, и тогда уж она разрыдалась по-настоящему.
Плач — безмолвная скорбь нашей осени, которая рано или поздно ко всем придет. Плакать люди умели раньше, чем научились говорить, еще не будучи людьми, не будучи еще неандертальцами даже. Особенно красиво это получалось у наших дальних прапращуров — гордых волков или прекрасных лебедей.
Хорошо умели плакать в четвертом тысячелетии до новой эры. На похоронах фараона Рамсеса I плакали тысяча сто плакальщиц. Да как плакали! Раздирая лицо, волосы вырывая, голову пеплом посыпая. Теперь их безудержная скорбь запечатлена в белом известняке, украшает лучшие музеи мира. А как плакали на похоронах Тутанхамона?! Какие шикарные обряды, какие позы ритуальные, веками выверенные! Инквизиция уже устраивала для себя целые спектакли, чужим наслаждаясь плачем и страданием. Вот эти-то страдальцы, по-видимому, чтоб насолить инквизиции, и научились терпеть, скрывать свои слезы. С тех пор и пошло. И что ж теперь? Лишь нервная скрипочка Страдивари да пьяные цыгане помнят, что плакать так же естественно, как есть, пить, дышать. Да, может, помнит Великий Океан, где все когда-то и начиналось, о своем соленом родстве через эти соленые слезы человечества.
Тамара Сергеевна плакала некрасиво и знала об этом. Во-первых, она плакала очень тихо, даже бесшумно, что само по себе уже противоестественно. Во-вторых, промокала глаза салфетками, и они неприятно и сухо шуршали, вызывали какие-то неясные ассоциации, над которыми и задуматься-то было страшно.
Все эти дни, словно легкие волны, пробегали по ней снизу вверх мелкие скорые покалывания. И вот теперь — не испугалась она вдруг, как подумалось вначале, — а словно бы подмыт был бесконечными волнами прибоя берег, рухнул, и потекли в глухой час ночи из ее глаз слезы.
Говорят, труд создал человека. Все это так, и все ж так бесконечно глубоко, естественно и чисто человеческое страдание, что наверняка и без него не обошлось. Две главные стороны у человека — страдание и труд, труд и страдание. И ни одну нельзя отбросить. Тамара Сергеевна ходила по ординаторской, прижав к груди руки, и плакала. Две горячие, тяжелые груди тридцатилетней женщины сейчас как драгоценные кубки с прекрасными переливающимися через край напитками. В одном — любовь, в другом — страдание.
Стерильность и белизна салфеток, ширм, простыней теперь воспринималась как абстрактный идеал чистоты, специально предназначенный для ее единственной мысли, единственного чувства и желания. Которое и ложилось теперь легко так и естественно на окружающую белизну и непорочность. Широкими мазками страсти ложилось, нахлынувшей из беспросветной тоски последних лет, из сиюминутной забывчивости обо всем на свете. Сначала это были неуверенные мазки, потом же, по мере того как-все быстрее расхаживала она по комнате, а слезы все текли, текли, мазки размашистыми стали, четкими, безудержными. Страстные мазки разбрызгивали краски на белизну вокруг, на вещи, на предметы, на прошлые обстоятельства. И во всем теперь проявлялось это волшебное, прикосновение ее собственного пульса, собственно женского прародительского смысла. От этого даже к полу, по которому шла, приглядываться надо было заново — отталкивал пол ее ступни, отталкивал упруго, круто, как груди, которые все сжимала она, инстинктивно боясь чего-то.
Нет, мир внешний не исчез, не перестал существовать; если б было надо, Тамара Сергеевна легко бы показала, в каком углу кушетка, ширма, умывальник в каком. Но внешний мир слился в нечто общее — в фон. Мир внутренний же вдруг сузился до одного узенького, яркого лучика — единственного желания нежности, страсти и горькой жертвенности.
Она все ходила по комнате, не забывая присматриваться к полу. То руки прижимала к груди, то пальцы ломала или виски сжимала. Что-то бессвязно-нежное и страстное все бормотала. Порой выскакивало из бормотаний что-то членораздельное, поражавшее, кажется, и Тамару Сергеевну сильно, так, что она торопилась опять отдаться тому состоянию, что заставляло бессмысленно, без устали всё кружить, кружить по комнате. Ничего не ощущая, не сознавая, лишь чувствуя упругость, круглость пола под ногами. Как перед обмороком. Но это ничего, ничего… Так было надо. Ибо слова, выскакивающие из бессвязного бормотания, были невероятными, мерзкими, если задуматься, противными, как ядовитый скорпион.
Этот ее ночной неожиданный приступ — как наводнение. И всему виной тот маленький ручеек, что забил, родился, побежал, согревая радостью, в тот день, когда увидела в больнице Ивана Федоровича. Сразу узнала в нем человека, встреченного года два тому назад в безлюдном парке, куда и сама забрела случайно, истерзанная донельзя. Когда поняла окончательно, что муж навсегда останется там, что сон его прервет лишь смерть и лишь во снах отныне суждено быть вместе. Случайно с горем своим оказалась в этом безлюдном уже осенне-зимнем парке и увидела человека с задумчивым лицом, сидящего на мокрой скамейке.
И вот неожиданно столкнулась с ним в больнице и… пригнулась, словно под летящим камнем. Узнала его и… чего-то радостно испугалась. И стала выпрямляться, распрямляться… И вот теперь все эти дни в душе ее взбудораженное половодье, несет, несет ее… Сама она чувствует, что на глазах меняется, походка становится все более легкой, грациозной, осанка величественной, блеск глаз такой, что хочется от всех прикрыться. И в то же время приятно, когда так часто оглядываются на тебя мужчины.
Еще не высохли слезы, а Тамара Сергеевна уже улыбается. И все повторяет: «Что же делать? Что же делать-то?!»
Теперь она словно бы вся состоит из этих простых и безответных вопросов: что же ей делать? Даже сегодняшний доклад на пятиминутке, который читала, весь был покрыт вопросами. Сплошь, как волосами густыми, отчего фразы, которые внятно читала, просвечивали бессмысленно. Над всем теперь стоял этот вопрос: что же делать?
Вот замерла Тамара Сергеевна с хозяйственной сумкой, поднимаясь по лестнице, что-то пальцем вопросительное рисует на пыльной стене. Вот задумалась, ложку до рта не донеся. Простые вопросики, словно руки безымянных плакальщиц нашей истории, простерлись к небу: что же делать? Что же делать?..
Как широко распахнуты все дни ее серые глаза, да разве видит она сейчас что-то кроме него, ее Ивана Федоровича? Как тянется к нему ее душа, руки, мысли… Роди она сейчас, прекрасное бы родилось дитя. Наверное, неземное, отмеченное прекрасной скорбью великих мадонн. Ибо вся сейчас Тамара Сергеевна похожа на раненую прекрасную птицу, что тянется вся в напряженно-неудобной позе вослед улетающей стае…
И вот этот ночной приступ, когда вся прежняя жизнь просвечивает через единственный вопрос: что же ей теперь делать?
— Боже! — в восторге воскликнула рыдающая Тамара Сергеевна. — Отдай мне его! Ты только отдай, а дальше я уж… как-нибудь сама… — Рыдание. — Отдай, отдай! — Рыдание, в котором страсть. — Отдай, несмотря ни на что, отдай, несмотря на болезни, несмотря на жену его… отдай… — Рыдание, боль и грубость дикой силы. — Отдай без всяких «но», и я спасу его! Так много во мне любви и страдания, так много и женского, и материнского вместе, что я обязательно спасу его… Я закутаю, милый, тебя в пуховую шаль, никто не отыщет… Боже, возьми что хочешь, только его мне отдай!
То, что происходило с ней, не удивило Тамару Сергеевну. Она кружилась без устали по комнате, словно в вечном танце. Новые рыдания наполняли комнату туманом, в котором и кружилась Тамара Сергеевна. Она уже чувствовала, что все, что попадает в ее состояние, все, что мелькает пред глазами, хоть на миг выхватывается глазом или мыслью, — все обнаруживало как бы пульс. Это она, она! — этот пульс наполняла, одушевляла. Надо только любить так сильно, как она. Тамара Сергеевна в этот миг не сомневалась в своем могуществе: «Ты только отдай мне его, о боже!» Только бы схватить, прижать, обнять, вдвоем с головой в глубины, где тишина, прохлада. От суеты, пыли, тлена… Никогда, никому, ни за что, навеки вместе… Ах, как сладко кружится голова, как пол упруго отстает от ног ее… отстает плавно… воздуха не хватает… столько места в ее прекрасной груди, жара…
— Отдай мне его, слышишь! — задыхалась, давилась рыданиями. — Отдай, отдай… хотя бы не навсегда, хотя бы на сколько можно, я спасу его, спасу, я чувствую это, отдай на эти дни в больнице, на эту безумную ночь, просто нечем дышать, гроза бы, что ли, черт возьми! Хотя б на этот час благой отдай, а там будь что будет, ты же видишь, что я больше не могу, не выдержу больше…
Иван Федорович ворочался-ворочался, сбивал в ком влажные от духоты простыни, подушки, пил воду из графина, кряхтел, почесывался, опять дремал, вздрагивал, просыпался и вот поднялся очень недовольный собою. Он думал: «Захочу — пойду, захочу — не пойду». Смутно догадывался, что, наверное, ждет она его в столь поздний час. Иван Федорович приоткрыл дверь, и снова закрыл, и опять приоткрыл, выглянул. До лестницы от его двери сорок шесть шагов, а там два раза по четырнадцать ступенек и сразу дверь направо, где ждет она. Он нужен ей. Всего один из пяти миллиардов на земле. «Единственный мой!» — в бреду повторяет и сквозь слезы всё видит сейчас окрашенным в единственный цвет любви своей, и, чувствуя непреодолимую потребность в немедленной жертве и уже ничего не соображая в жарком мареве истомы, только б лететь, лететь все выше, выше… она бормочет сперва тихо, потом все громче: «Отдай, отдай и все возьми — его только отдай…» Иван Федорович, гримасничая, сделал шаг, другой, поколебавшись, третий и пошел, пошел… Скорей, скорей, скорее! Но — ах! — споткнулся он, схватился за гладкую стенку… Тамара же Сергеевна сразу опомнилась и на колени опустилась тихо-тихо, лицо закрыла, прошептала:
— Преступница, ах, какая же я бессовестная преступница, при своем-то, при живом-то муже, бедненький он, бедненький, убогенький он, убогенький… — заголосила она совсем по-бабьи. Иван же Федорович, на сороковом шагу покачнувшись, развернулся круто и со словами:
— Безумие, безумие… — в палату поспешил свою.
А утром, дежурство сдав, уже в пальто, увидела Тамара Сергеевна Глеба Максимовича. И он ее увидел. Подошел, внимательно вглядываясь в лицо, дружески за руку поздоровался.
— Голубушка, Тамара Сергеевна, вам отдохнуть с недельку бы не помешало, а?
Она, вздохнув, слегка плечами лишь пожала.
— Да, да… — Он все внимательнее вглядывался в ее глаза. — Недельку-полторы… У вас отгулов столько накопилось, идите и отдыхайте… без отдыха, голубушка, нельзя… да я вам просто приказываю… ну поберегите вы себя, так же действительно нельзя…
В этот день, когда она впервые к нему не заглянула, Иван Федорович был этому обстоятельству даже несколько рад. Ему почему-то было неудобно после непонятного ночного происшествия. Словно бы он что-то такое пообещал и не выполнил. С другой стороны, конечно, он ничего такого не обещал, но… все равно неудобно как-то, какое-то стеснение он явно испытывал. А Тамара Сергеевна и еще раз не заглянула, и еще… И все пошло уже на убыль, все очевиднее это становилось. Зао́сенило уже по-настоящему, кончилось бабье лето.
Цвет и покой бронзы все более окутывали мир. Иван Федорович лежал часами с закрытыми крепко глазами, руки за голову. Иногда полностью удавалось отключиться от всего, наедине остаться с плавающим свободно интеллектом. Легко было проникать тогда сквозь геологические слои человеческой культуры. История человечества ощущалась сходной с историей планеты. Где главенствует принцип собирания, уплотнения, сжатия, где непредвиденные сочетания приводят к непредвиденным результатам, где случайно так порой распределена материя, что неизбежно происходят странные катаклизмы — глубинные разломы, прорывы к пламенной недосягаемой глубине. Мозг, понятно, движется извилистым путем, порою — ложным. Инстинкт древнее, инстинкт рвет на части реальность, он легче прорывается к пламенной глубине. О человек! — ты должен принять на себя все «напряжения понятий»! Жажда наконец-то целостного мышления все больше охватывала Ивана Федоровича, он весь сейчас одно стремление, одна идея — если в мире хоть что-то есть святое, мы должны его иметь, мы должны его понять…
Цвет и покой бронзы вокруг, и, словно плавающий интеллект, он — Иван Федорович — посередине.
V
Тем временем мэнээс (что значит младший научный сотрудник) Скачков решил побелить потолок в квартире. Вернее, для этого позвал Жорку, личность известную в их микрорайоне. Жорка был человеком без возраста, по-видимому, черняв, хотя практически разглядеть это было невозможно за пятнами краски, мела, штукатурки, ржавчины и прочих признаков производственных процессов, с коими имел он дело. Точно так, же дело обстояло и с возрастом, многие в районе, где проживал мэнээс Скачков, полагали, что Жорке далеко за пятьдесят, но были и такие, что клялись: мол, нет ему и сорока, так как помнят его еще маленьким, славненьким, сопливеньким ребенком. Пожалуй, все ж около полтинника было этому всем известному Жорке, а может, уже и разменял он свой полтинник, в общем, где-то около пятидесяти. Но как с буквальным полтинником в жизни могут происходить всякие метаморфозы, от которых он ни на копейку не изменится, так и с этим Жоркой, сколько ни помнит его мэнээс Скачков, все время выглядит Жорка на пятьдесят. Такая уж это порода.
Рот у Жорки, рассматривающего потолок мэнээса Скачкова, кривился, и мэнээсу Скачкову было видно, что там, во рту у Жорки, многих зубов недостает. Вместе с сигаретным дымом выходили из Жоркиного рта такие же, как дым, ничего не значащие для мэнээса Скачкова слова: колер, грунтовка, кисть-шерстянка. И наконец изрек понятную очень фразу:
— Четвертак — и все дела.
Для мэнээса Скачкова это было никак невозможно. Дело в том, что он получал сто десять в месяц и прибавка реальная ожидалась лишь после защиты диссертации. Поэтому мэнээс Скачков в ужасе воскликнул про себя: «Дорого, черт возьми!» Вслух же он выразил губами и носом некий звук, нечто вроде:
— М-м-м… угу… н-да…
Впрочем, несмотря на глубокомыслие этого «М-м-м… угу…» Жорка все сразу понял и тут же добавил:
— Как хотите, а дешевле никак нельзя, была б грунтовка тридцать восьмая, тогда бы можно, а с грунтом сто тридцать шестым никак нельзя. — И Жорка еще раз, дабы уже полностью убедиться в собственной правоте, оглядел потолок, а заодно уж и обстановку комнаты мэнээса Скачкова, да и самого мэнээса, уныло почесывающего затылок.
Пробивая разводья дыма, которым то и дело окутывалось Жоркино лицо, взгляд остренько кольнул туда-сюда и вновь замер на унылой фигуре хозяина. От созерцания стоящего перед ним мэнээса щека вдруг Жоркина дернулась влево, к уху, скрытому не то волосами, не то войлоком, выбившимся из шапки, сидящей несколько небрежно набекрень, отчего в тщедушной Жоркиной фигуре было нечто залихватское. Щека дернулась так резко, словно кто-то дернул Жорку за ухо, подправляя его мысли, уже собравшиеся от созерцания унылого мэнээса занять какое-то неподобающее положение. Жорка тут же опомнился, в душе обругал себя: «На вас на всех не напасешься!» — и развернулся, бросив хозяину потолка:
— Прощевайте! — и исчез.
А мэнээс Скачков только вздохнул, возводя грустно очи к потолку, который давно уж нуждался в обновлении.
Потолок был в пятнах, разводах и даже кое-где стал осыпаться. Мэнээс Скачков все откладывал побелку. «Вот ужо защищусь! — думалось яростно в молодые годы. — Тогда уж!..» Но годы шли, а защита все оттягивалась и оттягивалась. То направление, которым он занимался, вдруг начинало считаться малоперспективным, то вдруг научный его руководитель с некоторых пор начинал кого-то чего-то… Одним словом, приходилось менять мэнээсу Скачкову научного руководителя, и опять все начинай сначала. Уже и тридцать стукнуло, и сорок подошло, полысел и не то чтобы уж постарел как-то сильно, нет, а словно бы подсох, посерел. Словно бы он теперь постоянно присыпан штукатуркой, осыпающейся с потолка. Разумеется, никакой штукатурки на себе мэнээс Скачков никогда не допустит, человек он опрятный, просто выцвел как-то незаметно за столько лет ожидания, и всё. Конечно же не женился, ку-уда… с таким-то потолком. Теперь уж после защиты только, за мэнээса сорокалетнего кто пойдет? За кандидата-то небось всякая пойдет! Так и жил уже много лет мэнээс Скачков на сто десять рублей, и ничего — привык как-то, раз в месяц примерно заходил с бутылкой вина к Зинке-аптекарше. Шикарная была раньше женщина! Да и сейчас еще ничего, горячая… А вот мэнээс Скачков с этим потолком совсем извелся, с весны все думает, думает — подновить как-то надо, а то чего-то уж совсем… как в конуре… Вот и к Зинке-аптекарше визита два уж пропустил, не до нее.
На другой день после Жоркиного посещения поехал мэнээс, как обычно, к девяти на службу в свой институт — НИИВирус, в один из многочисленных отделов, а именно в отдел молекулярной биологии, в сектор кофакторов (то есть сопутствующих факторов), где он и числится уже шестнадцатый год мэнээсом. Пришел сюда молодым специалистом прямо с институтской скамьи. А сейчас уже залысины. Кстати, очень похожие на такие же у академика Красько, пустяк, конечно, но приятно. А так-то, разумеется, радоваться, прямо скажем, нечему — спортивный пиджачок, который не снимая носит четвертый год уже, висит мешковато, перхоть на плечах, локти засалены, несмотря на сатиновые нарукавники, которые завел мэнээс Скачков себе за правило обязательно надевать.
День на службе начался как обычно, то есть к девяти часам все благополучно успели добраться до своих мест. Ведь уже полгода по приказу директора внизу дежурила комиссия из трех человек, которая записывала фамилии опоздавших и на сколько минут ты опоздал. После этого вывешивался список сотрудников, не берегущих свое рабочее время. Текущий год был объявлен годом Большого Эксперимента, и опаздывать было никак нельзя. Поэтому из метро, автобусов, троллейбусов и трамваев (и даже из личного транспорта) спешили к дверям института сотрудники. Кое-кто, видя, что опаздывает, переходил на бег трусцой, а кто-то и галопом мчался, чтоб обязательно с последним ударом часов пройти с независимым видом мимо комиссии. Так вот, все в отделе молекулярной биологии благополучно успели к девяти часам попасть к своим рабочим местам и теперь спокойно сидели, приводя дыхание в порядок, поправляя туалеты, если сотрудник оказывался женского пола, и вскоре все без исключения стали выкладывать новости, которые за сутки у каждого накопились.
Завсектором Клавдия Семеновна рассказала о том, какие грубые воспитатели в детском садике, куда ходит ее дочка. Старший научный сотрудник Светлана Герасимовна о том, что обнаружила среди старых книг подшивку «Мурзилки» за двадцать седьмой еще год и теперь, естественно, тревожится, как бы в букинистическом магазине не обдурили ее. Валя-машинистка вспомнила, как шеф вчера, когда она хотела отпроситься на полчасика, стал ворчать, стал корчиться: «Корчун проклятый!» Виктор Иванович, старший инженер, подсчитал на портативной ЭВМ, что за безвозмездную сдачу крови ему положено дополнительно к отпуску девять с половиною рабочих дней, а ему почему-то насчитали только девять. Когда дошла очередь до мэнээса Скачкова, он рассказал о том, что хотел было побелить потолок, позвал одного халтурщика, а тот заломил несусветную цифру — четвертак! И все сошлись на том, что действительно творится обдираловка на белом свете, за какой-то паршивый потолок — четвертак! Мэнээс Скачков хотел было поправить коллег в том смысле, что потолок у него хоть и требует побелки, однако ж отнюдь не паршивый. Пусть небольшая, но все-таки отдельная квартирка, пусть однокомнатная, малогабаритная, но все ж своя! Папаша-покойник словно предчувствовал так затянувшуюся защиту, предчувствовал будущее многолетнее существование сына в мэнээсах, то есть на сто десять. И перед смертью, протрезвев, в завещании кое-что оставил. Что впоследствии и обернулось вполне приличным жильем. Вот и хотел как-то мэнээс Скачков заметить, что у него все же квартира, а не комната. Как, скажем, у той же Клавдии Семеновны. Хоть она и завсектором. Но он ничего не сказал, вздохнул только тяжело и стал слушать, как ругают все халтурщиков, Жорку вредного, значит, в том числе. Это было приятно.
— Да с ними только свяжись, с шабашниками этими, — говорила, доставая к утреннему чаю пирожные, Клавдия Семеновна, — как липку обдерут.
— Самому легче побелить, — сказал решительно Бушик — старший инженер Виктор Иванович Бушинский — и поднялся идти курить в коридор, уже пора было, уже собрались там хоккейные болельщики.
— А как? — ему вдогонку воскликнул мэнээс Скачков.
— Как? — переспросил Бушик уже в дверях, уже вытягивая губами из пачки сигарету и от этого исподлобья глядя. — Ну, это… — Он вынул изо рта сигарету, быстро почесал мизинцем висок, словно вспоминая, как белят потолки, на потолок взглянул и решительно закончил: — Взять этого самого… белил, значит, и-и… побелить…
— Ну нет, — вытерев розовый крем с верхней губы, сказала Клавдия Семеновна, — белила белилами, а тут еще и купоросом надо.
— Еще и купоросом! — как эхо отозвалось в мэнээсе Скачкове.
— А как же! — запихивая аккуратно в рот пирожное, удивилась Клавдия Семеновна, округляя маленькие черные глазки. — Прокупоросить — это же первым делом.
— Еще и синькой можно, — вставила Светлана Герасимовна, — мне сваха как-то говорила, просила синечки достать, у нее муж такой умелец, уж такой умелец! — всё в доме делает, и потолки сам белит, и всё… А совсем недавно вязать научился — и как!
— Я знаю, — важно сказала Клавдия Семеновна, — теперь это спицетерапией называется, у меня племяш — кандидат технических, в НИИгазводпромхром, так он выжигать научился, сейчас такие картины выжигает, закачаешься.
— Нет, — сказал мэнээс Скачков, — а как же все-таки этот купорос на этот… на потолок то есть доставить? Как его туда?
— Кистью, — твердо сказала Клавдия Семеновна, — такие специальные есть.
— Да нет же, — Светлана Герасимовна возразила, — пылесосом это делается.
— А я говорю — кистью! Сама в «Тысяче мелочей» видела.
— А я с четырнадцати лет живу во дворе, где все время строят и строят, так я, поверьте уж, Клавдия Семеновна, насмотрелась: такие специальные цилиндры, типа пылесоса, с насосом, и если его покачать, то через специальный шланг будет струя бить. Они их еще на спине носят.
— Так то ж не для купороса, фи! — улыбнулась улыбкой превосходства Клавдия Семеновна. — То ж для распыления, я видела в деревне, действительно на спине, и шланг химикаты на яблони распылять, покачают-покачают, краник нажмут, и — фр-р-р-ы-ы…
Тут у всех на столах вспыхнул зеленый индикатор, шеф — начальник отдела значит, — сидящий через стенку, на всякий случай три раза сильно стукнул в стенку, чтоб, не дай бог, не прозевали зеленку. Но все уже и так притихли, перешли на шепот — звонил ведь зеленый телефон у директора — зеленка, как называли в НИИ, — прямая связь с Центром.
— Химикаты распылять, — шепотом говорила Клавдия Семеновна, — надо для того, чтоб гусениц-вредителей сничтожить.
— Не химикаты, — шепотом поправила Светлана Герасимовна, — а ядохимикаты.
— Нет, — решительным шепотом вмешался мэнээс Скачков, — а, собственно, все же как этот самый купорос в этот самый цилиндр засунуть, растворить же его сначала надо, а?
Зеленый индикатор, помигав, погас.
— Отбой, — громко сказала Клавдия Семеновна.
— Отбой, отбой… — неслось по этажам, институт стал наполняться голосами, смехом, спорами возле мест курения, хрустом арифмометров, стуком машинок и обычными телефонными разговорами.
— Карчухина, говорят, в зеленку переводят, — Клавдия Семеновна сказала.
— Везет же Карчухину, — вздохнула Светлана Герасимовна, — рука судьбы.
— Да не судьбы, а тестя.
— Да ведь что в лоб — что по лбу.
— Вот, кандидат всего-то, а уже в зеленке! Шеф — доктор, а дальше синюшника ему не светит… Да-а… — мечтательно сказала Клавдия Семеновна. — В синюшнике уже много наших… и Рыбин, и Костромичев, и…
— В синюшничек попасть бы, — сладко сказала Светлана Герасимовна.
— Дави на шефа, — советовала Клавдия Семеновна, — ты же молодая — тебе расти надо, а синюшник для тебя — всё! Ты понимаешь?
— Я-то понимаю, шеф бы понял!
Зелёнка, синюшник, желтяк — зоны наблюдения за Большим Экспериментом, концентрическими кругами расходящиеся от больницы, где, собственно, и осуществляется сам Эксперимент. Зеленка — это самая первая зона непосредственного наблюдения в самой клинике, она для избранных. Доктора и то не все удостоятся надеть специальную зеленую форму. Синюшник — зона условно синего цвета, это, собственно, Город, в котором состоится Эксперимент, вернее, старая часть его, вокруг которой возводится уже каменная стена, вернее, старая, древняя, подновляется. Это для тех, кого в Город пропустят по специальным синим пропускам в финал Эксперимента, который, по расчетам, планируется где-то на середину лета. Попасть в синюшник было бы великим счастьем, ведь кроме синей формы — пожизненное звание, пожизненная пенсия-синюха, но уступающая нынешней докторской. Оставшиеся за городской стеной будут наблюдать за Экспериментом по телевизорам. Это уже третья, условно желтого цвета зона — желтяк. Все желтяки (и мэнээс Скачков, значит) получают пожизненную желтую форму, плюс им зачтется кандидатский минимум, который у мэнээса Скачкова до сих пор не сдан, пустяк — а приятно. Ну а если серьезно, то это еще ступенечка к званию кандидата. Так что мэнээсу Скачкову уже недолго осталось. Поэтому разговоры о синюшнике, а тем более о зеленке если и интересовали его, то лишь в чисто абстрактном плане, уж кому-кому, а ему-то надеяться не на что. Он спросил:
— А в какой, собственно, пропорции?
— Что в пропорции? — не поняла Клавдия Семеновна.
— Да купорос-то растворять.
— А-а-а… — Она пожала плечами. — Вообще-то я могу спросить у брата.
— Да проще, старик, — сказал вернувшийся к чаю Бушинский, — сходить в библиотеку и все узнать.
— И правда, — стал подниматься мэнээс Скачков.
— Давайте сначала чаю попьем, — сказала Светлана Герасимовна.
— Да, — сказала Клавдия Семеновна, — пора, до обеда час сорок.
— Нет, — сказал мэнээс Скачков, — сегодня уж без меня, пойду в библиотеку.
— Хозяин — барин! — вдогонку крикнула Клавдия Семеновна и хохотнула.
В технической библиотеке мэнээс Скачков ничего про побелку потолков не узнал. Возвращаясь домой в битком набитой электричке, он думал: «У кого бы спросить?» Столько народу было вокруг, а спросить не у кого. Скачков-мэнээс перебрал в памяти всех знакомых, спросить, кроме Зинки-аптекарши, было не у кого. Зина, как назло, уехала в отпуск на родину, в свое Приморье.
Тогда мэнээс Скачков решил пуститься на хитрость: он подойдет завтра во время обеда к рабочим, ремонтирующим у них в НИИ второй корпус, и как бы невзначай заведет разговор и все расспросит. И повеселевший мэнээс Скачков от задуманной хитрости без особых на сей раз потерь настроения в переполненной электричке доехал до своей малогабаритной квартиры.
На другой день он узнал немного, то ли не очень умело он начал разговор с двумя рабочими, закусывающими в обед на подоконнике второго корпуса, то ли по другой, не потолочной специальности они работали, то ли просто не в духе были, поминутно ругая (это «падло»!) прораба, не закрывшего им какую-то процентовку. Впрочем одну фразу мэнээс Скачков запомнил:
— Надо промыть сперва потолок.
— Но как? — наивно вырвалось у Скачкова, и рабочие, поняв, что имеют дело с дилетантом, расхохотались грубо.
Потом один, тараща на мэнээса Скачкова глаза, полные слез от смеха, стал тыкать испачканным краской пальцем в мэнээса Скачкова, глотать поскорее засунутые в рот огромные куски грудинки и целый помидор, очевидно, лишь для того, чтобы еще что-то сказать обидное мэнээсу Скачкову. И наконец, проглотив непрожеванное, хрипло гаркнул:
— Тряпкой!
После чего работяги покатились от смеха, а Скачков побрел к себе.
Но кое-что он уже имел и на другой день, проходя мимо другой уже группы рабочих, остановился, задумчиво глянул на потолок и как бы невзначай, но так, чтоб всем было слышно, произнес:
— Потолочек энтот, ежели белить когда придется, хорошо б сперва промыть! — Рабочие сразу перестали говорить, Скачков же мэнээс продолжал, задравши голову, разговаривать как бы сам с собой: — Да, грязен, грязен, родимый, вон пятно и тут еще одно, мыть, обязательно промывать надо, но вот чем? Вопрос. Да и высоко, на него ведь не залезешь, не муха! — И мэнээс Скачков хохотнул над собственной остротой насчет мухи.
— Да зачем промывать-то?! — не выдержал один рабочий, и у мэнээса Скачкова радостно забилось сердце в предчувствии очередной информации. — Зачем промывать-то, он ведь здесь, в коридоре, белилами белен…
«Так, так, так…» — мотал на ус мэнээс Скачков ценную информацию: значит, побелка побелке рознь, есть побелка белилами, например потолок в этом коридоре, а у меня в комнате — что? Другая, что ли, побелка? Но вслух мэнээс, все еще глаз с потолка не спуская, говорил, опять-таки как бы сам с собой и в то же время чтобы слышали вокруг.
— Да я и сам знаю, — он говорил, — что в коридоре не моют, это… я так… просто так… проверка слуха! — вдруг выпалил он, покраснев сразу сильно, и быстро ушел к себе в отдел, где было так все понятно, так все уютно, привычно за столько лет ожидания. Так кошка, часами мурлыкая и не меняя позы, ожидает у норки свою мышку. И в конце концов обязательно дождется. Так много лет и Скачков-мэнээс ждал своей ма-аленькой мышки — защиты, — и так хорошо, уютно, привычно ему ждалось. А тут приходится вести себя как-то по-другому, говорить что-то, по-видимому, не очень умное… этот грубый смех, вытаращивание глаз, тыкание пальцем в мэнээса Скачкова.
«Да что я вам!» — даже в груди у него закипело, когда к себе в отдел он возвращался, недоволен он был самим собою, дрожал весь даже.
За столь многолетнюю работу над диссертацией мэнээс Скачков поднаторел: из любого фактика, пусть такого мизерного даже, как фраза-другая о побелке потолка, теперь вполне мог извлечь вполне разумную идею. Итак, он стал размышлять. Стеллажи с бесконечными пыльными папками, что окружали мэнээса Скачкова, навевали в его размышления о потолке, который все ж, как ни верти, а белить придется, навевали что-то такое же бесконечно пыльное. Какие-то пласты бытия, уходящие в глубь времен, теперь связывались с потолком этим. Землянки какие-то уже мерещились ему, пещеры, ямы (суетливый ум легко нанизывал), шалаши, гнездо на дереве под широким листом, щель в скале, прикрытая плоским камнем, — вон, значит, удивляется мэнээс Скачков, потолок-то откуда еще тянется! Мэнээс исправно крутил арифмометр, а его свинцовым отвесом тянуло вниз, вглубь, в глубокую нору, где никакого потолка уже не требовалось. Мэнээс Скачков инстинктивно сопротивлялся, барахтался на поверхности, даже порою громко спрашивал:
— Расчет — через одно «с» или через два «с»?
— Расчет — через одно, — ему отвечала Клавдия Семеновна, — а рассчитывать — через два «с» — это-то я, по крайней мере, за двадцать лет работы, слава богу, запомнила.
Дома мэнээс Скачков, чтоб как-то развеяться, звонил по объявлению: «На пригородную дачу требуется приходящий мужчина, непьющий, молодой (около сорока лет), холостой и желательно интеллигентный». Такого рода объявления часто встречаются теперь, говорят, неплохо можно заработать. Скачков не звонил никогда, теперь же надо было подзаработать немного денег в связи с потолком. Который наверняка потребует затрат, даже если мэнээс Скачков будет и сам белить его. Белила, купорос, грунтовка — все это денег стоит, мэнээс уже приценивался в магазине «Тысяча мелочей».
Вот и позвонил он по объявлению. Ответил женский голос с хрипотцой, которая выдавала курильщицу с немалым стажем. Работа, как и предполагал мэнээс, заключалась в совместном ведении на даче хозяйства, деньги на это, естественно, хозяйки дачи, а труды — мэнээса Скачкова.
— Материальная сторона дела такова, — не спеша похрипывал по телефону голос, и мэнээс Скачков представлял худощавую, еще крепкую старуху в спортивной форме и с короткой стрижкой, — я получаю пенсию — сто двадцать, больше никаких источников не имею, от родственников никакой помощи я получать не желаю…
— Конечно, конечно, — торопливо вставил мэнээс Скачков.
— Не перебивайте, молодой человек, я еще не кончила, так вот, я знаю, соглашаются другие так — тридцать рублей я оставляю себе, а на девяносто будем вести хозяйство, звать меня — Феодосия Николаевна, вопросы?
— А скажите, Феодосия Николаевна, на даче работа большая?
— Видите ли, в принципе лишь готовить питание. Завтрак утром, ужин вечером, обед также с вечера, чтобы я могла лишь днем подогреть, у нас газ…
— Газ — это хорошо, Феодосия Николаевна.
— Еще бы, еще бы… так на чем же мы… опять вы перебили…
— Вы, Феодосия Николаевна, на том, что обед будете сами подогревать, а я только буду завтрак и ужин.
— Ну да, ну да, итак — на вас готовка питания, кроме этого, конечно, закупка продуктов по списку, какие надо будет сделать на зиму запасы, общий порядок, конечно, цветы там, дорожки, так что подумайте.
— Я подумаю, Феодосия Николаевна.
— Подумайте, подумайте.
— Я подумаю, подумаю, Феодосия Николаевна.
— Да-а! Совсем забыла сказать, что по воскресеньям на дачу съезжается вся наша семья, обычно-то они отдыхают в Крыму или в Прибалтике, но на воскресенье обязательно все съезжаются на дачу. Все везут продукты с собой, и получается застольщина, очень, знаете ли, приятно. Если пожелаете, можете принять участие в воскресной застольщине, подумайте.
— Я подумаю, Феодосия Николаевна.
— В застольщине, естественно, за свои кровные. Подумайте.
— Я обязательно подумаю, Феодосия Николаевна…
Надо было думать, надо было решать, уже предварительный список всех этих белил, грунтовок, купоросов поверг мэнээса Скачкова в трепет, совершенно выбивал из отлаженного годами сторублевого бюджета.
В обед подошла его очередь сидеть в кабинете директора на трех телефонах — желтом, синем и зеленом. Мэнээс Скачков сидел в обезлюдевшем на час непривычно тихом институте и думал. Собственно, думать-то было особенно не о чем, надо соглашаться на Феодосию Николаевну и хотя бы некоторое время пожить на ее деньги, свои откладывая полностью. Надо лишь решить, будет ли принимать он участие в воскресных застольях или, как разрешено ему, проводить время дома. Тратиться в воскресенье так и так ему придется, но вот что выгоднее, в какой форме лучше всего организовать воскресные затраты? Это занимало мэнээса Скачкова, когда зазвонил вдруг зеленый телефон. Появись на зеркальной полировке директорского стола кобра, мэнээс Скачков и то бы, наверное, поразился меньше, чем при виде этого трещащего, звенящего, помигивающего зеленым глазом крайнего справа телефона. Только этим, по-видимому, и можно объяснить, что он не сразу, как того требует обеденная инструкция, схватил трубку на зеленом.
— Какого черта, — мэнээс услышал, — вечно спят у вас в НИИ!
— Я… я… — залепетал мэнээс Скачков. — Не… это…
— Фамилия! — потребовал голос, не такой уж и громкий, грозный, как показалось мэнээсу Скачкову вначале, а голос очень сочный, плотоядный какой-то, как бы уже в одну минуту обнюхавший неведомого мэнээса Скачкова с ног до головы, пробующий уже на вкус, поближе за грудки подтянувший его.
И задумался на пару секунд сочный голос, изъявив слабую заинтересованность: «Проглотить или отвернуться?» Ох, как забилось от этого сердце мэнээса, ах, да не все ли равно! Такое зеленое, великое дело, такой сочный голос у первого зама (мэнээс конечно же узнал!), прикоснуться, приобщиться ко всему этому великому (пусть даже через проглатывание, пусть через что угодно!) — это ж великая честь, предел мечтаний, вожделений, сладкий, захватывающий риск, настоящая жизнь, а не прозябание — всё, всё, всё!!!
— Ну что — опять уснул? — спросил сочный голос — Звать-то как?
— Мэнээс, — сказал мэнээс Скачков.
— Мэнээс? — расхохотался сочный голос. — Ха-ха-ха, мэнээс… Ну, брат, даешь, ведь так и уморить можно, ты что — нарочно?
— Да я…
— Ох-хо-хо… мэнээс… ну и ну… ну-у… уф…
— Да я только…
— Не-е… не смеши, будь добр, мэнээс, не смеши, уморил ведь и так! Ох, ну ладно, ты слушай, да как все ж тебя, фамилия-то есть, а?
— Есть, Скачков-мэнээс.
— Ну хорошо, Скачков-мэнээс, ты глянь там, кто у вас есть там поблизости, директор, зам, все равно.
— Да нет никого, на обеде все.
— Вот черт возьми-то, что же делать, а?
— Не знаю.
— Ладно. Давай-ка хоть ты сюда двигай.
— Я?
— Ты, ты, кто ж еще-то, раз у вас шаром покати, писать-то еще не разучился? Ну, ну… давай, брат, приезжай, Центр знаешь? Вот и двигай.
— А-а… пропустят?
— Я позвоню на проходную, как там тебя… Скачков?
— Скачков.
— Ну-ну, Скачков так Скачков, скачи, Скачков, скачи…
* * *
С вводным докладом выступил первый зам. Он говорил кратко и понятно. Биология изучает жизнь. Но не чью-то конкретную, а жизнь как явление природы, как особую форму существования и движения материи. И все же на вопрос, что такое жизнь, биологи до сих пор ответить не могут. Не могут, несмотря на огромный опыт наблюдений над разнообразными формами проявления этого очевидного и невероятного феномена. Поиски элементарного носителя жизни, этой грани, разделяющей живое и неживое, казалось, вот-вот увенчаются успехом. Сначала на эту роль претендовал отдельный организм, затем клетка, потом молекула. Разделяя носителя жизни на фен и ген, мы еще больше запутались. В последнее же время у макромолекулы, у клетки, появились в этом плане соперники, занимающие, казалось бы, совершенно противоположные места на шкале уровней организации живой материи: это популяция, биоценоз, биосфера и даже такое понятие, все чаще мелькающее на страницах научных журналов, как «живая вселенная». Какое же все-таки из этих определений нам следует принять за исходное при построении естественного биологического порядка? На сегодняшний день в молекулярной биологии сложилась парадоксальная ситуация, еще совсем недавно казалось — как близки мы к решению проблемы жизни, сегодня же очевидно — так далеко от этого решения мы еще не были никогда. Собственно, сложившаяся в биологии ситуация во многом характерна и для остальных наук — космологии, физики, химии… Все, как и мы, биологи, стоят перед проблемой пересмотра научных истин с качественно новых позиций. Физики, скажем, обещавшие нам, что вот-вот будет открыта единая формула поля, уже и не заикаются об этом. И так во всех областях науки — повсеместно идет ниспровержение каких-то аксиом, в общем, типичный путь науки — от ложного знания к истинному незнанию! Но, кажется, на сегодня положение а науке в корне меняется. Истинное незнание наконец-то становится истинным знанием. Открытие РК — распада Круглова — выводит не только биологию, но и всю науку на качественно новый виток. Для нас же, биологов, это подлинная революция, ведь в результате РК впервые в чистом виде будет получен первичный биологический субстрат — феномен того очевидного и невероятного, что мы называем жизнью. Дело теперь за тем, чтобы нам, ученым всех направлений, собравшимся здесь, в Центре Науки, разработать четкую методологическую основу уже начавшегося волею судьбы Эксперимента, создать трафарет биологического мироздания, чтобы РК — распад Круглова — прошел для нас без всяких осложнений, а гран жизни — этот впервые выделенный в результате распада Круглова Ивана Федоровича бесценный биологический субстрат — наконец-то заработал на человечество! Обеспечив человечеству заслуженное бессмертие. Собственно, в этом-то и вся суть предстоящего Эксперимента, в этом-то весь смысл, в конце концов, и всей Науки с большой буквы, в этом единственная миссия, возложенная на нас, ученых-биологов, историей!..
Вот уже почти неделю мэнээс Скачков восседал, скрытый ширмочкой, справа от трибуны докладчиков в Большом конференц-зале Центра, записывал добросовестно выступления ораторов — ученых мужей, чьи громкие титулы повергали мэнээса постоянно в радостный трепет. Вот уже почти неделю по утрам входил он во двор Центра, однако ж привыкнуть никак не мог и всякий раз вздрагивал, когда металлический турникет при входе, мгновенно проверив на ЭВМ личность входящего, распахивался гостеприимно перед мэнээсом Скачковым. Никогда и в мыслях он не имел, что фортуна смилостивится так над ним и будет он столь высоко вознесен, простой мэнээс с окладом в сто десять. Ведь здесь, в Большом конференц-зале Центра, решалась как-никак судьба самого Эксперимента! Пусть сбоку, пусть скрытый ширмочкой, теперь непосредственно участвовал в этом и мэнээс Скачков. Зацепился за великое и он! Зацепился и он за серебряную нить — теперь уж пальцев не разожмет он, шалишь, брат! По-о-о-палась! Теперь уж тяни, вытягивай мэнээса туда, где живут, на лаврах почивают сии мужи науки… А перо его меж тем строчило и скрипело, стремительно неслося по бумаге, что-то пропустить — ни-ни!..
— …Изучая природу во всей ее сложности и разнообразии, мы, ученые, вынуждены вводить это разнообразие в какие-то рамки. Иначе картина мира начинает напоминать сломанный калейдоскоп. Что бы ни изучал исследователь, какие бы свойства объектов ни попадали в поле его зрения, он должен привнести некий порядок в пестроту наблюдаемых фактов. При этом он, как правило, упрощает, а порой даже искажает истинное положение дел, но зато получает возможность сравнивать вещи между собой, открывать связи между ними, а стало быть — заниматься по-настоящему наукой. Иными словами, наука начинается с классификации.
Наука любит порядок. Но при этом она также обязана соответствовать своему служебному положению — правильно описывать, объяснять, фиксировать явления в природе и в обществе. И если до сих пор нам простительно было отставание в этой сфере, то сейчас в преддверии Эксперимента, как правильно подчеркнул Игорь Серафимович, классификация, создание методологической основы, трафарета, в конечном счете, мироздания все это выступает на первый план. Мы здесь собрались, чтобы сообща обсудить и прийти к чему-то единому, создать, в конце концов, некий, пусть пока условный, трафарет для биомироздания. И здесь трудности подстерегали нас немалые. Дело в том, что если в геологии, географии, химии, астрономии и так далее вопросам классификации во всех учебниках посвящены параграфы, в лучшем случае главы, то в нашей биологии систематика составляет совершенно особую и фундаментальную дисциплину. Это та печь, от которой пляшут все биологи. Службу печка до сих пор, в общем-то, несла исправно, щи да кашу до сего времени сварить, во всяком случае, было можно. С выходом же в последние годы на теоретический, системный уровень, где объектом изучения являются уже не отдельные виды, а экологические сообщества, биосфера, ноосфера, а возможно, и вся вселенная в целом, трудности с классификацией многократно возросли. Теперь же перед нами встал Эксперимент — этот «сезам», открывающий дверь к познанию самого существа жизни. Ведь конечный продукт распада Круглова — это выделение в чистом виде первичного биологического субстрата, этих самых долгожданных дрожжей, которые должны будут отныне обеспечивать бессмертие человечества.
Я думаю, теперь всем ясно, что такое для нас выработанный на нашем симпозиуме трафарет для биомироздания. И тут, мне кажется, пришло время воспользоваться идеей А. А. Любищева, впервые, как известно, высказавшего мысль о том, что наша вселенная…
Биосфера… ноосфера… Вселенная… Космос… Мэнээс Скачков исправно строчил за ширмочкой, а горизонты мироздания всё раздвигались и раздвигались. Хотелось что-нибудь такое сделать! Встать хотелось!.. Мэнээс сидел, строчил, поерзывал.
— …Разумеется, Аристотель, Карл Линней, Чарлз Дарвин и Менделеев остаются по-прежнему столпами классификации, но сегодня нам надо уже идти дальше. Вот… перед вами на световом экране схема философа Щедровицкого, где показаны все виды деятельности ученого… В зависимости от того, в какой части схемы осознает себя ученый в момент рассуждения, его точка зрения на классификацию, а следовательно, и на будущий трафарет для мироздания, который мы здесь создаем, будет, естественно, различна. И это, я думаю, хорошо. Пусть не будет нас смущать вполне запрограммированный базар на нашем симпозиуме. Еще в древнем Вавилоне существовал обычай выносить на главную площадь города тяжело больного человека, и моральным долгом каждого прохожего было остановиться возле и поделиться своим опытом, дать совет. И нередко таким образом удавалось вытащить пациента из совершенно безнадежной ситуации. Такой способ обмена информацией чем-то сходен с тем, что ожидается на нашем симпозиуме — «информационный базар», — я бы назвал, польза же его очевидна.
Каждая эпоха выдвигает свои идеалы научности, логичности, гармонии и полезности. Ученый, можно сказать, тоже житель своей эпохи, и он, может быть, неосознанно, но всегда стремится оформить известное ему знание в такие структуры, которые наиболее созвучны духу времени. Фактом культуры нашего общества и нашей эпохи является и наша встреча, наш симпозиум, наш базар… информационный!
«Какой базар?! При чем тут культура какая-то, если речь идет о науке, о самом Эксперименте?!» — недоумевал мэнээс Скачков. Но особенно недоумевать было некогда, докладчики сменяли друг друга, имена звучали, одно почетнее другого, к трибуне (в двух шагах от мэнээса) выходили люди, которых до этого он знал лишь по портретам. Смотрел во все глаза и впитывал так неожиданно привалившее счастье. Не забывая, конечно, о главной обязанности — фиксировать добросовестно все, что говорилось. А говорилось порой такое, что уж насколько поднаторел в науке ум мэнээса Скачкова, и то замирал он то и дело, слыша невероятные высказывания, со страхом ждал, что зал вот-вот взорвется от смеха или гнева, но нет — спокойно все в огромном было зале. И тогда с горечью осознавал Скачков свой собственный невысокий уровень научного развития…
Вечером мэнээс, поставив стул на стол, смывал неровно нанесенную на потолок грунтовку, создавал более тонкий и равномерный слой по всему потолку. К полуночи от неудобства позы болела шея. Близко висящий над головою потолок, весь в сыроватых, желтоватых, неправильных пятнах, в трещинах, отслоениях, словно резонатор, возвращал поздними вечерами мэнээсу Скачкову многие речи очередного дня симпозиума…
— …Таким образом на сегодня совершенно ясно, что наследственный иммунитет — универсальный принцип защиты от микробов. Однако разработка учения о нем, несмотря на множество факторов и теоретических представлений, до сих пор находилась в начальной стадии развития. Лишь открытие распада Круглова поможет проследить всю структуру наследственного иммунитета, созданного на сегодняшний день природой, — от человека до амебы. Именно до простейшей амебы от сложнейшего организма, которым на сегодняшний день является человек. Только непрерывное прослеживание, которое во всех деталях позволяет наблюдать уникальное открытие века — распад Круглова, — качественно обновит всю иммунологию, превратит ее в точнейшую науку…
Нанеся побелку на вчерашнюю грунтовку, мэнээс Скачков оставил по совету знающих людей все окна на день открытыми, поехал в Центр на службу. Вечером, домой вернувшись и свет зажегши, он тихо ахнул — такое печальное зрелище открылось ему. Все пятна и пятнышки, даже самые незначительные, все неровности нанесения грунтовки на свежепобеленном и хорошо высохшем с открытыми окнами потолке его выступили с такой подчеркнутой ясностью, что жить под таким потолком не было никакой возможности. Мэнээс Скачков переоделся в тренировочный костюм, голову прикрыл лыжной шапочкой, а в таз налил воды. И шваброй, прямо с пола, стал смывать с потолка вчерашний труд. Мэнээс макал в таз швабру, яростно тер над собой потолок, а грязная вода, стекая, попадала на него, и скоро он был уже мокрым и грязным. Но уже половина потолка очистилась, и, на кухне наскоро напившись чаю, мэнээс за вторую половину принялся. Трудно было очистить потолок возле абажура с лампой, тут уж пришлось подтянуть стол, на него стул взгромоздить и со стула осторожно кистью промыть потолок вокруг абажура.
На этот раз мэнээс решил грунтовку развести пожиже, но, жидкая, она не очень замазывала трещины, всевозможные точки, пятна — раз по десять приходилось кистью водить по одному месту. Мэнээс Скачков не торопился, куда ему спешить? Отработав очередной квадрат потолка, он спускался с сооружения стол-стул и любовался снизу на проделанную работу. Затем передвигал стол на другое место и принимался за следующий квадрат. Сверху на него текло, шея уставала, но он только насвистывал, стараясь лишь, чтоб переходы от одного квадрата к другому получались незаметными. Получалось вроде бы незаметно, во всяком случае, когда спускался вниз, было незаметно, и когда к дверям отходил, прищурив глаз, от дверей рассматривал. Мэнээс насвистывал полузабытую студенческую песенку:
— Шел ген по геновой дорожке, Навстречу ему фен, на феновой ножке, Здравствуй, ген…А был уже поздний час, обрабатывая карниз над окном, мэнээс Скачков, в неудобном положении находясь, видел за окном луну и быстро плывущие по лунному зеркалу клубящиеся облака. Игольчатая ветка покачивающейся за окном сосны то входила слегка в лунное зеркало, то вновь освобождала его. Смахивая кистью за карнизом паутину, мэнээс Скачков боковым зрением видел эту картину — яркая луна, клубящиеся быстрые облака, до мельчайшей подробности пронзенные лунным светом, и эту игольчатую сочную ветку, слегка касающуюся луны. Чтобы не капнуть на горячую лампочку, мэнээс выключил ее совсем, благо сильный свет из-за окна позволял это. К концу второй недели мышцы уже не так быстро уставали от физических движений, уже удовлетворение какое-то возвращалось к ним. Сырой потолок источал первозданность в призрачно-рассеянном свете, что окружал висящего на карнизе мэнээса Скачкова, мягко клубились оборванные по стенам обои. Да, за потолком пришлось уж взяться и за обои, конечно же они после такой побелки не будут годиться никуда, мэнээс Скачков обрывал их теперь где только мог. Вероятнее всего, теперь и пол, заляпанный донельзя, придется красить заново. Но об этом думалось отдаленными мыслями; главное — потолок! Кончить его, а остальное все уж к нему само собой подтянется, и стены, и пол…
Утром, вскочив с раскладушки, первым делом бежал мэнээс из кухни, где теперь спал, в комнату, зажигал свет и пристально рассматривал дело рук своих. С утра работа нравилась меньше, были заметны отдельные мазки кистью, потеки, участки слабой грунтовки. Придется побелку нанести теперь более густым слоем, чтоб как-то сгладить все дефекты. И еще — мэнээс придумал маленькую хитрость: добавить в побелку чуть больше купоросу. Купорос приглушит белизну, затушует все неровности.
В Центре, у себя за ширмочкой, приготовив бумагу и осмотрев пишущие принадлежности, сидел мэнээс Скачков и, полускрытый ото всех, все же ясно чувствовал, как наполняется огромный зал перед утренним заседанием. Правую стену ему было видно почти всю, мэнээс рассеянно читал надписи на плакатах и транспаранты с афоризмами великих людей: «Кто ищет — вынужден блуждать», Гёте. «Все науки делятся на физику и коллекционирование марок», Э. Резерфорд. «Ибо людям, желающим идти правильным путем, важно знать и об уклонениях», Аристотель. «Я убедился, что либо не следует сообщать ничего нового, либо придется потратить все силы на защиту этого открытия», сэр Исаак Ньютон. Со стен мэнээс Скачков невольно обращал свой взор на потолок. Ну а потолок здесь был безупречен, словно изречения сих великих. Взбудораженно-щемяще было на душе, мэнээс часто вздыхал…
С утра показывали фильм «Спираль спиралей», заснятый с помощью мощного электронного микроскопа. В полутемном зале сотни людей затаив дыхание следили за рождением хромосомы, которая в свете новейших данных — не только упаковка для ДНК, но и сложнейшее сооружение, от чьей архитектуры во многом зависит работа наследственного аппарата. Мэнээсу Скачкову сначала было плохо видно, что происходит на экране, но он подумал, что не будет ничего предосудительного, если он спустится на время фильма в зал и постоит в проходе. Так он и сделал.
— Фото первое, — объявил диктор, — здесь мы сразу попадаем в белый космос, усеянный черными звездами. В действительности же такой «небосвод» может быть и настоящего черного цвета, но методика, примененная микроскопистами, сделала его белым. А черные звезды — не что иное, как срезы молекул ДНК. Этот мир, как мы видим, находится в постоянном движении. Спиральные молекулы перемещаются нам навстречу. То одна, то другая изгибаются, словно гигантские змеи. И вот — к ним медленно подплывают ма-аленькие цилиндрики, это — нуклеосомы. И вот наша ДНК, словно самый настоящий удав, своими петлями захватывает цилиндр, и вот уже… через минуту он оказывается прочно обмотанным плотными спиральными витками ДНК. Так завершается первый акт рождения нашей хромосомы. И вот уже огромная сорокаметровая молекула — сейчас это отчетливо видно на экране! — резко уменьшилась в своих размерах, продолжая опутывать множество роликов-нуклеосом… А вот нить дернулась… сократилась… и довольно заметно, не правда ли? Затем — вот! Еще… и еще… А в результате, как видим, родилась плотно скрученная пружина… А вот уже наша драгоценная спираль медленно собирается в несколько «цветков»… условно говоря… А теперь видим, цветки эти соединены уже самым настоящим стеблем, а? Как это вам нравится? Мне так очень нравится, товарищи! Ведь это несомненно напоминает нечто живое… нечто кустистое, не правда ли, коллеги?
Да, жизнь, друзья мои, возникает в трудноуловимой чехарде ферментов. Считывающих, режущих, сшивающих, перестраивающих и, главное, транспортирующих все эти ДНК и РНК, все эти белки и аминокислоты. Но как же не собьются со своего единственного пути все эти мириады ферментов, кишащих стаями вокруг наших хромосом? Как они построят свои белки, как с поразительной точностью перенесут РНК и ДНК? Бесконечные вопросы. И ответ на них может дать один лишь Большой Эксперимент, к которому готовится мировая наука. Да, коллеги, тысячи исследователей во всех странах мира, стремясь наконец-то раскрыть тайну силы, делающей мертвое живым, давным-давно уже сумели разобрать живые существа на отдельные клеточки, на все эти ДНК, РНК, на белки и аминокислоты. Но разобрать, оказалось, еще совсем не значит разобраться! Так что же осталось до конца непонятым нами — учеными — на сегодня в этой бесконечно важной проблеме жизни?
Неизвестностей, как говорилось выше, много, но главные здесь — два «белые пятна». Нам, во-первых, до сих пор непонятно, как из молекул могла родиться биологическая система. То есть опять же наука на сегодня достигла такого невероятного уровня, что в принципе разобрать может что угодно, а вот собрать обратно… пока увы. И поэтому вся надежда на Эксперимент. Ну и, во-вторых, нам совсем уж непонятно — в силу каких причин в биологических системах складывается порядок реакций, обеспечивающий жизненные процессы. А если попросту, то мы до сих пор не знаем, как же все-таки оживает такая система… образно говоря, кто или что вдохнет в нее эту самую жизнь…
Вернувшись вечером к себе, на потолок лишь глянув, хмыкнул мэнээс Скачков и, покривившись, сказал: «Это мне начинает нравиться». Хотя испытывал при этом он чувства совершенно противоположные. Потолок был темен от купороса, казался теперь гораздо ниже и почему-то был весь в разводах, которых с вечера не было. Мэнээс Скачков попытался тут же подправить разводы снизу длинной кистью, но сразу стало еще хуже. Побелка в этих местах тотчас же набухла, потемнела и хотя и стала несколько ровнее, но ненадолго — минут через пять стала отваливаться безобразными кусками.
— Да ты что — смеешься, что ли?! — вскрикнул в ужасе мэнээс Скачков, торопливо переоделся в рабочую одежду, налил полный таз воды и шваброй стал сдирать побелку.
Кое-где она крепко держалась, содрать было трудно, мэнээс Скачков переворачивал швабру другой стороной и тыкал в потолок голой палкой, скоблил и в конце концов промывал трудное место. Со швабры, с потолка, вообще неизвестно откуда текло на него и брызгало. Мэнээс уже привык, морщился лишь, когда попадало в глаза. Голова и плечи давно были мокрыми, грязные липкие струйки стекали по спине, мэнээс Скачков ничего не хотел замечать, менял тазик за тазиком и так остервенело шуровал своей шваброй, что уже к полуночи потолок был промыт до серенькой голубизны, а на полу, на мебели, газетками прикрытой, везде валялись бесформенные комки грунтовки, побелки, известки. Когда комки попадались под ноги, мэнээс отшвыривал их ногою, комки взлетали серыми куропатками и смачно пришлепывались к стенам с полусодранными обоями.
Отмываясь потом в ванне, мэнээс Скачков пытался восстановить вчерашний процесс побелки — вроде бы все правильно он делал, и все же, вероятнее всего, каких-то веществ в исходных реактивах не хватало. Ну ладно, купороса он явно переложил, но ведь отваливаться-то не должно! Вот в чем дело, должно держаться! А оно отваливается. Нет, каких-то веществ явно не хватало. Надо думать… Обязательно думать надо мэнээсу…
VI
На этот день Директор назначил знакомство с Центром. После бессонной ночи наутро лицо его было серее обычного, движения вялы, из машины, в Центр доставившей его, вылезал недовольный, с кряхтением. Но не отменять же собственное решение. Первый зам уже сбегал к нему по ступенькам бодро и энергично. Лучезарно светясь, Игорь Серафимович помог своему директору выбраться из машины.
— С чего пожелаете начать, уважаемый Глеб Максимович? — И первый зам взмахом руки окинул здание Центра. — На верхних этажах у нас, — с улыбкой вращенье легкое кистью изобразил, — на верхних — биосферы, ионосферы, ноосферы и прочие э-э-э… высокие сферы, а тут, на нижних этажах, да и в подвалах, так сказать, на нижних этажах микромира, — бактерии, вирусы, клетки, так куда же мы все-таки — на облака иль в преисподнюю?
— А-а… — махнул вяло директор. — Не все ли равно, давайте в преисподнюю, что ли, для начала, все ж не подниматься по лестницам.
— По лестницам не придется — скоростной лифт, но вы правы, снизу начать лучше всего для общего знакомства, жизнь предстанет, так сказать, пред вами во всем своем разрезе, на всех своих уровнях, поэтому — в подвал!
— В подвал? Зачем в подвал?
— В подвале самое начало жизни, там у нас математики.
— И чем же занимаются математики? Если сформулировать попроще.
— Если сформулировать попроще, то решают проблему самосборки предбиологических структур, завлабораторией доктор физико-математических наук Драчук, замечу — неплохой специалист по теоретической физике.
— Ну-ну… ведите к своему специалисту…
И спустившись из обширного вестибюля Центра по крутой лестнице в полуподвальное помещение, они оказались в лаборатории Драчука. Машины пощелкивали, помигивали, гудели и даже произносили бесполые слова. Вообще как-то сразу ощущались здесь многогранные процессы, текущие в этих умных машинах, что окружали со всех сторон. Разноцветные, разномастные, разных габаритов, они как-то уж очень уютно, почти по-домашнему общались между собою — поглощали информацию, выдавали информацию, запоминали или, наоборот, ненужное стирали в своей памяти. Тут явно ощущался уже какой-то налаженный, чуть ли не интимный, свой электронный мирок.
Высоких посетителей уже ждали, тотчас усадили на стулья перед экраном дисплея. И тут же на угольно-черном экране, словно светлячки, то тут, то там стали вспыхивать белые квадратики — это заработала самая главная ЭВМ. Причудливым узором разбилось поле дисплея на белых и черных. Они, войска перед сражением, заняли выжидательные позиции. Минута — и поле ожило, забегали световые пятна, узоры мгновенно сменяли друг друга. То наступали белые, то их начинали теснить черные. Но такая ситуация длилась сравнительно недолго. Постепенно черные квадраты стали давить белых. Только в центре поля и по флангам последние кое-как сохраняли еще свои позиции, но по всему уже было видно, что белые отбиваются из последних сил. И вот настал желанный миг — поле-экран полностью очистилось, черные победили! Так завершился этот странный поединок. Но что за противники скрываются за масками квадратов? Какие силы заставили их начать борьбу? И наконец, где их истинное место битвы?
Когда погас экран, директор и его первый зам повернули головы к заведующему лабораторией, который в этот миг, сложивши на груди руки, откинувши львиную голову, с полуприщуренной улыбкой все еще смотрел на погасший экран. Но вот встрепенулся, чувствуя, что высокие гости в нетерпении. Драчук, важно похаживая перед экраном, стал неторопливо раскрывать секрет только что виденного боя между черными и белыми. Оказалось, что черные и белые — это системы молекул, первые прообразы жизни, так называемые эобионты, внутри которых борются за суверенное право существовать в живых организмах левые и правые формы молекул. Биологическая же конструкция состоит почему-то в большинстве из одного типа молекул, условно их называют левовращающимися, Л-формами. Например, у левых аминокислот спирали действительно закручены в левую сторону. Известно, что в мертвой природе бок о бок с ними уживаются вполне правовращающиеся, Д-формы. Почему же для жизни Л лучше Д? Почему и как первозданный организм отобрал нужные для строительства элементы? Эти вопросы настолько важны, что академик Вернадский полагал, что, решив проблему Л- и Д-форм, мы решим и проблему происхождения жизни в целом.
И если, пытаясь восстановить древние биологические системы, мы пойдем назад по ленте эволюционного транспортера — а РК, то есть распад Круглова, подчеркнул Драчук, теперь вполне позволяет это сделать, — мы неизбежно окажемся у того участка транспортера, где именно и шел этот странный отсев молекулярных форм, их первичное разделение на Л- и Д-формы. Ну а если биоархеологам удастся смоделировать этот этап и доказать, что древняя система совсем не случайно смогла выполнить эту труднейшую работу по отбору Л-форм, то в какой-то степени этим и подтвердится право на существование не только этой прасистемы, но и ее всех далеких потомков. Как по раскопанному археологами обломку здания можно в какой-то степени судить обо всем доме, так и по одной клетке мы сможем судить об особенностях целого организма.
— Наша же лаборатория, — продолжал вдохновенно товарищ Драчук, — является уже следующим, так сказать, участком этого загадочного транспортера жизни, а именно там, где происходит переход от одной, самой первой молекулы, уже к группе близких молекул и далее от группы молекул к обособленному пузырьку — эобионту. Наши специалисты-математики решили создать математическую модель именно этого участка эволюции… Вообще-то и раньше математики пытались моделировать простейшие капли жизни — эобионты — и возможные химические превращения, в них происходящие. Но слабость подобных моделей была уже в том, что исход опыта был заранее логически предрешен той последовательностью данных, которые закладывались в их математическую программу…
— А ваша лаборатория, — перебил вдруг директор, — в этом плане, вероятно, что-то принципиально новое?
— Видите ли, уважаемый Глеб Максимович, м-м-м… на вопрос, поставленный в такой форме, мне будет несколько э-э-э… затруднительно ответить, но… но где-то, по-видимому, да…
— Что — «да»?
— «Да» — в том смысле, что мы действительно подошли к проблеме на качественно новом уровне… Видите ли, уважаемый Глеб Максимович, мы действительно только сейчас, с появлением таких мощных и сверхмощных машин, что нас окружают, — Драчук плавным жестом обвел электронную начинку помещения, глаза его потеплели, — да, да, мы, ученые, только сейчас смогли задавать нашим машинкам при моделировании физических процессов происхождения жизни более мягкие предпосылки, более близкие к естественным, к тем, что существуют в природе. Такие эксперименты мы для себя назвали машинным фильмом, один из них вы только что и просмотрели. О чем, собственно, он? Цель его — проследить за борьбой Л- и Д-форм молекул в процессе размножения эобионтов. Сценарием для него, естественно, послужили общие положения теории происхождения жизни, известные нам еще по средней школе. В интерпретации математиков это все приобрело следующий вид: действие происходит в «бульоне», содержащем неограниченное количество левых и правых молекул. Но наш бульон симметричен, то есть и левых, и правых в нем поровну. В этом-то бульоне и образуются наши капли…
— Коацерватные? По академику Опаринову?
— М-м-м… видите ли, уважаемый Глеб Максимович, есть смысл, на котором я остановлюсь, если позволите, ниже называть их все же привычнее для нас, ученых, — эобионтами.
— Ну-ну, извините, пожалуйста, называйте как хотите.
— Так вот, каждая такая капля — эобионт — не закрытая, а открытая система, она способна выделять в окружающую среду и поглощать из нее различные химические вещества, в нее так же могут попадать продукты, выработанные другими каплями. Наши эобионты делятся (я это подчеркиваю), не размножаются, а еще просто делятся, как делятся капли простой водопроводной воды. Но, товарищи, в процессе даже такого чисто механического деления уже происходят необходимые нам мутации…
— Необходимые?
— А как же, уважаемый Глеб Максимович? Мутации, или проще, неизбежные ошибки в воспроизведении себе подобных, — это же основа всякой жизни. Потомок — я это опять-таки решительно подчеркиваю — в силу подобных ошибок и не может быть никогда точной копией капли родительницы. Только мутации… без них ни-ни…
Ну-с… так вот — все эти условия, что мы заложили в нашу машину, безусловно реальны. Реальны и в том, что образуются капли, и в том, что они обязательно делятся, набрав избыток вещества, и что левых и правых форм поровну (повторяю), — здесь нет ничего невероятного и противоречивого вполне возможным условиям происхождения жизни. И вот этих-то естественно-природных предпосылок нам вполне хватило для построения с помощью ЭВМ чрезвычайно гибкой, в сравнении с прошлыми грубыми моделями, принципиально новой модели происхождения жизни на Земле. Все эти данные были введены в машину, на экране дисплея загорелись белые и черные квадратики, они ринулись в бой друг на друга. Исход уже вам, дорогие коллеги, известен. Я кончил. Белые квадратики победили. То есть черные.
— Н-да… — сказал директор и посмотрел на зама, тот обратился к Драчуку, молча стоящему со скрещенными на груди руками. — А не могли бы вы несколько поподробнее осветить те главные предпосылки, которые, собственно, и необходимы для победы одной формы молекул над другой, какие все-таки можно сделать основные выводы из работы, проделанной вашей лабораторией?
— Ну-у… в основном это два вывода. Во-первых, предпосылка для победы одной формы над другой — это само наличие в системе делящихся капель. При отсутствии таковых эволюционный процесс, моделируемый нашей машиной, попросту останавливается. Это значит, что жизнь едва ли могла провести отсев молекул в океане, не разделенном заранее на эобионты органического вещества…
— То есть не начнется там, где ее нет, вы это хотите сказать?
— М-м-м… видите ли, уважаемый Глеб Максимович, мы — математики и привыкли иметь дело со строгими формулами, поэтому…
— Ладно, извините, что перебил, продолжайте.
— И второй вывод (я лично считаю: самый решающий) — система никогда не обеспечит победы одной из форм над другой в том случае, когда эобионт размножался без мутаций. Эволюция в таком случае замирает из-за недостаточного разнообразия потомков, то есть попросту одна форма молекул никогда не могла победить другую. В нашем случае в определенные моменты поле дисплея разбивалось на белых и черных, эволюционное развитие которых прекращалось. Сдвинуть такой процесс с мертвой точки, то есть заставить полностью победить — побелеть или почернеть экран, — удавалось, лишь попросив машину воспроизводить капли с ошибками…
— Так что можно сказать: жизнь — это ошибка природы.
— Видите ли, уважаемый Глеб Максимович… мы — математики…
— Шучу, шучу, извините, пожалуйста, и… знаете ли — все это интересно, да… и я думаю, — директор повернулся к своему заму, — на таком… э-э-э… строгом математическом уровне должно представлять несомненную ценность, как, Игорь Серафимович?
— Совершенно согласен с вами, Глеб Максимович.
— Ну а теперь мы — дальше знакомиться, извините. — И, пожав начиная с Драчука всем в лаборатории руки, директор и первый зам двинулись дальше.
Когда они шли по коридору мимо дверей лабораторий, директор читал вслух названия:
— Нуклеотиды… Аминокислоты… порфирины… клеточное ядро… мембраны… митохондрии… Игорь Серафимович, — обратился он к заму, — а все же сколько направлений работ в нашем Центре? У меня что-то уже в глазах рябит.
— Тридцать одно… если брать приоритетные, разумеется.
— Да-а-а… а это, где мы только что с вами побывали, куда отнести прикажете?
— Математиков-то? О-о-о… это, знаете ли, наука наук, но… что-то мне вдруг вспомнился сейчас один анекдот, рассказать?
— Будьте добры.
— Так вот, один инструктор парашютного спорта объясняет перед прыжком курсантам-новичкам, как им прыгать. «Прыгнешь, — говорит этот инструктор, — отсчитаешь десять секунд, дернешь за кольцо, парашют раскроется, и ты благополучно приземлишься. Все ясно?» Все. Но один новичок какой-то и задает ему вопрос: «А что будет, если не раскроется парашют?» — «Если парашют не раскроется, — объясняет инструктор дальше, — вы хватаете кольцо запасного парашюта, отсчитываете десять секунд, дергаете кольцо, парашют запасной раскрывается, и вы спокойно приземляетесь, все ясно?» — «А скажите, — опять тянет руку дотошный новичок, — а что будет, если десять секунд отсчитал, за кольцо дернул, а запасной тоже не раскрылся?» — «Ну, — инструктор отвечает, — тогда этот парашют мы спишем, он же никуда не годится…» Вам не кажется, Глеб Максимович, что логика этой лаборатории, где мы только что побывали, чем-то сродни инструкторской… из анекдота. То есть я что хочу сказать — можно ли с таким чисто рассудочным ощущением жизни пытаться проникнуть в ее тайны?
— Ну, есть… есть, конечно, что-то… не без этого… на то они и математики… Но меня-то, Игорь Серафимович, сейчас другое волнует: все-таки согласитесь, одно дело закономерности саморазвития жизни на уровне капли, чем занимаются наши друзья-математики, и совсем другое дело — на уровне клетки, ткани! А если взять весь организм в целом? Человека если взять! Ведь эти задачи в миллионы и миллионы раз будут посложнее… вот ведь о чем думать надо, а? Если, разумеется, подходить к делу серьезно. Это какие же сложные ЭВМ в перспективе иметь нам надо! А они и эти-то, что сейчас имеем, барахлят, вирусу какому-то своему подвержены, кстати, ведь до сих пор так и не обнаружена причина вируса, опять, значит, всё валить на Космос будут… Да-а… болеют, друг от друга заражаются…
— Да-да, уже почти как у людей. И если когда-нибудь удастся их замкнуть самих на себя, чтоб они наконец сами начали эволюционировать…
— Это еще зачем?
— Ну как же, как же… последняя философская парадигма — ведь логично предполагается, что на самом краю этой машинной эволюции все же ожидается какое-то крайнее усложнение, которое наконец-то и сможет ответить: «В чем же смысл всего этого, что называется жизнью».
— Ну, знаете, Игорь Серафимович, это все… как-то… не очень серьезно…
— Нет, отчего же…
— Нет, нет, давайте все же поближе, так сказать, к сегодняшним реалиям…
— Ну, если к сегодняшним, то, я думаю, надо быть уже довольными и тем, что имеем. Взять хотя бы и эту лабораторию, этот машинный фильм, который мы только что смотрели. Ведь, по сути, эти черно-белые геометрически правильные узоры, с каким бы скепсисом к ним ни подходить, это действительно самые настоящие археологические раскопки той самой прасистемы, которой бог весть уже сколько миллиардов лет. За этими детскими кубиками не просто война молекул, вызванная желанием математиков озадачить современную ЭВМ игровой программой расходившегося абстрактно-математического воображения. Нет, за их борьбой, воссозданной — пусть и примитивно пока, пусть по-детски наивно пока, — но кое-как воссозданной на маленьком экране, в сущности, ведь один из самых сокровенных и таинственных моментов материального созидания жизни. Эти снимки, этот фильм — с таким оригинальным названием «машинный» — уводят нас к тому времени, когда из абсолютной симметричности материального мира родилось первое асимметричное тесто, полумертвая еще конструкция… но которая со временем и подарила жизнь нашей планете.
— Н-да… впечатляюще…
— А собственно, где-то именно на этом уровне… полумертвой асимметрии, по-видимому, и должен закончиться распад Ивана Федоровича… Поэтому мы и начали знакомство с Центром с этой лаборатории.
— М-м-м… да… Ну а как она мыслится… как оно мыслится это… полумертвое… асимметричное… это нечто?
— Теоретически вы сами видели, ну а практически, извините, этой первичной асимметрии давно нет в мире, в мире все давно поделилось четко на живое и неживое…. а вот это первичное, исходное всего и вся — полумертвое то есть, нам, собственно, и даст сейчас распад Ивана Федоровича, один лишь он. Ну а машина не человек, понятно. Она может лишь теоретизировать на эту тему, и не более. Так что действительно, особенно похвастаться тут нечем. Ну, хотелось, разумеется, как всегда, чтобы программа машины была составлена более конкретно, более грамотно, что ли, то есть более проникновенно в сам субъект эксперимента, во все закоулки его психики, физики, химии, во все нюансы душевных подвижек, в идеале чтоб произошло это самое — тет-а-тет человека с машиной. Ну а пока, как говорится, чем богаты, тем и рады. Двинемся дальше?
— Да-да, пожалуйста, — задумчиво опустив голову, произнес директор.
И они прошли еще один поворот, спустились по лестнице два пролета, прошли стеклянный длинный коридор, соединяющий два основных корпуса Центра, и наконец оказались в других, более узких коридорных лабиринтах, — бесконечные двери с названиями лабораторий шли слева и справа, сильный ровный свет невидимых светильников заливал мягкую ковровую дорожку, по которой шел директор со своим замом. А вот и нужная лаборатория, дошли наконец: блестящая ореховая поверхность длинных столов, пробирки и пробирочки, колбы, стеклянные шары и воронки. В одних что-то булькало, в других уже в осадок выпадало, в третьих — нечто застывшее — холодно поблескивало. Слева при входе в самом углу нависало какое-то серое сооружение в замысловатом переплетении сверкающих труб и разноцветных проводов — большой электронный микроскоп. Это и была лаборатория молекулярной организации биологических структур.
— Вирусы? — между тем деловито спрашивал уже директор, пожимая руку хозяину лаборатории, коренастому смугловатому крепышу — доктору химических наук Нурлазову.
— Вирусы? Ну нет, — с едва заметной снисходительной ноткой отвечал доктор Нурлазов. — Мы, уважаемый Глеб Максимович, работаем не просто с вирусами, а с бактериофагами. На сегодня это самая маленькая, самая простая крупица жизни… но это очень хитрая крупица, — тут черноглазый Нурлазов хитровато усмехнулся и продолжал: — Оч-чень хитрая! У нее есть голова, в которой спрятано самое главное наше богатство на сегодня — ДНК с записью всего наследственного кода, у нее есть туловище и даже ноги. Да-да — представьте — даже ноги! Которые, кстати, зовутся — и как бы вы думали? — доктор Нурлазов выдержал паузу. — Фиб-рил-лами! Да-а… жизнь сей крупицы жизни проста и вместе с тем таинственна. Как, впрочем, и жизнь любого из нас… Прошу! — И доктор Нурлазов радушным жестом пригласил директора к электронному микроскопу.
В микроскоп директор увидел сверкающее поле, отдаленно напоминающее шахматное. Все поле было сложено из поблескивающих серебристых нитей. И вот, словно дирижер будущих удивительных событий, над поблескивающим в серебристом свете этим полем нависла какая-то странная спиралеобразная штуковина — спираль ДНК, воодушевленно-четко комментировал это доктор Нурлазов. Спираль, появившись, сразу же стала изгибаться, извиваться, видимо, таким образом подавая неслышные команды находящимся здесь же, сразу под нею, молекулам разнообразных ферментов. Ибо вскоре после ее извивистых пассов возле нее соткалась едва заметная точка. Быстро вращаясь, словно что-то на себя целеустремленно наматывая, данная точка росла, росла… и вот уже стала шариком черного цвета. А к этому шарику с поверхности серебристого поля, словно руки, протянулись такие же серебристые нити. Медузообразно покачиваясь и сплетаясь, они соткали вокруг шарика прочную сферу… Директор, не отрываясь от микроскопа, непонятно отчего вздохнул, хотя все, что он видел, было конечно же интересным.
— Ну а теперь наша спираль, — продолжал доктор Нурлазов, — а то, что именно она руководит всем процессом, вероятно, ни у кого не вызывает сомнения, так вот — теперь спираль принимается уже за непосредственное изготовление фигур… видите, видите?.. — чем-то отдаленно напоминающие вытянутые шестерни. Их родилось ровно двадцать четыре, можете поверить на слово. А сейчас возникнет длинная трубка… видите?.. видите?
— Вижу, — сказал директор, — вижу трубку… — И он незаметно почесал грудь.
— А усики? Несколько тонких усиков… видите?
— И усики вижу.
— Ну а теперь — самое интересное! — воскликнул доктор Нурлазов, хлопнув в возбуждении в ладони.
И тут же спираль-дирижер распрямилась и не спеша поплыла к сфере, а шестереночки быстренько-быстренько одна за другой, все двадцать четыре, как бублики, стали нанизываться на трубку. Сама же трубка тут же соединилась со сферой. И теперь странное сооружение, напоминающее аэростат с нелепой трубкой, неподвижно парило в серебряном пространстве. А вот к трубке прилипли нити-ворсинки, сооружение ощетинилось. И вот из хаоса стало выплывать на слегка опешившего от столь быстрых метаморфоз директора уже нечто напоминающее что-то вполне определенное, но что?
— Что?! — радостно спрашивал доктор Нурлазов. — Что, что это?!
— Постойте! — воскликнул директор. — Но это же… вирус? Да-да — самый настоящий вирус!
— Ну конечно же, — ласково пропел в самое ухо доктор Нурлазов, не скрывая ликования, — один из самых простейших, разумеется, но все-таки… да, это — фаг Т-4. — Доктор Нурлазов выключил микроскоп и в волнении стал расхаживать, жестикулировать, стад с воодушевлением четко объяснять: — Мы только что на ваших глазах совершили вещь крайне простую, можно сказать, элементарную — убили фаг! Но не просто убили, а развалили его на составные части — молекулы, не нарушая при этом их формы. После этого осталась куча строительного материала и, так сказать, план застройки — молекула ДНК. Молекулы образовали тонкую пленку, похожую под микроскопом на серебристо-шахматное поле. Ну а дальнейшие события вам уже известны. Их можно прекрасно наблюдать под микроскопом. Дирижер ДНК из этого хаоса симметричного мира с помощью своих верных слуг (да будет мне здесь дозволена столь вольная образность), с помощью своих ферментов собирает сферу — головку будущего фага. Затем из двадцати четырех шестеренок — его хвост. Потом — ноги, ну и так далее. Потом хозяин фага сам забирается в сферу и дает команду, опять же посредством ферментов, после чего головка соединяется с хвостом, хвост с ногами… Одним словом, — победоносно вскинув руки над собой, воскликнул доктор Нурлазов, — так рождается под руководством ДНК наш новый фаг! Жизнь родилась на наших собственных глазах! Да здравст…
— Мне помнится, коллега Нурлазов, — осторожно заметил Игорь Серафимович, — опыты по такой же сборке фага, проведенные у биохимиков… в первом корпусе, знаете?.. но уже без ДНК, оказались почти столь же успешными… Или я ошибаюсь?
— Это у Лекмуса, что ли? — недовольно воскликнул доктор Нурлазов. — Ну и что? Здесь нет ничего удивительного, да — действительно, часто опыты по такой же сборке фага, проведенные и без руководителя — ДНК, — оказываются успешными. Ну что? Это — чем мы здесь небезуспешно занимаемся — и есть самосборка, уважаемый Игорь Серафимович, вернее, самые ранние ее этапы, которые она проходила еще во время предбиологической эволюции… Да, действительно, здесь все возможно — можно с ДНК, можно без. Всего вероятнее, жизнь проходит вначале два этапа в своем развитии. Сначала собираются простейшие биологические системы. На втором же этапе внутри простейших конструкций формируются уже балансы химических реакций, поддерживающих жизнь, а уж…
— Простите, — тут сказал директор, — а можно ли с уверенностью сказать — ваши опыты, коллега, все же какой из этих двух этапов отражают, на каком все-таки уровне вы прощупываете… так сказать, эту неуловимую субстанцию под названием «жизнь»?
— Видите ли, Глеб Максимович, самый удивительный парадокс и заключается в том, что именно на этот ваш вопрос и ответить невозможно. То есть мы, по существу, лишь можем предполагать, и не больше, скажем, способна ли система сама обеспечить размножение, способна ли сама формировать генетический код. Мы даже не знаем главного — способна ли она сама обеспечить чистоту строительного материала, то есть отобрать из первичной однородной смеси левых и правых молекул, то есть из хаоса, молекулы лишь одной формы. Иными словами, мы, наблюдающие, так сказать, за древом жизни, лучше всего изучили пока лишь его корни или даже самые концы корней этого могучего древа. То есть лишь этапы предбиологической эволюции… всего лишь. Ну а все попытки создать модель процессов, обеспечивающих, так сказать, самое жизнь, увы, пока не увенчались успехом. РК — распад Круглова, как вы понимаете, наша последняя надежда. Он, один лишь он наконец свяжет корни со всем древом жизни, уже лишь предварительные выводы вселяют в нас такую надежду… такую… словно на Эльбрус взошел и дух захватило…
— Вы извините нас, коллега Нурлазов, — сказал директор, поднимаясь и протягивая для прощания руку, — к сожалению, вынуждены покинуть вашу лабораторию, все было… э-э… весьма и весьма.
— Да-да, — поднялся и первый зам, — все в самом деле было интересно… да, да… хотелось бы еще и еще, но регламент… Увы, — с улыбкой развел руками первый зам, и, попрощавшись, они покинули лабораторию молекулярной организации биологических структур.
— Что у нас следующее на очереди? — в коридоре, в пол глядя, спросил директор.
— Лаборатория наследственного иммунитета, — заглянув в записную книжечку, ответил первый зам, — это недалеко отсюда, вверх и сразу налево.
— Ну-ну… — сказал директор, искоса обозревая ладную, энергичную фигуру своего первого зама и вздохнул почему-то: «Толковый зам!»
* * *
А толковый зам, на следующее утро в лес выбравшись, бегал по сырым кустам и травам до самого рассвета. Пробегая темный омут, заметив зазевавшуюся щуку, бросился в омут, выхватил, кинул в траву трепыхающееся, гибкое, сильное тело. Присев на корточки и ковыряя в зубах былинкой, смотрел, как, постепенно, побившись, помяв вокруг траву, засыпает щука. Все реже раскрывались жабры, из ярко-красных превращались в тускло-розовые, серые… Уже поднималась примятая трава… И тут, услышав словно чью-то команду, схватил он почти заснувшую щуку и бросил в прохладный омут. Щука еще некоторое время не могла ничего сообразить, лежала вяло. Но вот вздрогнула вся и, резко изогнувшись, исчезла в глубине… Игорь Серафимович какое-то время еще посидел на краю омута, словно бы ожидая, что щука зачем-то всплывет. Тело его постепенно наполнилось освежительной бодростью, изнутри распирало так радостно, будто бы не простую щучку спас, а совершил невесть что необыкновенное. Он поскорее натянул на себя чуть влажные одежки и, посвистывая, зашагал прямиком в Упырьевку.
Он был там с первыми лучами солнца. Их старый дом еще больше за зиму осел. Но так же приветливо курился над крышей дымок, так же колесо от телеги на крыше лежало — оберегало дом от молнии. Так же перед домом на кольях-тычинушках чугуны, горшки и кувшины висели. Сидела кошка Мурка на завалинке, щурилась на солнышко. А сама баба Вера в сиреневом в горошек платье поглядывала в раскрытое окошко, пила чай вприкуску. Тут же была и помутневшая со временем сахарница, потемневшие фигурные щипчики, ходики на стене, вышитые полотенца на иконе, те же запахи, запах теплой печки, овчины… поскрипывание половиц — все такое, оказывается, никогда не забываемое, от чего вдруг защемит сердце.
— Дорогой гость, да к утреннему чаю, — говорила счастливая баба Вера, — это очень хорошая примета… к удаче, знать.
— Спасибо, баб Вера, удача нам ой как нужна! А я, понимаешь ли, баб Вера, гулял по лесу, — принимая из теплых сморщенных рук свою любимую большую чашку с петухом и белой щербинкой возле ручки, посмеиваясь, говорил Игорь Серафимович, — ну, гулял, гулял, а дай, думаю, на часок к баб Вере загляну…
— И правильно сделал, Игорек, сегодня ведь праздник большой — неужто не знал?! — четвертое ж июня. Троица. По-старому Ярилин день.
— Во-он что-о… а я и не знал, надо же — праздник, не знал.
— А человек, Игорек, мало чего знает, он больше догадывается… вот и ты, чай, догадался.
— Ну, ты даешь, баб Вера, — с удовольствием посасывая, языком перекатывая кусок сахара, говорил Игорь Серафимович. — Как это человек мало чего знает! Да человеческие знания уже на сегодня превосходят возможность их систематизации на самой мощной электронной машине, лавина информации такова, что даже машина не справляется. Ма-ши-на!
— Машина да машина, о-ох… Игорек…
— Да как же без машины-то, баб Вера… Эксперимент вот вторую стадию уже вовсю проходит, а ты говоришь…
— Значит, всё мучаете раба божьего Ивана, — нехорошо, ой как нехорошо. — Баба Вера покачала головою, перекрестилась на икону.
— То есть ка-ак мучаем? — опешил Игорь Серафимович, даже чашку с недопитым чаем оставил. — Он же сам. Сам! Облучился! Лучи… ну, тебе не понять, лучи есть такие, радиоактивные. Эти самые лучи его и погубили.
— Ну что ты, Игорек, ей-богу, как маленький! Какие такие лучи, сроду не слыхивала, речь о человеке, а ты про лучи… На вот лучше ватрушечку съешь, похудел-то как в этом городе, не кормят тебя там как надо, ешь быстрей ватрушечку…
— Да не надо мне твоей ватрушечки, сыт!
— Тогда, может, яичко твое любимое, всмятку, а? — ласково говорила баба Вера.
— Да не надо мне яичка, баба Вера… спасибо. Вот чай допью и пойду. — Допивая чай, все никак не мог успокоиться Игорь Серафимович: — Да пойми ты, старая, кроме лучей, конечно, повлияло редчайшее совпадение орбиты Меркурия с…
— Да нет, Игорек, чего уж там, поверь, Игорек, никакие бы лучи его не тронули, если б была у него в сердце вера. И любовь. А вот не было любви, сам же как-то рассказывал — жена к другому переметнулась… ну, так и вера погасла. Ну а как жить-то без любви и без веры? Вот и надежда тут же от него отвернулась. Вот тебе и весь мой сказ… Ну а коли любовь и вера вернутся — вернется и надежда. А лучи… лучи ваши здесь, уж поверь, Игорек, дело второсортное… Пей, пей…
* * *
А Иван Федорович в это время, то есть с девяти до двенадцати, по старой привычке работает. Разумеется, это непохоже теперь на прежние занятия, нет привычной атмосферы, нет нужных книг, статей. И все же Иван Федорович в эти часы находился в обычном рабочем состоянии, это за долгие годы вошло уже в него как рефлекс. Он полулежал на койке, чистый блокнот для записей открыт был на всякий случай… А Иван Федорович мысленно все дальше и дальше улетал с Земли во Вселенную, пытаясь воссоздать в себе одно из тех необходимых состояний, с которых, собственно, и начинала по-настоящему работать мысль ученого. По крайней мере, у Ивана Федоровича такой был собственный метод — настройки, накачки, душевного и мысленного расположения на каких-то ему одному известных плоскостях… Он предпочитал при этом работать лежа или полулежа, как сейчас, высоко подложив подушки, — даже это, ему казалось, необходимым было, создавало какое-то равновесие со всем… Итак, он мысленно улетал с Земли все дальше во Вселенную, но вместо того чтобы ощущать, как обычно до этого, ее безграничие, с какого-то предела собственных устремлений вдруг начинал ясно видеть, чувствовать всеми шестью своими чувствами, а скорее — седьмым, в больнице взращенным, что, вместо того чтобы безгранично увеличиваться, сфера Вселенной нашей вдруг начинает быстро и так непонятно стягиваться! И чем дальше от Земли, чем стремительнее улетал Иван Федорович, тем быстрее стягивается сфера. Стягивается, стягивается, а Иван Федорович все дальше, дальше улетает, все шире бы и шире должны пред ним горизонты распахиваться, а вместо этого… да-да — вместо этого перед ним что-то вроде совсем узкой горловины! И вот, напрягшись как-то странно, как бы и проскочил он через эту узкую горловину, локтями почти физически ощущая границы Вселенной! Проскочил и тут же, само собой, оглянулся на оставшуюся позади Вселенную. Но увидел всего лишь точку! Да, это было дьявольски трудно — вот так как бы выскочить из самого себя. Он весь дрожал. Он запрокинул голову на высокие подушки, изгибался той странной линией, что и вела его через эту непонятную такую притягательную горловину. Хлоп! И вот опять он оказался с противоположной стороны горловины. И опять вместо Вселенной увидел всего лишь точку. То есть геометрическую неясность…
В конце концов эта точка, к которой всякий раз теперь сводились мысли Ивана Федоровича, и успокоила, и, главное, своей неясностью внушила, что надо как-то решать теперь ему: а что же будет; что останется теперь перед этой самой точкой, которую — рано или поздно — надо ставить? Все это время после открытия своего, после того что с ним самим случилось в результате открытия, Иван Федорович не желал задумываться об этом. О чем угодно — только не об этом. О Марии, о работе, о древней философии, о Глебе, о Тамаре Сергеевне — о чем угодно, только не об этом, что произошло. И всякий раз во всем, куда он устремлялся, он словно бы прорывался через каменную стенку, оказывался с той стороны. И опять один. И точка. Подталкивающая, заставляющая прописать, прояснить то, что будет теперь перед самой точкой. А что могло быть? Лишь то, что и было. Открытие им формулы жизни, секрета бессмертия для людей. И как расплата, естественно, — собственная гибель. Все ясно. И нечего думать. Центр функционирует уже, съезжаются ученые, пускай теперь уж они… а он свое сделал… Подарил им формулу жизни… Осталось немного — собственный распад, который отныне теперь так и войдет в науку как распад Круглова. В общем-то, оставалась пустая формальность, вроде подписи последней — подмахнуть не глядя. Да и как же иначе, ведь формула бессмертия, о чем мечтали лучшие умы, открыта! Чего ж еще! Да, он, Иван Федорович, разумеется же, немножко сопротивляется, немножко бьется, так сказать, до последнего. И это понятно — он обыкновенный человек и даже больше — в прошлом фронтовик. И это, конечно, всем понятно и не может не вызвать уважения. А впрочем, не больше чем приличествующий торжественному случаю этикет. Это как небольшая заминка перед тем, как поставить последнюю подпись, это как выпрямить спину, набрать воздуха, уже перо, обмакнув в чернила, поднять на свет, поглядеть — соринка ль не пристала… и еще усесться поудобнее… а все ведь ждут! Затаив дыхание, и спереди и сзади окружили, ждут, чуть не подталкивают… Уселся поудобнее, еще раз вздохнул, влево-вправо глянул, на потолок теперь, за которым невидимое солнышко… а все ведь ждут, подталкивают… Да не подталкивайте ж, братцы! Не только вам, а и себе подписываю, дайте еще разок на все оглянуться, в последний раз ведь! И еще раз, и другой в чернильницу перышко обмакнешь, на свет глядя, подслеповато щурясь, еще раз невидимую пылинку снимешь, а как же-с… Поэтому, только поэтому, люди, каждый день с утра со спичкою в руке по коридору он как маятник — туда-сюда… туда-сюда… туда-сюда…
Вспомнилось, как, будучи как-то на одном научном симпозиуме в Италии, вечером, гуляя у Капитолия, рассматривал долго конную статую Марка Аврелия. Иван Федорович поднялся, подошел к небольшой библиотечке разрешенных ему здесь, в больнице, книг, нашел Марка Аврелия и раскрыл наугад: «Вспомни, с каких пор ты откладывал эти размышления и сколько раз ты, получив у богов отсрочку, не воспользовался ею…» «А собственно, действительно — сколько раз?» — подумал Иван Федорович. Ну, на войне не в счет, там много раз, но там воевать было надо, а не задумываться. В мирной жизни тоже случалось, хотя бы взять и тот случай на Кавказе, когда еще молодым путешествовал вместе с Марией и Глебом. Иван шел по тропе впереди, ручеек, замерзший ночью, слегка снежком был припорошен, но было достаточно лишь ступить на него, как тут же очутился Иван Федорович метрах в двадцати ниже по склону. Лишь чистая случайность — два камня на пути его падения — помешала свалиться в пропасть. Так что и в мирной жизни получал Иван Федорович уже не раз отсрочку, а вот задумывался ли? Как Марк Аврелий советует? Вряд ли? Вспомнить если, все какие-то дела постоянно требовали задумываться над ними — опыты, работа, жизнь…«Все следует делать, — читал он далее, — обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним… Самая продолжительная жизнь ничем не отличается от самой краткой. Ведь настоящее для всех равно, а следовательно, равны и потери — и сводятся они всего-навсего к мгновению. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто бы мог отнять у меня то, чего я не имею?» Писалось это с лишним восемнадцать веков назад, и было в этих мудрых строчках что-то такое уже холодновато-отрешенное, что (Иван Федорович невольно подумал) наверняка писалось это каким-то скучным вечером, а скорее даже — глухою ночью, где-нибудь на холодноватой для римлянина зимовке в нынешней Венгрии, где когда-то побывал Марк Аврелий со своим войском, чтобы усмирить тогдашних варваров. «Кто видел настоящее, тот уже видел все бывшее и будущее… Все однородно и единообразно. Какая частица безмерного и беспредельного времени уделена каждому из нас? Время человеческой жизни — миг, ощущение — смутно, строение тела — бренно, слава — недостоверна, жизнь — борьба и странствие по чужбине, посмертная слава — забвение… Но что нас может вывести на путь? Ничего, кроме философии… Представь, что ты уже умер, что жил только до настоящего момента, и оставшееся время жизни, как доставшееся тебе сверх положенного, проводи согласно с природой». Проводи согласно с природой… Истина или софизм? Да нет, скорее, от этой единственной дошедшей до нас рукописи Марка Аврелия — «Наедине с собой», что читал сейчас Иван Федорович, веяло несомненной продуманностью, отблеском цельного. И опять вспомнилась его статуя в Риме на Капитолии (второй век новой эры), где он на вздыбленном коне, этот угрюмый римлянин с протянутой рукой к потомкам, философ-стоик, проповедующий природное равенство между людьми. О чем все же думал великий правитель великого Рима зимою в семидесятых годах второго века нашей эры на холодной зимовке в провинции Паннония на берегу Дуная?
Каков все-таки он был на троне или в военной палатке, в суде, в сенате? Какие были отношения с буйным наследником Коммодом, с развратной супругой Фаустиной? Каков он был, когда переходил от слов к делу?
«Делай то, чего от тебя в настоящее время требует природа…» Спокоен император на спокойном коне: правой рукой он дарует свободу побежденным варварам… впрочем, некогда под правой ногой коня была все же небольшая фигурка побежденного вождя, но куда и когда исчезла — неизвестно…
Решение победителя, простившего поверженных варваров, размышляет над рукописью Иван Федорович, скорее продиктовано не добротой, а опять же этим самым чувством естественности, чувством природы… Смертельно заболев, никого к себе не допускает, чтоб не передать заразы, Марк Аврелий, спокойно переносит адскую боль… и умирает…
«Представь, что ты уже умер, что жил только до настоящего момента, и оставшееся время жизни, как доставшееся сверх ожидания, проводи согласно с природой…»
Согласно с природой… Но где, в чем и как искать это согласие? Ведь буквально ж всё, от бессмысленных границ Вселенной до мельчайших клеток его собственной жизни, всё пропитано одним и тем же соком. Как отыскать тут правильный путь? Как не заблудиться в самом конце? Как унять эту парализующую тело и душу дрожь, ведь все больше ощущает он холодных снежинок на коже, уже отдельные и глубже проникают, в мозг, в заповедные души участки, засыпая их глухим покровом холодным…
* * *
Игорь Серафимович, расставшись с директором, пошел к себе. Но только поднялся на второй этаж, стал зевать, и чем ближе подходил к кабинету, тем сильнее зевал. Он подумал, не пройти ли ему сразу в зимний сад, посидеть, вытянув ноги, у журчащего фонтана. Но дверь в приемную — стеклянная, проскользнуть не удастся. Он распахнул решительно ее, прошел. И тут же — слева и справа — с диванов, кресел, пуховиков стали подниматься люди ему навстречу. Две несмешивающиеся группы — слева и справа. Низкорослые и высокие, толстые и почти просвечивающие. Все с разноцветными папками: у кого сбоку, у кого впереди себя, как щит. Это поднимающееся с разных сторон воинство были две группы оппозиции. А как же в таком большом деле без оппозиции!
Сначала петицию вручили те, что были справа:
«В то время как весь цивилизованный мир идет твердой поступью в век Благоденствия и Гармонии, в нашем научном Центре готовится антигуманный эксперимент… мы решительно протестуем против насилия над Личностью…»
В этой группе были те, кому не удалось получить лабораторию, отдел, или сектор, или хотя бы какую-нибудь группку из двух-трех человек. Вот поэтому так решительно они и выступали против. Все тут было для Игоря Серафимовича ясно, логично, по правилам происходящей игры. Может, только держали они себя с излишне злой вежливостью. Но и это было Игорю Серафимовичу понятно — уникальное же событие надвигалось! Этим лишь кинь кусок от общего пирога, как из оппозиции они сразу же перейдут в твои рьяные сторонники. Ну а пока обделены — решительно требуют отказаться от чудовищного Эксперимента, который уподобляют в своей петиции гитлеровским изуверствам. В крайнем случае, если уж не удастся Эксперимент прекратить, настаивают хотя бы на уменьшении размеров экранов цветных телевизоров — то есть призывают подумать о детях.
Вежливо пообещав самым тщательным образом изучить петицию и подождав, когда эта оппозиция покинет приемную, Игорь Серафимович с поклоном повернулся к другой группе, которая все это время в насупленной серьезности, почти не шевелясь, прикрываясь папками, простояла слева. Эти писали, что директор научного Центра не отвечает требованиям, которые предъявляются к такой ответственной фигуре. Ибо до сих пор считалось, что он не только фронтовой друг, но и любовник жены субъекта, ради которого и организован Большой Эксперимент. Однако, как оппозиции известно из достоверных источников, директор уже в течение двух последних месяцев любовником жены субъекта не является, а следовательно, сознательно вводит в заблуждение научную общественность, что совершенно недопустимо, учитывая сверхзадачу приближающегося с каждым днем события. А посему оппозиция решительно требует назначить нового директора, а именно — известнейшего ученого Бушинского-старшего, который не только учился с субъектом в начальной школе, но и сохранил до сих пор самые дружеские отношения…
Игорь Серафимович незаметно вздохнул, стал, не отпуская листочки, глядеть поверх голов в окно, где на открытой форточке сидела, в приемную заглядывая, желто-синяя птичка. Синица. Какое-то легкое недоумение теперь связало ее и Игоря Серафимовича, скорей всего, именно поэтому, именно эта несущественность и удерживала теперь чуткую птаху, потому что форточка слегка покачивалась под ветерком, сидеть на ней было трудновато. Но синица не улетала, все в форточку заглядывала: это почему же так много людей с разноцветными папками замерли перед одним без папки? Но зато с бумажными листочками, свисающими на грудь вроде бороды. Игорь же Серафимович, рассеянно следя за слабенькой бодренькой птичкой, думал о Бушинском-старшем и в конце концов признал, что ход с его стороны неплохой, то есть хоть, разумеется, слабенький, но вполне по-птичьи бодренький, в общем, желто-синий. На зеленый конечно же не тянет. И, с легкостью отпустив вторую группу оппозиции, пообещав, как и первой, самым серьезным образом во всем разобраться, прошел в кабинет и сразу стал звонить мэнээсу Скачкову:
— Скачи, Скачков! И чтоб через полчаса мне был тут как штык! Понял?!
Скачкову дал на первый раз несложное задание — посетить Бушинских, поглядеть, послушать, может, о чем-то, касающемся Эксперимента, и проговорятся. Когда? Да денька через три.
— И это все? — разочарованно спросил мэнээс Скачков, которому очень хотелось, идя на задание, с головой окунуться во что-то неизмеримо более хитроумное, сложное, может быть, даже где-то и опасное, но не очень опасное, разумеется, хотя, конечно, и хотелось, чтоб там были всяческие тайны, пароль, шифр, яд, клятва на крови и роковая, само собой разумеется, женщина. А то, кроме этой примитивной Зинки-аптекарши, мэнээс Скачков никакой другой за всю жизнь так и не узнал… ну а тут всего-то — сходить к Бушикам, послушать, потому и вырвалось у него:
— И это все?
— Все, — пожав плечами, сказал Игорь Серафимович, но, разглядев на заострившемся от обиды лице все мэнээсовские мысли, добавил: — Ладно, вот еще одно задание, посложнее. Дом тринадцать на проспекте Свободы знаешь?
— Найду! — с готовностью воскликнул мэнээс Скачков, так и рванулся узкой грудкой вперед.
— Там перед домом всего один подъезд, одно крыльцо, а перед входом слева фонарь на чугунном цоколе, и вот на цоколе, с той стороны, что к дому, сантиметрах в десяти от асфальта есть что-то вроде выключателя, прямоугольная такая коробочка пластмассовая… она несколько отошла от горизонтального положения… короче, подслушивающий аппарат второй день молчит, секешь?
— Секу! — прошептал мэнээс Скачков.
— Так вот, будь добр, пойди и поставь ее горизонтально.
— Сделаю! — срывающимся голосом заверил мэнээс Скачков. — Все сделаю!
— Ну, ну, ну… только уж постарайся, братец, не переусердствовать, незаметно подойди, монету там на землю урони, что ли, или, скажем, шнурок у тебя развязался, может же такое быть, ну ты и нагнулся, а?
— Да у меня они, Игорь Серафимович, и так всегда развязаны, прямо не знаю, что и делать! Шелковые, что ли… — Обрадованный мэнээс уже собирался было, задрав штанину, продемонстрировать свои шелковые шнурочки, но Игорь Серафимович с улыбкой замахал руками, мол, иди, иди уж, братец, и без тебя тут дел по горло…
VII
А потолок все не поддавался. По вечерам мэнээс Скачков заново промывал его, сдирал грунтовку и с омерзением швырял ее в левый угол, отчего там уже выросла полутораметровая горка. Промыв до небесной голубизны, белил заново. Белил с купоросом и без купороса, белил с синькой и без синьки, но всякий раз, возвращаясь вечером из Центра, находил потолок до того неприглядным, нелепым, низким, каким-то угрожающим, что тут же переодевался и начинал смывать, вернее, сдирать всю побелку. «Каких-то веществ, — думал мэнээс Скачков, — не хватает. Но ведь, кажется, всё перепробовал. — Может, каких-то веществ, — думал он, отупевший от беспрестанного задирания головы, — во мне самом не хватает?»
В понедельник, в связи с профсоюзной конференцией Центра, мэнээс Скачков поехал к себе в институт. За его отсутствие в отделе мало что изменилось — вместо двух старых арифмометров теперь стояла новая счетная машинка, да еще Бушика шеф подвел под статью о несоответствии, и теперь старшему инженеру Бушинскому, боясь увольнения по столь неприятной статье, самому приходится подать заявление «по собственному желанию». Стремительному взлету мэнээса Скачкова все завидовали и поэтому не разговаривали с ним. Чему он был даже рад, сидел у себя за столом и проверял последние таблицы в своем докладе на конференции молодых ученых, которая должна была состояться сразу после Большого Эксперимента. Правда, теперь все это, вполне возможно, и не понадобится больше ему. Да, скорее всего, конечно же не понадобится! Ведь все, так или иначе связанные с Центром, синюшником как минимум обеспечены. Так что, считай, кандидатская в кармане. Тогда на черта, скажите, ему эта конференция молодых? Когда он и без нее после Эксперимента сразу же сравняется с завсектором Клавдией Семеновной. Вон она, как ведьма, и так бросает на него взгляды, полные нескрываемого отвращения, и даже назвала раза два-три, правда, не прямо к нему обращаясь, а косвенно, как бы вскользь, обозвала не как обычно — мэнээс, а очень близко к майонезу. Ничего-о… мэнээс Скачков все стерпит, все выдержит, кошка дождется мышки. Стиснул зубы и не поддался на провокацию, и вскоре в комнате возобновился обычный разговор.
— Ученого совета не будет, — сказала Клавдия Семеновна, — Бушинский же подал заявление об увольнении, чего ж его теперь разбирать на ученом совете?
— Да нет, — ей возражала Светлана Герасимовна, — совет будет, ведь сегодня две защиты, а потом, может быть, его заявление — ход конем? Бушик подает заявление, шеф его подписывает, на ученый совет его не тащат разбирать, а через две недели он заявление забирает, скажет, что ничего с трудоустройством не получилось.
— А они совет тогда снова соберут.
— А он снова что-нибудь придумает. Что ты, не знаешь Бушика?
— Да знаю, десять лет за него все отчеты переписываю, и все-таки жалко как-то, я даже расстроилась, когда узнала, что будут разбирать о его несоответствии.
— Должна тебе сказать, что сейчас устроиться на работу не так-то просто, я имею в виду — на двести с гаком.
— Но у него же папа.
— А я тебе скажу — когда Бушик кончил институт, он работал полтора месяца слесарем и папа ему не помогал.
— А все же жалко его, какой никакой, а все ж свой.
— Вреда не делал. — Клавдия Семеновна опять бросила взгляд, полный отвращения, на мэнээса Скачкова. — Не то что некоторые. Сидел себе в углу, копался. Какого еще взамен теперь дадут?
— Теперь шеф следующую жертву, наверное, ищет, только вот кого?!
— Я думаю, больше не тронет, все ж на наших костях он и докторскую сделал, и третье место по институту. А самое главное, знаешь пословицу: «Свекровь кошку бьет — невестке знак дает»?
— Ну и-и?
— Ну ты как маленькая, Света! Папа Буш возглавляет же левое крыло оппозиции, те его в директора прочат, а эти ему небольшую подножку — сынка с позором из нашей шараги турнули. Это значит, чтоб папа Буш не очень-то зарывался. А то ведь можно его самого… того…
— А ка-ак?
— Ну как, как? Вообще-то можно и сам ВАК вместе с папой Бушем разогнать.
— Ну-у, на это они не пойдут!
— А я тебе говорю: если надо, теперь они на все пойдут! У них вся жизнь на этот Эксперимент поставлена. И самую черную работу будет, как всегда, наш шеф делать.
— Мне бы к шефу хоть разок в квартиру попасть, я бы сразу определила, как человек живет.
— Ша-а! Он!!
Шеф, зайдя к себе в кабинет за тонкой перегородкой, сразу стал звонить директору института.
— Ну что, — почти не приглушая голоса, он говорил, — мы можем друг друга поздравить? Да-да, через полчасика, наверное, к вам зайдет с заявлением, да-да, как мы и предполагали. Я не думаю, что это ход конем, но вы все же посмотрите там. Ну есть… ну добро… ладно… в преддверии Эксперимента… Да-да… почистим, почистим… Да вот же с Бушинского и начали уже… Ну, я понимаю, естественно, что все это глубже… ну есть… В десять на совете. Да, я не сообщил вам, там ведь какие-то еще оппозиционеры появились, предлагают свое представительство на наше место в синюшнике… Да не левые и не правые, этих-то мы хорошо знаем, а нечто размазанное между ними… ну, либералы, типичные либералы… Да-да, я понимаю, чьих рук это дело… хотя он, понятно, как всегда, в тени. Нам надо будет вдвоем зайти в Центр, да-да, к самому Игорю Серафимовичу… И все, конечно, будет в порядке… Он же в курсе всего… Да, я также думаю, что судьба сына должна чему-то научить и папу Буша, нет? Колода? Ну-ну… Подписи его, естественно, нет, но я почти уверен — это его команда работу состряпала… Да-да, эти либеральчики уже и программку состряпали, вот она — у меня на столе… его команда… Я их всех знаю как облупленных… еще по студенчеству… да-да, альма-матер, как говорится… Программа? По существу, для представительства в синюшнике — очень-очень слабая, на желтяк едва ли потянет. Ну а формально, чтоб не вступать с ними в ненужные конфликты, можно ответить, что просто-напросто не по профилю нашего института… а в другой им соваться поздно, заявки уже прекратили брать… Да-да, мне кажется, не стоит с ними конфликтовать по этой части. В части предстоящего Эксперимента их программа — просто набор фраз, но нам не стоит впадать в существо ее. Я хочу полстрочки написать, ответить, что она интересна и тэ дэ и тэ пэ, но абсолютно не соответствует нашему направлению работ в части предстоящего Эксперимента. И поставить большую жирную точку. Да-да, я понимаю, кто давит — большой человек. Ну… добро, ну есть… ну, на совете обговорим все в деталях… К ученому секретарю зайти сначала? А уж потом соваться к первому заму? Ну есть… ну добро… сейчас и зайду, всё… отбой…
После ухода шефа возобновились разговоры, пришла Валя-машинистка, была в бухгалтерии, оказывается.
— В плановом две сидят симпатичные, — затараторила, лишь войдя в комнату, — а те, в бухгалтерии, как огрызы, правда, в кадрах еще одна ничего, прямо на редкость, а эти, в бухгалтерии, — как огрызы.
— Набрасываешься ты, Валя, на всех, — с мягким укором сказала ей Клавдия Семеновна.
— Я набрасываюсь? Скажете еще тоже! Мы просто пришли и стоим, а они — ка-ак набросятся! Откуда их только взяли? Из милиции, что ли?
— Наш Бушик уже подал заявление, — сказала со вздохом Светлана Герасимовна.
— Бедненький, — ахнула Валя, — всё ж загнали беднягу прикрай свету, в нос бы ему дал… старыку!
— Валя, — с мягкой укоризной сказала Клавдия Семеновна, — фу, как ты говоришь на шефа — старык!
— Пусть он на пенсию уходит, домой бы меня печатать отпустил, было б совсем исключительно! А то на днях пришла отпрашиваться, так сразу весь скривился, весь закобенился — кобник чертов! А-а-а-пчхи! Извините, это Светлана Герасимовна меня заразила, ходят тут с гриппом. А вы знаете, — понизила голос, — перед самым уходом обязательно что-нибудь занесет печатать, старык!
— Ну ты и чертовка, Валя!
— Ваша правда, тетенька.
Зазвонил телефон, Клавдия Семеновна взяла трубку, женский голос протараторил:
— За рецензию на отчет по теме «НП—050/26. Разработка математических методов решения типовых медицинских задач здравоохранения» вы получили шестьдесят рублей?
— Шестьдесят рублей? — переспросила Клавдия Семеновна. — Нет-нет, не получили еще.
— Деньги вам перечислены, справляйтесь в бухгалтерии.
Гудки.
— Слышь, — толкнула Валя Светлану Герасимовну, — за две страницы какой-то рецензии — я сама печатала — шестьдесят рублей! Мой-то за шестьдесят вкалывает полмесяца..
— Он же у тебя, Валя, шофером — двести получает!
— Хорошо вам, Светлана Герасимовна, чужие считать! Я ж не про основную работу говорю, а про совмещение…
— Двести шестьдесят! А я, старший инженер, слезы имею…
— И все равно денег до получки нет, может, займете, платьишко дочке купить?
— Что?
— Платьишко, говорю, купить козочке своей, рыбочке.
— Ты ведь, Валя, квартальную отхватила.
— Премию-то? Толку чуть.
— Не болтала б, была б и премия больше.
— Да у меня и так производительность будь здоров! Двести процентов, да, Клавдия Семеновна? Нет?
Тут зашли к ним из другой комнаты Феликс и Володя — старшие научные сотрудники, хотели кое-что обговорить в связи с приближением праздников. Увидев мэнээса Скачкова, Феликс пожал ему вяло руку и кисловато сказал:
— Растешь, растешь, старик!
Володя ж просто по плечу потрепал и сказал:
— Ну-ну…
И больше уж к нему не обращались, словно его здесь и не было.
— Клавдия Семеновна, местком выделил по два рубля женщинам на подарки, мы в оргсекторе по проведению мероприятия, — что вам купить? Пудреницу или нож с вилкой?
— Не надо мне пудреницы, — подумав, сказала Клавдия Семеновна, — не надо мне ножа с вилкой.
— А чулки? — спросил Володя. — Если вы пятьдесят копеек добавите, можно чулки.
— Со швом!
— Со швом.
— Нет, — подумав, сказала Клавдия Семеновна, — и чулки мне не надо.
— А что же тогда?
— Думаю… ах, Валя, как ты со своей машинкой на мозги стучишь!
— Неправда ваша, тетенька.
— За полдня из-за тебя полстранички не написала.
— Скажете прямо, Клавдия Семеновна, прямо даже стыдно слушать.
— О господи! Да неужто все же надо за работу браться! — воскликнула Светлана Герасимовна.
— Обед же скоро, вот еще… браться…
— Клавдия Семеновна, а может, вам статуэтку деревянную?
— Не надо, не хочу захламлять квартиру.
— Ну что же тогда, что можно купить за два рубля?
— Думаю. Не видишь, что ли? — ду-ма-ю… Ладно, Феликс, так и быть, пойду тебе навстречу, я вот купила себе духи за пять, давай твои два рубля, я как будто добавлю трешку, и будет, словно это вы мне купили подарок в женский день, а?
— Вот и ладненько, Клавдия Семеновна, выручили! С чистой совестью теперь можно и на конференцию.
— Свет, а Свет, — спросила Валя, — а за кого голосуем-то?
— Не знаю.
— А во что выбираем-то?
— Не знаю. Я одно знаю: худо ль бедно ль, а я вытянула с тебя в черную кассу за четыре дня восемьдесят копеек.
— А что? По двадцать копеек вроде бы и незаметно, а за полгода, глядишь, и тридцать шесть рубликов наберется.
— А за год, — сказала Клавдия Семеновна, — семьдесят два, уже можно какую-то вещь купить, нет, все ж хорошая вещь эта черная касса! Что сегодня на обед придумаем? Валь, а ведь твоя очередь кастрюльку мыть…
Мэнээс Скачков сидел, слушал разговоры и не мог не сравнивать то, что здесь, с тем, что там, куда так неожиданно забросила его судьба. Как все здесь тускло, все так обыденно, всё те же пошлые разговоры… Ровно с началом обеденного перерыва он встал, оделся и молча покинул комнату. Да его на этот раз и не приглашали к обычному совместному обеду, что издавна практиковалось сотрудниками отдела.
Можно сказать, впервые за много лет мэнээс Скачков в обед вышел из института. После дождя на голых ветках остались капли, и, когда солнце осветило их, они ярко заблестели. Мэнээсу Скачкову показалось на один миг, что по мановению волшебной палочки дождь не долетел до земли, остановился. У него даже сердце слегка ускорило свой бег, мэнээс наверх глянул: на березах гроздьями вороньи гнезда, шум, гам, взбудораженность — цыганский табор. Холодок взбудораженности проникал в душу, мэнээс Скачков пошел куда глаза глядят. Он оказался минут через десять возле маленькой действующей церквушки, расположившейся удобно на выходе из парка. Разгуливали теплые голуби на белых каменных плитах, спокойно спали на лавках богомолки, пришедшие издалека. Какой-то праздник был, по-видимому. Мэнээс Скачков признавал лишь те официальные праздники, когда не надо было идти на работу. И очень расстраивался, когда такой праздник изредка совпадал с субботой или воскресеньем. Тогда он как бы и не считал его за праздник, ведь в субботу и в воскресенье и так идти никуда не надо. А тут — рабочий день, а все ж на душе как-то празднично, возвышенно, грудь теснит что-то, томит…
Нищий, стоящий перед входом, собирал мелочь в длинный чулок, набрал уже порядочно, держать на весу было тяжело, положил рядом. Мэнээс Скачков постоял, поглядел на нищего с таким странным тяжелым чулком и зачем-то вошел внутрь церкви. Маленький сухонький мужичок аккуратно сложил в угол сапоги и ватник, надел легкие чистые тапочки и стал бить поклоны. Крестился, царапая щипками свой лоб. Минут через пятнадцать поклоны сделали, по-видимому, свое дело. В лице у мужичка появилось выражение благостности, довольства, умиротворенности. Поднимаясь после поклона, он потирал быстро ручки, словно бы мыл их с мылом, и после тщательно приглаживал нервным движением жиденькие волосы на голове. А на лбу, в самом центре, разгорался словно какой-то жуткий третий глаз. Красивая монашенка, вся в черном, зажигала тонкие свечи, слабый отблеск с неожиданной резкостью высветил матовую, гладкую, чуть ввалившуюся щеку. Мэнээс Скачков вспомнил Зинку-аптекаршу и, на часы глянув, поспешил из церкви.
* * *
Открыл ему здоровенный кудрявый мужик, пах тот мужик табаком и водкой, луком и селедкой, еще чем-то неизвестным мэнээсу Скачкову. Порога дальше не пустил, грубо рявкнул, что Зинаиды Егоровны нет и больше не будет.
— Кто там, Лелька? — успел услышать мэнээс Зинкин протяжный голос из дальней комнаты.
Дверь с силой захлопнулась, едва не отдавив ему ногу.
— Архаровец! — не слишком громко обозвал мужика мэнээс. Делать было нечего, надо было ехать на большой ученый совет, после обеда — две защиты, мэнээс Скачков старается не пропускать защиты, привыкает. Впрочем, возможно, это теперь и не понадобится. Затрепетало сердце. Надо бы постучать по дереву, чтоб не сглазить. Председательствовать на защите сегодня будет первый зам, и лишний раз ему на глаза попасться — никогда ведь это нелишне.
* * *
Когда Игорь Серафимович вошел в Большой зал заседаний, там уже толпился народ. Со многими здороваясь, с кем за руку, с кем кивком, он прошел к столу, застеленному толстым зеленым сукном. К своему месту в центре. Сел и энергично потер руки, веселым цепким взглядом выхватывая какие-то детали, закладывая их в мозговые ячейки, которые привычно включались уже.
Диссертантка, молодящаяся сорокалетняя, высокая, стройная, в строгом сером костюме, с прической, соответствующей торжественной строгости главного момента жизни, — всё, всё продумано, вплоть до серебряного молоточка, которым забивала кнопки в таблицы, развешивая их по стенам. Руки у нее сильно дрожали, ей помогали два мальчика — мэнээсы. С нервным смешком щебетала соискательница:
— А я потеряла свой доклад, потеряла… потеряла…
— Ты посиди, посиди, — успокаивал ее мэнээс слева.
— А то у тебя вид испуганный, — добавил мэнээс справа.
— Ты где кандидатский по языку толкала? — спросил мэнээс слева. — В инязе?
— Ты что, там же давно разогнали их шарагу.
— Ты по бумажке говорить будешь? — спросил мэнээс справа.
— Что ты, наизусть, конечно, вчера последний раз прорепетировала перед зеркалом, муж время засекал.
— Вложилась?
— Тютелька в тютельку.
Без пяти два все заняли свои места, ученый секретарь Ледин позвонил в колокольчик и, когда все стихло, скороговоркой зачитал тему диссертации. После этого рабочий секретарь по защите так же скороговоркой, словно соревнуясь с Лединым, зачитал данные о соискательнице. И вот вышла она сама, вздохнула отчетливо в наступившей тишине и начала:
— В соответствии с последними указаниями Центра по проблеме… номер такой-то… — В конце каждой фразы голос ее падал почти до шепота. — Мы отмечаем… мы рассчитали эффект… мы считаем… мы… мы… мы… — Наконец сказала в единственном числе: — У меня всё… уф!
Действительно, уложилась в двадцать минут, Игорь Серафимович на часы поглядел, тютелька в тютельку, один — ноль уже в ее пользу. Держится скромно и в то же время с достоинством.
— У меня вопрос, — поднялся ехидный старик Суховер.
Ну вот, уже и заикается после вопроса Суховера, плавает, а вот и совсем умолкла. Игорю Серафимовичу сделалось немножко даже жаль ее, он энергично поглядел в зал, кто-то ж должен выручить, ну да — вон Феликс тянет руку, просветлело лицо диссертантки, наверняка заранее договорились, значит, полный порядок. Игорь Серафимович вернулся к листочку, что лежал перед ним — бездумно почеркивал на листочке, — то елочки выходили, то палочки, то снежинки, а то и вообще невесть что — разлапистое, раскинувшееся, не то куст, не то дерево, под плодами согнувшееся.
— Как вы рассчитали экономический эффект данного метода?
— Это по таблице восемь? Да? — Не скрывая, что обрадовалась вопросу, соискательница стремительно пошла к таблице восемь.
— Да-да, — подтвердил Феликс, садясь на место, — она.
Соискательница бодро рассказала об эффекте работы.
— Что? Больше нет вопросов к соискательнице? — спросил рабочий секретарь. — Тогда прочтем отзывы от ведущих организаций. — И стал читать… пятьдесят четыре отзыва.
«Ого! Пятьдесят четыре, вот постаралась!» — Игорь Серафимович не без уважения глянул на бледное лицо соискательницы.
Затем выступил оппонент.
— Диссертантка Анна Филипповна… э-э-э… м-м-м… — Читает тихо, неразборчиво, путаясь.
«Это собственный-то отзыв!» — Игорь Серафимович слегка морщится, покашливает. Оппонент в тех местах, где совсем уж ничего не может разобрать, кряхтит с натугою, тоскливо взглядывает на диссертантку, мол, не могла дать экземплярчик поразборчивее. А та — на него: не мог разве хоть разок пробежать глазами, пока на такси ехал сюда на защиту?
Игорь Серафимович свел брови на переносице, глянул на оппонента построже, когда у того голос вдруг сорвался до фальцета и совсем на шепот перешел. Ну, шепотом ему теперь легче. И все ж было страшновато — дочитает ли до конца. Оппонент дочитал, вытер пот и, складывая бумажку, последнюю фразу, от долгого употребления заученную наизусть, уже сказал внятно и глядя в зал:
— Все сделанные выше замечания ни в коей мере не умаляют ценности работы, проделанной уважаемой… э-э-э… — Хорошо, что бумажка еще в руке, быстро заглянул: — Уважаемой Анной Филипповной… Она по праву заслуживает присуждения степени кандидата медицинских наук.
Вторая защита совершенно не отличалась от первой, хотя Абраму Соломоновичу из Геленджика было далеко за шестьдесят и был он рыж, коренаст, выглядел вообще молодцом. С этим наверняка будет все в порядке. Игорь Серафимович рассеянно все почеркивал да почеркивал на листочке, получалось странное нечто. И это нечто, разлапистое, раскинувшееся, то ли на куст, то ли на дерево, тяжелыми плодами согнутое, похожее, теперь, к концу второй защиты, вообще во что-то непонятно-мощное превратилось. Игорь Серафимович очнулся, с интересом всмотрелся в листочек и вздрогнул — вроде бы рожающую женщину теперь рисунок напоминал отдаленно… черт-те что! Игорь Серафимович никогда не видел рожающих женщин, он осторожно глянул по сторонам, листочек прикрывая. И двумя-тремя штрихами придал вид вполне пристойный, теперь буква «Ж» получилась. На цветок живописный, заветный похожая.
Потом Игорь Серафимович перекусил в кафе и на профсоюзную поехал конференцию, в Центр. Сидел еще два с половиной часа в президиуме, умело слушал, то есть как под наркозом, почти не реагируя на бессмысленное:
— …Предлагаю во главу угла положить наконец работу головного института… дабы основное обязательство совпадало с главным…
— …Предлагаю добиться полного охвата молодежи профсоюзом!
Слушал, в слова не вникая, разумеется, как выступающие, во-первых, присоединялись в своих выступлениях ко всему сказанному выше. Во-вторых, изо всех сил старались что-то свое добавить. А трудно добавить, почти что и нечего. И все ж кто-то, поднатужившись, нашел-таки:
— Предлагаю усилить не только трудовую дисциплину, но и про-из-вод-ственную!!»
Какой молодец! Это из какого ж института? Ах, да это Скачков-мэнээс. Ай да мэнээс! Ну-ну: чуть подтолкни такого, дальше он сам покатит, не остановишь. Значит, и в отделе, и в институте уже отреагировали на то, что их мэнээс в Центре очутился, уже на профконференцию направили — оперативные, однако, ребята.
Впрочем, не помешает и самому Игорю Серафимовичу к такому кадру получше присмотреться, не случайное поручать, а включить в саму систему, в ее естественное функционирование. Надо лишь ему, Игорю Серафимовичу, прикинуть: нужный ли мэнээс Скачков винтик? И если да, — включить немедленно.
Облокотившись и прикрыв лицо ладонью, первый зам постарался расслабиться и ни о чем не думать. Тренированный ум неплохо подчинялся: почти ничего из того, что говорилось с трибуны, не доносилось до Игоря Серафимовича. Но странно: чем дальше он удалялся от конкретных мыслей, тем ощутимее и трезвее вставало то, что так общо сейчас именуется — «наука». Окружало словно что-то.
Что же такое она сейчас? Вот вопрос из вопросов. Почему направление за направлением неизбежно подходит к своему тупику? Случайно или чей-то злой умысел — вот так тыкать ученых достойных мужей, как слепых котят. Ну не насмешка ли это, затратив за сотни лет науки колоссальные средства и усилия, прийти наконец к пониманию — к научному пониманию! — окружающего мира как уже давно известного во всех мифах! Что вообще творится тогда в науке? Какая цель ее? Зачем все это?! Понарошку? Сумасшествие своего рода? Запланированный кем-то обман?.. И тогда действительно без таких прохиндеев, как этот Скачков-мэнээс, — никуда? Ну нет, тут же одернул он себя, это просто перегрузился в последнее время работой, перенапрягся, в лес давно не выбирался, вот и стали нервишки пошаливать, еще, чего доброго, и мигрень приключится. Нет-нет — с наукой все в порядке! В конце концов, существует же такая объективная реальность, как соботка — событие века — Эксперимент, Со-бытие, — на которое впервые соберутся все ученые мира, в свой дом родной — Научный Центр… Да-да — грандиозное событие ожидается, ну а по-домашнему, среди своих, — просто соботка. И тогда торжественно проведут они все вместе Большой Эксперимент, который и вернет все на круги своя: науке — вернет науку, ну а Игорю Серафимовичу, наверное, — слегка пошатнувшийся смысл окружающей естественности.
Да, Эксперимент — вожделенная область его постоянных раздумий. Порой, когда уж очень размечтается о нем, вот как сейчас, некий сновиденческий привкус появляется в тех мечтаниях. Нет-нет — никаких снов! Игорь Серафимович торопливо вынул записную книжечку, раскрыл на странице, где схематически были изображены весы в виде качелей. И снял с левой половины качелей очередной квадратик с буковкой «Д» (директор, значит), отчего правая часть качелей пониже опустилась. Над квадратиком «М» (Мария, значит) поставил вопросик, с ней не все было ясно. Тамару Сергеевну можно несколько подправить, как-то обратить ее внимание на собственного мужа, у которого уже неделю она не была. Да, кстати, к ней приехал племянник, это тоже должно ее частично занять. Да, по-видимому, она сама в тень отойдет, не придется прибегать к помощи Марии. Игорь Серафимович не без сомнения, правда, снял с левого рычага весов Тамару Сергеевну, отчего рычаг правый еще ниже к земле опустился. «Да-а», — вздохнул первый зам. Задачка со многими неизвестными, пожалуй, Скачкова в зеленку официально надо переводить, то есть, где можно, заранее соломки постелить. Та-акое дело!! А собственно, как сам-то Эксперимент движется? С этими заседаниями, собраниями Игорь Серафимович несколько отошел в сторону, а это не годится. Он постоянно должен быть в курсе всего. Физиологи утверждают, что их датчики зафиксировали точки с пониженной температурой у Ивана Федоровича не только на лице, но уже и на ногах. На ногах даже более выраженные, уже подтверждаются нарождающимися язвочками. Психологи тоже на подъеме — случайный приступ ревности у субъекта повторился, вроде бы и здесь намечается какая-то периодичность этих приступов. Но можно ли сделать окончательный вывод о первой, так сказать, ласточке, как они сообщают, о первой душевной трещинке? Ах, как хотелось первому заму сразу два квадратика дорисовать на второй чаше весов, еще ее к земле пригнуть побольше, но понимал, что имеет дело с наукой, то есть, попросту говоря, с учеными. И не то что боялся фальсификации какой-то, нет, — но уж до того много у всех у них связано надежд с этим Экспериментом, до того все ждут стремительного ускорения событий, что вполне возможно выдавание желаемого за действительное. Слаб человек! Но первый-то зам, по крайней мере, себе никак не может этого позволить, никак! Его задача ощущать естественность всего сущего, поменьше вмешиваться. Ну и, конечно, подправлять всех тех, кто по невежеству или из корыстных соображений выбивается из этого естественного хода событий. И поэтому справедливее будет, если вместо двух квадратиков добавит сейчас он только один. Поменьше он рычаг, естественно, пригнет, но понадежнее зато. Так он и сделал.
А кроме того, мелькнувшая мысль о справедливости вообще вывела его на конкретность, то есть к самому субъекту Эксперимента — Ивану Федоровичу. Дорисовывая один квадратик вместо двух, первый зам с каким-то хорошим чувством подумал об Иване Федоровиче. Все-таки два квадратика было бы несправедливо по отношению к нему как к человеку. А один — это честно. Лично Ивану Федоровичу первый зам никак не хотел бы принести хоть крупицу несправедливого зла. Ну а против зла справедливого — тут уж ничего не поделаешь. Науку следует делать стерильно чистыми руками — аксиома. В этом деле чрезвычайно важно было ему, Эксперимент проводящему, соседствовать на каких-то близких с Иваном Федоровичем уровнях. Лишь бы только до конца выдержать это чуткое равновесие не всегда уловимой справедливости… Вот же, чуть-чуть не поддался слабости, чуть-чуть не дорисовал сразу два квадратика — так ведь хотелось! — а нельзя! Не имеет права первый зам на это!
* * *
И все же первый зам мог смело ставить два квадратика, ибо в это же время Иван Федорович у себя в палате рассматривал язву на большом пальце ноги, помешавшую сегодня перенести коробок. А может, и не совсем язва помешала, а просто не успел, уже проснулась больница, а Ивану Федоровичу после вчерашнего свидания с Марией было трудно поднять на людей глаза. Накричал вчера, обозвал, выгнал и вдогонку крикнул какую-то гадость. И еще долго выворачивало его после ухода плачущей жены, выворачивало, корчило и собачило от одного только вида жены, от одного только воспоминания. Всеми клетками вдруг ощутил он физиологию свою и ужаснулся от омерзения. Так вот оно что такое — ревность! Плевался, мыл руки с остервенением, старался не дышать тем воздухом, которым пять минут она дышала, и чувствовал, что вернись она — разорвал бы в клочья. Или презрительно б плюнул с двух шагов, чтоб рук не марать.
С тоской и тяжестью в затылке теперь думал, что из-за бессонной ночи к утру только забылся и проспал предрассветные облака. Поэтому, наверное, день начался смутно, неуверенно, из палаты выходить не хотелось. Вот и придумал занятие — рассматривать на большом пальце маленькую язвочку, впрочем, действительно мешавшую при ходьбе. А вспоминал при этом, когда же началось в нем это жадное, лихорадочное какое-то ощущение собственной физиологии. Недели с две тому назад, когда так страстно, к удивлению обоих супругов, он обнимал свою Марию? Чувствуя впервые ее вот так — всю-всю. С запахами, с дыханием, полузвуками, неравномерностью какой-то восхитительной упруго-гибких и нежно-мягких частей ее тела, с горьковатостью волос, которых касался он губами, с ее дрожью, гулкими ударами сердца под его руками… Да нет, скорее всего, началось все много раньше: как попал сюда, сразу. Помнится сон тогда.
Словно бы видит он Марию опять молодую, красивую, какой впервые встретилась она. И вроде бы на ней яркий спортивный костюм, так хорошо подчеркивающий длинные красивые ноги. Тем более — сидит она на санках, широко раскинув ноги в обтягивающих брюках. И смеется, и откидывается, готовая вот-вот начать с горки стремительный спуск вниз. А сзади нее кто-то мужского пола то ли обнимает, то ли подталкивает к спуску. Вроде как это делают тренеры на санных соревнованиях. Вообще-то у Ивана Федоровича как будто б и нет никаких оснований для беспокойства. Тем более кругом столько празднично нарядных людей, да-да, пожалуй, это спортивный праздник. По-видимому, и еще кого-то так же готовят к спуску с горки. Вот только эти красивые длинные ноги Марии, в каком-то они звенящем напряжении. Звенящее — это, скорее, к душе Ивана Федоровича должно относиться, а ноги как ноги — красивые, длинные, в обтягивающих брюках… только вот раскинуты они странно так… Но почему странно? — просто санки между ними и-и… этот — сзади Марии, не то обнимающий ее, не то просто готовящий к спуску. Вот и весь сон.
Но вот с этого сна что-то звенящее и осталось в Иване Федоровиче, уже невольно воспринимал он и наяву Марию такой, какой во сне впервые так странно узрел — на санках быстрых с раскинутыми ногами. Теперь почти постоянно он чувствовал то оскорбляющее его томление, что было наверняка в этих напряженно-широко распахнутых ногах. Все закипало в нем от этого, вскипать начинал какой-то грязевой вулкан, какая-то медвежья хватка появлялась. Да-да — вспыхивало по отношению к Марии такое, что лучше уж ей действительно не приходить. А главное — ну что изменилось? Может, только сейчас узнал он всю правду? Увы, увы… Или, может, любит меньше свою Марию? Пожалуй, нет, но… но только такая любовь — это уже как перехваченное горло: вот-вот разорвет или задушит.
«Что изменилось? — задавал себе бесконечный вопрос Иван Федорович, — что изменилось?» Пришло на ум высказывание знаменитого медицинского генетика Жером Лежена: «Есть кроме логики и другой закон жизни — доброта, пришедшая к нам из дали веков, неизъяснимое чувство, которое объединяет всех живущих. Ибо то, что доступно детям, о чем грезят поэты, влюбленные и страстотерпцы — это ведь и наше наследство, не станем им пренебрегать». Всю жизнь прожил Иван Федорович по этому разумению, вся жизнь прошла с этим неизъяснимым чувством доброты, которое тянулось откуда-то из сырых туманных далей, разделивших мир на живое и неживое. Само его открытие не могло б свершиться без этого постоянного ощущения сверхчувственной, или, лучше, надчувственной доброты, которой был пронизан мир вокруг Ивана Федоровича. Пронизан невидимыми силовыми линиями родства и взаимной симпатии друг к другу. Глеб… Мария… что б ни происходило, ход вещей вокруг был подчинен незыблемо этому закону взаимной симпатии. Собственное тело, какие-то естественные потребности — все занимало в этой формуле симпатического мира раз и навсегда обусловленное место. Долгие годы вынашивал, оберегал Иван Федорович это равновесие с самим собой, понимал, что без него невозможно проникнуть дальше других.
И вот проник, исполнил собственное предопределение и теперь, подобно осьминогу, оставившему потомство, стал неудержимо стареть, стремительно приближаясь к концу. Стал старым жителем старого мира сего и… поразился. Чему? Помнится, много лет тому назад, в кустах притаившись, увидел выходящую из моря средних лет женщину. И вот так же поразился. Как прекрасна, как безобразна была она! И все-таки больше прекрасна!
Потом это все надолго исчезло, была Мария, была война, в которой уцелел. Уцелел, чтоб стать ученым, и стал ученым, и сделал главное свое дело. А теперь пошел стремительно на убыль. И словно снова из-за кустов украдкою увидел, как все вокруг прекрасно и безобразно. И все-таки больше прекрасно, чем безобразно. Только вот Марию теперь зачем-то хотелось страстно мять, тискать, бить, ломать… может быть, и совсем убить… или нет — лучше презрением, ядом слов, капканами логических построений истязать и мучить. О-о-о! — как сжимаются кулаки и губы синеют у Ивана Федоровича. Он вглядывается в зеркало, этот белесый взгляд его пугает — и он отшатывается. Он вспоминает все то хорошее, что получал долгие годы от Марии. Да-да, он очень многим ей обязан: рубашки, воротнички, вовремя завтрак, оберегание покоя, да-да… что-то такое дополнительное, вечно присутствующее, успокаивающее постоянно давала Мария.
Но сейчас это как бы выделилось из Марии, сейчас она как бы осталась без всего этого. Это все как бы сейчас стало или могло стать милой, самоотверженной Тамарой Сергеевной, такой доброй, такой славной. А Мария осталась как бы голой совсем, с одним голым вопросом: «Будешь ли ты, Мария, верна мужу своему Ивану во веки веков?» — «Буду…» И сразу голое тело покрывается пятнами падали, хочется бросить его оземь, топтать ногами и самому рыдать и выть от боли и надругательства. Но есть, есть кроме логики и другой закон жизни, прав мудрый Жером Лежен — доброта, пришедшая к нам из дали веков, неизъяснимое чувство, до сих пор объединяющее всех живущих… Иван Федорович медленно выдохнул и потер виски, надо остановиться, иначе страшно. Он пощупал лицо, холодные, натянувшиеся, как у вурдалака, губы, — страшно. Страшно и жестоко не пускать теперь ее в больницу. Пусть приходит. Чего уж тут? Теперь уж все равно.
* * *
Зинка-аптекарша стояла посреди комнаты и сладко потягивалась после сна. Стирки — полная ванна, уборки на целый день, соседка дрожжей принесла, надо б бражку мужику поставить. Через плечо глянула на постель, где похрапывал кудрявый Лелька. За сахаром в магазин надо, тараканы развелись, морилкой надо б по всем углам-щелкам пройтись. Она глянула на свое житье-бытье, вообще ремонтик бы не помешал, свежевыструганные плинтуса, что прибил Лелька, теперь выделялись укоризненным обновлением. Зинка посмотрела снова на Лельку и с трудом подавила желание опять нырнуть под одеяло, обнять, прижаться, ощутить в руках сильное мужское тело, гладить, обнимать его, сжимая все сильнее и сильнее, аж до боли чтоб… Она стояла босая, разморенная, зевала, потягивалась, совсем не ощущая на горячем теле шелковую рубашку, подбородком плечо почесывая, видела затылок Лельки и всякий раз испытывала неистребимую нежность к этому человеку.
Пыльный солнечный столб наискосок из окна накрыл всю Зинку как колпаком, и на какой-то момент она потерялась, перевернулась, как песочные часы. Как песочные часы, опять, в который раз уже, начала отсчитывать свое время заново.
В школе класса со второго ей мальчики уже нравились, тянуло к ним, пряталась, подглядывала — как странно они устроены! Вон и Лелька так странно спит без подушки! Класса с пятого уже дома не ночевала иногда Зинка. Разность полюсов непереносимым напряжением в себе все больше ощущала и уже ничего, не могла с собой поделать. А в шестом классе совсем ушла из дома, уже не мальчики — парни притягивали непреодолимо. В детской комнате милиции прописалась надолго. Уже и первого ребенка в Дом малютки забрали у нее, и в специальную школу ее поместили. На юг сбежала, на все лето, уже мужчины нравиться стали — да и то ведь правда: в семнадцать лет уже многоопытной женщиной себя чувствовала. Сыплется неслышно песок в часах… Потом поняла, что дети не для нее. Для нее — мужчины. Которые, в сущности-то, те же дети. Взять хотя бы и Скачкова. Скудный, конечно, человек, а и его жалко, поседел, а ведь ему ж еще нос платочком вытирать надо. Да и этот, что спит сейчас в ее постели — снова с улыбкой оглянулась, — ведь только с виду такой большой да кудрявый-бородатый, а ведь в душе-то дитя дитем, за ним глаз да глаз нужен, как бы чего не натворил.
«Ах, сколько ж их прошло через меня! — думала Зинка. — Сколько ж искр возникло от сближения со мною! Стар и млад со мной мужчиной себя чувствовал. Уж каких юнцов от прыщеватого невроза излечивала! Уж каких старцев с того света возвращала! Вот что такое любовь Зинки-аптекарши! Хорошо ли, плохо ли, — думала Зинка, — но искорки мои в делах больших и малых по всему свету разошлись».
Конечно, между Скачковым и Лелькой дистанция огромная. И по физическим данным, и по душевным. Но Зинка и не собиралась их сравнивать. Ей казалось это смешным, кощунственным даже. Это было все равно как если б Прекрасная Природа по своим дорожкам-тропинкам разрешила б гулять одним только таким же красивым людям, как и сама. И Зинка опять глянула на своего Лельку, но непонятная мысль из нежного лицезрения Лелькиного затылка пробуждалась уже в Зинке, мысль чересчур сложная, тревожная. Да и холодновато было уже босым ногам на полу, солнечное пятно покинуло Зинку, на обои перебралось, осветив их старость, невзрачность, грязноту и тем опять укорив ее словно бы: «Эх, и обои сменить бы!» Но, со вздохом вновь на спящего оглянувшись, все дела отложила Зинка, на кухню пошла — хотя б яичницу-то надо мужику сообразить! Заслужил.
По-видимому, все странности Зинки-аптекарши объяснялись тем, что отца она не знала никогда, только мать.
* * *
После конференции мэнээс Скачков решил навестить старшего инженера Бушинского. После того как шеф в последнее время весьма энергично подводил Бушика к статье о несоответствии своим служебным обязанностям и вот наконец подвел-таки к заявлению по собственному желанию, положение между ним и мэнээсом уравнялось и можно было посетить его теперь на равных. Больше того, имея за пазухой твердую синюху (а там, чем черт не шутит, может, и зеленку!), мэнээс Скачков чувствовал себя, неторопливо подходя к дому ученых, где жил Бушик с папой, так же солидно, как выглядел и этот заветный дом ученых. А дом был солиден — с массивными колоннадами, с атлантами, поддерживающими черепичную крышу.
По-видимому, перемену в Скачкове Бушик-младший сразу заметил, ибо, смутившись, назвал даже раза два на «вы». Он как-то торопливо раздел гостя и почти за руку провел в свою комнату, которую называл несколько игриво светелкой. В комнате тоже (в первые минуты, по крайней мере) не знал, что делать, что говорить. Показал на гобелен на стене и сказал:
— Настоящий — французский. — Вспомнив, что не предложил гостю тапочки, засуетился: — Ты какой размер носишь? — Принес. Скачков надел — удобно, мягко. И Бушик, заметив это, несколько успокоился, раскрепостился как-то. — Хочешь порнографию посмотреть? — на дверь оглянувшись, спросил. — Пока домработница готовит нам обед? Она у нас уже двадцать пять лет, — небрежно добавил и, встав на стул, достал с гардероба большие атласные карты. Женщины с обнаженной грудью, в основном почему-то все некрасивые.
— Откуда? — разочарованно спросил мэнээс Скачков.
— Из Гонконга, пятьдесят рублей… Кому бы загнать? Ты знаешь, там, за столом, отцу не проговорись, что я заявление уже…
— Да ладно, чего там, — успокоил мэнээс Скачков, — не маленький.
Повеселевший Бушик стал крутить транзисторный приемник.
— В это время никогда ничего путного не найдешь. Япония!
— Сколько стоит? — вяло спросил Скачков.
— Мне встал в сто шестьдесят… Кому б загнать, хотя бы за стольник?
Позвали к столу. Покидая комнату, мэнээс Скачков, вздохнув, еще раз окинул ее взглядом — низкая широкая кушетка, покрытая пестрым одеялом, гобелен французский, приемник японский, круглый стол, где в одну кучу свалены порнография, книги по искусству, иконы, «Капитал» Маркса… И вместе с завистью было на этот раз что-то, отчего радостно забилось сердце само собой. Ну как же, ведь по-хозяйски уже приглядывался мэнээс Скачков к этой высокой сфере, вникал, себя уже примерял к такой же вот комнате, которую обязательно будет называть светелкой, и на столе у него вот так же все будет свалено с классической небрежностью — «Капитал», иконки, порнография… Было отчего забиться бедному мэнээсовскому сердцу.
Когда уселись за богато сервированный стол, вышел к ним сам папа Буш. Пузатый, брюки на помочах, с флюсом, уселся и грубовато спросил сына:
— Чего гостю не наливаешь?
— Да я, да мы… — замямлил Бушик-младший, в то же время как-то успевая взглядывать горделиво и на гостя, мол, вон какой пахан у меня — в чинах немалых, а ведь совсем простяк!
— Дарья! — гаркнул папа Буш и тут же схватился за щеку. — Где ты там, черт возьми, неси скорее! — И, взглянув на гостя, добавил: — Двадцать пять лет уже у нас… старуха…
Выпили втроем по рюмке коньяка, настоянного на каких-то вкусных травках. Папа Буш облизнулся и сказал:
— Она у нас молодец, двадцать пять лет уже живет с нами… как своя.
Выпили еще по одной. Папа Буш сказал Скачкову:
— А я тебя, малый, где-то видел.
— Вполне может быть, — с поспешной улыбкой тут же согласился мэнээс Скачков, — я ведь бываю по институтским делам у вас. Ну, не у вас, разумеется, лично, — потупившись, поправился он, — у ваших замов и помов, так что…
— Ну ладно, — тяжеловато поглядев некоторое время в упор на мэнээса, грубовато сказал папа Буш, — пойду-ка прилягу… Зуб, чтоб ему на том свете ни дна ни покрышки! — Косолапо раздвинув с шумом массивные стулья, он встал, вылил остатки коньяка в чашку, плеснул в широко раскрытый рот, пополоскал там, побулькал и без всякого выражения проглотил.
— Видал? — как только стихли папины шаги, оживившись, сказал Бушик-младший.
— Чего это он такой?
— Здравствуйте! ВАК разгоняют, значит, конец синюхе, а тут еще и флюс этот.
— Да-а… дела-делишки… — о своем думая, произнес мэнээс Скачков и поднялся. — Ну, пойду и я, что ли… в родные… извиняюсь, к родным пенатам.
Бушик, нервно позевывая, торопливо подавал в коридоре ему шляпу, шарф, калоши… Мэнээса Скачкова никто даже для видимости не пытался удерживать. Но настроение от этого ничуть не упало. «А что, — думал он, мурлыкая песенку в лифте, — рубль на обед сэкономил, коньяк допит, чего ж еще-то… жаль, конечно, что папа Буш из-за этого флюса мало раскололся, ну, ничего, мэнээс Скачков еще как-нибудь к ним зайдет…»
После пробежавшего по земле дождя, после двух рюмок вкусного коньяка воздух в парке показался мэнээсу Скачкову нежно-сиреневым, слегка дымчатым, а птица, в глубине неслышно взмахнувшая крыльями, радостно поразила размерами — отголоском докатилось бледноватое детское счастье. И сразу вспомнилось, что его рождения никто не хотел. Как всякая пьющая, семья была безалаберна. Дети, в основном девчонки, рождались как-то всё незапланированно и все незаметно как-то рассасывались: кто в Дом малютки, кто в детдом, по каким-то теткам, бабкам. И что удивительно, почти все, как тот репей, за что-то цеплялись, наперекор всему выживали. Но особенно не хотели его — последнего. Сил у матери уже не было, но вот — понесла зачем-то, за пьянками все сроки пропустила, с проклятием рожала. Ну а самое-то главное, коль рожать пришлось, по крайней мере, на девчонку рассчитывала, что постоянно рождались до этого. И тогда можно было пропить спокойно столярную мастерскую, которую оставил умерший как раз накануне его родной папаша. Ну а коль родился сын, то и побоялись пойти против отцовского завещания — столярку не тронули. Только уж слишком громко проклинали его, народившегося, никому не нужного. Да еще теперь и столярку никак не пропить! Короче, одни убытки… да-а… не дай бог никому такого детства… И все же в березово-дымчатых сумерках парка отголосок детского счастья посетил мэнээса. Да не счастья, конечно, какое там счастье в его-то детстве, смешно. Но отголосок веры в счастье, которая наверняка была тогда, а иначе б и не выжил.
Мэнээс все ходил по парку, ходил допоздна. Бездумно забрел в березовую аллею и опять, как по волшебству, очутился в дымчатых сумерках. Неожиданно на ум пришло: «А хорошо все же жить на белом свете!»
Когда ж во втором часу ночи, бездумно напевая:
— Тра-ля-ля-ля… — возвращался по безлюдному переулку, на самом выходе уже на проспект Свободы единственное светящееся окно в большом угловом доме его остановило. В окне стояла женщина спиной к мэнээсу Скачкову, рукой держалась за полураскрытую дверь, словно бы раздумывала, с какой стороны теперь ее закрыть. Остановившись, мэнээс увидел ярко освещенный номер дома, цифру 13 и, вспомнив все, ударил крепко себя по лбу: — Вот дурак! Коньяк совсем отбил память. Это надо же, идет себе распевает — тра-ля-ля-ля, — как будто и нет никакого дома номер 13. Как будто и нет никакого задания от Игоря Серафимовича!
Он тут же быстро, воровато огляделся и, слегка присев, бочком, бочком стал как бы подскакивать к левому фонарному цоколю у подъезда с бронзовой массивной ручкой. Поставил поближе к цоколю ботинок, нагнулся, стал завязывать давно развязавшийся шнурок. Одной рукой завязывал, вернее, попросту пихал, не попадая, шнурок вовнутрь ботинка, а другой в это время за цоколем поворачивал горизонтальную пластмассовую коробочку. Потом, все еще полусогнутый, зыркнул туда-сюда вокруг и уже тогда лишь, отряхивая руки, спокойно вышел на середку улицы. Все это не заняло и минуты, женщина по-прежнему в дверях стояла. Но теперь к ней слева откуда-то, из глубины квартиры, вышел высокий мужчина, кого-то очень знакомого напомнивший неожиданно мэнээсу Скачкову. Жаль, разглядеть никак не удавалось, в тени стоял высокий мужчина. Но по его позе, по ритмичному покачиванию густой шевелюрою мэнээс Скачков догадался, что высокий мужчина что-то зло выговаривает женщине. Еще и то убеждало в этом, что говорил он ей прямо в затылок. Мужчина прошел к двери на балкон и стал откидывать рукою зеленоватый тюль. Мэнээс Скачков, боясь, что его заметят, тут же, втянув голову, поспешил уйти. Мужчина же, повернувшись к женщине, продолжал… свой бесконечный монолог.
* * *
— Сколько я себя помню, я всегда чего-то хотел очень. И всегда, мне отвечали: «Хорошо, только не сегодня — завтра, через недельку, когда получим деньги…» И я ждал… завтра, через неделю… но желания мои никогда не исполнялись. Взрослые просто отговаривались, чтоб успокоить ребенка, и тут же забывали о своем обещании. Они и не думали выполнять ни завтра, ни через неделю. И я, ты знаешь, Мария, привык, привык постепенно к тому, что у меня никогда не будет ничего из того, чего я так страстно желал. Например, коньков-снегурочек или «английский спорт» (были такие), рыбалки не будет с ночевкой у костра, фотоаппарата «Турист», как у Борьки Баркова из нашего дома. Да я со временем и не напоминал об обещаниях, во всяком случае, редко. Все равно бы услышал: завтра, через недельку, когда получим деньги. Да и просил я теперь, уж ни на что не надеясь, а под действием какого-то инстинкта, мгновенного импульса — иметь то, чего вдруг так страстно мне захотелось. Например, детскую педальную машину с настоящим гудком, за которой однажды, не помня себя, ушел чуть ли не на другой конец города.
Высказать это нестерпимое желание, освободиться хоть немного от чего-то… Но с годами слой за слоем в душе моей эти невыполненные обещания откладывали неудовлетворение, какую-то постоянную напряженность. Да, жизнь прекрасна, видел я, но недосягаема. Даже рано женившись, ты знаешь, я остался при тех же интересах, как говорят картежники. Сейчас я думаю, что стань ты, Мария, моей женой тогда, все изменилось бы. Но та женщина была мне совершенно чужой, мне опять пообещали что-то… близкого человека, а на самом деле опять обманули. Да, теперь я уже точно понимаю, что окончательно это созрело во мне после неудачной женитьбы…
Вот так я постепенно уверился, что жизнь прекрасна, в ней много красивых женщин, таких, как ты, Мария, такой, как мы тебя с Иваном встретили, помнишь? Я все это видел, понимал, но уже твердо уверовал — все это не для меня. Для меня же — все прочее: пресное, серое…
— А война?
— О-о! Война, конечно, многое изменила, ты права. По крайней мере, после войны сумел же я найти силы и расстаться с постылым совершенно человеком. И все же тысячи невыполненных в прошлом обещаний делали свое дело. Вернувшись победителем с войны, я как бы еще долго продолжал шествовать по жизни в этом опьяненном победоносном состоянии, но опять же как в музее, где можно лишь смотреть, но ничего нельзя руками трогать.
Я и врачом стал все с тем же ощущением своих собственных размеров, потолка, что ли, своего, с уверенностью, что высоких сфер мне никогда руками не коснуться. И как же вдруг меня ошеломило однажды, когда я почувствовал, что хоть что-то из того, принадлежащего другому миру, вполне ведь может и мне принадлежать! Какая-то дрожь… да-да, самая сладострастная дрожь меня колотила, когда забрезжило и для меня хоть что-то из недоступного. Ну разве могло теперь меня хоть что-то остановить?! Ведь мне надо было обязательно переступить через какой-то внутренний порог, отделявший меня от совсем другого, прекрасного мира. И какие-то вопросы, разумеется, и не возникали при этом. Ну, скажем, что кто-то будет страдать из-за моего обладания. Возможно, будет страдать товарищ. Не до этого же тогда было, пойми! Все рвалось радостно во мне: можно, можно, можно!! Впервые в жизни приближусь, войду туда, где до этого были лишь люди, отмеченные чем-то высшим, как Иван, например. Ведь я же всегда понимал разницу в наших способностях, нашу разную предназначенность. Я даже и не завидовал ему, понимая, что это справедливо — должности, оклады, заграничные симпозиумы, солидные монографии, так быстро начавшие вдруг у него выходить, — все это понимал я, не дурак ведь, и то, что у него жена — само совершенство… все справедливо.
— Ты прямо в точку, как всегда!
— Не перебивай, прошу тебя, Мария. Да, да, не перебивай, я сразу увидел… еще тогда, в поезде… что вы поженитесь, два таких необыкновенных человека, встретившись, уж не расстанутся — это судьба, рок даже. А так оно и оказалось, моя теория безошибочно сработала. И, встретив тебя уже в образе жены Ивана, я только порадовался — все справедливо. Конечно, это была чистая случайность, что самой первой, так ослепившей меня возможностью коснуться недосягаемых сфер оказалась ты, Мария. Но что уж теперь об этом? Я даже порою думаю, будь первая моя возможность иной — прикоснуться, почувствовать себя ровней с теми, кто отмечен этим знаком своим, — все бы, возможно, у нас с тобой сложилось иначе…
— Остались бы только друзьями?
— Друзьями? Ну нет, пожалуй, друзьями б я не смог, скорее бы уехал навсегда иль как-то б стушевался в вашей жизни, но… но первою возможностью оказалась ты. Мое провидение указало на тебя. И тут меня словно бы никто и не спрашивал, как поступать. Я должен, понимаешь, должен был переступить свой порог. Чтоб снять это тоскливое постоянное напряжение от невозможности освободиться наконец, стать тем, кем я всегда и хотел быть. Ну почему я обделен, за какие такие грехи? Ведь я такой же человек как и Иван! Ну что могло остановить меня, кто?
— Я!
— Ты? Ах, да… но… как бы это получше объяснить-то, ты тут не виновата, ты просто как бы отдала мне инициативу, как… мужчине, вот и все. Тебе тут нечего себя винить. Правда, правда, меня до сих пор не покидает осадок, будто бы ты все время как-то контролировала меня, что ли, даже, может быть… м-м-м… как-то направляла, подправляла…
— Скажи уж прямо — поощряла.
— Н-ну, не совсем, но… Я вот даже и сейчас, через много-много лет, не могу сказать, кто ж из нас тогда был главный, так сказать, ведущий. Да и сейчас, если откровенно, я ведь и сейчас не смогу тебя оставить — так много ты значишь для меня, а вот ты…
— А что я?
— Не знаю. Не знаю, Мария. Я, видно, плохо в людях разбираюсь, но вот когда я вижу, как ломаются капризно твои брови, когда ты злишься, когда две складки опускаются по бокам рта, губы сжимаются, а сама ты становишься какая-то чужая, сытая, что ли… все тут может померещиться, даже самое плохое.
— Ну, спасибо…
— Да нет, ты не принимай близко, это ж все в порядке бреда, так сказать, попытка в самом себе разобраться, выяснить наконец, что ты есть сам и где же твой предел, ну, дурачу ли я самого себя и людей, или лучше — не дурачат ли меня самого с этим Центром, с директорством?
— А что там? Знакомишься?
— Да начал… потихоньку. Да все это вилами на воде еще писано.
— Да что так-то?
— Не верится мне… Да, не верится ни во что. Какую-то опять я золотую середину перешагиваю, как и в тот раз… с тобой… Казалось, уж счастливее меня после никого на свете не будет. И что ж, переступив самого себя, убив что-то в себе самом, святое, может быть, я из одного напряжения сразу же попал в другое, из одного несвободного состояния в другом очутился, более еще несвободном. Я словно, сидя по пояс в трясине, сделал неверное резкое движение и погрузился еще глубже, по грудь, по горло… Ты помнишь, конечно, как, после того что произошло, уж было трудно нам втроем оставаться в комнате. Легкое возбуждение, казалось, отныне владело всеми троими, стоило нам тогда собраться вместе. Это как перед грозой, в атмосфере присутствуют неуловимые ионы, возбуждая нас, так и тут. Особенно заметно было, когда вдруг иссякал общий разговор — сразу же кто-то торопился начать новый, не дать создаться тишине между нами, слова создавали дымовую завесу, помнишь?
— Ну… наверное… так и было, а впрочем…
— Было. Было. И ты знаешь — после таких вечеров было мне как-то особенно умиротворенно возвращаться домой, я думал: «Ну вот и еще день прошел, и все, слава богу, спокойно, все как и раньше». И еще мне казалось, что Иван бессознательно, от нас заразившись, испытывает то же самое неуловимое напряжение, реально ничего, конечно, не зная. Ибо, если б он знал, обязательно б себя хоть чем-то да выдал. Умом-то я все это прекрасно понимал, но душевно весь содрогался от его преувеличенной радости при моем появлении, мне даже казалось, после того, что случилось, его радость была с каким-то оттенком ярости…
— Скорее всего, это твое самовнушение, ты ведь, Глеб, рефлексивен был, чего уж там.
— Возможно, возможно… Но, возможно, все-таки это стало у меня связываться и с чем-то конкретным — с этим его громким, переполненным нежностью к тебе, таким обычным при моем появлении: «Ма-а-ашенька, кофе, Глеб явился!»
— Уже и ревность, что ли? Ну, мужики, мужики…
— Да нет… впрочем, возможно, что-то, м-м-м… и нечто близкое. На мой взгляд, он и дела теперь откладывал свои быстрее, чем обычно, чтоб мы поскорее уселись за шахматы, а впрочем, повторяю, мне могло и казаться, я же теперь постоянно следил за ним пристально. А когда следишь, увидеть можно черт знает уж что! Конечно, я понимал все и в то же время не мог отказать себе в этом. Какое-то странное удовольствие давало это мне… превосходство, что ли… Вот брезгливая усмешечка коснулась губ его, вот взгляд остро, выжидательно кольнул в меня, его голос… Да-да… голос, я особенно за голосом следил, хотелось что-то отыскать — подчеркнутую ли браваду, растерянность ли, но нет… С каким-то даже сожалением видел я — голос прежний. Полный, громкий, ласковый… ласкающий тебя. Для него-то это было обычное, раскатистое, на всю квартиру «Ма-а-ашенька…», а для меня отныне как ласка, как тихо тебя привлечь, твои густые волосы целовать. Да, особенно меня смущал этот голос-ласка. Да и тебя, по-моему.
— М-м-м… не помню, а в общем-то, возможно, что-то и было такое. Во всяком случае, вспоминая наше с тобой начало… м-м-м… действительно как-то сразу многое такое привычное забылось, стало трудным, почти невозможным — то, что раньше было таким естественным. Ты помнишь, как однажды хотели сесть, как обычно, рядом на диван, по-моему, какую-то книгу глянуть, и не смогли при нем, а?
— Книгу? Какую? Да неважно, забыл. А я вот помню почти такое же, помню, как резко я и по себе вдруг заметил, что уж не могу какую-то прошлую, вполне домашнюю фразу повторить с той же интонацией, что и до этого. Скажем, обычную: «Давай, давай, Мария, варенья побольше, муж много зарабатывает!» Попробовал как-то и осекся тут же, почувствовал, что не сам уж говорю, а за кем-то чужим за столом повторяю, а тут еще и этот сон…
— Что еще за сон?
— Сон? Да в первую же нашу ночь, ну, как только задремали мы. Не знаю, как ты, но я так ждал этого, так мечтал… ну а когда наконец свершилось, то такую усталость почувствовал, что провалился в какую-то тяжелую дремоту. В такую тяжкую, что тяжелее и не бывает. И увидел огромную шеренгу убитых на войне, бесконечную шеренгу, и в ней одного номера не хватает, в ней пустое место для одного человека, для меня, значит. Ну, ты ведь знаешь, что Иван…
— Спас тебя? Да знаю, конечно.
— Ну вот, а во сне опять это вернулось. И стоит огромная эта шеренга — двадцать миллионов убитых и молча ждет. А я где-то прячусь и не могу занять своего места. Да, я трус, и тут уж ничего не поделаешь, со сном-то не поспоришь. Я и тогда уже был в этом смысле не очень смелым, то есть жизнью своей дорожил. Конечно, не так, как сейчас, когда так быстро старею и все больше вокруг замечаю людей, что моложе меня, а значит, проживут дольше. Знаешь, как неприятно кольнуло меня совсем недавно, когда таксист назвал меня «отец». Старею — это уж не новость для меня. И чем больше старею, тем больше своей жизнью дорожу. И все жду чего-то, все подбираюсь, все к чему-то подбираюсь…
— А сон, ты забыл… что там?
— А-а-а… ну вот, прячусь я где-то неподалеку, а двадцать миллионов ждут убитых этих на войне. И место мое среди них пустует. И самое страшное для меня было ожидание последнего шага, который должен сделать Иван, занять мое место. А он вроде б стоит в нерешительности, голову на грудь опустив, а я такой маленький, да еще весь сжался, забился куда-то, чтоб он не увидел меня. По-моему, под мостик через ручеек, но мне оттуда все видно. И вот он шагнул. Перешагнул меня. И тут-то мы глазами встретились. Через щели-жердочки в мостике встретились глазами. Я вскрикнул и тут же услышал вскрикнувшую во сне тебя и схватил тебя в объятия посильнее. Еще не проснувшись, еще с ужасом не расставшись. Как спасение стал целовать тебя, живую, теплую, возвращающую мне медленно жизнь. Ты, помню, спрашивала: «Что ты? Что с тобой?» А я ничего не мог ответить, только, уткнув мокрое от слез лицо в твои волосы, все повторял, целуя, как в бреду: «Люблю, люблю, люблю…» Да и как же мне было тебя не любить, ты ж вырвала меня из смертельного ужаса, ведь с каждым страстным поцелуем, с каждым моим «люблю» я наполнялся радостью, приходил в себя: жив, жив, жив! Еще много лет я буду жить, есть, пить, любить… Марию… или других, нет-нет, конечно, одну Марию, ведь больше никого мне не надо. С восторгом крепко обнимал я тебя, словно страшный сон все еще караулил меня, словно страшное место в той шеренге все еще ждало меня. Все так и чирикало во мне от радости — чик-чирик… жив-жив… чик-чирик!.. Вот с этого сна я особенно ясно и уяснил всю разницу между нами — мной и Иваном. Стал думать об этом постоянно, стал не то чтобы тянуться, а подражать ему… в небрежности одежды, в походке, даже в некоторой инфантильности, голосовых оттенках… уже у себя в операционной эдак же раскатисто-нежно покрикивал на персонал.
— Господи, да зачем тебе все это? Вы же совсем разные.
— Понимаю.
— Нет, Глеб, ты не так понимаешь. Ты как-то с обидой понимаешь. А тут нет, совершенно нет для тебя ничего обидного. Вон возьми, ворона летает, а ты нет, так что ж, ты завидовать будешь вороне?
— Вот, даже ворона летает.
— Ах, Глеб, не для тебя все это, не твое все это, ты наконец пойми.
— А что ж мое? Что-то ведь должно быть и мое, а?
— Вот эти руки, которыми ты делаешь такие удивительные операции, спасаешь людей.
— И все же каждый пятый умирает у меня.
— У других хирургов на этой самой операции каждый третий умирает, ты же знаешь.
— Что ж, может, ты и права. Здесь кое-чего я действительно достиг, но… Но видишь ли, и здесь какая-то странность: спасенных всех я как бы на его счет записываю, а… вот мертвых… себе оставляю. Вот ведь, Маша, какая странная история с арифметикой.
— Уж не откупиться ли хочешь! Фигляр!
— Мария!!
— Нет — тебе, Глеб, в народный театр. Там, дружок, твое действительное место…
— Лучше вызови такси, а то опять поссоримся, а мне сейчас не до этого… да и устал. Вздремну поеду. С утра мне в Центр… Да, в Центр с утра, а зам у меня такой, что не любит опозданий.
— Ты ж теперь директор!
— Устал я, устал…
VIII
В субботу вечером опять приходила Мария. Тихо говорили ни о чем. Когда расставались, она спросила:
— Разве тебе нечего вспомнить — ничего хорошего за всю жизнь? Эх, Ваня, Ваня! — и заплакала. После ее ухода Иван Федорович заметил к спинке кровати у изголовья привязанный маленький картонный четырехугольник с ликом сына божьего. Первым желанием было убрать это. Но в сумерках вечерних, уже заполнявших комнату, ярко-теплое пятно у изголовья по-своему выделялось как-то, и Иван Федорович оставил все как есть. Словно б не его это дело. Словно он тут ни при чем.
Наверное, чтоб почистить зубы перед сном, пошел в ванную комнату, пустил воду. И тут, уже с опозданием, заметил маленького паучка, подхваченного водной струей и так чисто, бесследно смытого с гладко-белой стенки раковины. Иван Федорович бессильно опустился на край раковины, быстро закрыв воду и все еще руки не спуская с крана. Конечно, он много б мог вспомнить хорошего о Марии. Какую-нибудь простуду из тех многих, что бывали в его жизни, горчичники, что ставят на грудь ее холодные ласковые пальцы, чайную ложечку, которой поит она, согнувшись близко… Тепло, уют, полумрак… Забиться бы и сейчас в тепло, уют, полумрак… схорониться ото всех, ото всего, на все отзываться глухим, невнятным вздохом-стоном… Каким бесконечным лабиринтом кажутся паучку эти трубы, какой пропастью эта затянувшая его воронка… А ведь живут же в глубочайших пещерах какие-то живые организмы без солнца, зелени, людей. Прилепятся в трещине к холодному камню и пропускают через себя какие-нибудь растворы или воздушные пузырьки, какие-то малости выделяя, поддерживая чуткое равновесие. Да, собственно, скорее всего, наверняка какой-то жизнью пронизаны не только глубокие пещеры, но и все слои атмосферы. Пусть другой, более мелкий уровень, более примитивный, но жизнь обязательно есть везде! Симбиоз — содружество всего живого, а не борьба за существование по Дарвину. Все должно быть объяснимо. Не борьба и не жестокость правят миром, но верховная какая-то целесообразность, окончательный смысл природы. Который во всем, буквально во всем… Напрягаясь, обостряя в себе что-то запоздалое, Иван Федорович проникал все глубже, все недоступнее в тот недоступный добрый смысл, что спрятан за семью замками. И даже скалы-монолиты теперь поддавались этому недоступному доброму смыслу. Даже в скалах-монолитах копошился кто-то, кого Иван Федорович смог теперь разглядеть… Ихтиоглас какой-нибудь, а? Пусть ковыряет в каменной скале дыру Ихтиоглас этот, ну ковырял и ковырял. А где-то там, далеко за скалой, скажем, текла, сама с собой игралась… м-м… что-то такое… вроде быстрой речки, какая-нибудь… Спенсузия. Итак, Спенсузия текла, сама с собой игралась. Ихтиоглас ковырял в каменной скале дыру. Он думал: «Проковыряю дыру и увижу море или горы, а может, на этот раз — леса или поля. Если будет ночь, обязательно увижу звезды и луну, а если будет день, тогда увижу солнце».
Проковырял дыру, Спенсузию увидел, которая текла, сама с собой игралась. Вздохнул Ихтиоглас, стал скалу в обратном направлении ковырять. Ковырял и думал: «Вот проковыряю дырку и увижу белые горы или синее море. Если ночь будет, много звезд увижу сразу, если на день придется — красное солнце увижу».
В самой середине скалы сел отдохнуть Ихтиоглас. Сидя в каменной темноте и холодной тесноте, вспоминал, как Спенсузия текла, сама с собой игралась. Как сумасшедший заковырял он дырку в обратном направлении. Проковырял, видит — Спенсузия течет, сама с собой играет. Хотел спросить Ихтиоглас, рот раскрыл. А что спросить, пока ковырял, все начисто позабыл. Постоял так с раскрытым ртом, поглядел на Спенсузию, которая все текла, все сама с собой игралась, и опять начал медленно ковырять каменную скалу-монолит. Ковырял и думал: «Проковыряю — обязательно что-то увижу. Сине-зеленый океан или черную пропасть. Если день будет, ярко-горячее солнце встретит меня. А если ночь, прохлада и мириады звезд будут окружать со всех сторон». Как хорошо, уютно как сидеть тогда проковырявшему в каменной скале дырку Ихтиогласу на теплой, шероховатой поверхности вечного камня. Замечательно! Присел он в самой середине скалы-монолита немножко отдохнуть, вспомнил, как Спенсузия текла, сама с собой игралась, — опять задумался… А Спенсузия-то все течет, все сама с собой играется. А все дырки-то, что Ихтиоглас за свою жизнь в скале-монолите проковырял, уже мхом-долгунцом зарастают, а он все сидит в каменной, уютной сердцевине… и все думает, думает, сомневается.
Рывком сбросить сладко-розовый туманец, от которого покруживалась приятно голова, прилечь, закрыть глаза хотелось, да уж больше б и не вставать, что ли…
Вернувшись в комнату, зажег он свет, походил решительно взад-вперед, всей ступней на пол наступая, и вышел к людям в коридор.
Тянулись слева кровати. Справа — окна, на подоконниках цветы. Неподвижный печальный мальчик сидел в кресле с велосипедными шинами, сидел на самом-самом краешке холодного дерматина. Его можно спасти. Вот якут на третьей койке, синеватые брови, зябко кутается в одеяло, тоскливо смотрит поверх голов, тяжело, наверное, умирать вдали от любимых сопок, распадков, ласковых теплых олешек, бегущих за колокольчиком ездового оленя. И якута можно спасти…
Вглядывается Иван Федорович напряженно так, что начинает дрожать рука, на которую он опирается. А за рукой и столик под ней подрагивает, банка с градусниками, телефон, две тетрадки, сигнальная лампочка на стенке. Иван Федорович оттолкнулся и пошел. Ему навстречу шли голоногие практикантки, смеялись от легкости жизни. В перевязочной ругались медсестры:
— Мне только пятьдесят дали, а Соньке — шестьдесят!
— Сонька в праздники дежурила!
— Все равно мало!
Дежурный врач на ходу, в развевающемся халате:
— Ни секунды нет времени сейчас разбираться!
Массажист, похожий на борца, остановился возле грелки для ополаскивания горшков, и от этого розовая грелка стала странно похожей на его желудок. Род человеческий… В больнице ли, за больницею — везде он одинаков. «Постараемся же достойно мыслить», — повторяет Иван Федорович любимое выражение Паскаля.
Достойно мыслить — всю жизнь это его единственная основа. Что же сейчас-то произошло, почему напоминает он сейчас себе об этом? Только ли потому, что хочется скорей помочь вот этим несчастным? Но ведь и так весь смысл его прожитой жизни именно в этом — спасти! Его формула спасения именно для них, для людей — разве ж не так?! И разве ж не знал он и прежде, что все для него самого сразу кончится именно с этим главным его открытием для всего рода человеческого? И это знал. Может быть, не в таких деталях, как сейчас, но то, что как физическая сущность он сам перестанет существовать, — это знал почти наверняка. Блаженный Глеб, не ведающий, что существует важнейший физический и философский принцип дополнительности. И никому еще не удавалось обойти его по кривой. И понятно, что этот принцип применительно к открытию бессмертия для всех, естественно, и должен заключаться в обязательно собственной смерти первооткрывателя. Все верно. Все так и должно быть. Иван Федорович усмехается; кстати, принцип дополнительности открыл духовно близкий Ивану Федоровичу человек — Нильс Генрик Давид Бор. Ивану Федоровичу приятно вспомнить Нильса Бора — яснейший человек. И как много удалось ему сделать! Научная мысль была для него общением с самой природой. Но — что еще важнее — общением с людьми, проникновением в какую-то родовую сущность людскую. Да-да, проникновение в сущность людскую было способом его научного мышления… Иван Федорович, к сожалению, не встречался с живым Бором, но всю жизнь считал его старшим братом по разуму. Именно у него он постигал тайны надличностного, общеродового сознания. А собственно, общеродовое сознание — это то единственное, что и позволяет что-то одному человеку сделать для всего человечества.
Как именно это все случилось с Иваном Федоровичем, не смог бы он сейчас точно восстановить. Но только вся его сознательная жизнь прошла под этим знаком. И тут не было ничего от внутреннего гипноза, тут не было ничего и от нравственного самоконтроля личности. Тут просто было суровое требование рода человеческого, поразившее одного из нас, не больше и не меньше. Требование той самой несвободы человеческой, которой пронзено человечество от самых архаичных глубин и до сегодняшних космических высот. Словно легкими крыльями, носило его сновиденческое ощущение, что собственная его личность сама по себе, вне рода, бессмысленна, а значит, и не больше, чем элементарная клетка живого организма. А поэтому и понятно, почему так легко сперва в мыслях, а потом и в делах смогла приноситься собственная личность в жертву ради всего рода.
Ну а кроме этого, такой редчайший симбиоз личности незаурядной, так странно наделенной родовым сознанием, не мог не дразнить постоянно какой-то нечеткостью грани между жизнью и смертью. Ибо конечно же род, клеткой которого себя ощущаешь постоянно, бессмертен. А раз так — бессмертен и ты вместе с ним! Ощущение собственной жизни как бы постоянно протекало и «там», и «здесь», сам же переход от жизни к смерти порою очень сильно напоминал ему не конец, а лишь новое начало, возможно, событие более важное, чем вся жизнь до этого. Надо ли объяснять теперь весь азарт, всю устремленность жизни к такому вот финалу… Тысячу раз не прав мудрый Марк Аврелий, проповедовавший смиренное согласие с природой! Ведь можно вспомнить, к чему оно привело — жена Марка Аврелия как была, так и осталась заурядной шлюхой, а пьяницу-наследника вскорости вообще зарезали. Поэтому вполне понятно, почему при таком смирении стала разваливаться, а вскоре и совсем развалилась могучая Римская империя. Нет-нет, никак нельзя было с природой соглашаться. Наоборот, лелеять, взращивать надо было собственную необыкновенную судьбу! Не естественности какой-то подчиняться, наоборот — каким-то ритуальным действам, достойным твоей великой судьбы, Аврелий…
Все верно. Все так и было. Почему же теперь все так резко изменилось? Почему стал чувствовать Иван Федорович ежеминутную боль какого-нибудь прыщика на ноге, почему измена Марии и Глеба так сильно ударила его, почему, наконец, так страшно стало вдруг?! Да ужель именно ты и свершил великое открытие, человек?
«Разумеется, я, — бормочет Иван Федорович и оглядывается, хотя в этот ранний час в коридоре никого. — Да-да, великое открытие теперь уже существует без меня, — бормочет он, быстро оглядывая себя с ног до головы, словно хочет убедиться в чем-то, — да, да, я сброшен с пьедестала, я теперь просто человек, мне дано напоследок насладиться и этим, просто побыть человеком, как и все. Ну что ж — тогда побудем, смажем ноги, перевяжем, со спичкою походим и-и… и все-таки… постараемся достойно мыслить?»
Достойно мыслить — это теперь сразу вспомнить Тамару Сергеевну. Иван Федорович сразу вспомнил Тамару Сергеевну, лицо его у глаз покрылось сетью добрых морщин, а сами глаза засияли. Как хорошо в ее отсутствие думать о ней, знать, какая она хорошая, добрая, какая лично у нее печальная судьба. И почему бывает часто так: если человек хороший, печальна у него судьба? Как хорошо в ее отсутствие думать о том, какие у нее глаза и волосы, какие руки, шея… Душа заныла так грустно и нежно, Иван Федорович почти бегом вернулся в палату. Зажег свет — и увидел над изголовьем сына божьего. Иван Федорович грустно усмехнулся ему: «Что, брат, каково оно — людям бессмертье дарить! — Сын божий ничего не ответил, и Иван Федорович, на носках покачавшись перед ним секунду-другую, лишь произнес: — Ну-ну…»
* * *
В эту неделю вынужденных каникул, которая у нее появилась по настоянию начальства, Тамара Сергеевна чувствовала себя рассеянной, какой-то тревожной. По три раза на день ездила к мужу, смотрела на него и не видела, ухаживала и не понимала порою, что она делает в данную минуту. Испытывая странное раздражение, дразня что-то в себе, пробовала связать как-то себя, хотя бы в мыслях, с Иваном Федоровичем, и ничего у нее не получалось. И все преследовала мысль, что до сих пор она была не тем человеком, каким надо бы, больше того: что большинство людей той же участью награждены — вместо жизни занимаются декорациями всякими, а где выход — никто не знает.
Возвращаясь от мужа в битком набитом троллейбусе, Тамара Сергеевна никак не может избавиться от этого странного налета декоративности, который чудится во всем. Вот даже здесь, в троллейбусе среди толпы, хлынувшей на остановке, оказался декоративный мужчина… плотный, высокий, с тощим портфельчиком, очевидно, из тех балагуров, что скрашивают неудобство подобных поездок в битком набитом вагоне.
— Как волны, качает! — кричал энергичный мужчина. — Рыбоньки, проходите, пожалуйста! Как всегда, спешите на работу! Я посторонюсь, я — мужчина первого разряда! А вы что смеетесь? Вы — тоже еще ничего!
— Вот в газете была недавно статья, — хмуро вставил мужчина, который — «тоже ничего». — Статья про одного, который тоже везде совался, а никто внимания не обращал, так с ним инфаркт произошел.
— Ха-ха-ха! — искренне рассмеялся декоративный мужчина. — Знаю, был такой фельетон, но меня это не задевает, я, как видите, крепко на ногах стою, нервы в порядке. Рыбоньки, выходите, пожалуйста. Красавицы, как волосы хорошо уложены! — это он про волосы Тамары Сергеевны сказал. — И вообще, — внезапно воодушевился он, — у всех, кто едет в этом вагоне, сегодня будет выполнен план на сто десять процентов!
Пришла домой, а дома — племянник Вовочка, к тете на праздник приехал. Ахнула от радости: Вовочка какой большой! Как там сестра поживает? И тут же сердце тоскливо забилось… на праздник, на праздник приехал! Значит, все знают уже, все едут уже… на праздник? Но неужели ж все это, что так неотвратимо надвигается, не понарошку? Настоящее?! И все будет… все, все, все! Да не может же этого быть! Никак не может!.. Но вот же… Вовочка… ах, как вырос! Как там сестра? Давно ли Вовочка под стол бегал, а теперь сам приехал на праздник… Праздник… праздник… как же-с — большая соботка, Большой Эксперимент! Ах ты, господи, да что ж это такое! Ну ладно, ладно, есть еще время, праздник праздником, а надо Вовочку кормить, поить, о сестрице расспрашивать. И то хорошо, какая ни есть, а все ж забота, отвлечет ее как-то.
И, засучив рукава, начала о Вовочке заботиться, тесто поставила, а его с дороги сразу в ванну — мыться. Он там плещется, а Тамара Сергеевна через неплотно прикрытую дверь о сестрице расспрашивает, о себе рассказывает. Повеселела даже. А после ванны Вовочке переодеться достала мужнины трусы да майку, чистые, почти ненадеванные. Ну и вспомнилось то еще время, когда носил муж эти трусы и майку. Когда стирала, гладила на него она, когда еще мужем был, а она — мужней женою. Прижала она к груди эти трусы да майку, и все в ней захолонуло, задрожало. Необыкновенное счастье представилось, которого нет. Нет уже долгих восемь лет. Нет этой стирки, глажки на мужа, готовки любимого блюда — щей из кислой капусты, которые муж любил есть на второй день, нет натирания жесткой мочалкой такой знакомой спины по субботам в ванне, где так весело плещется Вовочка сейчас, нет постоянных выговариваний из-за пепла, оставляемого где попало, нет и редких скандалов, и ночных утех мирящих, ничего нет. А самое главное, нет ощущения в доме мужчины, нет той женской надежды, которая, может, сбудется, может, нет… Нет-нет, что же это такое — у нее же есть она… пока он, Иван Федорович, — жив… А если рядом никого нет… Но разве ж у нее сейчас рядом никого нет? Но у него ж есть жена? Ах, да какая она ему жена, давно с другим живет! Да разве ж дело в этом?! А в чем же тогда дело? Кружилась она, все кружилась по комнате, белье к груди прижимая, а Вовочка что-то из ванны говорил, говорил… Сейчас туда бежать?.. Нет-нет, наверное, поздно. Да и приход ее ранее понедельника, как с Глебом Максимовичем оговорено, вызовет… что-то вызовет… ах, да не все ли равно! Ему бы не повредить!! Ему никак нельзя повредить. Да ждет ли еще, нужна ли? А вдруг у него как раз сейчас жена? Да какая она жена, с другим живет в открытую. Один он, бедненький, ничего не знает, ни о чем не догадывается! Ах, что-то будет, что-то будет… Как же ей быть?! Ах, наверное, женщиной быть… Наверное, женщине надо мужчину просто-напросто по субботам мыть жесткой мочалкой, раны перевязывать, утешать, жалеть, если он смертельно устал… вместе с ним умереть… нет-нет — вместе жить! Обязательно жить, обнимать, ласкать, вдыхать его запах, дышать одним воздухом, одними мыслями, обволакивать с ног до головы женским, материнским, прикрыть щитом от всех бед и напастей, от этого лиха одноглазого, что из-за угла за каждым подсматривает. Именно в этом женская доля, а любая другая — не женская, нет-нет — только внешне похожая на женскую… Давно из ванны звал Вовочка, капризные нотки улавливала Тамара Сергеевна, а сама думала с восторгом: «С понедельника! С понедельника! Потерпи немножко, милый!»
* * *
Иван Федорович лег, покорно заложив руки за голову. Необозрима область человеческого духа, просвечивай ее по горизонтали, просвечивай ее по вертикали — нет у нее границ. По крайней мере, Иван Федорович тех границ не ощущает. Действительно, уж что-что, а это бессмертно. Какие же пучины открываются в этом океане духа, какие впадины Марианские, Эвересты какие! Естественно-величаво сияют Нильс Бор, Альберт Эйнштейн, Пушкин… Зловонные ямы, естественно, смердят — Иуда, Гитлер, капрал Колли… Добро и зло, зло и добро… неужто именно в этих перепадах и заключается бессмертие человеческого духа? Тогда при чем тут ты? — Иван Федорович, скосив неловко голову, одним глазом на сына божьего взглянул. А? Голгофа, венец терновый, крест… Зачем тебе все это, а? Молчишь, ну-ну… Иван Федорович улегся поудобнее, — добра, конечно, больше, оно всегда сильнее. А иначе же и смысла нет, вот в чем, наверное, все дело. Есть просто некоторая асимметрия духа… естественно, в сторону добра. Есть просто тень, добром отбрасываемая, есть просто рама, его подчеркивающая… начало отсчета всякой человечности… маленькая золотистая картонка, что висит у изголовья?.. Ну-ну…
И опять уносился Иван Федорович в бескрайние духовные сферы, и опять почему-то всякий раз, как сквозь узкое горлышко, проскакивая обратно. Он все время как-то тревожно промахивался. Вдруг радостно думает о Тамаре Сергеевне, всяческими добродетелями ее награждает, возвеличивает и-и… щелк! — словно что-то щелкнет в мозговой извилине: мужа ее тут же представит душевнобольного, всю горечь, всю насмешку представит над человеческой духовностью. Что можно ужаснее представить, чтоб образу и подобию человеческому не то чтобы искры святой — головешечки-то дымящей и той не оставить?!
Нет, с духом сегодня что-то не очень у Ивана Федоровича получается. Пришлось ему свое внимание остановить на личности в этом плане для него идеальной. Конечно же на старшем брате своем по духу — на Нильсе Боре. С кого всю жизнь он брал пример, свою жизнь строил по кому… вплоть до привычек, до трубки курительной… Эталон ученого и человека. Это было для Ивана Федоровича даже и не солнце, ибо, в отличие от солнца, не имело пятен. Это был эталон нравственности. Иван Федорович полностью согласен со словами жены Бора — фру Маргарет Бор: «Нет, Черчилль не был великим человеком: он не понял и не оценил идей моего мужа…» Она говорила, конечно, не о научных, а о нравственных идеях мужа… Бор пытался предупредить атомное безумие…
«Да, да, да… — расхаживая по комнате, бормочет он. — Сложнейший век… нравственность науки… благостная иль разрушительная сила? К сожалению, в чистом виде науки нет давно. К счастью или к несчастью, она уже давно производная конкретной социальной обстановки в мире… та же атомная бомба, если взять… И какая же все-таки колоссальная миссия возложена на нас, ученых! Это алхимику было легко: эликсир молодости изобрел какой-нибудь, пошел ближайшему королю загнал за мешок золота — и живи припеваючи. Сейчас не то… Сейчас все направление науки зависит от коллективной морали ученых. Да, собственно, и открытие любое от этого зависит… да, да, да…»
И опять возвращаются его мысли невольно к своему кумиру, к его гениальному окружению — Эйнштейну, Резерфорду, — людям такой же высокой морали, как и Нильс Бор. В хаосе второй мировой войны они выбирают, по-видимому, единственно верный путь, поворачивая свои знания против гитлеризма, создавая «абсолютное оружие» — атомную бомбу… Да, в те трагические сороковые это было делом безупречным, более того, единственно правильным… Да, Нильс Бор внес изрядный вклад в создание бомбы. Бомба, мораль… но годы-то, годы-то какие! Гитлера, одного лишь Гитлера нужно было ударить этим «абсолютным оружием» — вот логика, вот этика безупречных этих ученых, вот их мораль. Но приходится констатировать с сожалением, что мораль далеко не безразлична ко времени. «Сколько б ты нам ни толковал о вечной морали, нет ее и не было никогда… наверное… — Непроизвольно скосив глаза на сына божьего, вздохнул: — Молчишь, ну-ну…»
Постучав, рыжая сестра заглянула, спросила: на ужин пойдет или в палату принести?
— Аппетита что-то нет, — постарался сказать поспокойнее.
— В понедельник небось появится… как Тамара-то Сергеевна выйдет! — И тут же за дверь выскочила, не успел он этой рыжей как следует ответить.
«Черт знает что!» — возмутился Иван Федорович и решил в таком случае пойти на ужин, хотя есть действительно не хотелось, да и Мария принесла много.
С безразличием жевал он ужин и никак не мог понять — хорошо ли это, что через два дня возвращается Тамара Сергеевна. Радостное и тоскливое сливалось в чем-то взбудораженно-смутном, в необходимости что-то решать такое, что… нет, непонятно было, что же на самом деле решать… Да что ему решать, в его-то положении?! И все же… без всякого аппетита все доел и даже механически корочкой подчистил, непонятно покачивая головою. Зрело в нем непонятное чувство… долга, что ли? Он — и еще что-то должен?! Ни-че-го не понятно, ни-че-го… Выпил две таблетки (вместо одной) снотворного и сразу уснул, а утром увидел предрассветные облака.
Они были как белые фрегаты. Несли предощущение счастья. Так не хотелось просыпаться окончательно ему, так в грезах этих белых, предрассветных еще понежиться хотелось, дождаться все ж того, что обещали предрассветные ему… На переломе ночи, ближе к дню пронзит весь мир благая весть — и засветятся тогда неудержимо предрассветные облака. О чем эта весть? К чему взывают эти чудесные видения? Отчего текут у тебя блаженные сладкие слезы? Куда устремляется твой гордый дух, о человече? Куда же?..
* * *
А в Центре чем ближе к завершающей стадии Эксперимента, тем напряженнее становилась атмосфера. Центрифуги гудели днем и ночью, с утра до вечера горел яркий свет во всех лабораториях, и очень многие сотрудники, видя, что исследования отстают от графиков, оставались теперь работать всю ночь.
Симпозиум по проблеме жизни, кажется, набрал свой максимум, к утренним и дневным заседаниям добавились еще и вечерние. О потолке, оставленном в самом неприглядном виде, мэнээсу Скачкову некогда было думать, ведь…
— …На сегодняшний день наше знание принципов эволюции еще недостаточно для управления эволюцией. Чтобы не разрушать живые природные системы неосторожным вмешательством в интимные механизмы эволюции, а такое вмешательство может быть многократно более опасным, чем обсуждаемые сегодня отрицательные последствия атомных, водородных и нейтронных бомб, — в общем-то, маленькой струйки, так сказать, в общем потоке наших возможных вмешательств в протекание эволюционных процессов, — так вот, чтоб не разрушать невосстановимого, мы обязаны на сегодня знать, что же нам можно, а что никак нельзя делать с природными популяциями.
На сегодня широкая в планетарном, так сказать, масштабе экологизация биологического мышления в общем и целом завершилась, и как результат этого — наш Центр, собравший на «большую соботку» ученых практически из всех стран мира. Разумеется, далеко не материальные соображения побуждают нас к международному сотрудничеству в биологических исследованиях. Сегодня перед наукой впервые в истории встали глобальные задачи, от решения которых зависит будущее человечества. Собственно, на сегодня вопрос стоит так: «Быть или не быть?» А между тем речь идет, заметьте, о человечестве! Обо всем роде человеческом. Вот как все изменилось со времен Уильяма Шекспира…
* * *
Дело заметно уже шло к концу. Финал, по всем расчетам, выходил на 24 июня. Ну а в субботу в кабинете директора Центра кроме самого директора, первого зама собрались по самому краткому списку необходимые люди. Присутствовали и представители оппозиции. Вопрос был несколько щепетильным, важным, хотя к работе Центра, к науке, значит, прямого отношения как будто и не имел. Надо было составить и подписать некролог. Когда читал его вполголоса директор, в кабинете стояла тишина.
— …Личность Ивана Федоровича Круглова была живым опровержением теории «информационного кризиса». Ведь, что греха таить, еще нередко мнение о столь лавинном в наш век преумножении знаний, что никакой специалист даже в своей узкой области знаний будто бы не способен охватить всю информацию… Даже будучи на высоком посту, Иван Федорович Круглов поражал сотрудников своей лаборатории тем, что каждому мог посоветовать неизвестные тому публикации. Ибо во всем, что касалось понятия жизни во всех ее проявлениях, от молекулы до биосферы, знания Круглова были воистину неисчерпаемыми… — Директор перестал читать и, прикрыв глаза рукой, с силой потер лоб и переносицу. — Математики есть? — спросил первого зама, сидящего справа от него.
— Математики? Да, пригласили… — И, пододвигая директору список, Игорь Серафимович поставил легкую галочку против одной фамилии.
— Крепсов? — прочел вслух директор.
И на противоположной стороне стола встал человек высокого роста в темно-серой тройке, слегка всем поклонился.
— Доктор наук, — добавил Игорь Серафимович, — специалист по…
— Я к чему спросил, — кивнув, чтоб математик садился, перебил директор. — Вспомнил, как читал совсем недавно одну работу… американского физика Ричарда Фейнмана (да вы-то ее наверняка все знаете), так вот этот Фейнман с уверенностью считает, что старение и смерть живого отнюдь не вытекают прямо и безусловно из объективных законов физики. Время — такая м-м-м… неуловимая субстанция, что… что, знаете ли, хотелось бы все-таки как-то почетче нам узнать: а что же думают на сегодня по этому поводу сами математики? Обратимо в принципе в конце концов все же наше время или нет?.. В принципе!.. И это не праздный вопрос, как вы сами понимаете… Дело в том… Дело в том, что Иван Федорович… что Иван Федорович всю жизнь был неистребимым атеистом, и если чем-то и можно его в эти последние дни… если что-то и могло б облегчить как-то… — Директор, закрывшись ладонью, умолк, потом, отнявши с трудом руку от покрасневшего лица, продолжил: — Так вот, коллега, э-э-э…
— Крепсов, — подсказал первый зам.
— Да-да, коллега Крепсов, не трудно ли будет вам несколько прояснить, так сказать, ситуацию на сегодня с этим самым временем? А то живем вроде во времени, а что это такое…
— Да-да, — стремительно вставая во весь немалый рост, начал математик, — вы правы, Глеб Максимович, в последнее время серьезно ставится под сомнение необратимость времени, односторонность его. С другой стороны, есть, по-видимому, какой-то реальный путь движения по кругу времени на основе всем известной модели Геделя. Тяготение, как известно, действует на все виды материи, в том числе и на лучи света, искривляя их. Тяготение искривляет пространство, прямые линии становятся кривыми. Не могут ли при этом и линии самого времени как-то искривляться? Искривляться до того, что в конце концов и сами станут замкнутыми кривыми. Именно такие замкнутые кривоподобные линии и возникают в решении Геделя. Поэтому все события на «геделевской» линии повторяются через оборот — повторяются до мельчайших подробностей. И в итоге — прошлое должно обязательно к нам регулярно возвращаться. А поэтому из анализа решений модели Геделя можно действительно получить, и тут вы, уважаемый Глеб Максимович, абсолютно правы, можно в принципе получить необходимые условия для существования замкнутых петель времени. То есть именно то, как я догадываюсь, что вас и интересует.
— Да-да… я, разумеется, извиняюсь за некомпетентность, но… значит ли это, что эти петли времени, то есть возвращение всего сущего на круги своя, возможно не только в нашей школьной фантастике, но и в реальной нашей жизни?
— В принципе, Глеб Максимович, да. Ведь решение Геделя — вполне законное решение уравнении общей теории относительности, не менее законное, чем та же модель Фридмана…
— Однако же, коллега, все-таки не все варианты, теоретически в принципе возможные, осуществляются природой… к сожалению, далеко не все… А в нашем случае…
— И все же ситуация небезнадежна, Глеб Максимович, — заметил первый зам, — ведь, скажем, и колеса́, обыкновенного, круглого, в природе не было когда-то. Но оно было не запрещено ее законами — и-и… результат налицо… Кстати, тот же американец Ричард Фейнман, о котором вы напомнили, убедительно показал, что в квантовой механике позитрон — уже реально существующий… реально! — я это подчеркиваю — можно рассматривать как электрон, двигающийся назад во времени. Является ли такой подход чисто формальным приемом? Не стоит ли за ним нечто большее? Пока ведь науке неизвестно. Вполне возможно, что позитрон — это электрон, путешествующий в прошлое… а?
— Прекрасно! — воскликнул директор. — И если таковы реальные факты, то дело лишь за тем, как сделать такое путешествие в прошлое более массовым, более человечным, что ли… Поймите меня, дорогие коллеги, Круглов сейчас крайне нуждается в любом научно обоснованном — я это подчеркиваю — в научно обоснованном утешении! Да-да… утешении, ведь все мы, так ска…
— Директору об Эксперименте думать надо! — раздались нестройные голоса оппозиции. — Сам субъект Эксперимента думает об удачном для всей мировой науки его завершении, а директор в такой ответственный момент отвлекается на постороннее! Мы протестуем!.. Мы выражаем недоверие!..
— А мы выражаем доверие!! — дружно закричали, застучали ногами остальные. — Правильно думает наш директор!! Доверие директору! Ура, ура!..
— Так вот, — вздохнул директор, выждав, когда стихнут жидкие выкрики оппозиции и мощная поддержка своих, — так вот, проект некролога я захвачу с собой и ночью подработаю его… По-видимому, придется дополнить его кое-где, но в общих чертах… он соответствует… А вот с этой облегчительной для Ивана Федоровича Круглова — я это подчеркиваю, несмотря на то что это кое-кого и не устраивает, — так вот, с этой облегчительной ситуацией мне все-таки до конца так и неясно — можно ли ее использовать в нашей комплексной программе исследований и наблюдений, которые касаются лично Круглова, а? Я понимаю, вопрос архитрудный, но все-таки хотел бы всем, сидящим здесь, напомнить, что мы как ученые должны выжать, буквально выжать из Эксперимента, так любезно предоставленного нам провидением, все! Все и еще, возможно, сверх этого! Это — как ученые. А как люди — и горе тому, кто об этом забудет, — так вот, а как люди мы должны по-человечески максимально сострадательно подойти уже не к ученому, а просто к больному человеку. И сделать все, чтобы облегчить его последние страдания, разработать грамотную систему мероприятий. Я понятно, надеюсь, выражаюсь?
— Понятно, понятно… — раздались голоса негромкие.
— Время у нас еще есть. Займемся не откладывая.
* * *
Иван же Федорович считал, что времени уже в обрез, что главным срочно надо бы заняться. Но вот беда — необходимым почему-то стало для него до этого разобраться с одним частным вопросом, а именно — с мошенничеством в науке. «Мошенничество в науке — ну как же так!» — он нервно думал. Чарлз Дарвин писал, что ему известны только три «намеренно искаженных высказывания в науке». Как все переменилось с того времени! Не к лучшему, разумеется. Уже Чарльз Бэббидж — изобретатель универсальной вычислительной машины — составил целый список мошенничеств в науке. Иван Федорович в свое рабочее время — от девяти до двенадцати — держит в руках его книгу «Упадок науки в Англии», изданную в Лондоне еще в 1830 году. Вслух читает:
— Фальсификатор в лучшем случае обеспечит себе временную репутацию… за счет потери своей вечной славы…
Временная репутация, потеря вечной славы — как наивно все это звучало тогда. А спустя полтора века уже дошло до того, что сенатор Проксмаер учредил приз «Золотое руно» за тот научный проект и исследование, которое съест побольше средств и не даст никаких результатов. В 1978 году этого приза удостоилась работа, выполненная в одном из университетов США, «Исследование социальной роли публичных домов в Перу». В 1979 году… впрочем, не это сейчас волнует Ивана Федоровича, а… А еще один скандал, уже в ФРГ: в 1976 году молодой (и опять молодой!) биохимик Галлис не только защитил докторскую диссертацию на основе экспериментальных данных, взятых с потолка, но и опубликовал более десяти статей о своих исследованиях в таких солидных изданиях, где печатался иногда и Иван Федорович, как «Нейчур» и «Биокемикэл джорнэл». Потребовалось затратить около четырех человеко-лет высококвалифицированного труда ученых-биохимиков из института Макса Планка в Мюнхене, чтобы прийти к заключению, что эксперименты Галлиса грубо фальсифицированы. Мошенника вынудили послать «объяснительное» письмо в журнал «Нейчур» и публично признаться в фальсификации экспериментальных данных. И что ж, этот самый Галлис — из молодых, да ранний! — разумеется, все объяснил тем, что так абсолютно был уверен в справедливости своей гипотезы, что даже решил придумать данные, ее подтверждающие!
А вот еще 1974 год — молодой дерматолог доктор Саммерлин, руководивший лабораторией в Мемориальном центре раковых исследований в Нью-Йорке, пойман с поличным своим же лаборантом, когда подкрашивал участки пересаженной кожи у белых мышей для того, чтобы продемонстрировать своему шефу доктору Гуду, что предложенный им метод трансплантации позволяет преодолеть иммунологический барьер. Разве это совместимо с высоким званием ученого? — пожимает плечами Иван Федорович в недоумении. Впрочем, скорее всего, и раньше он знал о каких-то отдельных случаях в науке, подобных этому, но… но верил, что это исключение, что в семье не без урода и так далее. Но это же — случай с Саммерлином — явное мошенничество в науке, а тот же Центр раковых исследований, испытывая финансовые затруднения, посчитал полезным для себя в сложившейся ситуации заявить прессе до окончательного расследования, что обманщик Саммерлин получил обнадеживающие результаты. В чем же тут дело?! Ведь речь идет не об одиночке безобидном — о целом научном центре. Но разве целый научный центр может обманом заниматься?.. А если самообманом?.. Тогда ж еще хуже…
Иван Федорович в возбуждении ходит по комнате, каким-то осторожным взглядом окидывая полки с книгами, словно на ощупь пытаясь в них выделить этих самых галлисов и саммерлинов. Конечно же подобный способ подтверждения гипотезы — тягчайшее преступление ученого (и этот прыткий Галлис не мог не знать об этом), и все же в своеобразной логике ему, пожалуй, не откажешь, думает Иван Федорович с тяжелым предчувствием. В какой-то казуистической логике Галлису действительно не откажешь. Нет-нет, бесчестность в научной работе — отнюдь не уникальное явление, Иван Федорович сейчас остро понимает это, давно исчез в нем тот наивный ученый-рыцарь. Ему сейчас тяжело от другого — как эта аморальность в науке год от года становится все неуязвимее, рядится в какую-то свою, странную одежку… вроде этой казуистической логики Галлиса. И еще, что самое печальное, все чаще это связано с молодыми именами в науке, с будущим науки. По отдельным этим признакам пытается сейчас Иван Федорович определить ту будущую мораль. От коллективной той морали так много ведь зависит. Да почти всё! Взять ту же атомную бомбу, изобретатели ее конечно же свято верили в благие цели — предотвратить насилие и смерть. А не успев изобрести, в десятки, в сотни раз лишь увеличили жестокость в мире…
Тогда что же такое — ученый в этом мире? Что он может? Что он должен? Каким умом и ясностью какой он должен постоянно обладать? Какой моралью, идеалами какими? Что представляет наука на сегодня? Не сумма знаний, а сегодняшний творческий процесс, цели, установки? Существует ли она как чистая реальность или все это лишь фикция социального фона? А главное — какова ее нравственность на сегодня? Много ль в ней рыцарей вроде Нильса Бора?
«Да-а, мой верный брат Нильс Генрик Давид… — мысленно обращается Иван Федорович к Бору. — Нелегко и тебе было, нет, нелегко… Ты, разумеется, одним из первых опомнился от своего атомного открытия и со всем терпением и настойчивостью потребовал от военных и политиков невероятного: опубликования атомного проекта до применения атомной бомбы!» Да, да, да… все это было и смело, и решительно, и благородно. Права, тысячу раз права его жена — фру Маргарет Бор, что Черчилль не был великим человеком, не понял, не оценил благородных идей Бора… Да-да, взял и бросил бомбу на живых людей… потом вторую… опять на живых людей. Нет-нет, позором атомного убийства покрыли себя не ученые, создавшие бомбу, а те, что приказали взорвать ее над живыми людьми. Так отчего ж так жаль сейчас Ивану Федоровичу славного датчанина Нильса Генрика Давида… прямо-таки жаль до слез. И себя жаль. Все ходит он по комнате и все спрашивает, что же такое, наконец, ученый и что же ему остается делать в этом страшном мире, где одной бомбой убивают сразу тысячи ни в чем не повинных людей! Что в сравнении с этим его единственная жизнь! И сжимает он крепко гудящую голову. Раскачивает ее туда-сюда… туда-сюда… А с кровати в ответ своею головою сын божий покачивает. Словно говорит Ивану Федоровичу: «Не сходи с ума — ты же не бомбу изобрел, а наоборот — бессмертие!»
— Смеешься! — закричал вдруг дико Иван Федорович, валясь на кровать и взмахом руки сбивая картонную икону. — Смеешься! — слева и справа бил кулаками он мягкую подушку. — Бессмертие! Ха-ха… великое открытие!.. Ха-ха-ха… оставить им, этим жадным, продажным, присвоившим непонятно каким образом это святое имя — ученый. Чтоб, перевернув другим концом мое открытие, ударили бы новой смертью по человечеству… а-а-а!.. Я вам не Нильс Генрик Давид… нет-нет! Я — не датчанин! Нет-нет, я — русский! Отойдите, все отойдите… я не знаю ни слова по-датски… прочь… да что ж это такое?! Дания! Ха-ха… карликовое королевство… прочь… принц датский — … солдатский! А ну без рук! Только без рук… я — русский ученый… я… я не хочу!.. Я ничего не хочу-у… оставьте, пожалуйста… трое на одного?.. а… еще… и интеллигенты… м-молодые, да?.. из этих… как их… из… из ранних-х-х…
После сильного укола Иван Федорович вскорости забылся тяжелым сном, возле него сидела рыжая сестра, дверь в коридор была открыта, но эксцесс больше не повторился.
Ночью же позвонили об этом директору. Он требовал обо всем непонятном, что относилось бы к Эксперименту, немедленно докладывать — хоть днем, хоть ночью. Глеб Максимович сразу связался по телефону с замом. Но Игорь Серафимович успокоил его. Подобные эксцессы заранее прогнозировались четко разработанной программой Эксперимента и, оказывается, с нетерпением ожидались специалистами-психиатрами еще полторы недели тому назад. Первый зам уж начал было волноваться, но теперь — все в порядке, все развивается в соответствии с прогнозами Центра.
— И все же как-то грустно все это, Игорь Серафимович, — вздохнул директор. — Вы не находите? Какая-то глобальная несправедливость к человеку. И ведь не просто к человеку, а к первооткрывателю! Вы не находите, Игорь Серафимович?
— Да-да… конечно…
— Разве ж не достоин высших почестей мудрый и одержимый своею идеей первооткрыватель, указующий людям путь к свету, теплу, к победе добра над злом?
— Все верно, Глеб Максимович, увы, увы… Опыт истории, к сожалению, свидетельствует об ином. Вспомним хотя бы, что небезызвестный создатель лентоткацкого станка, экономящего труд многих рабочих, тайно задушен властями славного города Данцига, а его изобретение трусливо скрыто. Или время, более близкое к нам, — безжизненное тело Дизеля обнаружено в волнах Северного моря буквально через несколько дней после таинственного исчезновения великого изобретателя. А взять наше время уже, помните, как Армстронг — автор многих радиотехнических изобретений — выбрасывается в окно небоскреба… Вы посмотрите, Глеб Максимович, разные страны, разные эпохи, но как четко просматривается какой-то злой рок, тяготеющий над этими людьми. Несущими, как вы заметили, людям тепло и свет, добро и…
— Да-да… вы правы… но все равно несправедливо это и… и непонятно, по крайней мере, мне… и тяжело… Ведь Иван Федорович Круглов для меня… Вы слышите меня, Игорь Серафимович?
— Извините, ради бога, Глеб Максимович, слышу, слышу, конечно, и я очень-очень хорошо вас понимаю, Глеб Максимович, но… что я могу добавить? Мне, естественно, непонятна тоже… подобная несправедливость судьбы к таким людям. С другой стороны, очередное такое вот столкновение значимой личности с природой, какое-то приоткрывание природой своих тайн, — все это похоже на отступление мощной волны, с тем чтобы тут же вернуться и поглотить того, кто заставил ее отступить. Платить надо.
— Платить, говорите, надо?
— Увы, за все.
— Н-да… ну ладно… до завтра?
— До завтра, Глеб Максимович. Хотя что это я — завтра ж воскресенье. Хочу съездить на выходной к матушке, проведаю, то, се, отец в прошлом году помер, одиноко ей…
— Да уж понятно, а где живет-то?
— Да в зеленой зоне.
— А почему к себе не забираете, коттедж у вас со всеми удобствами, метраж позволяет.
— Ни в какую, Глеб Максимович, говорит — там у нее две собаки, кошка, то, се… По телефону тут звонила: еще и ворону какую-то пригрела… Жалеет она всех, ну а главное, там дом у нас небольшой, восьмиквартирный, соседи все давно сжились, друг друга знают… речка сразу за домом, так что…
— Понятно.
— Вот вы говорите, Глеб Максимович, коттедж, все удобства, то, се, а я вот в коттедж переехал, а в родительский дом все тянет… да так, что нет-нет да бросишь все и туда…
— Да понятно, понятно, Игорь Серафимович, счастливый вы человек!
— У меня в Упырьевке еще и баба Вера жива, девяносто лет…
— Счастливый, счастливый вы человек…
* * *
А мать у Игоря Серафимовича, разумеется, странный человек. Долго в их квартире проживала одна собака — беспородная Альма. Так надо же, в прошлом году мать породистую немецкую овчарку купила — Герду. Скучно, говорит, после смерти мужа стало. Есть кошка Мурка с котенком. Есть еще Жанни — дворовая собака, которая в основном проживает в их сарае, так как мать по забывчивости (или нарочно!) часто сарай не запирает. И поэтому никак нельзя было оставлять щенков, которых вот-вот собиралась принести беспородная Альма. Но Альма чувствовала это и, отправляясь с матерью на прогулку, юркнула в подвал. Перспектива пищащих под домом щенков никак не устраивала Игоря Серафимовича. Он сразу представил, какую жизнь устроят матери соседи, когда ко всем ее животным обнаружатся под домом щенки, принесенные их Альмой. И, обругав мать про себя растяпой, решил он лезть под дом. А больше ничего и не оставалось.
Итак, он спустился на первый этаж и, засунув голову в дыру, ведущую в подвал, на всякий случай позвал негромко Альму. Та, разумеется, не откликнулась. Он звал ее негромко, чтоб не всполошились соседи. Воскресный день — все дома. Обилие животных, которых всегда держала мать Игоря Серафимовича, раздражало соседей. Особенно соседа, живущего прямо под родительской квартирой, — хозяйственного Сокуренко.
Значит, он позвал на всякий случай:
— Альма, Альма!
В ответ ни звука, темное отверстие пред ним безмолвствовало. Игорь Серафимович сидел перед ним на корточках, слушал, как у многих в доме работали телевизоры. Дом двухэтажный, деревянный, старый — все слышно. Где-то гремели посудой, плакал ребенок, смеялись… а перед ним небольшое отверстие, ведущее под дом, оттуда тянет плесенью, затхлостью, пылью. Игорь Серафимович, правда, не очень-то представлял подвал под их домом. Скорее всего, этого никто не мог представлять, так как никто и никогда там не бывал. В обычном смысле слова настоящего подвала под их домом не было вовсе, а в то небольшое пространство, что все-таки там было, никто, кроме кошек и собак, не мог проникнуть. В редкие периоды капитальных ремонтов их старого дома можно было наблюдать, что полы нижних квартир лежат почти на трубах, которые идут под ними. И доступ к этим трубам в случае необходимости осуществлялся прямо из квартир нижнего этажа. В принципе через пол из нижних квартир он мог бы и сейчас разыскивать Альму. Но, во-первых, соседи были бы далеко не в восторге. Во-вторых, обнаружить ее таким образом было почти невозможно, так как она спокойно бы переходила с места на место, все время оставаясь в темной неизвестности. Надо было лезть в подвал самому. Хотя и не хотелось. День на дворе яркий, солнечный, а тут… б-р-р…
Все это он рассудил, сидя перед дырой на корточках. Он думал, что лезть конечно же не хочется — пыльно, грязно, затхло то, что скрывается перед ним в темноте. Какому же нормальному человеку захочется лезть в такое! Но лезть нужно: не оставлять же там пищащих щеночков на злорадство соседей. Да просто жаль было Игорю Серафимовичу бестолковую матушку свою.
Так он логично все рассудил, с корточек поднимаясь и возвращаясь в квартиру за свечой. Он по лестнице бодро взбежал к себе на второй этаж, стал насвистывать легкомысленное что-то. И только виноватый вид матери вернул мрачноватое раздражение на его лицо: вот, мол, упустила, растяпа, а мне теперь вместо воскресного отдыха лезть в грязь, затхлость, тесноту и темноту, и вообще черт знает что там может быть, в этом подвале под их домом, в котором за все время существования дома — а это около полувека — никто никогда не бывал. Полвека никто там не был, а вот Игорю Серафимовичу теперь приходится.
Ладно. Хмуро и раздраженно он стал собираться. Надел старый тренировочный костюм, сунул спички в задний карман брюк, взял свечу в удобном подсвечнике, который при случае можно поставить даже и на не очень ровную поверхность — не упадет. И опять к дыре спустился.
Тут в полумраке он аккуратно раздвинул, проход освобождая, детские коляски, санки, велосипеды, которые здесь постоянно оставляются жильцами дома. Зажег свечу и стал протискиваться в дыру. И сразу же оказались перед ним две трубы. Проползти над ними сверху не было никакой возможности — между трубами и полом было не более десяти сантиметров. Брезгливо сморщившись, он сунул голову под трубы. Голова пролезла, хотя при этом он оцарапал слегка подбородок о щебенку или остатки давнишнего бетонирования квадратного стояка, вдоль которого пришлось протискиваться. Помогая локтями, извиваясь всем телом, вслед за головою он протащил под трубами всего себя. Причем очень хорошо чувствуя при этом, что одна труба над ним холодная, другая горячая. Такой вот странной печатью, наполовину холодной, наполовину горячей, словно японские «ян» и «инь», его сразу же как бы и припечатал этот подвал под их домом.
Свет от свечи, которую он осторожно двигал впереди себя, слегка освещал пространство. Но поскольку Игорь Серафимович не мог приподняться даже на локти, пространство впереди ограничивалось метром, не более. Хотя понятно, что там впереди, в темноте, есть и еще какое-то пространство. Мрак, тьма… это не просто мрак, тьма, это еще не окончательная субстанция. Вот, потихоньку руку со свечой вперед продвигая, действительно он видит, как мрак отступает, расходится, а из мрака, все более вещественность обретая, что-то проступает… что?.. какое-то мшистое бревно, наполовину ушедшее в землю. Проползая мимо, Игорь Серафимович думает, что вот… бревно… когда-то им было — а теперь? Уже многое с ним, с бревном этим, связанное — из той, из солнечной жизни еще, теперь в земле наполовину, да и другая половина, могущая еще о чем-то поведать, обомшела и сгнила, все ниже, ниже в землю опускается. А собственно, под Игорем Серафимовичем была не земля, а какая-то смесь земли, шлака, опилок и щебенки. И все так густо пропитано полувековой пылью, что ползти было даже мягко. Как по ковру. Конечно, от собак и кошек, что за полвека здесь вдоволь порезвились, должно быть, много накопилось всяческого дерьма. Он полз, по крайней мере вначале, не без внутреннего отвращения, брезгливости. Хотя чем больше принюхивался, тем больше убеждался, что особенно-то ничьим дерьмом тут не воняет. Тут свой был запах, подвальный, причем подвала очень низкого, более похожего на какую-то обширную нору. Так что запах был, в общем-то, нормальный (с учетом норы), и он к нему быстро привык, минут через десять уже дышал не смущаясь.
Итак, освоившись, принюхавшись, он прополз первые метры, по-видимому под лестничной площадкой, и увидел, что далее пространство расширяется. Подвал как бы потерял одно из направлений, и надо было выбирать — налево или направо. Направо — это под Сокуренко. И поскольку Игорь Серафимович недолюбливал его за куркульство, то и полез он налево, под квартиру Сереги. И только налево свернул, путь пошел под уклон, потолок приподнялся. И вскоре Игорь Серафимович смог встать на корточки, слегка оглядеться — доски с ржавыми гвоздями, осколки кирпича, полуистлевшие тряпки увидел он. Пол над ним оказался на удивление не таким основательным, каким он кажется для тех, кто ходит сверху по нему, передвигает тяжелую мебель. И дело было не только в том, что Игорь Серафимович все теперь прекрасно слышал, а дело было в том, что люди в квартирах не знали ничего об этом. И эта их, в общем-то, какая-то неожиданная беззащитность настолько Игоря Серафимовича тут поразила, что он запретил себе даже прислушиваться, о чем Серега говорит со своею молодою женою. Он лез себе и лез, и вот уж разговор Сереги с Ольгой остался позади. Теперь он слышал, как Серегина матушка что-то говорила внучке Светочке, что-то про то, как вести себя в детском саду. Тут опять его путь раздвоился, он решил налево завернуть, чтоб никаких уж необследованных закутков не оставалось, и сразу попал в такую тесноту, что скоро уперся в холм, подступающий под самый пол. Игорь Серафимович слегка покопался в этом холме, то есть сгреб его верхушку и через углубление все ж перелез через этот непонятный холм. И оказался в замкнутом, почти кубическом пространстве. Тут было довольно просторно, то есть опять было можно присесть на корточки, оглядеться — сквозь едва заметные щели в полу доносилась цветомузыка. Значит, Игорь Серафимович сейчас под маленькой комнаткой, где у Сереги цветомузыка. Цветная музыка, пробиваясь в подвальный куб, где сидел Игорь Серафимович, была приятной. Он хотел было прислониться к стояку, послушать и тут же внезапно увидел совсем рядом блеснувшую осторожным тяжелым блеском какую-то зеркальную поверхность у стояка и отпрянул. То была яма с нечистотами. Скорее всего, она была неглубока, но лучше от нее подальше. И Игорь Серафимович развернулся, перевалил через холм обратно, в основную часть подвала. Но еще какое-то время перед мысленным взором его стоял тесный куб, наполненный цветомузыкой, и поблескивала осторожно яма у стояка.
Теперь он двинулся в сторону квартиры Спицыных. У Спицыных живут две семьи. На кухне, судя по голосам, сидела Алка Спицына и ее соседка Тонька. Разговор шел о мужиках, так как обе незамужние. Они весело говорили о мужиках. С какой-то легкостью. С какой-то безнадежностью стареющих матерей, у которых быстро подрастают дети. И пока он лез под кухней, не очень вникая в суть разговора, потому что суть неважна, он понял что-то гораздо больше сути. Понял Алкино и Тонькино удивление, ими и самими-то пока не понимаемое, мол, как же так — дети так быстро растут, почти взрослые, дети сами женихаться начинают, пора бы и Алке с Тонькой на какой-то другой уровень вроде бы переходить, а они всё о мужиках да мужиках… Все это им и самим было не очень понятно, просто чувствовалось в разговоре… чувствовалось в какой-то непонятной тяжести некоторых слов, некоторых веселеньких фраз, составленных из невеселых слов; слов, стоящих как бы на очень тяжелых подошвах, которых нормальным людям не видно. Но вот Игорю Серафимовичу, извивающемуся как червь у них под полом, все было так очевидно, так понятно… Он даже поторопился поскорее проползти до самой стенки и поскорее убраться восвояси. Но тут, у стенки, у окна, где у Спицыных под раковиной спускается в подвал труба для слива, отверстие было не заделано, и свет из кухни проникал растянутым желтоватым пятном. Протискиваясь за трубу, в узкое отверстие, Игорю Серафимовичу пришлось лечь на бок, а потом и вообще перевернуться на спину, иначе не пролезешь. Пришлось, цепляясь руками за эту осклизлую, всю проржавевшую трубу, помогая себе ногами, судорожными толчками просовывать себя все глубже и глубже в нишу за трубой. Вот тут-то и оказался он вдруг лицом напротив отверстия, ведущего в кухню к Спицыным, дохнуло жареным луком, теплом, живой кухней. И так поразил живой дух, что Игорь Серафимович замер, купаясь в живых его волнах. Словно бы годы провел он здесь, в подвале. А между прочим, не провел еще и получаса. Но так уж тут все мертво на полвека остановилось, что Игорь Серафимович, купающийся в волнах живого духа, льющегося на него из спицынской квартиры, хорошо чувствует сейчас, что полвека подвального мрака сделали свое мрачное дело. Это, где он находится сейчас, хоть и очень близко от того, откуда так тепло и вкусно пахнет жареным луком, но все это совсем разные вещи. В принципе разные. И тут уж ничего не поделаешь. Вот ведь и видит он, изо всех сил протискиваясь за трубу, ясно видит часть голой ступни, судя по покачиванию в такт Алкиным словам, ей и принадлежащую. При желании можно руку протянуть и коснуться, даже схватить покрепче, к себе в дыру потянуть. Но ведь он не может этого сделать! Трудно даже и вообразить, что из этого произойти может. Да только вмешайся, и нарушится такое равновесие! Да вообще может произойти черт знает что! Да Алку наверняка родимчик хватит… он же знает ее — мышь пробежит, Алка визжит без памяти. Так что уж лучше не надо. Никогда не надо вмешиваться в естество, в естественный ход вещей, в основе которых лежат законы, не человеком придуманные. Вот только потому вроде бы и может, и одновременно не может он что-то предпринять сейчас. И сам, как всегда, это отлично понимает. Значит, так, всего-то он здесь и пробыл с полчаса или час, а сколько — он и сам сейчас не смог бы сказать точно. Да это и неважно. Главное — все понимать. Он их всех теперь, над ним живущих, понимает. И Серегу, и Спицыных… Сокуренко даже, всех, всех… Мать, упустившую Альму, понимает… да, Альмы здесь нет, надо, пожалуй, ему направо поворачивать, под квартиру Родниных. Он всех сейчас понимает, даже в других домах живущих, потому что в принципе-то их родительский двухэтажный дом у реки ничем не отличается от абстрактного всеобщего, где все живут, если вот так снизу на всё и вся взглянуть. «Сверху-то многие на мир глядят, а вы бы вот так, как я, извиваясь… — бормочет Игорь Серафимович. — Снизу… из подвала…»
Странно — в пыли, в темноте, тесноте и затхлости, поминутно застревая среди каких-то нагромождений из досок, кирпича, тряпья и еще чего-то невразумительного от времени, он весь дом не просто слышал, ощущал, он как бы всех видел теперь насквозь-навылет. Словно бы и не мрак был вокруг него, слегка раздвигаемый замедленным колебанием слабого пламени, а словно бы мир над ним был из голубоватого сверкающего стекла, из лазурной воды Тихого океана, в которой прекрасно видно всех обитателей на много метров вширь и вглубь. Он теперь всех, всех видел-понимал. И почему пьют Роднины, и почему их Маринка с такими отклонениями, и почему оба Сокуренко такие толстые, и почему Ирина Сергеевна такая, а ее муж совсем другой… понимал не только свой собственный родительский дом, но и далеко за пределами его. Понимал, конечно, не теми, на поверхности лежащими причинами, вроде паспорта, удостоверяющего личность в отдельности. Нет, он понимал их всех теперь одной простой, но сугубо глубинной причиной, о которой и не догадываются живущие поверх причины этой. И чем теснее чувствовал себя, чем, противнее были щели, в которые он по необходимости заползал, тем все лучше и лучше понимал. А потом свеча погасла. И он не сразу смог зажечь ее. Было так тесно, что и спичку не сразу достанешь. И надо было выползти сперва на более просторное место. И вот в эти неуютные минуты его всепонимание, его чувство временно-подвального превосходства над всеми остальными стало быстро исчезать, таять. Это снисходительное чувство тут же, словно какой-то гигантский паук, высосал без остатка мрак, что плотно окружал Игоря Серафимовича со всех сторон. И оказалось, что даже со своим неправдоподобным всепониманием, но пребывая в чистом мраке, Игорь Серафимович ничто. Он даже и не песчинка, его нет совсем, потому что не видно. Нет, нет и нет! Мрак так давил, так глушил его, что на какое-то время исчезли даже звуки, исчезли мысли, было одно лишь отчаянное одиночество во мраке. Да еще какой-то холод подступал все ближе и ближе. А собственно, именно этот холод и напомнил вдруг, что Игорь Серафимович не просто так себе, а все же первый зам! Но только свободнее, тем более светлее, от этого, отнюдь, не стало, наоборот. Но теперь уж, находясь в ужасной темноте, он ни на минуту не забывал, что он все же первый, самый первый зам. И все время инстинктивно ощупывал руками пространство перед собой, словно необозримая бездна могла вот-вот разверзнуться и все поглотить. Беспомощно щупал он впереди себя руками, отчаянная зарождалась мысль, что и дальше, возможно, свечи не зажечь, не развернуться… И все лез, упрямо лез вперед, какое-то непонятное ощущение нашептывало, что впереди надежное пространство, впереди выход, что надо лезть, а там будет где развернуться, где свечу зажечь, там все будет. Все. И когда действительно долез туда, куда надо, развернулся и свечу зажег, первое, что увидел, были знакомые желтовато-золотистые глаза этого самого удивительного понимания, которого он так страстно желал, которое конечно же всех нас, бедных, в конце пути и ожидает, и постоянно незримо окружает. А потому не удивился, не испугался. Хотя лишь несколькими секундами позднее ясно осознал, что это не какие-то мифические там глаза, а просто-напросто на свет его свечи, радостно поскуливая, выползает откуда-то из страшных углов их глупая Альма.
Альма дома. Пусть теперь щенков приносит — не страшно. И как бы в развитие этой теперь уже не страшной мысли Игорь Серафимович после подвала, оказавшийся в неправдоподобно ярком свете дня, удивлен. Удивлен и восхищен. Словно бы до этого все воспринимающие мир органы его: глаза и уши, осязание и обоняние, — все было в последние дни и недели чем-то забито, замусорено, сумрак был в них постоянно. А теперь как-то враз очистились: каждую вещь воспринимают в беспредельной сущности ее как какую-то последнюю истину. А потому все так радует его и восхищает. И вот, раскрыв записную книжицу, вместо того чтоб заниматься квадратиками, плюсиками, вопросиками, с каждым днем все ровнее выстраивающими гигантские качели Большого Эксперимента, восхищенный Игорь Серафимович торопливо записывает туда такие вот слова:
«Да-да… какое-то немыслимое опыление-оплодотворение охватило весь мир. Занесло черт-те откуда семена огромного сочного растения — бутана. Заполонил все вокруг. Стрекозы летают, бабочки порхают, пчелы жужжат — переносят нектар, попутно опыляя всевозможные растения. Каждый листочек истекает хлорофиллом. Каждая былинка призывно кивает другой былинке. Любой червяк, разруби его на десять равных частей, после себя десять червяков оставит. Какая-то лавина жизни обрушилась на меня, только что вылезшего из подвала. Микробы в воздухе — это тоже жизнь. Пара микробов бактерию какую-нибудь организует. Десяток бактерий сцепится — опять червяк получится. Червяка хоть на сто частей разруби — только сам себе хуже сделаешь. Какая-то пузырящаяся, вскипающая лавина жизни! И в каждом вскипающем пузырьке — сама жизнь!
Мурка наша принесла недавно пять котят! Альма готовится щеночков столько же. А то и больше! Ворона, которую недавно мать принесла из парка, подозрительно что-то притихла — уж не на яйцах ли вздумала сидеть!
На улицу выйдешь, хоть уши затыкай! Нежнейшие птичьи трели в моей душе в тот же час метаморфизуются в будущих птенцов. Жирная грязь под ногами — это ж чистейший навоз, перегной! Из всего ж прет жизнь. Буквальная или потенциальная. Ведь плюнуть же страшно, братцы! Слюна что-нибудь увлажнит, и вот, пожалуйста, — под солнечными лучами взращение незримо происходит. Ходишь по земле и чувствуешь, прямо-таки через толстые подошвы, что под тобою все живое! Вся земля!
Земля, несущаяся в Космосе, пригреваемая Солнцем то с одного, то с другого боку, — тоже живое тело. С напряженнейшей жизнью. С миллиардиками пульсиков. И все гремят, никогда не затихают. И мой несчастный, с шестьюдесятью ударами в минуту, среди этих миллиардов. В непостижимом холоде и темноте, в бессмысленной сложности и ожесточенности первородного вакуума несемся мы, люди, в поисках ответа: «А в чем же все-таки смысл всего этого?»
И еще какое-то время после этого ходил он долго вдоль речки среди вечерних стрекоз, мотыльков и бабочек. Мысли о будущем Эксперименте были маленькими, невзрачными, дышалось легко и крупно, ходилось легко и размашисто. А потом, конечно, солнце село, заволокло небо тучками, пришел ветер с дождем, и, возвращаясь в город электричкой, Игорь Серафимович опять вовсю об Эксперименте думал. Об Эксперименте — только о нем.
IX
А ветер дул и дул все сильнее, обрывая последние листья. Все осыпалось в Иване Федоровиче. «Но что я могу поделать, — шептал он, — если такая горькая клейкая листва у этой непонятной весны, если такой пух тополиный… как саван… если такой ветер вокруг меня и во мне ветер… вырывает с корнями деревья, срывает, бросает наземь теплые уютные гнезда…» Неуютен мир без крыш, без стен, без замков, земля мокра от июньских дождей, слишком хорошо все видно в июне, все проще и проще мир вокруг, все ожесточенней.
Уже, испросив, разумеется, разрешения, подселили к Ивану Федоровичу некоего человечка. Для создания, по-видимому, на данной стадии исследования необходимого микроклимата. Ходит тенью и пытается рассуждать о науке. Иван Федорович вежливо и твердо о науке говорить отказался, а в туалет сопровождать запретил.
— Так о чем же нам тогда говорить? — спросил человечек, и было видно, что он очень обиделся, хотя старается и не подавать вида.
— Да о чем угодно… кроме науки. — Иван Федорович уже и жалел его. — Кстати, как же вас все-таки звать-то, а то — мэнээс, мэнээс, это разве ж по-русски, имя-то какое-то давали отец с матерью при рождении?
— Имя? — человечек испуганно, заостренно как-то глянул на Ивана Федоровича и тут же опустил глаза. — Имя есть… конечно… хи-хи-хи… но только…
— Черт возьми, чего мямлишь, звать-то как?!
— Звать? — Человечек весь задрожал от страха и тихо молвил: — Вася.
— Вася? — с удивлением переспросил Иван Федорович, повнимательнее разглядывая человечка, уже коря себя за грубость — разве ж виноват человечек этот. И Иван Федорович постарался по возможности доброжелательно продолжать: — Василий, значит, ну что ж — очень хорошее имя, а меня…
— Я знаю, — поспешно произнес тот, — Иван Федорович Круглов…
Иван Федорович вздохнул. Потом усмехнулся и слегка развел, плечами пожимая, руки в стороны, словно говоря, мол, сам удивляюсь, но это действительно так, тот самый то есть… Помолчали, каждый сидя на своей койке. Иван Федорович посмотрел на лицо человека напротив. Лицо показалось ему спокойной поверхностью воды — брось камушек, вмиг исчезнет бесследно, лишь круги пойдут. Иван Федорович спросил:
— А-а… скажите, Вася, о чем вы в детстве мечтали?
— В детстве? — быстро переспросил тот, успев мгновенно глянуть на Ивана Федоровича. — В детстве я хотел стать ученым.
— Ученым? Именно ученым? Почему не штурманом дальнего каботажного плавания, не артистом — ведь столько прекрасных профессий вокруг, почему именно ученым, Вася?
— Ну как же, Иван Федорович! Наука же сейчас — главная производительная сила, перед ней ведь открываются необозримые горизонты. И… вообще… у меня ведь, Иван Федорович, и мать и отчим совсем простые люди, жили мы всю жизнь в коммуналке… эти вечные дрязги, эти вечные сплетни, пеленки-распашонки, хотелось, знаете ли, как-то поближе к культуре приблизиться, вот… Мать мне всегда говорила: «Учись, сынок!» Мать у меня, Иван Федорович, была очень хорошая… да и отец тоже. Я, правда, его не знал, я родился — он уже умер… от белой горячки, а ведь столяр был первого разряда. Ну а когда умирал, меня не дождавшись, горевал, конечно, и завещал, если опять девка будет — всё пропить на помин души. А если наконец сын будет — до меня-то все девки были, — так вот, если сын будет, не пропивать его столярку, а продать и мне на сберкнижку до совершеннолетия… Вот так у меня к совершеннолетию и квартирка кооперативная получилась. Мать исполнила волю отца, мать у меня, Иван Федорович, очень хорошая, хотя и не очень культурная, конечно. Однокомнатная, конечно, квартирка, зато своя. Так-то квартирка неплохая, потолок вот несколько подкачал, ну да я им займусь, когда выйду отсюда. Уже было взялся, да вот… — Сосед вздохнул и осмотрелся.
— Ничего, — прищурившись, сказал Иван Федорович, — скоро освободитесь… уж потерпите немножко…
— Да вы что, Иван Федорович! — испуганно сосед воскликнул. — Я ж совсем не поэтому, наоборот… приму за честь… извиняюсь крупно, да я, если надо…
— Ах, Вася-Вася, да ничего не надо… В шахматы играешь?
— К сожалению, Иван Федорович, нет.
— Жаль… Что делать-то будем?
— А я не знаю, Иван Федорович.
— Ну хорошо, Вася. Тогда… тогда скажи мне, по крайней мере, чем же ты все-таки в этой жизни занимаешься?
— Видите ли, Иван Федорович, наш институт в целом занимается влиянием культуры на науку, ну а наш отдел, в частности…
— Влиянием науки на культуру?
— Ну разумеется ж, Иван Федорович. Ведь мировая наука, сама порожденная нашей культурой, теперь, в свою очередь, повсеместно оказывает мощное влияние на культуру.
— Оказывает?
— Давит! Просто давит, Иван Федорович, на все сферы нашей культуры. Наука выросла сейчас в такую силу, что всецело формирует сознание как ученых, что само собой разумеется, так и сознание людей, казалось бы, от нее совсем далеких.
— Любопытно… весьма…
— Еще бы! Представляете, до чего дошло: что любое уже высказывание, практически в любой области нашего бытия, чтобы быть авторитетным, принимает теперь хотя бы внешне научную форму или, по крайней мере, хотя бы апеллирует к науке. Нет, коль человечество избрало техногенный путь для своей цивилизации, наука по праву стала источником мощных мутаций в нашей культуре, и со временем это будет только усиливаться. Лично я так думаю.
— А с моралью что будет? Ну, культуру она давит, как ты говоришь, а вот с моралью как дела обстоят, Вася?
— С моралью? С моралью я не знаю, Иван Федорович. Специально моралью наш НИИ не занимается. Правда, есть что-то такое на общественных началах, но врать про мораль не буду… чего не знаю, так уж…
— Н-да… Ну что ж, — Иван Федорович вздохнул, — расскажи тогда что-нибудь… Вася…
— А что, Иван Федорович?
— Ну, я не знаю… о себе, может быть, как живешь, друзья, жена там?
— Ну какая там жена, Иван Федорович… нету… пока нет.
— А-а… ну, может быть, близкие-родные, может, женщина какая…
— Женщина есть, как же. Женщина есть, Иван Федорович, шикарная баба, извините, конечно, Иван Федорович, — Зинка-аптекарша. Поехала в отпуск и, вы представляете себе, Иван Федорович, хахаля с собой привезла! Во-во! Под потолок, себе под стать, в дверь не войдет, а уж рожа! — рожа кирпича просит. А ведь я ей, придурок, стихи когда-то посвящал…
— Стихи? Ты что — и стихи писать умеешь?
— Да так… белые… их, знаете ли, вообще-то очень трудно писать. Да вот посмотрите сами, вот в книжечке, мне очень важно знать ваше мнение, очень важно…
— «Деревянные цветы»? — с некоторым удивлением прочел название Иван Федорович.
— Да-да, это белый стих, мне очень важно… пока вы читаете, я мешать не буду, погуляю в коридоре…
Оставшись один, Иван Федорович, склонивши голову набок, прочел: «Деревянные цветы», — и зажмурился… Завтра с утра выходит Тамара Сергеевна. «Ох-хо-хо… — не разжимая глаз, стал раскачиваться он. — Ох-хо-хо… — стонало все его существо. Навалилось на Ивана Федоровича вместе с появлением маленького этого человечка в науке — Васи, — навалилось, словно глыба огромная, огромное будущее того дела, которому посвятил Иван Федорович жизнь. Да что там посвятил! Красиво собою пожертвовал… А что из этого вышло? — Вася… вот… — не разжимая глаз, нащупал книжечку. — «Деревянные цветы»… ох-хо-хо… ох-хо-хо…» И так нестерпимо жаль было… только вот чего, кого? — непонятно. Себя ли, нелепого этого Васю, Марию, Глеба… Нильса Бора, обманувшегося в самых лучших своих устремлениях? Всего и всё вдруг стало нестерпимо жаль. Тут опять всплыло лицо Тамары Сергеевны, ровно прохладным опахалом взмахнуло, Иван Федорович вытер глаза, на часы взглянул — пора было идти принимать сероводородную ванну. И странно поразила его столь несовместимая ассоциация — Тамара Сергеевна и-и… сероводородная ванна…
В коридоре, извинившись за то, что в стихах не смыслит, тем более в белых, Иван Федорович отдал книжечку Васе. Перед ванной, раздеваясь, рассматривал, трогал пальцами отслужившее тело, икры в голубых жилках, язвы, пальцы ног с ороговевшими навсегда мозолями, а главное — повсюду желтизна, сухость, ороговение. Усмехнулся горько: «Деревянные цветы».
В тихий час дремали. Вернее, Иван Федорович чутко дремал, Вася же похрапывал во всю ивановскую. Но, поднявшись к графину с водой, Иван Федорович глянул и увидел, что правый глаз у Васи приоткрыт чуть ли не наполовину.
— Вася! — шепотом позвал Иван Федорович.
— Я здесь! — сразу перестав храпеть, сел на койке Вася.
— Ты… спал? — неуверенно спросил Иван Федорович.
— Ага. А что?
— Да ничего, но… странно как-то…
— А что? Что случилось, Иван Федорович?
— Да знаешь ли, братец, мне показалось, что у тебя один глаз почему-то был открыт…
— Вот этот, что ли? — потрогал Вася свой правый глаз.
— Да-а, этот.
— А-а-а… — отмахнулся Вася. — Это у меня, Иван Федорович, с детства привычка такая, невроз, одним словом. Сначала я в детстве беспричинно плакал, врачи не могли никак установить причину, а потом — вот это: глаз не закрывается ни днем ни ночью.
— Но ты же им… э-э-э… надеюсь, когда спишь, ничего не видишь?..
— Что вы, Иван Федорович, конечно, ничего не вижу… я ж говорю — невроз мышцы верхнего века, вот оно и перестало до конца закрываться… всего-то…
— И не мешает?
— А нисколечко… только иногда проснешься ночью и чувствуешь, что правому глазу вроде попрохладней как-то, вроде сквознячок какой-то потягивает через правый глаз, а так — норма.
«Однако же какой-то выверт в этом есть, — то и дело приходит мысль такая Ивану Федоровичу весь день в воскресенье. — Ну надо же — глаз не закрывается ни днем ни ночью! А человек… лихой, однако ж, человек этот Вася! А человек живет себе и совсем не чувствует никакого выверта, никакой изнанки». Мысль странно успокаивала, в каких-то темных отголосках сознания делалось почище, поспокойнее, только по-прежнему страшно было до конца самому заглянуть на эти окраины сознания, поэтому и Тамару Сергеевну так часто вспоминал в этот день воскресенья.
После ужина поговорили с Васей немножко. Иван Федорович был невнимателен, но разговор поддерживал. Только на Васин вопрос, что надо сделать, чтоб стать большим ученым, не ответил вечером, утром обещал ответить. И Вася уснул, уставившись правым глазом в потолок. А Иван Федорович сдавленно вздохнул и вновь возникшую внутри тревожную темноту светлым лучиком просветил — Тамару Сергеевну стал вспоминать. Стал осторожно куда-то шаг за шагом продвигаться.
Иван Федорович с оглядкою на Васю вырвал осторожно лист из общей тетради, сел на пол перед дверью, из-под которой немного пробивалось света коридорного, и наискосок (в направлении луча из-под двери) написал: «Тамара Сергеевна…»
Всю ночь просидел он без единой мысли рядом с листочком, на котором написал два дорогих слова, и утром не чувствовал совсем усталости. Да и у Васи голос был бодрый, утренний, когда напомнил Ивану Федоровичу о том, что надо сделать, чтобы стать большим ученым.
— Что надо сделать, чтобы стать большим ученым, Вася? — с ошарашенным выражением на лице переспросил Иван Федорович.
— Ну да, — потягиваясь после сна, сказал Вася, — вот как вы, например.
— Как я? — как эхо повторил Иван Федорович. — Ну, конечно же, конечно… как я, как я… как же… да-да, ясно… спасибо… я сейчас… сейчас… — Он неуверенно, как-то бочком, направился к двери. — Я сейчас… сейчас…
— Да куда же вы? — потягиваясь, спрашивал Вася. — Иван Федорович, куда вы? А еще ответить с утра мне твердо обещали…
— Сейчас… сейчас…
Этот незакрывающийся глаз-вывертыш и прямой вопрос о чести настоящего ученого вдруг примирили в нем то, что никак соединяться не желало, — противоестественность и высший смысл человеческой природы. Иван Федорович боялся утерять это примирение, почти бегом выбежал в коридор. Утро было холодное, прозрачное…
Он лифтом поднялся на последний этаж здания, а это был восьмой или девятый — он точно не знал. Здесь располагались в основном подсобные помещения. Он на одном дыхании, чувствуя небывалый прилив сил, пробежал темноватый в столь ранний час коридор больничных подсобок и только оказавшись на площадке черного хода перевел дух. Но тут какие-то звуки насторожили его, и, набычившись, головой поматывая, он проворно стал взбираться по вертикальной железной лестнице. От бега в легких хрипело и посвистывало, ноги дрожали от слабости, ладони, хватающие проволочные перекладины, сразу вспотели, к ним прилипала бурая ржавчина, и они окрасились, а между тем все существо его ликовало: «Страшный век! Жестокий век! Век одноглазый, как пират! Я обманул тебя, век — одноглазый жестокий пират!» Оказавшись под самым потолком, плечами и шеей Иван Федорович стал приподнимать массивный железный люк. При этом хрипел и брызгал слюною: «…Если уж и Нильса Бора сделали… сделали соучастником убийств… ужасных… если уж такого святого человека навсегда опозорили!.. — Люк откинулся, и Иван Федорович, до половины просунувшись в чердачное отверстие, откинулся на спину — полувисел теперь, полулежал, отдуваясь и хрипя во весь голос: — …А меня вам не удастся… нет-нет… я опередил вас… со мною всё мое… свободен я… свободен… — Он протиснул на чердак остальные части тела и захлопнул люк. — Свободен! свободен!! А вы… оставайтесь… мышек подкрашивайте… прохиндеи бессовестные! — Иван Федорович поднялся, машинально отряхнулся, смутно удивляясь следам ржавчины на пижаме, он все еще механически бормотал: — Мышек… мышек… — меж тем как сам в тишине и пыльном солнечном коловращении решительно двинулся к чердачному окну. Он навалился-надавил на него — и рамки-створки стали медленно, с пергаментным скрежетом отдираться друг от друга. Свежий воздух уже тек навстречу, Иван Федорович сладко вздохнул — свобода начиналась в двух шагах. Она так много вмещала несбыточного — колесо аттракциона парило в утренней синеве, запущенный мальчишкой бумажный змей раскачивался над колесом, луч солнца играл с водой пруда, и вода от этого казалась расплавленным алмазом. — Пора». Но Иван Федорович, в окно с кряхтеньем продираясь, вспомнил про обручальное кольцо. А скорее всего, и не вспомнил — просто на глаза попалось. И приостановил движение, снял кольцо, вздохнул и бросил в синеву. Сверкнув, кольцо тут же растаяло, как будто ничего и не было. Тогда, шумно вздохнув и потерев темный след на пальце от кольца, Иван Федорович целиком выполз на тепловатую крышу. Гулял по крыше радостный ветерок. Иван Федорович не стал подниматься, а так, на коленях, дополз до края и боком, неловко и морщась от этой неловкости, словно кто-то за ним наблюдает, вывалился в синий воздух…
Первое, о чем подумал через мгновение, освобождаясь от веревок и белья, развешанного на балконе, куда свалился он, было: «Так будет всегда — я буду умирать и воскресать, всегда». А уж потом он действительно на какое-то время потерял сознание. Или, скорее всего, то был просто шок, ибо неосознанно он все видел — множество людей вокруг, суету, тревогу, открытые рты, жесты… Потом уже окончательно пришел в себя в палате. Когда над ним склонилось умоляющее, все в слезах лицо Тамары Сергеевны. Ее страстные слова, полукруглые движения то левой, то правой руки, смахивающих поочередно слезы. Поправляя подушку, Тамара Сергеевна почти неощутимо дотрагивалась до его лица, а то близкое и родное, что исходило от этого человека, становилось от ее неощутимых прикосновений все сильнее и сильнее, почти непереносимо было, и от этого застонал Иван Федорович, в ужас повергнув бедную Тамару Сергеевну. А застонал он оттого, что впервые вот так полно охватил вдруг ускользавший доселе смысл бесконечности и от горячей радости сотворения подумал: «Я умирал и воскресал уже много, много раз!»
Над последним событием Иван Федорович не стал много раздумывать, поставив его в ряд просто необходимых. Мокрое от слез, полное мук лицо Тамары Сергеевны говорило больше всех рассуждений. И поза, и слова ее, когда над ним склонялась, говорили об этом же. Теперь все в ней было пронизано болью его, Ивана Федоровича, наполнено, оплодотворено… его болью! Он это ясно видел — нужны ли здесь рассуждения какие!
— Не уходи, — он все просил, — говори, говори еще…
— А вы-то… а ты-то сам… — с отчаянием и радостью она, склонившись близко-близко, отчаянно шептала. — Отчего молчишь?
— А я — потом, потом… сначала ты… ну, говори, говори…
Он прямо-таки вытягивал из нее слова, смятенную улыбку, все эти вздохи-охи-ахи. Он наслаждался быстрой жестикуляцией ее тонких пальцев перед его лицом. Он умилялся, когда она скорбно, по-бабьи складывала руки на груди. А такое знакомое, родное вскидывание головой… А четкие морщины по бокам рта, которых не было до этого… Но главное конечно же слова, которых теперь так не хватало ему. Хотелось про запас набрать, унести сколько можно. А тело как бы занемело от уколов, грелок, от хрустящих простыней, но вообще-то занемело от собственного замирания — в душе ведь было холодно и сине, восторженно так… Только бы не уходила, только бы говорила, неслышно пальцами дотрагивалась, глядела добрыми глазами.
Сосед теперь исчез куда-то. Да Иван Федорович не особенно и вспоминал о нем. Тамара Сергеевна все эти дни была с ним. Он все глядел на нее, слушал, слышал, чувствовал ее всю. Это было как зеркало, Иван Федорович словно самого себя разглядывал в этом зеркале — в живой душе другого человека. Ведь истинное зеркало — это действительно чужая душа, когда она не потемки, а светлый день. И медленно, медленно, гораздо медленнее, чем в первый раз, все стало заново в нем создаваться. А когда забрезжил, мелькнул вдали желанный берег, с возродившейся страстью он бросился опять к нему. Так измученный волнами кораблекрушения устремляется к берегу, не задумываясь, что ждет его там — рай Гавайских островов или людоеды. Уже и сил хватило вскоре Тамару Сергеевну отпустить — да и то пора уж было и отдохнуть доброй женщине: все это время ни на шаг не отходила от него. А сам спешил, спешил скорей укрыться, уйти с головой в свой мир, скорей, скорей, пуская все на ветер — почти ведь прогнал бедную Тамару Сергеевну домой отдохнуть — все, все раздавая, по ветру пуская, все, все — до последней полушки. Нищим, совсем нищим уйти отсюда, чтоб ни о чем уж не жалеть, не плакать.
Закрыть плотно глаза, захлопнуть покрепче форточку, ничего больше не знать, не хотеть, не видеть, не слышать… О, многолик же сей дьявол искушения жизнью! Лезет, пробивается, просвечивает через каждую щелку. И аромат, что оставила после себя Тамара Сергеевна, сладко разбавляет каждый вздох Ивана Федоровича. И скрип тормозов за окном, и гневная речь таксиста: «У-у, падлюка, как выйду, как ошарашу по лбу!» Как сладко, как гипнотизирующе разъедает чья-то полнокровная жизнь вокруг твою похолодевшую уже душу. Только не уследи, только забудь волшебное слово: «Не поддамся!» И вмиг прорвется жизнь, неудержимо в твоей душе, уже было смирившейся, опять поля зазеленеют, опять луга зацветут и запоют птицы и привяжут, как крестьянина, каждой своею былинкою, каждым грубым земным комком, и забудешь ведь совсем, что для тебя-то это зеркало всего лишь теперь холодное — ой, пропадешь! А опомнишься, так застонешь, заголосишь ведь: «Пропадаю!.. Пропадаю…» И стиснешь зубы, стиснешь плоть и мысль свою лишь на одном: «То, что ты есть, — есмь я!»
Иван Федорович был атеистом, к мировоззрению этому пришел не путем каких-то там размышлений, сомнений, раздумий, а как бы появившись уже заранее в этом мире атеистом. Атеизм в нем и изначальная вера в безграничные возможности науки — было по сути одно и то же. Копаясь же, в силу врожденной пытливости ума, в старых книгах, задумываясь над загадками, какие ставили древние философы, Иван Федорович всегда твердо знал, что наука лишь пока не может ответить на все эти загадки. Но чтоб хоть в чем-то наука была не в состоянии со временем разобраться — такого для него не было и быть не могло. Собственно, это во многом и определило его открытие. Он верил. Он открыл.
И все ж был некий побочный аромат в его занятиях и древней философией, и в осмыслении безграничных глубин человеческой мысли, и особенно в размышлениях его о самой природе мысли, — было, несомненно было во всем этом… нечто. Разумеется, тут речь не шла о сладости запретного плода, ибо никому и никогда не запрещалось копаться в пыльных фолиантах. Тут было нечто от неясной потребности порой побыть просто одному. И так, чтоб при этом никто не видел лица твоего. А почему — неясно. И не то чтобы как-то надо было скрывать занятия мифами или древнеиндийскими ведами как что-то не совсем к лицу идущее такому крупному специалисту, как Иван Федорович Круглов в области молекулярной биологии. Нет, тут дело было в другом. Тут сама форма его мышления, когда читал он, скажем, «Старшую Эдду», кстати, всякий раз убеждаясь при этом, что она намного сильнее «Младшей Эдды», — так вот, сама форма мышления его становилась не совсем обычной, порхающей какой-то, плавающей в раскаленных лучах. И в то же время оно состояло из множества множеств мыслей по поводу «Старшей Эдды», мыслей своих, а главное — как бы из множества мыслей тех, кто читал «Старшую Эдду» до Ивана Федоровича. Мало того, возникало неизъяснимое ощущение по поводу того, что еще великое множество людей прочтет столь прекрасную «Старшую Эдду» уже после Ивана Федоровича и будет обязательно испытывать то же самое, что и он. Дело было не в том, что «Старшая Эдда» — вечная песня жизни и любви. Дело было в том, что она всякий раз убеждала Ивана Федоровича в необходимости общечеловеческого, родового сознания. Всякий раз доказывала, насколько же оно — родовое — сильнее, а значит, и счастливее того мелкого и мельчайше-личного, на которое позднее разбилось это волшебное зеркало первородной истинности.
Были и более тонкие, более конкретные моменты. Так в логическом его аппарате при этом, всякий раз захватывающем чтении «Старшей Эдды» возникали странные, однако ж и весьма привлекательные движения и искажения. Без какого-либо ущерба для ясности вдруг менялись местами: «начало» и «конец», «там» и «здесь», «жизнь» и «смерть». Иван Федорович догадывался, конечно, что подобная раскачка сознания полезна сама по себе как совершенствование мыслительного аппарата. И все же главным было — надолго сохранить те восхитительные признаки-ощущения двух абсолютных крайностей всякого мышления — родового и личностного. Собственно, весь секрет его открытия и заключался именно в этом — находиться сразу в двух противоположных точках отсчета. Ну а дальше собственно техническая часть программы и материализовала уже эту идею кровной связи, бескрайне растянутой в наш странный век, между родом и отдельным человеком. Тут для такого крупного ученого, как он, было уже дело техники.
Столь пространное отступление понадобилось нам, чтоб объяснить смятение и тоску, какой охвачен Иван Федорович в благую минуту жизни, ибо слова, какие крутятся в голове, — «милосердие, причастие…», — конечно же претят ему, ученому-материалисту. Разумеется, слова привычные, из тех многих книг, что читал, на вооружение научной мысли брал, никогда особенно-то не задумываясь об их сути. Просто удобнее были других. Теперь же вдруг, увидев их в какой-то первородной сути, смущен он, все более склоняется туда, куда никак не может он склониться. Всякие баптисты там, евангелисты и прочие нелепости человеческой неразвитой природы — все это ж высмеяно до самого донышка и школой, и армией, и институтом. Да и всею жизнью его собственной давным-давно поставлен над этой нелепостью большой-большой крест… Но вот слова-то, слова-то те же были, хотел иль не хотел этого Иван Федорович, — «милосердие… причастие…». И так и эдак вертится Иван Федорович, зарывшись под одеяло, и так и эдак обсасывает он эти странные слова — «причастие… сопричастие… причастность…». Вот-вот — причастность — это более или менее… Это подходит как-то. Причастность Великому — это, пожалуй, и совсем его устраивает, успокаивает даже… Очень, очень трудно на этот раз шло в нем восстановление рухнувших мостов, признак-призрак оживающей Вселенной все ускользал, с трудом нагревался. Хаос, неясность томили душу немотой и глухотой. И всё шевелилось в этом хаосе, темноте и аморфности, все вздыхало вместе с истерзанным Иваном Федоровичем, ворочалось, просыпалось уже ожидаемое нечто. Трудное, как первой мысли рождение. И все никак не могло до конца проснуться…
В твои предрассветные часы, когда появлялись пред тобой эти недосягаемые облака — дразнящая душа Вселенной, — все цепенело. И ты — пред ними белоснежными, и они — пред тобою. Застывало все в одном желании проснуться наконец. И осознать свое всеобщее родство.
В блистательном оцепенении этом ты, как опытный полководец, непонятно чем и руководствуясь — белоснежностью, что ли? — что-то менял осторожно в себе. Отступал ли, обходной ли маневр замышлял — но только ясно видел, что все-таки недаром так цепенел ты блистательно пред ликом предрассветных этих облаков! Одно желание, всего одно — осознать лишь самого себя, не больше! Не в отношении Вселенной надо осознать себя, не в отношении времени-пространства, которых все равно ты никогда не заполнишь, нет-нет, ку-уда… чуть-чуть лишь тронешь, и вот уж тают в лучах солнца те облака, как легкий иней испаряются, в сознании исчезают без следа…
Не в отношении Вселенной возвышать себя — смешно! — а в отношении мысли должно возвышать себя… Ибо все твое достоинство человек, следящий по утрам предрассветные облака, состоит в мысли. В одной только мысли. Мыслью создаются и те миры, и эти. Иван Федорович сбросил с груди одеяло. И эти… Где уже звенят стаканами, уже развозят ужин, грустно поскрипывает велосипедная коляска безногого мальчика и рыжая сестра кому-то по телефону назначает свидание. Так постараемся же напоследок хорошо помыслить обо всех этих людях, что на какое-то время еще останутся здесь после тебя, — так решил он наконец, счастливый и обессиленный, тут же засыпающий. И уснул. А утром очнулся с уверенной ясностью в душе, что ничего… не было. А главное — ничего и не должно быть, все это выдумки одни.
Между койкой и стеной, куда глядел Иван Федорович в момент просыпания, лежала туда закатившаяся картонка с ликом сына божьего. Иван Федорович равнодушно сказал ему: «Ну вот, брат, а мне не повезло». Была такая тяжесть в затылке, словно кто-то сзади огрел бревном, было всепоглощающее отупение — не думать, не шевелиться. Иван Федорович лежал, уткнувшись между стенкой и койкой, глядел на сына божьего и даже не пытался пошевелиться, не пытался сбросить тяжести в затылке, не пытался сбросить этого качельного состояния — веришь не веришь.
* * *
Где-то около трех часов ночи, когда до рассвета еще далеко, что-то дрогнет в ночи, словно бы переломится она, как лист бумажный вдвое сложится, и сразу в два раза темнее станет, глуше. А между тем сама уже пойдет на убыль, потянет ветерком откуда-то, уже и теплый дождик как мышь прошмыгнет — все освежит. Уже где-то первая галка крикнет спросонья, старчески, дребезжаще, еще неуверенно. И никто ей пока не ответит. Крикнет в раздражении еще раз и другой да и сама замолкнет. А сна уже как не бывало.
Зам вышел из леса в поле. Светила сильно луна. Поле лежало перед ним, залитое сильным лунным светом. Далеко друг от друга свободно, вольно стояли во поле могучие вязы. Все обволакивала, как и лунный свет, тишина. Зам подошел к обрыву, лег на край его, а голову свесил вниз. Воды внизу не было видно, но сильно чувствовалось ее близкое присутствие. На другом берегу всхрапывали кони…
У газовой станции на окраине города Игорь Серафимович присел отдохнуть возле знакомого сторожа, который на его «Здравствуй, дедушка!» отвечал:
— Нижайшее вам почтение… — засунул в нос хорошую понюшку табака и громко чихнул.
— И-и-и… — сладко запел сторож. — Что ты, милой… и видишь лучше… а-а… а-пчхи!.. и на душе… а-а-а-пчхи-и…
Первый зам расслабился, стал подремывать под болтовню ночного сторожа, голова то и дело падала на грудь. Но вдруг встрепенулся, напрягся, весь куда-то вверх потянулся, еще не проснувшись окончательно, — вослед журавлиному курлыканию. А совсем в себя придя, долго прислушивался, поворотив голову вслед пролетавшей быстро стае. В дремлющем сознании этот крик ночных журавлей вызвал какой-то прекрасный отзвук. Уж и журавлей давно не слышно было, а сердце билось, билось… вот так бы красиво и жизнь прожить…
— Летят и летят, — говорил сторож, — и всё к нам летят… земля у нас большая, всем есть где разместиться… вот и летят, да-а… — Дед почесал подбородок о край ватника, зевнул, резко дернувшись головою назад, и пробормотал: — Вот какие делишки-делашки, — и опять с хрустом, утробно как-то широко зевнул.
Когда же зам окончательно проснулся, утро открылось перед ним неожиданно, как солнечный омут, полный влажных звуков и дыханий. Радостное возбуждение охватывало мир, вступающий в новый день. Поднималось солнце, такое новое, холодное, какое-то хрустящее. Еще смотришь на него сверху, еще ясно видишь быстрое движение светила — вверх и вправо. Вот поднялось чуть, коснулось трав, и травы тут же задымились, заметно стало, как они темно-росисты, как за ночь подросли.
А лес впереди стоял — пятнист, искрист, потоки нагретого воздуха мешались с холодным. Лес стал похож на собственное отражение в воде, на отражение, по которому струился ветерок.
Час дремоты на свежем воздухе совершенно освежил зама, он возвращался упругим легким шагом, он прыгал через лужи и напевал: «Трам-пам-пам-пам… ра-ри-ри-ра…» Он был похож на человека, принявшего наконец решение. Но нет, заглянув в это чудесное утро, похожее на хорошо промытые окна, решения какого-то особенного он не принимал. Зачем? Птицы летят и летят, потому что иначе не могут. В любой борьбе нет смысла помимо самой борьбы… ну а мир устроен именно так, как ему и надлежит быть устроенным. «Трам-пам-пам-пам… ра-ри-ри-ра…» С одной стороны, такой подход вроде бы и отнимал что-то у всемогущего человека. А с другой? С другой — определял предельно ясно этого самого всеобщего человека, разрешал как бы ему право на борьбу. Пусть и без смысла. Как Иван Федорович Круглов. И зам взгрустнул слегка — так искренне и неожиданно — в это чудесное утро от мысли, что, кажется, все кончилось — слег Круглов, второй день не встает. Следующая стадия Эксперимента определенно началась. Весьма и весьма важная, надо сказать, стадия… И все же жаль его, виновника всего и вся… Ну а Тамару Сергеевну надо удалить… на всякий случай. «Завтра же свяжусь с психиатрической».
— Ну-с, — произнес он бодрым голосом уже у себя в кабинете, — поищем, как говорится, за лицами лики… да-да, ведь лик — по гречески идея. А какова идея на сегодня? Неплохо б это знать. — И первый зам нажал одну из кнопок прямой трансляции с одним из институтов… нажал наугад.
— …В общем, шестнадцать было за, а двое против или трое, не помню.
— Это же все стенографируется при защите…
— Разумеется, только потом надо посидеть со стенографисткой, расшифровать и заплатить.
— Разве ж и ей платить надо?
— Ну-у… неофициально.
— Платят, платят, я точно знаю.
— Один черный шар сам шеф бросил наверняка, это, говорят, даже лучше, когда есть один или два черных шара.
— Нет, шеф не мог, он же не знал, как другие будут бросать.
— А я перед защитой наглоталась валерьянки, так что была абсолютно спокойна.
— Ну, теперь всё позади.
— А двести пятьдесят впереди!
— О господи! Скорее бы этот Эксперимент завершился, что ли! Хоть по десятке на нос кинули б.
— Жди! Начальство, конечно, отхватит оклада по два!
— Это уж точно, козлы!
— Фи, Валя, как тебе не стыдно. У нас, можно сказать, у всех в связи с Экспериментом совсем неплохие перспективы открываются, по десятке к окладу как пить дать добавят.
— Тогда не буду я кроватку продавать, может, и правда по десятке добавят, а? Нет? У меня кроватка совсем еще новая. Одно колесо только отвалилось, может, еще и пригодится, а?
— Прибавят, прибавят, не сомневайся — следующая стадия началась в Эксперименте.
— Кто говорит?
— Все говорят…
«Поразительно! — с восхищением думал зам, выключая трансляцию. — Еще и специалисты окончательно не сказали, твердо ли началась следующая стадия, а тут… тут все уже ясно, все известно, нет, видно, никуда не спрячешься от этого тысячеглазого свидетеля. Прямо-таки какое-то всевидящее око, всеслышащее ухо. Поразительно!»
* * *
А Иван Федорович лежал. Лежал и думал, что может, конечно, еще встать… только вот зачем? И не вставал. Лежал и думал, что может, если захочет, встать хоть сейчас и даже выйти в коридор. Только вот зачем? Если бы знать — зачем? Тогда б он встал. А так… Тамару Сергеевну вызвали срочно к мужу, какие-то там осложнения у него начались. Как-то она там сейчас?..
* * *
Тамара Сергеевна сидела и глядела на мужа. А тот с обычным напряжением глядел одновременно перед собой и вдаль.
Тамара Сергеевна разглядывала этот побледневший, почти просвечивающий ум — человека когда-то близкого — и вяло думала, осталось ли в нем хоть что-то от того доброго, отзывчивого, остроумного молодого человека, что очаровал когда-то ее — студентку-третьекурсницу мединститута… Да, она видела, что ее приход к нему в больницу каждый раз напоминает как бы момент приближения хозяина к своему верному псу. Когда тот, еще не видя хозяина, уже чувствует всеми клетками радостно накатывающие волны счастья. И виляет пес хвостом, и скулит, и места не находит от предчувствия близкой радости. Так и ее появление всякий раз вселяет в мужа это невнятное предчувствие близкой радости. Но дальше этого не идет, дальше ничего не случается — все тот же напряженный взгляд перед собой и одновременно вдаль.
Раньше он все свободное время занимался тем, что вырезал из газет и журналов лица портретов. Очень сосредоточенно и аккуратно. И складывал в большой ящик из-под яиц. Года два тому назад почему-то оставил это занятие, немало озадачив психиатров, и все дни стал проводить в рисовании. Рисовал сосредоточенно и аккуратно линии, которые проводил из нижнего левого угла листка бумаги через весь лист радиальными лучами. Как и всю жизнь, сколько знала его Тамара Сергеевна, и это нехитрое занятие он делал внимательно и самоуглубленно. Проведет линию, склонит голову набок и обязательно оценит, лоб нахмурит, что-то в линии подправит, вздохнет, видно, не все получилось, как задумал. И лишь после этого начинает вести вторую линию. И вторую долго рассматривает, поджимает губы, близко глаза наклоняет, что-то шепчет. Через полчаса, самое большее через час готов рисунок. Скорее всего, рисунок напоминает четвертушку солнца, которое рисуют часто дети. Полюбовавшись некоторое время на рисунок, прячет его в тот же ящик из-под яиц, где за много лет скопилось столько бумажных лиц.
И вот позвонили ей — опять неожиданно сменил занятие, уже окончательно озадачив врачей. Не рисует! «Неужели есть хоть какая-то логика у этого побледневшего до прозрачности ума? — все тягостно раздумывает Тамара Сергеевна, вглядываясь в заострившееся, подсушенное лицо мужа. — Может, ящик из-под яиц наполнен до какого-то, ему одному ведомого предела, может, снабдил он каждое лицо в том ящике персональной четвертушкой солнца — кто знает, кто ведает?..»
X
— Я — директор! Центра!! Дальше уж вроде и некуда. Откуда же в одинокие мои вечера по вторникам и четвергам эта тоскливая догадка: что все не то и все не так. Что нет во мне соответствия чему-то главному, нет и нет! И даже в самой любви к Марии чувствую я вот в такие вечера, как сегодня, некую ущербность, даже уродливость какую-то. И все это от глубоко укрытой во мне самопожертвованности какому-то идолу? Ну да — идолу, идолу. Именно это сковывает мой дух, заставляет принимать такие уродливые формы. Ведь именно из-за этого идола все во мне как бы совсем не зависящее от меня самого. Даже мой вес — восемьдесят килограммов. Забрось меня на Луну, и я буду весить в два раза меньше. Но что же есть тогда во мне мое, и только мое? Вот вопрос так вопрос! С Иваном-то все ясно, он везде Иваном будет, на Луне, на Земле, в тридевятом царстве. А вот я… простой и смертный… Вот и хожу по комнате, открыт балкон, зеленый тюль змеится мне навстречу, за ним огни города… Сделав глоток-другой из бутылки, что стоит, как всегда, на своем месте, на журнальном столике под торшером, я думаю, думаю… Что же есть во мне, не подвластное ни времени, ни обстоятельствам, такое же белоснежное, высокое и сверкающее… как Эверест… Любовь моя к Марии? Да. Вот если б не было еще Ивана…
И все ж, еще глоток-другой отхлебнув, к тяжелым составам прислушиваясь, что идут за окном, я думаю все же, что есть и во мне что-то такое же, как и в нем. Пусть никем не открытое пока, как острова в океане. Но все же есть. Есть! Вот и составы идут так же тяжело, как когда-то шли на фронт. Да, но все-таки… Вот зеркало… конечно, внешние изменения значительны… лысеющий, жиреющий, стареющий… н-да… Все подрагивает в такт тяжелым составам, что идут день и ночь у меня за окном…
Обожрались… так-так-так… Раздобрели… так-так-так… Обленились… так-так-так… Полысели… так-так-так…Но все-таки интересно — величие и ценность духа его и моего сравнимы ли? Вот в чем вопрос! Всю жизнь я верил в это. И верил и не верил, конечно… но, в общем-то, довольно спокойно прожил жизнь я с этим — веришь не веришь…
Но час решения настал… Эксперимент теперь проверит… Успех ведь зиждется на том, чтоб равенство соблюдено было… примерно. И пропасть, разверзнувшаяся у ног одних, вершиною духа других измерялась бы. О-о-о, раз заговорил уже стихами, пора, пора, знать, мне на боковую… бутылка моя пуста и… вообще… Ну а если без лирики, эти самые пять процентов сомнений ЭВМ в успехе Эксперимента основаны действительно на том, что равенство уровней духа пока не доказано строго. Ну хорошо, хорошо, пусть я — человек, возможно и… где-то, в чем-то и… ниже его. Но ведь я сейчас представляю сам Центр! Идею, лик всей Науки! Ужель и это несравнимо с ним одним?! Тогда откуда взялись в главной ЭВМ, в самой беспристрастной машине, эти пять процентов… мягкотелых?! Вот вопрос так вопрос… А разве ж у меня нет пяти процентов собственных сомнений? Тоже есть, конечно, и даже не пять, а впрочем, не так и важно, сколько. Однако ж слег уже и второй день не встает. Что это? Страшно подумать или радостно все же подумать? К Марии ехать надо, да-да… еще не поздно… к нашей Марье Моревне… вместе, только вместе… это лучше как-то… это обязательно надо, чтобы сейчас мы были вместе… когда он слег…
Да, за столько лет чего только не было между нами. Размолвки, отчуждения, затягивающиеся на месяцы ссоры — и все-таки опять мы вместе. Любовь это единственное, что мне принадлежит: все остальное слетит с меня, дай мне… дай мне настоящую свободу… увы, увы, что делать — когда перевалил середину, себя ведь знаешь вдоль и поперек. Да-да — все приходит и все уходит… одна Мария остается. Мы — как два связанных дерева, пригнутых друг к другу. Не сразу и разглядишь, чем связаны.
Все же странная у нас любовь, очень странная.
В кино, в темноте, она любит, когда я беру ее за руку. Вообще с годами убеждаюсь я все больше: то, что висит всю жизнь между нами, связывает два дерева, именно оно сделало нашу любовь такой тихой, такой яростной. Порою можно подумать, что Мария меня ненавидит, но это не так. В самый неподходящий момент, на улице где-нибудь она вдруг взглянет на меня так искоса, снизу как-то, как-то по-своему исподлобья, как-то изучающе-нервно… словно впервые — и я уже пропал. Бешено сердце забьется, захочется тут же ее обнять. И она, конечно, видит это, глаза ее, цвета березового сока, начинают сразу темнеть, зеленеть, тают морщины вокруг, одна любовь в них остается. Ну а я поскорее придумываю повод к ней прикоснуться, шарф поправляю, с рукава соринку смахиваю. Она же при этом, понятно, усмехается и на юнцов вокруг кивает. Те вот не стесняются: повисли друг на дружке, у всех на глазах истомой истекают. Эта акселерация плохо кончится — все крупное, как учит палеонтология, рано или поздно обязательно вымирает… ящеры, мастодонты…
Впрочем, конечно же не об этом думаю я в эту минуту. А о том, что вот же вокруг нас другие целуются — и ничего. А тут стоишь в углу фойе кинотеатра или возле троллейбусной остановки, поправляешь шарф Марии, а сам от счастья замираешь… потому что она с улыбкой уже просовывает свою руку в карман твоего пиджака, где найдет и легонько сожмет твою… любовь?..
Но иногда я замечаю в ней усмешечку. Губы становятся тоньше, излом бровей высокомерен, а рот каким-то сытым, удовлетворенным. Вот тогда мне вдруг сразу захочется схватить ее за мягкие плечи и трясти, трясти, да так, чтоб голова болталась как у куклы. И кричать. Чтоб отдала мне все, все, все… Вот и в зеркале я вижу вместо себя чье-то чужое, обрюзгшее изображение. А мне ведь едва за шестьдесят перевалило, была война в моей жизни, и неужели больше уж ничего такого не будет? Эксперимент… да-да… событие планетарного масштаба… я — директор Центра… как-то даже странно — я… но ведь больше и некому… таково стечение прискорбных сих обстоятельств… я — самая подходящая кандидатура, вероятность успеха при моем директорстве, как гарантирует ЭВМ, увеличивается до девяноста пяти процентов, все это так, а когда в ЭВМ заложили того же Бушика-старшего, пятьдесят едва ли набралось, оппозиция сразу притихла, все это так, но все-таки: случайно вознесен я столь высоко или есть тому еще и внутренние причины и машине можно верить, как себе?.. Но тогда откуда это всю жизнь смущающее меня ощущение собственного величия? На чем все-таки основано это упрямое мое предчувствие, что и во мне, как и в нем, есть, есть все-таки это самое — огромное-преогромное «Я», есть и во мне это самое право на исключительность, делающее и меня почти равным ему? Разумеется, достиг я немного в сравнении с ним. Но, с другой стороны, все это мне досталось неизмеримо труднее, чем ему. Да вспомнить хотя бы одно мгновение той сумасшедшей гонки на машине, когда после успешной операции гнал я не разбирая куда, и восторг во мне был такой, что, окажись передо мною пропасть — перелетел бы одним махом. А у него, по существу, вся жизнь в таких вот мгновениях наверняка и протекала. Так что… так что в принципе ничего тут недоступного — хоть раз, но и я пережил такое же. Так что… скорее всего, на каких-то необычных весах мои достижения вполне уравнялись бы с его.
А впрочем, главное не в этом, главное — в Марии. Тут уж не может быть сомнений. Мария — моя единственная. И тут уж мы с ним вполне сравнялись. Тут я как будто и повыше слегка буду. Он-то, ее любя, полагает, что он у нее единственный. И еще неизвестно, как бы все поворотилось, знай он всё до конца. Как я. Продолжающий, несмотря ни на что, любить ее одну…
* * *
— …И в то же время — это постоянное напоминание о том, что я — жена его Мария — рядом с ним ничтожество и грязь, на нем ни пятнышка, а я — грязь, грязная с ног до головы. Эта ежедневная многолетняя боль, как ровный свет свечи, освещала всю мою жизнь. В ней одной я находила и успокоение, и утешение. Страдая, я находила чистоту в себе. Так долго страдая, нельзя же в конце концов не очиститься. А с годами я действительно убедилась, что это так и есть. Я так много лет двоих любила, что поняла: ни тот, ни другой и не представляют этого. Насколько разная эта любовь… а потому и нет во мне ни капли вины перед Иваном. Совсем же не то было нужно ему от меня. Уж кто-кто, а я-то это точно знаю. И он все эти годы получал от меня исправно желаемое, даже ни разу так и не заметив никаких изменений во мне. По существу-то я ему была верна всю жизнь. И Глеб мирился с этим положением, он знал, что есть кроме него еще Иван. Глеб был сразу на это согласен, ну а больше никого у меня и не было, так что и перед Глебом я верна. Хотя, если вспомнить, разве ж не было и у меня возможностей, как и у других? Да сколько угодно! Эти отпуска на юге летом… Или пансионат ученых под… ах, да не в этом дело! Было б желание, а возможность, когда ты молода, красива… ах, да что об этом говорить… Но только помнила всегда о Глебе я… и об Иване, конечно, или все же в первую очередь об Иване?.. Потом о Глебе… А впрочем, оба мне были дороги всю жизнь, только дороги по-своему. Это ведь как протез — сначала никак не привыкнешь, а потом уж думаешь, что так и надо, что так всегда и было…
* * *
— …А ты его любишь, Мария! Ты его как-то уж слишком любишь…
— А разве я тебе когда-нибудь другое говорила?
— Н-нет, но как-то… все это не очень… знаешь ли…
— Тебя не понимаю.
— А чего тут понимать? Чего тут понимать? Вот о нем говоришь и даже глаза закрываешь… эту… розу значит, опять нюхаешь…
— Какую еще розу, Глеб?
— Ну, какую, какую… ну, когда тебе бывает со мной хорошо, ты всегда так делаешь.
— Как?!
— Ну-у… глаза закрываешь и так осторожно-осторожно втягиваешь воздух, а выражение на лице при этом такое… светлое, что ли… теплое… вот я и называю — нюхать розу…
— Чушь какая-то, чушь, чушь… И-и когда же, позвольте вас, синьор, спросить, появилось это выражение? Эта чушь — «нюхаешь розу». Нет, скажите пожалуйста — эстет какой! Нет, ну надо же! — «нюхаешь розу»! Прямо Оскар Уайльд какой-то! И когда ж это на ум тебе взбрело, а?
— Ну, когда, когда… тогда еще… в первый раз еще…
— Ка-ак интересно! Скажите пожалуйста… Но ты хоть понимал тогда, в первый раз-то, что мы совершаем по отношению к Ивану?
— Зло, что ли? Зло… Добро… Ах, эти вечные материи… А впрочем, зло — это хаос духа, из него в принципе-то и рождается все. В том числе и добро. Иначе же его просто-напросто нельзя было б и заметить, как-то оценить — без зла-то. Так что все эти рассуждения, дорогая, извини меня, в пользу бедных.
* * *
К утру похолодало. И от этого Иван Федорович проснулся, стал натягивать одеяло. Было в этот час особенно темно и глухо, как бывает поближе к рассвету. В батареях парового отопления что-то потрескивало, позвякивало, словно ходил в них кто-то маленький и деловитый и постукивал ключиком, проверял.
— Милые вы мои, — прошептал Иван Федорович вслух, — да вы же всё не о том. Это ж все, о чем вы сейчас бесконечно рассуждаете, — так неважно. Я ж покидаю вас навсегда. Вдумайтесь в это. Меня же больше никогда не будет с вами. Всю жизнь я был с вами. Был треугольник между нами, а теперь не будет. Треугольник квадратом станет, кругом или крестом. Тут ведь все должно быть по-другому. Как вы не понимаете! Прошлое есть. Настоящее есть. А будущее? Тут какие-то особые должны быть слова, взгляды, наверное… Хотя бы знаки какие-то должны мы друг другу подать. Особые, таинственные знаки, для всех, кроме нас, непонятные. Ведь таинство свершается не на небесах, а рядом. Надо бы во все колокола… Но молчат ваших душ колокола.
Как страшно молчат колокола ваших душ! А мне ведь много и не надо, но среди словесного дежурства: «Вот конфитюр твой любимый, Ваня. Раиса Павловна передала специально для тебя. Как ты спал сегодня? Лучше? Ну вот и хорошо! А температура? Почти нормальная? Оч-чень хорошо…»
Подайте мне едва заметный знак среди этого физкультприветного бодрого, бурного: «Привет, привет, старик! Ну как — партийку? Реванш, реванш за вчерашнее… расставляй, сейчас сразимся!»
Подайте мне едва заметный вздох, едва заметный знак соучастия, и я пойму, и я поверю в ваше причастие к тому непостижимому, что уже начало свершаться… здесь, здесь — не на небесах. И я увижу с тихой радостью на глазах этот условный знак — красная гвоздика в петлице слева, — и я пойму, что не один, что здесь вы, мои друзья, со мною рядом, идете за моей спиной, ободряете своим вниманием меня, немного обогнавшего по вечной вас дороге.
Ну а сейчас вы уж простите меня, бедного, — я не могу вернуться к вам. Даже ваше сегодняшнее уже для меня прошлое. Я обогнал вас. Не обижайтесь, поймите, простите, если я не могу уже оглянуться на вас, дорогие мои. От нашего общего прошлого остался пыльный фотоальбом… да-да, всего-то пыльный фотоальбом остановленных моей несчастной памятью мгновений…
…Луна, чугунная ограда, тень фигурная на развалинах стены, присутствие моря за темнотой, терпкий вкус юности, как таинственный клубок легенды — бери и разматывай бесконечно.
А вот страница более четкая… Ночное небо боя, исполосованное, словно страшным бичом, трассирующими снарядами, — гигантские ножницы, кастрирующие небо, забросившие, казалось, навсегда луну за чугунную ограду у ласкового моря в такой далекий позапрошлый век. Кощунственно-величественный хаос войны и человеческая ярость под этим кастрированным небом… и посреди всего искаженное ядреным матом лицо гвардии рядового Круглова…
И как бы я ни переворачивал свои странички — слева направо… справа налево, — и эта обязательно попадется, словно к пальцам прилипнет.
Еще одна ночь, вернее, уж ближе к утру, когда особенно ярок свет, если зажечь. Всякий раз зажигаю и всякий раз вижу в гостиной на рамке собственного портрета следы недавней побелки со стены, на которой он висит. Вижу выражение недоумения и оскорбления на лице ребенка, обиженного незаслуженным наказанием: «За что? За что же вы, мои родные, так-то меня?! Что я вам сделал, чтобы меня вот так — лицом к свежепобеленной стене? Чтобы я не видел медвежьей шкуры в углу? На которой в первый раз все и происходило? О-о-о… как больно, как омерзительно больно… о, если б кто знал! С тех пор мне кажется, что не я, а мой портрет навсегда сохранил это выражение незаслуженной обиды, унизительного положения в углу гостиной, лицом к стене. Которая ведь пачкает, следы ведь оставляет! «Ну, за что же вы так-то меня, братцы?!» Ах, эта детская память — ничего ведь не забудет, ничего ведь не простит».
Отныне, мои дорогие, к чему бы вы ни прикоснулись, навсегда останутся ваши следы. Такими уж стали ваши руки. Сердца и души. Бедные вы, бедные! Вы еще и сами не знаете об этом, не догадываетесь, еще не ходит в ваших душах по ночам некто невидимый, маленький и деловитый, еще не постукивает своим ключиком от одной заветной дверцы, спать еще вам не мешает. Но он уже родился.
В нас многое уже рождается, о чем мы узнаем намного позже. Но сначала это происходит чаще во сне, словно и правда сон есть реальность на более высоком тонком уровне. Во сне Ивана Федоровича и это родилось. А впрочем, если разобраться — импульс был, разумеется. Но такой далекий, что никогда б о связи не догадался. Он тогда еще, давным-давно, когда с портретиком-то все горько-ясно так ему открылось, когда два дерева, к нему склоненных всю жизнь ласково-надежно, рванули бодро и жестоко пополам его, вот еще когда забрел он зачем-то в музей. И среди прочих там картин остановился у икон Рублева.
Вот еще откуда потянулось случайное то впечатление в его сегодняшний тревожно-чуткий сон.
Собственно, все впечатление тогда, помнится, к тому сводилось, что совсем не обязательно быть верующим. Но если долго глядеть и видеть на тебя в ответ глядящие странно-теплые глаза иконы, глаза, одолевающие все слабое, недостойное, то словно бы со временем и сам попадаешь под чары этих неподвижных глаз, величие и силу излучающих. И чем больше глядишь, тем все больше и больше проникаешься, заряжаешься тем же. Вот и всё.
Да, эти глаза с иконы звали отдохнуть… куда-то под монастырский шепот. Или, лучше: было в них что-то от далекого, едва теплящегося окошечка в ночи, в снег, в буран, когда падаешь от голода, холода и усталости, а главное — от неверия, что дойдешь. Или теплота их напоминала еще и луну, едва пробившую плотные тучи, проплавляя их своим светом, словно нерпа полынью своим теплом и дыханием. Две такие луны сразу смотрели тогда на тебя. Или сразу два окошка, где ожидают тебя два добрых человека. Эти два глаза с иконы Рублева.
А скорее всего, сон твой сейчас был не такой конкретный. Был он в виде какого-то обобщенного образа-ощущения. Или явился даже в виде неуловимого настроения — усиленной копии того, давнишнего, когда случилось это… с Глебом и Марией и ты сам, не понимая как, в музее очутился. А уж то драгоценное рублевское настроение и породило в твоем сне сейчас и луну, и окошечко в ночи, и глаза…
Да-да, самое главное — эти глаза милосердия. Вроде бы принадлежащие существу человеческому, а в то же время и не совсем обыкновенному. И дело тут было не только в размерах, силе этого существа, этого колосса. Его размеры, сила как будто даже специально во сне не подчеркивались, ибо образ формировался во сне в нечто, лишь до пояса из земли торчащее, слегка даже в землю упрятанное, чтобы внимания к внешнему не привлекать. Вот только два глаза близко и милосердно выделялись сильно. А так-то суть его, и сила, и мощь — все это лишь подразумевалось. Так, две руки его, естественно же, в том сне заменяли все руки на свете живущих, и так же все остальное. Самое же интересное заключалось в том, что в голове у этого существа не только свободно поместились все мысли людей (Ивана Федоровича, естественно, тоже), но взгляд этот, прямой и милосердный, как бы являл сейчас суммарную всех мыслей человеческих — всего одну, но равнодействующую. И, как ни странно, именно это и успокаивало. Странно, что вот каждый из нас в отдельности имеет мысль и суетную и бессмысленную, бессовестную даже, а сложенные все вместе в сем колоссе — явили Ивану Федоровичу знание. И мудрое, и величественное. Одно. В этом он уже не сомневался. Ибо как ученый святую минуту озарения мог оценить вполне уже.
Да, и еще, как говорилось, сей лик и образ до половины ведь сидел еще в земле и, видимо, поэтому печален был. Как бы обделенным чем-то от рождения являлся, взирал с печалью и укором он поэтому на мир. И на Ивана Федоровича.
Разумеется, не во сне, в реальной жизни задумывался Иван Федорович — и не раз — о человеческом роде, как-то настраивал себя (и порой небезуспешно) на какие-то общие признаки, проникался, пытался хотя бы проникнуться общими законами рода. Но ведь всякий раз представлялось человечество ему в целом в виде собирательного такого образа человека лет шестидесяти, примерно собственного возраста, то есть человека, который уж давно расстался с детством, с юностью, а до мудрости еще так и не дожил, все главного чего-то схватить никак не может.
Ну а этому — во сне-то — было что сказать. Тут не было сомнений никаких. Тут сами знания текли из милосердных этих глаз… И все-таки совсем не мысль была за ними, скорее, новый строй какой-то мыслей. Да-да, точно, совсем иной образ мыслей выражал нечеловеческий сей взгляд. Только конкретно, в человеческих словах и рассуждениях он и был непознаваем для Ивана Федоровича. Тут было совершенно иное понятие о зле и благе, о горе и настоящем счастье. Оказалось, что по-настоящему обо всем этом, таком расхожем, никто из нас не знает, не догадывается… Так же как и о том маленьком и деловитом, что ходит ночью по трубам парового отопления, тихонько своим ключиком постукивает. Вот и стало тут самое главное переливаться из тех спокойных и величественных глаз в Ивана Федоровича, в самое его сущее, а именно: раз подобное истинное мышление никак не боится смерти, то и не надо никому ее бояться, раз все дело-то, оказывается, всего лишь в том, что… О-о… как бы хотел сейчас Иван Федорович проникнуть через этот взгляд в сам смысл милосердного откровения! В будущее, которое обязательно есть у каждого… и нечего тут бояться. Может, смерти вообще никогда не надо бояться?.. Уж так убедителен был сей мудрый взгляд. Может быть, это самое непонятное из непонятных (смерть-то), продолжающее до сих пор пугать людей, — всего лишь безобидная тень от ветвистого куста?.. Да-да — при утреннем свете мудрые взрослые, возможно, объяснят тебе, что это всего лишь куст смородины и нечего было ночью бояться, зря ты так шарахнулся, пробегая мимо.
Но вот этого мудрого объяснения и недоставало теперь Ивану Федоровичу. Он-то, разумеется, в том сне поверил сразу этому мудрому взгляду бесспорной очевидности. Уж такая необоснованность всех его страхов была в том взгляде, легкий укор даже, мол, чего ж ты, глупышка, так испугался, — что Иван Федорович сразу и поверил. Даже сам предмет его озабоченности как бы тут же снялся совсем с рассмотрения — уж настолько очевидным все в том сне ему представилось. Даже собственные мысли Ивана Федоровича тут же на предметы более существенные направились, его уже более важные вопросы интересовали: о некрологе, скажем… о пенсии для Марии… о мраморном памятнике над обрывом, с которого так далеко видно. Да, настолько уж все очевидно было в том взгляде, что после него и думать-то о ней — с косой, одноглазой — уже не стоило, да просто глупо было думать… все равно что бояться куста смородины поздним вечером, когда мальчишкой голоштанным, бывало, пробегал ты сад, зажмурившись от страха. Пора, давно пора стать взрослым.
И вот теперь не во сне — наяву Иван Федорович искал логическое объяснение тому непостижимому бесстрашию во сне. Доказательств хотел привычный ум ученого. Доказательств! А их-то как раз и не было. И тогда опять он стал все больше погружаться в это липкое, косное, сковывающее его. Но доказать-то все равно не мог. И в отчаянии мял горячую подушку, и стонал нутром всем своим: «О-о-о…» Ведь вот так иногда придешь куда-то, а тебе не верят. Нет у тебя нужной бумаги. Глазам твоим, словам твоим, виду всему твоему — не верят! Дай бумажку, да еще лучше не со штампом, а с гербовой. Ты — хоть в петлю с отчаяния, а тебе все равно не верят. Ты: «Поверьте!» А они: «Докажи!» Докажи, почему это не надо бояться!
Волновала, запомнилась во сне тебе совсем не собственная смерть — какой-то пустячок невнятный, — а некролог, пенсия, уральский мрамор на памятник, поминки… А почему? Почему?! Мнет он изо всех сил липкую подушку, пьет воду жадными глотками, опять кидается на кровать, подушкой уши затыкает, прячет голову под нее. Почему?! Да потому что это же так очевидно, так элементарно, так логично было — умереть-то, что даже и не запомнилось — почему?.. Нет, не вспомнить ему сейчас, хоть убей! «О-о-о…» Что, что там было, в том проклятом сне? Почему бояться не надо? Надо, надо вспомнить! Стучит Иван Федорович кулаком себя по лбу, лезет под подушку, мычит.
Ну, было: что как будто он, Иван Федорович, неразумный еще ребенок… — опять, значит, все сначала! — и вот он, ребенок, боится ночью чего-то темного, неясного. А взрослые, дяди и тети такие взрослые, они, значит, всё знают, им всегда веришь. Так вот они вроде б и объясняют ему, что это совсем-совсем не страшно. Потому что, когда придет утро… «За предрассветными облаками?..» Да-да — он и сам тогда утром убедится, что все это неясно-пугающее окажется кустом смородины. Вот поэтому ему во сне и стало совсем не страшно собственной смерти. Будто бы ему вот так доступно объяснили, как дважды два… Объяснили более опытные, разумные взрослые. А главное, знающие наверняка, на себе испытавшие не раз, что это такое? И сразу, естественно, и получилось, что совсем не надо бояться. И он поверил тут же.
А как же не поверить: ведь он и сам подсознательно знал всегда об этом. Ну ясно же, ребенок, ведь он и куста боится и сам же тянется бессознательно к нему, к этому неясно-темному, пугающему поздним вечером. Тянется, подсознательно чувствуя, что как раз бояться и не надо. Но все же нужен рядом взрослый. Все же лучше, чтобы кто-то взрослый объяснил тебе все. С высоты своего взрослого мудрого знания. А еще лучше, взявши крепко за руку, подвел к ночному кусту, ночную росу отряхнул, спелую б ягодку сорвал… — ну, чего же здесь бояться?.. Именно этого Иван Федорович ждал, страстно жаждал именно такого объяснения. Ждал этого, и оно пришло. Во сне. И убедило, конечно. И это все оказалось таким простым и легким, как и все, что получается в нашем несмышленом детстве у этих мудрых взрослых, когда они разговаривают с детьми. Да, и еще деталь — это было сделано как бы мимоходом. Как, впрочем, почти всегда и бывает, когда взрослые что-то объясняют детям. На ходу, своими взрослыми продолжая делами заниматься. А потому и не осталось в Иване Федоровиче ни капли сомнения.
Правда, при этом не осталось и ответа. Таким уж тот ответ был очевидным. Но дети и должны просто верить. Верить, а не запоминать мудрых, скучных, взрослых объяснений, которых ведь все равно им, детям, не усвоить. Ну а если что-то и запомнят они из взрослых скучных объяснений, то тут же все и выскочит из детской слабой головки.
А может, во сне и вообще не было никакого объяснения!
Да как же так! Иван Федорович даже сел на койке. А вот так — без объяснения. Есть, прими на веру, и-и… всё тут! Прими на веру. Иван Федорович поднял вверх указательный палец и тихо ахнул: «Ах… проверка слуха, проверка слуха… — забормотал он и стал ходить от койки до окна и обратно. — …А понять, значит, никому не дано, принимай, если хочешь, на веру, вот, значит, как! А почему ж не дано? Хотелось бы знать. — А потому и не дано, что ты еще как дитя незрелое, не объяснить тебе этого… тебе — лауреату всяких там званий, тебе — специалисту крупнейшему в области молекул… ан нет, коль ты еще в этом самом главном — дите человеческое. А поэтому и надо с тобой без объяснений. Ибо и разумом твоим этого не увидеть, и чувствами твоими не услышать. В том-то вся и штука, в этом-то, оказывается, вся и сила, и могущество. — Но… но так что же это все-таки такое? Что и разумом — не… И чувствами — не… Ах, вон тут в чем! Ах ты! Это надо же…» — тычется, все тычется Иван Федорович как слепой кутенок, а кругом-то стены. Светло-коричневых тонов, успокаивающих, согласно последним медицинским данным. Так что же это все-таки — оно — такое! Что и разумом не взять, и чувствами — ни в какую! А как ведь хочется как-то сформулировать, оформить как-то… Ох, до чего ж слепа, до чего ж слепа и самоуверенна эта убежденность в безграничных возможностях нашего разума! Как будто так уж трудно уяснить себе момент его сегодняшнего развития — всего ступеньку лишь на бесконечной той спирали… С каким невероятным трудом ему досталась эта ясность! И повалился он в бессилии в горячую подушку головой.
А тут вдруг и пришло оно. Осенило. Осияло. Узнал. Узнал на миг раньше, чем открыл глаза и увидел впервые рождение предрассветных облаков. Ивану Федоровичу стало так, как будто он умер. То есть так, как он с каждым днем все определеннее догадывался, — легко-легко. И все ж легко не так, как при жизни, а совсем по-другому легко. При жизни так никогда не было и быть не могло. Вот поэтому он решил, что умер. И вспомнил сразу сон: ведь все сбылось! И вот тогда, открыв глаза, он и увидел впервые рождение предрассветных. Он мог бы теперь поклясться на чем угодно, что свет их рождения создался мгновением позже его света собственного! Того, что в нем теперь пылал неугасимо. Как оказалось все легко и просто. Лишь надо верить. Любое доказательство здесь бессмысленно. Бессмысленно и оскорбительно. Насколько это очевидно, насколько это грандиозно — верить. И тогда обязательно все придет, все засияет. А облака уже начинали розоветь, становиться объемнее, зарождалось в них первое движение, из хаоса истекало созидание. И было так легко, словно истомленная душа твоя была доселе опешена, то есть без крыльев, а взмахнула ими, узнала крылья, возликовала, возлюбила. Ах, как теперь легко! Иван Федорович не смел шевельнуться — глядел на предрассветные облака, сулившие день созидания, уже кладущие начало этому созиданию. Уже строились в них грандиозные образы и лики, строились с неимоверной легкостью и простотой. Иван Федорович молился одним лишь словом: «Благодарю! — Не надо много слов и формулировок, полуправд и полукривд. — Благодарю!»
Трясущимися руками достал он из кармана мятый коробок с полуоторвавшейся наклейкой уссурийского тигра и, спотыкаясь, пошел к двери.
* * *
Уже через час был собран Большой Совет. График Эксперимента давал на сегодня резкое падение кривой вниз, ведь завтра наступала решающая стадия его, наиболее интересная и важная — лавинная часть программы. Собравшиеся на Большом совете специалисты в один голос утверждали, что встать, а тем более в коридоре оказаться Круглов никак не может.
— Но вот же, — обиженным голосом, сдергивая черную шторку с огромного во всю стену экрана телевизора, произнес директор.
И все собравшиеся увидели такой знакомый больничный коридор, светло-коричневые стены, темную дорожку под ногами и на ней Ивана Федоровича. Непроизвольный вздох изумленного восхищения вырвался почти у всех присутствующих.
— Вот же, вот же! — слабеющим пальцем потыкал директор в экран. — Кто это, по-вашему? Кто?!
— Бедненький, — кто-то прошептал.
— Босиком, — сказал внимательный зам.
— Да ну вас… — с досадой отмахнулся директор. — Босиком — не босиком, какая разница!
Он вглядывался в лицо Ивана Федоровича, в эту вспухшую во весь лоб буквой «зэт» синеватую жилу, в эти глаза, исподлобья сверкающие лихорадочно, в эту поступь неровную. Словно пытался в ней различить, разделить какие-то живые и неживые компоненты.
— Может быть, мне все-таки кто-то объяснит, — сказал директор, стараясь четко выговаривать слова и ни на кого при этом не глядя, — что все это значит?
Специалисты наперебой стали объяснять. Получалось то, о чем и сам догадывался директор, продолжая пристально глядеть на эти уже наполовину механические телодвижения на экране. Временная это вспышка возбуждения, что-то вроде физиологической потребности, когда разум, чувства, воля, — все это, естественно, отсутствует. Ну а тело, то есть одна лишь сплошная физиология, и требует… вот этого самого… что на экране. Логика же действительных событий такова, что все это просто нелепо… да-да… нелепо и жалко. Кроме того, убеждали специалисты, кроме объективности и неизбежности уже зафиксированного, тонкими датчиками распада Круглова существует и еще нечто, возможно, намного более сильное, чем сам распад Круглова, возможно, самое главное, что и определяет неизбежное историческое развитие Эксперимента. И это нечто — вся наука, весь уровень ее, достигнутый на сегодня, вся та реальная сила, что собралась под стенами города. Весь цвет, вся мощь! Жаждущая лишь одного — Великого Эксперимента! Вы только посмотрите, посмотрите, что вокруг творится! И члены Большого совета вышли гурьбой на балкон.
XI
Уже который месяц прибывали сюда ученые со всего земного шара. На самолетах и пароходах, поездами и автомашинами, на лошадках и даже пешком.
Вокруг Города, сразу за крепостными стенами, уже возник, словно кольцо осады, походный, в основном палаточный, городок, который рос день ото дня. Специальная комиссия разбирала анкетные данные вновь прибывших, чтобы определить их подлинный статус — желтый, синий или зеленый. Все мечтали о зеленке. Увы, столь много уже прибыло ученых, что и в синюху-то попасть была надежда слабая. История, пожалуй, с вавилонского столпотворения не знала столь грандиозного переселения людей, из которых к тому же подавляющее большинство были ученые.
Уже который месяц, день ото дня усиливаясь, стекали к Городу, словно к гигантскому сердцу Науки, ученые силы всего мира. Прибывали как отдельные ученые, так и целые научные коллективы. Никто, конечно, не ожидал (ученые сами не ожидали), что их окажется так много. Уже жаловались жители пригорода и ближайших деревень на изменение к худшему нравственного климата. Особенно среди местной молодежи. Участились случаи пропажи белья прямо с веревок, множилось количество вытоптанных огородов, обтрясенных садов, уже дошла очередь до погребов, сараев. Но вряд ли стоило на все это обращать внимание, когда вот-вот, а точнее, уже назавтра должно было наконец-то начаться оно — главное событие всей многовековой истории науки — соботка! Или официально — Большой Эксперимент.
Городские ворота — Новые Большие Ворота — пока закрыты. По особым пропускам Город с внешним миром сообщается через малые ворота. В самом Городе в спешном порядке к завтрашнему дню заканчиваются последние недоделки, проверяется еще раз вся электронная аппаратура, автоматика, телетайпы, сотни больших цветных и черно-белых (для работы за крепостной стеной) телевизоров. В концертных залах, в кинотеатрах, во всех кафе и ресторанах, на стадионах, в парках, на площадях и улицах Города уже установлены для трансляции огромные экраны. На всех языках звучало: Эксперимент… соботка… праздник… Иванов день…
С балкона видел директор до самого горизонта уходящие палатки, повозки, шатры, шалаши, автофургоны и землянки. Только магистры наук жили в коттеджах передвижного типа. И тут и там видны были костры, группы людей и отдельные фигурки — и все это сливалось в непонятное движение на одном месте. Доносился гул, но тоже невнятный, многоязычный, состоящий из тех многих микроскопических признаков, которые складываются в мощное ощущение ледника, неудержимо стекающего с гор в долину… на Город… сюда, где стоит сейчас директор.
Надо сказать, что уже не в первый раз он обращал свое внимание на это кольцо вокруг Города, особенно выросшее за последнюю неделю. Не раз глядел директор с балкона Центра, как сейчас. И ночью, с крепостной стены, глядел на этот странный лагерь, окруживший плотно Город. Глядел и ощущал и быт его, уже налаживающийся — бивуачный, бодрый, с кострами, звуками трубы, песнями надежды; и размеры ощущал, день ото дня все увеличивающиеся, и мощь, зреющую не по дням, а по часам. А главное — понимал все большее слияние этой внешней силы с надвигающимся неотвратимо событием. Но вот то нервическое напряжение, каким охвачено все это, что простирается перед ним сейчас до самого горизонта, напряжение это почувствовал директор лишь впервые, накануне самого финала. Да, все напряглось, натянулось как тетива гигантского лука перед завтрашним дном. И в нем самом, директоре, и в свите, что его окружает сейчас, и конечно же в этом… в этом… организме… ну да — в ученом организме, в этой совокупности больших и маленьких частиц мирового ученого мира. Тут напряжение, пожалуй, возросло до того, что даже на таком большом расстоянии чувствует его директор отлично, поеживаясь при этом слегка. Возбужденно как-то поеживается директор. Какой-то слабостью взволнованной доходит это напряжение до него, странное одолевает оцепенение, наваливается, выдавливает мысль столь же странную, почти что дикую, что, не существуй в природе объективно никакого распада Круглова, напряжение это столь велико и непереносимо, а желание, надежда, воля, наконец, всех этих сотен и тысяч больших и малых признаков науки до того убедительна, что всё это уже само по себе, из самого себя ужо исторгло б в чистом виде и Эксперимент, и весь распад — прелюдию Эксперимента. Ну что, в конце концов, реальный человек перед всем этим, сцементированным в единый вектор, единый импульс?! Даже если он и семи пядей во лбу — да ничего, так, слезинка на реснице, не более. Напряжение столь велико, смысл глубок настолько, что камень и тот распался бы, попади он в поле этого напряжения. Наука наконец-то смысл свой доказать должна! И она его во что бы то ни стало докажет завтра!
— Все ли готово? — не оглядываясь, твердым голосом спросил директор.
— Да, все, — ему отвечали из-за спины, — последний поезд приобщения уходит ночью ровно в три.
— Как с формой?
И с формой оказалось все в порядке, разделены ученые на три группы, в зеленой завтра впереди пойдут.
— Ну хорошо, — слегка изменившимся голосом сказал директор, — мы здесь стоим, а надо нам не отходить бы от экрана. Сейчас решается судьба всех нас. Судьба всего. Наш смысл, в конце концов, реальность наша. Ведь, как ни странно, черт возьми, но лишь с реальностью Эксперимента реальна связь у нас одна. Так будем же всеми силами хотеть… желать ему успеха!
И все с балкона цепочкой вслед за директором вернулись в кабинет. Отдернули черную шторку большого экрана и опять попали в коридор больницы, где уже вторую половину коробка переносил измученный страданиями Иван Федорович. И чем больше вглядывались члены Большого совета в усыпанное крупными каплями пота лицо Ивана Федоровича, тем больше в них крепла уверенность, что не донесет он на этот раз все спички. И согнулся Иван Федорович за то время, что они провели на балконе, заметно больше, и заметнее расплылся, все более теряя первоначальный облик. Нет, решили все, не донесет. И, оставив наблюдателей, которые сегодня были обязаны докладывать через каждые полчаса, члены разъехались по своим неотложным делам, которых у каждого перед завтрашним днем накопилось предостаточно.
* * *
Мэнээс Скачков, низвергнутый из рая, то есть из клиники, то есть из зеленки — хорошо, что не в желтяк, в синюху только! — лежал после обеда на раскладушке и смотрел на жуткий потолок своей комнаты. После высоких больничных потолков, выкрашенных ровно бело, после всего, что испытал мэнээс Скачков, вознесшись столь высоко, каким же отвратительным ему казался свой маленький, свой низенький, изуродованный собственной рукою потолок! Плюнув с омерзением в это страхолюдство над собою, в это надругательство над смыслом, мэнээс Скачков едва увернулся от возвратившегося тут же плевка. Тогда он, тоненько подвывая, встал и пересел к окну, на подоконнике которого лежал праздничный берет — форма, накануне выданная ему, как и всем. Синяя. Да-да, к сожалению, только синяя — синюха. А ведь в руках была уже зеленка! Как же он обмишурился, как же упустил он счастие свое!
Двое рабочих в перепачканных раствором спецовках неторопливо подходили к дому напротив, собирались проводить туда вместо печного паровое отопление. Одного из них, что шел шага на три впереди и беззаботно напевал: «У студентов есть своя планета… эта!..» — мэнээс Скачков узнал — Жорка! Второй, шедший за Жоркой, нес на плече обрезок трубы метра в три и помахивал им в такт Жоркиному пению. Мэнээс Скачков поразился донельзя — в такое время, когда, можно сказать, все решается, — эти продолжают жить, как и прежде, что-то такое напевать, трубой помахивать. Ну-у, люди! Мэнээс Скачков, покачивая головою, почти с восхищением наблюдал за этим Жоркой с напарником.
А на крыльце дома, куда направлялись рабочие, их уже ждала маленькая верткая старушка.
— Жор, а Жор, — обеспокоенно спрашивала она, — всем вставлять будете или только Любке?
— Только Любке, — серьезным тоном отвечал ей Жорка, но было ж видно по его лицу (по крайней мере, мэнээсу Скачкову), что все он врет, этот Жорка, цену набивает. — Она деньги уплатила, — добавил Жорка.
— И я, и я уплачу, — торопливо закивала старушка.
— Уж и не знаю, — быстро почесав затылок, оглянулся Жорка на товарища, — ну как?
Тот сбросил трубу в зеленую траву, расставил в стороны руки и, прочистив хрипловатое с утра горло, с трудом выдавил:
— Ну-у… постольку-поскольку…
«У-у, деревня! — комментировал, про себя естественно, мэнээс Скачков. — Постольку-поскольку! — слова связать путного не могут, а туда же… ну-у… люди… ну-у… человеки…»
— Любка вчера еще уплатила, — хитро глянув на бабку, продолжал Жорка. И выразительно вздохнул, поглядел на небо.
— А я сегодня. Да хоть сейчас — И бабка сунула быстро руку куда-то не то под передник, не то под одну из многочисленных юбок, что были на ней.
— Да брось ты, бабка, — рассмеялся Жорка, — всем поставим так, задаром, такое мы задание получили ради праздника, слыхала небось: один загнется — остальные от счастья лопнут… завтра!
— Слыхала, как не слыхать-то, ведь сорок три года проработала в той самой больнице, где он сейчас мается… сорок три, а счас на пенсии, а ведь на зиму нет ни полена, заплатим, что ты, что ты, Жора, — обязательно заплатим… ведь ни полена же…
— Да сделаем, сделаем, — сказал бодро Жорка, — и платить нам не надо. Сказано же, ради праздника. Ну а если уж сами хотите отблагодарить как-то… возьмите пол-литарика.
— Литр возьму! — воскликнула бабка. — А то и два!
Жора подумал и сказал:
— Да нет, бабуся, все же хватит и литра.
— Так зайдите же тогда, дорогие гости, — ласково запела бабка, — по рюмочке перед работкой, а? Я ведь вчера еще сбегала. Как узнала, что придете, так и сбегала. Уж зайдите, не побрезгуйте. Чем богаты…
— Э-эх ма-а… — Жорка быстро — туда-сюда — провел под носом и опять посмотрел на товарища, а тот опять, расставивши руки в стороны, выдавил:
— Ну, постольку-поскольку…
— У-у-у, деревня! — прошептал мэнээс Скачков.
— Разве что по рюмочке, — повеселел Жорка, — а то ведь… действительно, с утра что-то… позвоночник кружится. — И он запел: — У студентов есть своя планета… эта… эта…
И крыльцо опустело.
«Ну вот — эти люди, — усмехнулся тонко мэнээс Скачков, — вот и вся их суть! Рюмка водки, дрова, какие-то мелочные свои интересы, не поднимающиеся выше этой такой обрыдлой обыденности — дрова, водка, пенсия… Как будто на свете нет ничего другого, возвышенного, имеющего высший смысл. Как будто нет и не было науки! Как будто завтра не будет самого Эксперимента!!» Мэнээс Скачков даже ахнул, непроизвольно за форменный берет схватился — ему показалось, что и в самом деле из-за этой заоконной обыденности завтра на самом деле ничего не будет.
Он надел берет, перед зеркалом поправил его и с независимым видом вышел на улицу. У соседнего крыльца уже кипела вовсю работа. Обрадованные жильцы подносили песок, подавали Жорке в самые руки кирпич, готовили цементный раствор. А Жорка, покуривая, глазом после рюмки поблескивая, почти не глядя, ровно, точно клал кирпич на кирпич, аккуратно убирал мастерком лишний раствор и стряхивал его в корыто. Прямо на глазах из земли вырастала свежая, еще сыроватая каменная стена. Прищурив глаз вдоль нее, Жорка удовлетворенно хмыкнул:
— Не надо и отвеса — глаз-ватерпас!
Проходя мимо, мэнээс Скачков плюнул. Правда, так неопределенно, что никто и не понял, что бы это значило. За углом была свалена куча только что привезенного кирпича, самосвал отъезжал уже, пыхнув на мэнээса Скачкова синеватой гарью. Мэнээс тут же поперхнулся, закашлялся:
— Ах, черт! — погрозил кулачком вслед укатившему самосвалу.
Никого вокруг не было, а кирпич был такой новенький, темно-розовый, только что с кирпичного завода, мэнээс Скачков взял один под мышку и не оглядываясь зашагал. Потом догадался переложить в портфель, все равно ведь в портфеле ничего не лежало. Пока перекладывал, словно из-под земли выросла перед ним девочка лет трех-четырех. Девочка спросила:
— Дядя, где у пчелки банка?
— К-какая банка? — опешил и даже чего-то испугался мэнээс Скачков, по сторонам быстро оглянулся, что-то такое-эдакое… страшненькое пронеслось в голове, в смысле уведенного со стройки кирпича, может, все-таки не надо было брать?
— Как какая банка? — Чистые утренние глаза глядели на мэнээса. — Да в которую она мед с цветка собирает, вот видишь…
— А-а-а… — отлегло от сердца. — А ты кто? — Ему вдруг стало радостно, легко. — Тебе сколько лет? Невинное дите.
— Три с половиной.
— Ах, надо же — три с половиной! Ка-акие мы большие! Ка-акие мы серьезные!
Встреча с девочкой, испугавшая так вначале, теперь мэнээсу Скачкову казалась уже приятной, теперь эти чистые доверчивые глаза будили и мысли соответствующие. И в конце концов все это и направило мысль его к приятному, к событию, что ожидало ночью, — поезд приобщения к природе. Этот обычай приобщения ученых к природе возник не так и давно. Автором его был первый зам — Игорь Серафимович, имевший уже не один патент на подобные традиции. Ритуалу было лет десять уже, он был продуман до мелочей и пользовался большим успехом у большинства ученых.
В конце концов мэнээс Скачков все-таки сумел использовать свой неожиданный взлет — не только сохранил верную синюху, но и получил приглашение ехать сегодняшним последним поездом приобщения, что считалось, разумеется, само по себе уже очень почетно. Последним многие хотели. До поезда было еще далеко, но мэнээс Скачков заранее пошел на вокзал. Потолкаться, выпить пива, послушать, что говорят, одним словом, развеять легкую смуту, что непонятно-обозленно всплывала время от времени в его душе. Вот даже девочка, явившись как из-под земли, испугать его сумела. И, вспомнив это, усмехнулся мэнээс Скачков и вздохнул: «Скорее бы уж, что ли…»
* * *
После обеда позвонила Глебу Мария.
— Ходит?
— Полчаса тому назад еще ходил, как раз сейчас должны поступить сведения, я тебе сразу же позвоню.
Мария молча вздыхала в трубку. Глеб тоже молчал. Когда молчать уже дальше было невыносимо, спросил, почти не скрывая раздражения:
— Ну, что еще?
— Ни-че-го… — сквозь зубы ответила Мария и тут же, словно боясь, что он бросит трубку, взахлеб, рыдающе заговорила: — Глеб, а Глеб, мне страшно, страшно, слушай, ты хоть эту… ну эту, как ее, ну, Тамару-царицу спровадил ли куда-нибудь, ведь сейчас совсем некстати там бы она, а?
— Да спровадил, спровадил. Сидит со своим мужем: Игорь Серафимович — золотой человек — травку ему одну порекомендовал, ну, у него там осложнения какие-то и начались с этой травки, вот и сидит теперь с мужем. — И от всего не очень осмысленного, что вокруг творилось, понимая, что жестоко, и в то же время зная наверняка: что бы ни случилось, Мария обвинит его одного, — и словно бы отвечая ей заранее на это, добавил жестко, внятно, по-директорски: — Да-да, сидит у своего мужа, как и положено всякой жене, — и повесил тут же трубку.
И прежде чем повесить, услышал всхлипывание. Или в собственной душе оно раздалось? От той непонятной жестокости, которую творят они все зачем-то. Впрочем, думать над этим было некогда, поздно. Главное — поздно! И тут же стал звонить в больницу, черт возьми! — где сведения, сведения где?! Ответили, что еще ходит, только ходит как-то все одним боком.
— Каким… боком? — тупо он спросил.
— Левым, — ему ответили.
— Ага! — сказал он подстегнуто, словно давно именно этого и ждал — левого скособочивания. — Ну-ну, наблюдайте.
И стал срочно звонить заму. Первый зам не смог, конечно, объяснить, почему это происходит, но все же несколько успокоил директора. Ибо в данной ситуации все, что не будет похожим на обычное — походка, речь, эмоции, — все будет обнадеживающим. Это ж так естественно. После звонка сидел, глаза зажмурив крепко, и думал, почему же сам об этом не догадался. И понял, что, наверное, и сам догадался, но так нужна сейчас поддержка другого человека, а лучше десяти, ста, тысячи — всех, всех этих, что собрались со всего мира, ждут за каменной стеной сигнала только. Он тут же вспомнил, что надо бы проверить, как там Тамара Сергеевна, надежно ли привязана к мужу. Он даже испугался: сколько неуловимых признаков приближающегося события приходится держать в голове! И все это бесчисленное учитывать надо — обязательно ведь хоть что-то, да не учтешь! Позвонив в больницу, где находилась Тамара Сергеевна, он успокоился — сидит с мужем неотлучно и, кажется, плачет, хотя сидит спиной и наверняка сказать нельзя.
* * *
Тамара Сергеевна действительно сидела с мужем, и ворох самых противоречивых чувств одолевал ее. Она глядела на бледное, равнодушное лицо мужа, а краем уха все ловила разговоры медперсонала, что долетали в комнату через неплотно прикрытую дверь. И эта больница, как и большинство общественных ячеек Города, жила последними событиями, связанными с Экспериментом. Кроме обитателей, естественно, этого своеобразного заведения, одним из которых и был муж Тамары Сергеевны. Да и то сказать со всею определенностью, что всеобщее возбуждение совсем уж не коснулось обитателей сей больницы, было нельзя. Отдаленно, глухо, но наблюдались и в поведении больных какие-то признаки, по-видимому все же как-то связанные с надвигающимися событиями. Обобщенно это можно было назвать томлением. Другого слова, учитывая, что за несчастные души находились в этом традиционно желтого цвета здании на краю Города, — лучшего слова конечно же и не придумаешь.
Вот Тамара Сергеевна с утра и сидела с мужем в комнате его, лишь стол разделял их. Она вглядывалась в лицо его и ясно видела томление. Такое же, наверное, испытывают теплокровные животные перед землетрясением или другим стихийным бедствием. Когда-то звали мужа ласковым именем — Женя. Женя Чернигов. Было и отчество у него, но поскольку молодым забрала в плен его болезнь, то так без отчества он и остался. А Женей, про себя разумеется, звала иногда его еще Тамара Сергеевна. Так и звала — Женей Черниговым. Про себя. Он сидел напротив и рисовал четвертушки солнца. А Тамара Сергеевна все больше ощущала смуту. Почему-то получалось так, что она нужна обоим, и выхода не было. У нее невольно возникло нехорошее чувство к Жене Чернигову. «Сидишь рисуешь, — думала она с тихим нервным смешком, — бес-чувст-вен-ный… Бесчувственный, бесчувственный, бесчувственный! А с того, другого, сейчас с живого кожу сдирают, как тому-то больно! А ты бесчувственный, бесчувственный, бесчувственный! — И все вглядывалась в вялое, равнодушное лицо перед собою. В ее присутствии Женя Чернигов совершенно успокоился, рисовал, поглядывая в сторону, помаргивая реденькими ресницами, словно небольшие сомнения изредка возникали в нем, как ту или иную линию вести. Порою уж до того спокойно выглядело его лицо, что Тамара Сергеевна невольно ждала: вот-вот спросит он ее про что-нибудь. Но Женя Чернигов не спрашивал, и это успокаивало Тамару Сергеевну. Хорошо было, что он ничего не замечает, при нем и раздеться можно догола — он все равно не заметит, погруженный в свою странную жизнь. Тамара Сергеевна догадывалась как-то, всем существом своим чуяла как-то, что жизнь его по-своему полна, и интересна, и радостна по-своему, и грустна, порой противоречива, как и вообще жизнь всякая. Все это ведь она много лет уже видела на его лице, любые изгибы той непонятной жизни, горести и удовольствия — все тут же отражалось на Женином лице. Он ведь сейчас что дитя — все по лицу видно. И это хоть как-то утешало Тамару Сергеевну. Особенно сегодня. И не так уж сильно ей было жаль его сегодня. Жаль было очень Ивана Федоровича, душа слезами обливалась, и Тамара Сергеевна свирепо шептала: — Он там на части распадается, а ты сидишь тут в четырех стенах, как… законсервированный. Да-да — законсервированный, законсервированный, уж восемь лет законсервированный и… не портишься… — шептала-шипела сквозь зубы. — Тебе-то что?! Была бы я, да? Как добавочное приложение, да?.. Я — добавочное приложение?» — спросила она Женю Чернигова. Женя дорисовывал очередную четвертушку солнца, дорисовал, поглядел, вздохнул и понес прятать в ящик из-под яиц. Тогда Тамара Сергеевна встала и к двери направилась, у двери она оглянулась, ей показалось, что Женя Чернигов как-то среагировал на ее уход. Да, он действительно глядел ей вслед, но когда она вернулась и разложила на столе сразу четыре листа бумаги, он тут же успокоился. Это ему как раз на то время, чтобы ей успеть до клиники добежать, хоть издали одним глазком на Ивана Федоровича глянуть, ах, бедненький! И назад. Выйдя из палаты, она сказала дежурной сестре, что сбегает домой, племянника только покормит и сразу же к мужу вернется.
А Женя Чернигов, когда ушла жена, действительно сначала стал рисовать четвертушки солнца. Но листочки Тамара Сергеевна в рассеянности положила на стол почему-то рядом, один к одному. И, нарисовав на каждом свою любимую четвертушку, Женя Чернигов в итоге получил целое солнышко. Он обрадовался и засмеялся по-детски. Потом он вспомнил, как называется оно, и вслух сказал раздельно: «Сол-ныш-ко…» Потом он вспомнил дорогу домой, вспомнил жену свою, которая, наверное, заждалась Женю дома, и через открытое окно вылез в садик, что окружал больницу. Он не пошел по дорожкам, на которых разгуливали больные, а пересек сад по самому краткому пути, мимо заболоченного пруда, где весной громко квакают лягушки. Там перелез он через невысокий заборчик и не спеша пошел домой. Ключ, как и раньше, лежал под половичком перед дверью, но дома никого не было. Тогда Женя надел на больничный байковый костюм черный плащ, сунул за пазуху кошку Мурку, которая, узнав его, терлась о ноги, и, не заперев квартиры, направился куда-то.
Уже вечерело, но одна девочка еще играла в песочнице. Она попросила Женю, чтобы он дал ей немного погладить выглянувшую у него на груди из-под плаща кошку Мурку. Женя дал ей погладить, а девочка за это дала ему большой пластмассовый пароход. Пароход был грязно-серого цвета с двумя розовыми трубами.
Женя шел в неопределенном направлении. Уже наступила ночь, когда прошел он, не заметив, малые ворота, в которых, разумеется, не спрашивали пропусков у выходящих из Города. И Женя очутился в странном месте среди странных людей. Город не город — нечто странное, сборное, грандиозное — шатры, палатки, землянки, просто брезентовые навесы. Были тут и фургоны, передвижные домики, вагончики и даже шалаши. Уже какие-то улицы явно наметились в этом странном городе не городе, площади, переулки… Женя Чернигов, всему тут сильно удивляясь, вскоре вышел на ровное место, открытое со всех сторон, что-то вроде главной здесь площади. Тут было очень оживленно, горело много костров, а в самом центре возвышалось что-то вроде большого брезентового балагана. Играла музыка, где-то пели вразнобой. Здесь было празднично, светло, тепло. Так всегда бывало в детстве, когда приезжал цирк. Отдельные слова, которые вокруг кричали, пели, говорили, он хорошо понимал, но вот общий смысл ускальзывал куда-то. В этой радости томление одолевало Женю Чернигова.
Раздвигая толпу, он пробрался поближе. Перед самым балаганом было что-то вроде открытой сцены. И на эту сцену время от времени выходили группы удивительных людей. Женя Чернигов до этого и представить не мог, что существуют такие. Он как замер, так и стоял с открытым ртом, даже тонкая струйка слюней стекала сбоку, а он ничего не замечал. Ведь кто-то сверху со сцены со своей блестящей в свете пламени трубой кричал не умолкая:
— Обратите внимание, уважаемые, вот грек в тунике заканчивает раздачу гранита науки в порошкообразном, легкорастворимом виде, спешите, спешите! А вот перед вами палатка по пересадке искусственных зубов мудрости, исполнение срочное, безболезненное… А вот идет хор плакальщиц на похоронах Идеи…
И точно, увидел Женя — идет хор плакальщиц, несет завернутое что-то в белое, с надписью «Идея», Женя Чернигов даже огляделся по сторонам, словно собирался что-то спросить, но так и не спросил, постеснялся.
* * *
А между тем Тамара Сергеевна, бегом добежав до клиники, в коридор зайти не решилась. Она стояла за стеклянной дверью и смотрела. Иван Федорович двигался иногда ей навстречу, и тогда она слегка отступала от двери, иногда же видела его спину. Когда видела спину, думала Тамара Сергеевна, какая же огромная тяжесть взвалена сейчас на эту спину. Когда же видела она лицо его, то поражалась сосредоточенности и какой-то осторожности мысли на этом побледневше-зеленоватом лице. И трудно было понять Тамаре Сергеевне — принесет ли ее появление в эту минуту хоть какое-то облегчение. Пригорюнившись, она стояла и все глядела на Ивана Федоровича. И чем меньше в нем сил физических оставалось, тем он ей ближе становился. Жалко было, душа слезами обливалась, она цепенела от страшных мыслей и все повторяла: «А ему-то сейчас каково, о господи, да за что же такое наказание!» Потом Тамара Сергеевна в больницу к мужу побежала и узнала, что он ушел. Только на столе лежать остались четыре ее листочка, сложенные в одно солнышко. Первому заму позвонила — там телефон не отвечал. Позвонила Глебу Максимовичу, но тому, конечно, было совсем не до нее. Он по другому телефону разговаривал с Марией.
— Да, — говорил он раздраженно, — все ходит, ходит… а что я могу, пойти подставить ножку, подтолкнуть, чтоб падал скорее? А если серьезно, ожидаем ночью… да-да, ночью, возможно, ближе к утру… конечно, позвоню… в город пускать будем, разумеется, когда финал начнется, ну всего, ну ладно… все, все… как это что-нибудь случится, ты что — дура? Ах, да брось ты — и без тебя тошно! Кто этому может помешать?! Уже ничего не может помешать, ничего, понимаешь ты — ничего. Он уже по другую сторону барьера, он уже не с нами, ты понимаешь, он уже там, там, там… То, что мы видим сейчас в коридоре, это ж только видимость, это инерция, это, знаешь, как простреленная насмерть птица, еще летит немного, по инерции, полетит, полетит и бряк… вот так и тут, а больше ничего… он уже затухает, датчики синусоиду рисуют… да-да, затухает синусоида, инерция затормаживается, сходит на нет, законы физики… со всем этим, нашим, он уже не имеет никакой связи, абсолютно, я же тебе говорю, что он уже там…
* * *
Но Иван Федорович был еще здесь. Было оцепенение, которое мешало. Мешало двигаться, брать спичку с подоконника, идти мешало, а главное, мешало думать. Мозг цепенел, вот что было страшнее всего, все более сливаясь с чувствами. Чувства сдавливали мозг со всех сторон. Как Серая Шейка — уточка-хромоножка, — мозг бился в полынье, уменьшающейся с каждою минутой. Чувства толпились вокруг, такие сытые, такие полные, кровеносные даже — и все предлагали, сулили одни сплошные приятности. Желание лечь, остановиться, накрыться чем-то темным, теплым с головой, а лучше забиться куда-то поглубже, под плинтус, в трубу парового отопления, — все это физически прямо-таки давило на Ивана Федоровича, он раздвигал это, мешающее вперед идти, плечом. Сначала левым, а когда устало левое, стал правым раздвигать.
* * *
Это произошло в полночь как раз с двадцать третьего на двадцать четвертое июня. И уже через полчаса экстренно собрали Большой совет, ведущие специалисты высказались об этом. Общее мнение было таково, что силы явно на исходе, что смена плеча — факт весьма и весьма обнадеживающий, что, по всей вероятности, всего коробка, с которым он начал очередную переноску спичек, ему уже не перенести. Где-то к часу, к половине второго все должно кончиться.
— Как за Городом? — поинтересовался директор.
— Все спокойно, — отвечали ему, — бал-маскарад перед завтрашним финалом в полном разгаре, последний поезд приобщения только что отошел от перрона.
* * *
Мэнээс Скачков подремывал, сидя у окошка, под стук колес, под разговоры всякие…
— Бердяев — дурная бесконечность…
— Сублимация… только сублимация…
— Да уверяю вас, коллега, это никак не соотносится с единством хаоса, ну никак!
— А с хаосом единства?
— Так это же совсем другое дело!
Вокруг, едва поезд отошел, уже достали вареные яйца, докторскую колбасу, помидоры. Мэнээс Скачков почувствовал вкусные запахи вокруг и щелкнул запором своего портфеля, стоящего у него на коленях, и сразу же, лишь заглянув в него, закрыл. Ведь он не догадался, как другие, набить свой портфель бутылками с кефиром, сосисками и сырками. Кирпич лежал там всего лишь, обыкновенный красный кирпич. И вот теперь портфель на вид был и солиден, и тяжел, никогда не подумаешь, что это портфель обыкновенного мэнээса. А по сути-то пользы никакой. И вот вокруг все аппетитно жуют, а мэнээсу Скачкову приходится дремать, вернее, делать вид, что дремлет, ну и слушать, о чем говорят вокруг коллеги.
Тут в вагон вошел худой человек невысокого роста, в черном плаще. В руках у него был старый футляр от аккордеона. Человек осторожно поставил футляр на скамейку, повесил сетку с какими-то бумагами на ручку двери, под мышкой у человека был пластмассовый пароход с двумя розовыми трубами. Из-под плаща на груди выглядывала кошка, которой явно было не очень удобно находиться там, но вела она себя, несмотря на это, очень спокойно.
Человек, вздохнув несколько раз, полою плаща протер старый футляр, на который попало несколько брызг начавшегося за окном тихого дождика. Мэнээс Скачков рассеянно, не оставляя завтрашних грез своих, наблюдал за вошедшим. Мэнээс почему-то был уверен, что футляр набит старой бумагой, макулатурой, за которую, если сдать, можно получить неплохую художественную литературу. Тем более и в сетке у вошедшего были старые газеты. Каково же было его удивление, когда человек открыл футляр и достал аккордеон. Вместе с аккордеоном достал он и еще какие-то бумаги в целлофановом пакете. Бумаги эти он добавил к тем, что уже были в сетке. И опять аккуратно повесил сетку на ручку двери.
— Горе родителям! — прошептала старушка в очках, сидящая неподалеку от мэнээса Скачкова.
И странно, хоть и находилась она далеко от вошедшего, кажется, он услышал что-то, так как внимательно поглядел на старушку, отчего она сильно зашевелилась на месте. А человек все глядел на старушку и вертел в руках невесть как оказавшийся красно-синий карандаш, заточенный с обеих сторон. Казалось, он и сам недоумевал, откуда взялся у него этот карандаш. Так и не выяснив это, он сунул карандаш за пазуху, к кошке. И ясным голосом сказал:
— Сейчас я попою вам. — И стал снимать плащ. — Я не тороплюсь никуда, — он поднял аккордеон, стал просовывать руки в кожаные лямки, — как бы кот у меня не убежал… не убежит, наверное… — Взял первый аккорд, звук был чистый, сильный. — Не слушается кот меня совсем… сиди, будь разумным… видишь, все сидят, — погладил кошку, и та замурлыкала.
— Давайте я подержу, — неожиданно для себя сказал мэнээс Скачков.
Человек, ничуть не удивившись, отдал ему теплую кошку и высоким от напряжения голосом запел:
— Но где же взять такую песню… и о любви, и о судьбе…
Слуха у него не было абсолютно никакого, но пел он с большим чувством, громко, ясно, а главное — как бы для одного себя, ибо по лицу его было видно, что он действительно и сам не знает, где взять ему такую песню, чтоб и о любви, и о судьбе. Не знает, но очень бы хотел знать… Спев до конца, сказал:
— Ну, вы тут посидите, а я пойду дальше, — и, забрав у мэнээса Скачкова кошку, ушел в другой вагон.
Минут лишь через пять возобновились разговоры и старушка в очках прошептала опять:
— Бедные его родители!
Мэнээс Скачков глядел в окно и размышлял над тем, а что же такое любовь и что же такое судьба — Зинка-аптекарша? А за окном уже серело и было тихо-тихо, дождь потихоньку накрапывал. Среди рощ и дубрав, мимо которых медленно тащился поезд, вдруг мелькнуло что-то живое, и, приглядевшись, мэнээс Скачков увидел козу, а точнее — домишко на краю деревеньки, зачем-то на крыше колесо от телеги и обыкновенную козу рядом. От паровозного гудка коза внезапно завертелась вокруг колышка, к которому была привязана. И мэнээс Скачков, уже позабыв про странного человека, меланхолически думал: «Вот — коза, но столько жизни в ней… ишь как завертелась на привязи! — Потом сердце екнуло, мэнээсу подумалось, что все уже кончилось, и он представил то, что сейчас осталось от того человека, с которым он провел в больнице несколько часов. А что осталось-то? Неясно. Непонятно даже, как и называется теперь это — что осталось. Великое открытие? Но ведь открытие это не он… А если немножко и он? Та-акое же открытие! — И какой же я дурак! — в очередной, бессчетный уже раз принимался ругать себя мэнээс. — Упустил счастье такое! Которое было так близко! Не вскочил тогда, следом не пошел… э-эх… — Разве ж сейчас он был бы здесь? С этими, что вокруг… сосиски поедают, кефиром запивают, про Бердяева языки чешут… ну ничего… ну ничего… впредь умнее быть надо, судьбу свою нельзя упускать… судьба… «Но где сложить такую песню… чтоб о судьбе…» — опять вспомнился странный человек с котом и аккордеоном, куда-то исчез… да-а, судьба… а судьбу лелеять, взращивать надо… дыхание у мэнээса Скачкова участилось, спина выпрямилась, глаза жестковато вагон оглядели. Нет-нет — завтра уж он постарается, завтра уж он… И губы сами плотно сжались.
А между тем приехали. Паровоз раздвигал уже с трудом высокую траву, прошел еще метров с двадцать и, выпустив с шумом пар, остановился. Вокруг покачивались разные цветы, на них поблескивала роса. В тишине падающее воронье перо чертило черную воронку в розовом воздухе. На мшистом камне у покосившегося километрового столба с нулевой цифрой сидели, обнявшись, двое. Кукушечка куковала.
Уже первые спрыгивали с подножек на землю, уже срывали, нюхали цветы, уже вдыхали прану. И через одну ноздрю вдыхали, и через обе. Уже бегали кругами — искали муравейники. Обдирали на елках пахучую смолу, березы в нетерпении ковыряли — может, сок потечет. Приобщение началось. Возбуждение всех охватило.
* * *
В час ночи Иван Федорович перенес коробок из одного конца коридора в другой. Стал собирать спички и укладывать обратно в коробок. Это было невыносимо трудно, за рукой, берущей спичку, теперь приходилось постоянно следить. Руки заметно немели, особенно пальцы, их концы он совсем не чувствовал. Приходилось долго елозить пальцами вокруг спички, другой рукой помогать, прежде чем увидеть глазами, что спичка наконец взята. Тогда нес ее осторожно в коробок и долго укладывал, все подправляя негнущимися пальцами. Пальцы тяжелели с каждой минутой и казались ему одновременно распухшими и твердыми. Кроме того, Иван Федорович постановил себе именно на этом коробке — в час ночи! — все спички обязательно уложить головками в одну сторону. На этом коробке он еще должен был справиться с головками. Ну а на следующем… ну а на следующем… уж что бог даст… Следующий он часа в три закончит… если закончит. А там ему — всего ничего, там уж и рассветать начнет, не страшно… ему бы только до предрассветных продержаться. И, слегка оттолкнувшись от подоконника, Иван Федорович пошел, пошатываясь…
— Бедненький! — прошептал кто-то.
И в кабинете директора наступила тишина. Директор отвернулся от экрана, постукивал карандашиком по полировке стола и тяжело глядел на специалистов. Потом директор закурил. Тут уже и другие закурили, стали шевелиться.
— Кто-нибудь мне скажет все же, — сказал директор накаленным голосом, — когда это… — рука с дымящей сигаретой взмахнула за спину, к экрану. — Когда это кончится? Или это, может быть, будет тянуться до утра, а?! Да вы понимаете, что утром же с рассветом взломают же ворота, сюда ворвутся эти… эти… из-за стены которые! Или вы не знаете, что они сделают с нами со всеми?! Если это, — опять взмах сигаретой за спину, — безобразие не прекратится… Тоже мне, — презрительно, со всей возможною язвительностью сказал директор, — ученые! Прогнозисты хреновые! Да грош вам цена в базарный день! Кто мне обещал, что к двенадцати с двадцать третьего на двадцать четвертое июня все кончится? Кто клялся — к часу ночи вздохнем спокойно? Я вас спрашиваю?!
Тут наперебой все стали оправдываться, уверять, что немного ошиблись, что не так все быстро протекает, как хотелось бы. Палец мизинец по всем расчетам к десяти вечера должен был первым отказать, а он до половины одиннадцатого еще служил исправно. А вот колено левое отказало точно по расчету — в одиннадцать.
— А правое?! — грозно вопрошал директор. — Правое ж до сих пор исправно служит, сгибается неплохо. Да что оно у него, железное, что ли?!
— Не железное, конечно, — корректно успокаивали директора. — Просто правое временно блокировано… блуждающими рефлексами.
— Это что еще за блуждающие рефлексы такие? — недоверчиво спрашивал директор.
— Ну, рефлексы… инстинкты такие, — ему отвечали специалисты, — то есть обыкновенная биология живой материи, не больше… ну, капнешь на нее уксусом, неразумную, она тут же сокращается…
— Уксусом? — директор вглядывался в своих специалистов, как будто видел их впервые. — Значит, уксусом… та-ак…
— Уксусом, уксусом… одна сплошная биология… к самому Ивану Федоровичу, понятно, никакого отношения не имеющая… к концу, к концу все идет.
— Ну-ну… — тяжелым взглядом поводил директор.
Его старались получше успокоить. Все равно ведь процесс неостановим. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но неумолимо развивается, уже и голова сама не хочет подниматься, рукой слегка ее поддерживает Иван Федорович, и ноги как ходули. Раньше коридор он за семьдесят два шага одолевал, теперь больше двухсот ему требуется. Нет-нет — все явно к концу идет.
— Ну и когда же он наступит? — еще не остыв, полууспокоенный, спрашивал директор, стараясь струей дыма достать до говорящих специалистов.
— К двум часам.
— Теперь уже не к двенадцати, а к двум?! Игорь Серафимович! — Директор к заму повернулся.
Зам молчал, и в кабинете опять наступила тишина, зам смотрел на экран, и многие стали смотреть на экран. Ивану Федоровичу было трудно, так трудно, что многие и пяти минут не могли смотреть — сами уставали от его мучений и отводили в сторону глаза. С непонятно-певучими, торжественными нотками в голосе первый зам, зачем-то встав во весь рост, произнес:
— Такие гибнут на рассвете… часам к пяти, к шести, не раньше.
— Ну что ж, — сразу поверив, с облегчением сказал директор, — до утра, товарищи, отдыхайте как кому удобнее, можно и здесь, на диванах, дежурным меняться через каждые полчаса, обо всем, что случится, немедленно мне лично докладывать, все!
* * *
Оставив машину за деревней, доедая яблоко, как всегда целиком, с семечками и даже маленькой веточкой, зам пересек поле, приглушенное после тихого и теплого дождя, лениво разделся и с разбегу бросился в мокрые кусты. Он вскрикнул, обжегшись о ночные холодные травы и кусты, и стал бегать, растирая руками тело. Набегавшись, выбрал корягу посуше, взгромоздился на нее и на часок решил уснуть. Тут же и уснул. На лице, повернутом вверх, разошлись все морщины. Ему снилось детство, летние луга, цветы, дед Влас, отбивающий косу… «Ку-ку… ку-ку…» — сладко во сие куковала кукушка. Нагружен полный воз пахучего сена, уж вечереет, пора возвращаться с лугов. Дед Влас, загорелый, с открытой грудью, берет в руки вожжи, чмокает громко. «А ну, — командует им, пацанам, — на воз! Навоз!.. на-воз!..» Зам проснулся от этого крика.
— Навоз! Навоз! — где-то невдалеке кричали на многие голоса.
Еще мгновение одно зам лежал неподвижно и расслабленно, но вот гибко и сильно скинул тело с коряги, пригибаясь, выбежал на опушку и, раздвинув кусты орешника, смотрел на поле, по которому с радостными криками, просветленными ликами и мелодичными песнопениями возвращались к поезду приобщения люди в отдалении. Легкий туманец, цепляющийся за эти толпы, размазывал шествие, придавал ему что-то мистическое, навевал мысли о какой-то гигантской белой мантии, что волочилась далеко по полю. Лишь слева, ближе к поляне, продолжали резвиться мэнээсы, лаборанты и прочая мелкая сошка; дурачась, прыгали через навозную кучу, всякий раз вскрикивая при этом:
— На-воз! На-воз! На-воз!
Уже светало. Но солнце что-то не торопилось на этот раз. И на секунду у первого зама мелькнула мысль вообще не возвращаться, через лес напрямик три часа хода до Упырьевки, а там баба Вера с добрыми мягкими руками, ходики на стене, на ночь всмятку яичко и кружка парного молока. Но он тут же подавил эту мысль. Разгуливающаяся все больше стихия требовала подавить. Всем вместе надо встречать сегодняшний день, только всем вместе. Соботка — событие уже началось. Да-да — со-бытие (от — «быть всем вместе») уже в разгаре. Какое-нибудь другое событие, возможно, могло и не произойти, но здесь уже произошло слияние его со всей мировой наукой — вожделенное, интимное слияние, которое и породило это домашнее, уже родное словечко — соботка. Соботкой по-домашнему уже кличут, нет-нет — сила! Да еще какая! Даже кучка озорников, прыгающая с заполошными криками через навозную кучу, была уже немалой силою, в остервенении своем не знающая пощады. Уж кто-кто, а первый зам знает это получше других. Да один мэнээс Скачков чего стоит! Ну а если всю науку брать, что съехалась со всего мира под древние стены Города, то это такая сила, что никто и ничто не сможет против нее устоять. А если назначенный на сегодня, на двадцать четвертое июня, финал Большого Эксперимента сорвется? Первый зам и мысли такой, разумеется, не допускает. Ну а все же, в порядке бреда, так сказать… Он даже и представить себе не может, что будет с Городом, с их Центром, с ними со всеми! Обманувшаяся в заповедных своих ожиданиях и вожделениях стихия сметет их всех одним махом с лица земли! Да камня на камне не оставит… Жестокое напряжение этой набрякшей, как какой-то вселенский нарыв, силы было так велико, что даже от той, в общем-то идиллической, картины, что наблюдал он на поле приобщения, повеяло на Игоря Серафимовича чем-то ледяным и страшным. Он поежился и нырнул в кусты.
В задумчивости, продолжая постукивать ознобно зубами, он вернулся к кусту, где между веток была упрятана одежда. А когда он с ветки снял довольно-таки увесистый сверток и зеленая пушистая веточка, отряхнувшись, выпрямилась-поднялась — под ней стоял… цветок. Поблескивала роса на двух верхних ростках, набирающих силу, похожих на крылышки, а два других, пониже, с ярко-красными влажными цветами, уже согнулись слегка под их тяжестью. Центральный росток, остов всего цветка, был прямым как часовой на посту. И все это было похоже на букву «Ж». Ошарашенный Игорь Серафимович как-то сразу ослаб рядом с ярцветком, присел с непонятным то ли полустоном, то ли полувскликом, не очень соображая, что в таких случаях полагается делать дальше.
Вот так для него начался этот день.
XII
Всю ночь ходила Тамара Сергеевна по лагерю ученых, искала мужа. Кто-то сказал ей, что его видели там. Но разве можно было найти в том столпотворении кого-то! До самого утра длился праздник. Горели костры, взмывали вверх ракеты, крутились колеса фейерверков, песни, танцы, розыгрыши, до которых так охочи люди науки во все времена. До утра кричал в свою трубу человек с трубой наверху балагана. И праздник вокруг печальной и растерянной Тамары Сергеевны все разгорался, разгорался… громко хлопали хлопушки, взлетали в небо мыльные пузыри, каялись у позорного столба девы Магдалины, рыдала бабушка на сцене:
— Ох, милые, кошелек сперли-и…
— Да что у тебя, старая, в кошельке-то было?
— Как что? Идейка про черный день!
— Ха-ха-ха… а ты рот не разевай… у-у-у… ха-ха-ха…
— Да, может, врет все она?
— Конечно, врет…
Шум, хохот, гам-тарарам… Ходила, искала мужа своего Тамара Сергеевна. Несколько раз она прошла так близко от Жени Чернигова, что лишь два-три метра и разделяло их. Но толпа была настолько густа, что они не заметили друг друга. А Жене Чернигову казалось в этот вечер, что он все понимает, казалось даже, что понимает он больше, чем окружающие. Ну и что, если солнышка сейчас нет на небе, есть же луна! Он узнал ее — такая круглая, холодная, далекая — конечно же это была луна, ночная хозяйка! Он узнал ее.
— Луна! Луна! — радостно показывал он на нее пальцем, приглашая всех разделить его восторг.
— Луна? — дурачились вокруг. — Да что ты, брат, спятил, что ли, какая же это луна — это ж сковородка.
— Да?! — удивился очень Женя Чернигов.
— Ну конечно ж сковородка, на которой жарит блины господь бог.
— Господь бог?.. — еще больше удивился Женя Чернигов. — А разве ж он есть?
— А как же! Оглянись назад, чудак. Вот он, собственной персоной.
Оглянулся Женя Чернигов и ахнул: в балагане под неоновой вывеской «Борьба добра и зла» на высокой сцене сидел сам господь бог и с дьяволом играл в шахматы. У их ног медленно вращался земной шар. Женя Чернигов протолкался поближе и рассмотрел моря и океаны на земном шаре, страну узнал, свой Город…
— Так ты говоришь, — громко обратился к партнеру господь, — они там, на своей старушке земле, до сих пор себя считают реально существующими?
— Угу, — гнусаво отвечал партнер, окутываясь голубоватым зловонием.
— Ну, Бушики дают! — выкрикнул, пританцовывая, кто-то рядом с Женей Черниговым.
— И даже, представь себе, — продолжал дьявол, похожий на Бушинского-младшего, помахивая хвостиком, — они считают себя более реальными, чем мы тут с тобой, на небесах!
— Реальнее, чем мы с тобой! — гремел господь, похожий на Бушинского-старшего. — На этом бутафорском шарике?! — и он презрительно ткнул пальцем в Землю.
Женя Чернигов тоже ткнул пальцем в Землю и проткнул ее.
— Ха-ха-ха! — гремел господь бог сверху. — Да стоит мне рукою лишь махнуть — и они опять все там, на земле этой, лягушками станут!
И на глазах изумленного Жени Чернигова господь бог действительно взмахнул рукой. Женя Чернигов тут же на четвереньках очутился.
— Ква-ква! — два раза очень похоже квакнул он.
И все вокруг захохотали, захлопали в ладоши, заулюлюкали. Женя Чернигов поскакал по проходу между весело расступившимися перед ним людьми. Факелы ярко освещали проход, и он ему казался теперь слегка наклонной лунной дорожкой. А вскоре и действительно пруд оказался перед ним. Знакомый. В глубине больничного парка. Темнота, тишина, переплетение трав и корней, коряг, таинственных голубоватых пузырьков и глухого бездонного ила. Все это притягивало невероятно сильно, звало так остро, блестяще и успокаивающе, что никто, в том числе и он сам, и не заметил, куда исчез навсегда с поверхности земли Женя Чернигов.
Только мимолетно кольнуло болью сердце Тамары Сергеевны. Но она вспомнила в эту минуту Ивана Федоровича, еще живого, по всей видимости. И огромный страх поразил Тамару Сергеевну, что она не успеет. Как же долго, бессовестно долго она бродит здесь без цели, когда она так нужна там — в коридоре, где он сейчас один. И почему она ищет сейчас своего мужа, которому никто и ничто уже не поможет. По какому такому праву она ищет человека, которому нельзя помочь? И по какому такому праву не помогает она человеку, которому хочет изо всех сил она помочь?! И так это с первым признаком рассвета поразило Тамару Сергеевну, что бросилась она обратно в Город. Скорей, скорей, скорей… минут через сорок, сорок пять она доберется, если ей ничего не помешает.
А уже праздник кончался, догорали костры, дым стал едок, на лицах обозначилась синева и усталость. Уже начинали строиться первые колонны, уже труба запела тонко и бодро…
* * *
Труба будила Лельку, просыпаться никак не хотелось. Вчера с подругой Зинкой, у которой жил он уже третью неделю, они гуляли допоздна за Городом на празднике науки. Смотрели танцы, представления, заходили в кафе, где по случаю сухого закона были лишь лимонад и морс. Когда вернулись ночью, у Зинки-аптекарши, конечно, нашлося кое-что покрепче, а именно спирт питьевой, который употреблял Лелька по старой привычке в неразбавленном виде. Зинка свой бокал разбавляла лимонадом. Потом они легли спать. И вот теперь труба будила, а Лелька ворочался, просыпаться не хотелось. Жаркие Зинкины объятия обратно в дремоту, в пуховики тянули Лельку. Но стоило слегка забыться, сочились в душу ручейком какие-то счастливейшие моменты жизни. То запахом костра осеннего повеет, то ночною росою освежит… Облитый мазутом, тускло отсвечивающий коленвал, от которого холодно немеет через километр плечо, каменистая тропа вдоль оврага к полю с его одиноким трактором, с какой-то непонятной благодарностью в эти минуты сладких утренних забвений воспринимает та каменистая тропа подошвы его кованых сапог… Скрип кожаных вдруг чудится ремней от рюкзака… с какой-то дальней рыбалки, скрип весел… «Надо ждать луны…» — чей-то голос знакомый, скорее всего, товарища полузабытого… да, надо ждать луны, в темноте перекат им никак не пройти, одинокая блестит звезда из-за еловой махровой густоты над головою; нависшая громада ночных обрывов, хаос камней, заботливо приготовленный верным товарищем ужин… и еще — чьи-то пронзительные глаза, светящиеся сквозь мглу душевную-ночную над всем его, Лелькиным, неустройством. И тут он проснулся окончательно.
Труба тревожно-бодро пела. Так, значит, все, о чем узнал вчера, увидел, — правда! И холодно, тревожно захолодилось сердце. «А может, тот Круглов — к тому же дальний родственник? Вроде какой-то был из родичей Круглов у них. Да все равно нечестно: все — на одного! Даже если и не родственник, а просто человек. Ну нет — не выйдет! — И с горьким трепетом душевным пожалел Лелька, что нет с ним сейчас товарища верного. Он стал собираться, поглядывая на разметавшуюся во сне горячую, сладко-сдобную Зинку. Он пощупал щеки — побриться бы надо. А-а, ладно, надел лишь чистую рубашку и вышел, потихоньку дверь прикрыв, чтоб Зинка подольше поспала. — Зинка — человек! — нежно подумалось так, и стало очень жалко Зинку ему. Но скоро мысли его перескочили на другое, ему показалось, что уже вступает в Город эта безликая, жадная орава. — Все — на одного!» — так и закипело у него в груди. Громыхая по середине мостовой коваными сапогами, он побежал к Главным воротам, по дороге выломал кол и сунул под мышку. Лицо его стало страшным, а на душе становилось все легче и легче… Э-эх, еще бы товарища верного рядом!
* * *
Мария, приняв тройную порцию снотворного по совету Глеба, не смогла уснуть. Оглушенная, отупевшая, ходила по комнате, сидела в кресле, включала приемник и боялась подходить к телефону. Несколько раз она все же не удержалась, звонила Глебу. Понимала, что ему еще труднее, а все ж не могла удержаться и звонила. В конце концов Глеб грязно выругался и швырнул трубку. Мария плакала, а ночь все шла и шла и никак не кончалась. Оглушенная снотворным, она сидела в кресле и, как колдунья, варила зелье в самой себе. Ей уже казалось, что все, возможно, переменится к лучшему, передвинется со временем местами — обиженные будут просить прощения у обидчиков, обманутые у обманщиков… Где-то в пятом часу ей позвонил Глеб:
— Упал, — сказал одно лишь слово.
Она не узнала голоса и молчала.
— Ты что?! — закричал Глеб, — Не слышишь?!
— Слышу, — слабо ответила она.
— Ну и что?!
— Что — что?
— Я же говорю — упал! Ты что — не понимаешь?!
— Понимаю…
— Да ничего ты не понимаешь, ничего, глупая! — И бросил трубку Глеб, вышел на балкон и взмахнул платком, чтобы Ворота открывали.
А она, гудки послушав, свою осторожно положила, боясь вспугнуть что-то неясное: «Упал, а дальше… дальше-то что?!»
* * *
Дальше Иван Федорович сразу же попробовал подняться с мягкой красноватой дорожки, но тут же понял, что на этот раз не удастся. Тогда он пополз, мотая головой и зачем-то считая вслух шаги. Ледяной обруч стягивал голову все сильнее и сильнее, руки подламывались, словно проваливались между камней, засыпанных снегом. Иван Федорович опять полз по снежному полю после контузии в бою под Зеленогорском. Наши ушли вперед. Через уши, забитые ватой, различал Иван Федорович звуки боя впереди. Он не знал, сколько был без памяти, взрывной волной отброшенный на доски рухнувшего сарайчика. Он уже успел замерзнуть наполовину, и совсем не хотелось ему просыпаться от этого усыпляющего, затягивающего все больше небытия. Снег тихо засыпает, и звуки боя все глуше, медленнее… Тут стон раздался и проник в него, расплющил веки — и увидел раненого товарища. Красный снег под ним уже замерз, но товарищ еще стонал. И теперь надо было тащить товарища, потому что он был еще жив. Надо было тащить, и Иван Федорович, взвалив на спину, потащил… От контузии сливалось все перед глазами, он почти не различал камней, засыпанных снегом, тащил, спасал товарища, который хоть немного, а еще был жив и изредка стонал.
Реальный мир не исчез. Иван Федорович знал, что в эту самую минуту его колют, порошки суют в рот, поднимают с пола, ведут куда-то, на что-то мягкое кладут. Но реальный мир как бы сменил сейчас свой знак на обратный. Иван Федорович слышал стоны раненого товарища, надо сбросить сладкое забытье, оцепенение, мягкость белых подушек и отцепить от себя эти руки — мужские, густо заросшие, бархатные, и женские, рыжие и высокомерные. Наверное, что-то говорили и эти рты, направленные на его уши, но Иван Федорович слышал раскаты боя, от которого он отстал, — да просто временная контузия, отдохнет и догонит своих. Чуть не замерз из-за нее, как хорошо было замерзать, самая легкая смерть, самая сладкая — спи, спи, спи… укачивает, как наркоз… Считай! Под наркозом всегда считается, забыл?! Раз, два, три… шаги, метры… сантиметры… раз… два… три… доползу… доползу… как тогда… только бы дорогой товарищ кровью не истек, только бы он лежал на спине поспокойнее, куда-то все в сторону съезжает… все куда-то в сторону заносит Ивана Федоровича, все он в стенку лбом упирается — глаза откроет: опять стена!
— А ну, не дергайся, Глеб! — обернувшись назад, закричал он грубо. — И так тяжело…
— А-а-а! — закричал директор. — Так-перетак-разэдак, — загнул такое, что в коридоре у аспиранточки упали очки и разбились. — Уберите, уберите, — страшно завыл директор, растопыренными пятернями от экрана закрываясь, — нет-нет… все остальные отключите, а этот не надо… о-ох… — И, поникнув весь, задрожал, заплакал он. — Да за что же мне такое, — обхватив голову, раскачивался он, — о-ох… да наказание…
— Дотащу, — мотал обледенелой, ничего не видящей головой Иван Федорович и опять уперся в стенку.
К нему поспешили рыжая сестра и полненький дежурный врач.
— Не трогать!! — закричал директор. — Не сметь к нему прикасаться… — И директор внезапно стал извиваться, корчиться, хохот раздирал его рот, а глаза пучились и краснели, потом зубы сцепились, заскрежетали и пена пошла.
К нему тут подскочили, накапали в мензурочку, ложкой разжали рот, влили. И он еще немного подергался и затих. Но положили его так, чтоб, как он жестами велел, виден был экран, и коридор, и человек ползущий. И вот вдруг сорвался директор, весь в слезах бросился опять к экрану:
— Брось, брось меня, Ваня…
Его схватили за плечи, стали оттаскивать, он вроде бы уже опомнился, по продолжал кричать:
— Ты ж не на войне… несчастный… да объясните же хоть кто-нибудь ему — где он! где я! где все мы!! В конце-то концов… вот еще… ха-ха-ха… о-о-ох…
Тут уж пришлось дать тройной укол, лишь тогда затих, только легкая дрожь по лицу пробегала да кое-где но щекам проступили желтовато-розовые некрасивые пятна.
А ползти и тащить становилось все тяжелее и тяжелее. Иван Федорович оглядывался — неужели один Глеб так тяжел, совсем к земле его пригнул, так давит. Нет, с радостью видит он теперь — не один Глеб сзади на нем держится… дорогую жену Марию узнает… дорогого учителя Нильса Бора, кого-то еще и еще… и всех тащить-вытаскивать надо! Спасать надо!! Всех!!!
Тупыми ножницами вкривь и вкось искромсаны все прежние мысли. Одна осталась — надо спасать! Всех, всех, всех! Тащить, тащить надо… из распада… который уже начался, ах, какой же это страшный распад, если б только кто-то знал… тащить, тащить надо… до конца… до этих… как их… из ковша Малой Медведицы по утрам выпадающих… пред…рас…пред… пусть наконец все их увидят… увидят и поймут, что так жить, как сейчас, нельзя… Глеб, Мария… никак нельзя… о-о-о…
А Мария звонила Глебу. Незнакомый голос вежливо попросил позвонить через полчаса. Глеб Максимович… м-м-м… куда-то вышли-с… Творилось что-то непонятное. Сжав виски, ходила Мария по комнате. Чужое, бесполое наползало на всю оставшуюся жизнь. Она изо всех сил сжимала виски.
* * *
Тамара Сергеевна завернула за угол, пробежала переулок, ей оставалось преодолеть лишь чахлый скверик и площадь перед Главными Воротами. Но она уже не успевала, с той стороны, с холма, походным маршем уже спускалась колонна зеленых беретов, за ней катились синие, из-за леса желтые уже показывались. Сейчас они появятся на площади, запрудят, отрежут Тамару Сергеевну от Ивана Федоровича. Все пропало!
— Стойте! — им закричала она и взмахнула на бегу кулачком. — Остановитесь, люди! Что вы делаете?! — Тамара Сергеевна широко раскрытым ртом хватала утренний воздух на бегу, полскверика уже осталось позади, но зеленые уже входили — их авангард, размахивающий зелеными знаменами, был ясно виден через распахнутые настежь ворота. — На помощь! — взвизгнула по-бабьи Тамара Сергеевна и схватилась рукой за горло, пуговки рванула. — Ах, боже ж, мой боже! Не успеть! Пропало все!
И тут какой-то лохматый или очень кудрявый человек с противоположной стороны площади наперерез устремился к воротам. Пот, стекающий на глаза, мешал Тамаре Сергеевне, ей показалось, что странный человек, что несся к воротам огромными прыжками, помогал себе при этом палкой. Но разглядеть не удалось, огромный, странно прыгающий человек этот уже исчез в проеме ворот, и неудержимой змеею вползающая зелень приостановила ход свой, зашипела. Или это шипение так уж почудилось бедной Тамаре Сергеевне, у которой от напряжения даже заломило в ушах. Она сбросила туфельки — ей все теперь мешало, — перебежала пустую площадь и очутилась у клиники. У дверей стоял с каким-то неопределенным выражением на лице Игорь Серафимович, вместо приветствия он зачем-то протянул ей какой-то цветок, похожий на ярко-красную букву «Ж». И Тамара Сергеевна, машинально схватив цветок, устремилась вверх по ступенькам.
Лелька, закричав что-то страшное, взмахнул дубиною и опрокинул первых, вторые сами отступили. Лелька вспомнил, что ведь сегодня как раз двадцать четвертое — у них в деревне большой праздник. Иванов день. Каждый год он бывает в этот день в деревне, а вот нынче, видно, уж и не выпить, и не погулять, ку-уда… вон какая прорва их прет, чертей окаянных! Мать честная! Аж дух захватило, когда увидел, как из-за горизонта рать за ратью на него надвигаются. Ну и весело тут Лельке стало — да, выпить не придется, это уж точняк! А уж погулять… потешить душеньку напоследок, так уж это в самый раз… Э-эх… нету товарища верного! И, поплевав на руки, перехватил дубину покрепче, взмахнул от всего плеча. Со свистом дубина круг описала — опять перед Лелькой место расчистила.
Оторопевшая толпа, только что распевавшая бодрые гимны, опомнилась, загудела угрожающе, задние давили на передних, все надвигалось на Лельку.
— Смелые, да?! — заорал он. — Все на одного, да! Ах, поганцы! — И он вперед рванулся, обрушил снова свою страшную дубину на толпу.
Толпа попятилась, сминая задних. А Лелька пружинисто назад отпрыгнул, на прежнее место, перед самыми воротами. Он умело сдерживал толпу, плясал, вертелся, то обрушивался на нее, то вновь отпрыгивал обратно. Первый зам смотрел с балкона на этого безумца-одиночку, и в тоске сжималось его сердце…
А мэнээс Скачков не дремал. По обочине, вдоль дороги, зачем-то петляя, добрался до ворот, оценил быстро обстановку и похолодел от сверхзадачи. Больше испытывать судьбу было никак нельзя. И мэнээс Скачков побежал-поскакал вправо-влево, перепрыгнул через канавку, выбрался к стене и пополз вдоль нее, извиваясь как уж. Он быстро приближался к воротам. Он волочил за собой тяжелый портфель, задыхался от возбуждения. Еще минута, и мэнээс оказался позади Лельки. А Лелька прыгал в упоении, как разъяренный лев, раскидывающий свору жалких трусливых шакалов. Он плевался и изрыгал проклятия, тяжелая дубина плясала в его руках, как легкая дирижерская палочка. Мэнээс Скачков захлебывался непонятно чем, трясущимися руками он вытащил кирпич из портфеля, на цыпочках приблизился сзади к Лельке, ударил точно в затылок и тут же с криком:
— Я больше не буду! — живо отскочил.
Но напрасно он так испугался. Зашатался, рухнул Лелька. Дубина, выпавшая из могучих рук, откатилась под ноги наступавшим. И толпа возликовала и устремилась с гиканьем и улюлюканьем в открытые ворота. Зам хорошо видел все это сверху и, слегка разведя руками, лишь скорбно покачал головой, мол, опять он оказался прав — нельзя, никогда нельзя идти против стихии, особенно в одиночку. А Лельку сразу затоптали, катили и катили через него валы… зеленые… синие… желтые…
Тамара Сергеевна была уже далеко. Ворвавшись в клинику, не помня себя, бежала вверх по лестнице. Какие-то несущественные помехи — открытые рты, протянутые к ней чьи-то руки, угрожающие жесты, — все это притормаживало бег. Тамара Сергеевна то и дело вскрикивала резко по-кошачьи, отмахивалась ярцветком от всех помех. Она же продолжала машинально сжимать его в руке. А ярцветок — он лишь с виду такой хрупкий да мягкий, а на самом деле гибок и вынослив, терпелив к ветрам-дождям. Им как плетью ото всего отмахнуться можно. Вот она и отмахивалась. И наконец рванула дверь последнюю. Иван Федорович лежал перед нею. Он лежал уже вытянувшись во весь немалый рост. Метра два всего и не дополз до двери. Подбородок глубоко уткнулся в изгиб локтя, и от этого лицо стояло ровно, словно свечка, веки, накрывшие глаза, фосфорически просвечивали.
Тамара Сергеевна завыла и со стоном повалилась рядом. Лицо его схватила, причитала, гладила.
Но вот замолчала, вся вмиг преобразилась и уже прильнула совсем по-другому. Перед нею была сырая глина. Как зверь, осторожно, обостренно к чему-то принюхиваясь, водила губами по лицу. Глаза и губы, лоб и виски — все было чужим, холодным. Но она не хотела верить и в каком-то нечеловеческом отчаянии шарила губами по лицу. И вот где-то за ухом, поближе к сонной жиле, какой-то знакомый трепет расслышали чувственные губы. Со всей страстью прильнула она к этому месту, грела, дышала, уговаривала… Точка-трепет иногда исчезала, и Тамара Сергеевна рвала на себе волосы и вновь бросалась целовать Ивана Федоровича. И снова начинала оживать точка… Время остановилось… Под горячим дыханием Тамары Сергеевны непостижимо оживала сырая глина. Все реже исчезала она — теплая точка возле сонной жилы. Более того — уже в заметное пятно превратилась. Зелень покидала это теплое пятно, совсем еще небольшое. За нею синева постепенно отступала… Розоветь начинала эта страшная сырая глина. И словно крылья за спиной Тамары Сергеевны, розоветь начинали в небе над Центром предрассветные высокие облака!
Директору казалось, что все это дурной сон. Приборы ж перед ним с научным беспристрастием фиксировали и фиксировали реальное возвращение жизни. Он закрыл лицо руками. Когда же осмелился вновь взглянуть на экран, эти двое в коридоре уже поднялись, уже стояли, обнявшись и поддерживая друг друга. Директор, хватая ртом воздух, стал тыкать пальцем в экран, приглашая верного зама разделить с ним этот дурной ужас. Зам скорбно развел лишь руками. Потом помог директору выйти на балкон.
Разъяренное море гудело у погасших телевизоров. Безликое и страшное — особенно страшное в горизонтально-твердых лучах восходящего солнца. И зам, только что стоявший рядом, стал пятиться, постепенно перетекать за спину директора.
Директор остался один.
1976
ПОЛКОВНИК
НАРОДУ И ЕГО ЦАРЯМ-ВОЖДЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1. БОЛЕЗНЬ
К полковнику во сне пришло чувство тщеславия. Причину он знал — это были его собственные глаза: чуть навыкате, ясно-голубые, с мерцающими волнами и прозрачными точками. О глазах в течение долгой жизни он слышал немало лестных слов, часто произносимых самыми красивыми женщинами, не имеющими, однако ж, таких замечательных глаз. Так вот, во сне, увидев свое лицо с яркими на нем глазами, почувствовал полковник удовлетворение, в котором почти растворилась слабая ноющая нотка. Собственно, лица как бы и не было, просто надо было к чему-то привязать глаза, вот и получилось, по-видимому, что-то овальное, правильное, кажется, с ушами, носом, ртом — но совсем не его лицо, это точно. Похуже. У самого полковника тоже не ахти какое лицо: вытянутое, с полукруглыми залысинами, подбородок совсем не военный, с ямочкой посредине. Нос, правда, не подкачал — прямой и крупный — и, если б книзу не расширялся, совсем бы горделиво-римский, а так — несколько домашний. Полковник все же привык к своему лицу и, если вначале оно ему не очень нравилось, с годами находил его все более терпимым. А лоб — крутой и резкий — даже определенно был мужественный лоб. Да и все лицо, если разобраться, при высоком росте полковника смотрелось симметрично и, как выяснилось со временем, многим нравилось.
А тут, во сне, было что-то занудисто-здорового оттенка, кругловатое, золотисто поблескивающее и бесцветно пропорциональное. Так что захочешь, скажем, найти уши, пришлось бы взглядом сначала пройтись до того места, где обычно и ожидаешь их — уж так все невыразительно было. За исключением, разумеется, глаз — причины сновиденческого торжества полковника. Так вот, лицо полковнику не понравилось — и это было совсем неважно, — он сосредоточил все радостное внимание на глазах. Глаза выделялись. Свежо и влажно сверкали, концы пушистых ресниц были загнуты и отбрасывали глубокие тени. А в самом зрачке, чуть растянутом легким дрожанием, сияние было настолько сильным, что зрачок казался осколком теплого светящегося мрамора.
Полковник долго любовался прекрасными глазами, мысль, не мешая, вертелась одна: «Вот кому-то повезло!» Но кому? Тому ли, кто влюбится в такие замечательные глаза (а в них ведь можно с первого взгляда влюбиться!), или тому, кого полюбят такие глаза? Тут полковник разглядел в них собственное отражение. До пояса он, сидящий за столом, поеживающийся, — так как это были все же глаза его сестры Катюши. Он очень любил ее и сильно горевал, когда умерла она шестнадцати с половиной лет.
Итак, приснилось ощущение, укрепляющее волю. В самое время напоминание о каких-то собственных незатейливых качествах, но выделяющих, однако, полковника в мире, признак, запечатлевающий его в пространстве и времени. Картинкой явилось это глазами, которые всегда считались самым замечательным штрихом его облика, и глаза те, хоть и оказались похожими на полковничьи, были еще более прекрасными, дорогими и любимыми, ибо принадлежали любимой сестре, умершей в самом расцвете сил и красок.
Еще в постели, в полудреме, смутно следуя сновиденческим изгибам, полковник без труда перебросил себя через коридор длиной в полвека, к самому началу, к детству, похожему отсюда на теплое зеркало. Папаню увидел, сидит тот вроде за столом, привычно подперев тяжку голову рукой, только что вернулся с заработков из города. Мама стоит скрестив руки перед ним, жалеет. Дедка на завалинке выбивает огнивом искру для трубочки. Бабушку прямо не видать, но по всем углам, ступенькам, закуткам избы разлито присутствие домовитости, мягкости, бесшумности. Даже зовут ее здесь «баушка» — помягче, потеплее. А на полу, на печи, на полатях — всё братья его, сестры… как подсолнухи, светло, тепло от них в избе. Почти все и поумирали в детстве, Катюша лишь немного подольше пожила, да кроме полковника два брата остались: Петр да Иван.
Вздохнув, идет полковник в кладовку, берет альбом старых фотографий, начинает смотреть. Вот дед: усы лихие, грудь в крестах, лицо наивно-лукавое. Отец стоит с ним, положив левую руку деду на плечо, а правой откинул полу пиджака и до большого пальца засунул ладонь в карман брюк — так, чтобы была видна серебряная цепочка от часов. Вот любительский снимок матери… Полковник вернулся назад, к фотографии отца с дедом: что-то мелькнуло там, да так и пропало, не оформившись. Повертел он фотографию и так и эдак, на обратную сторону заглянул: «Фотограф А. Е. Курбатов, Большая Пресня, дом Смирновой, негативы хранятся для дальнейших заказов и увеличения». Наконец увидел полковник, что дело все в руках — крупных, промытых по случаю фотографического запечатлевания на долгие годы. Далеко вылезшие из рукавов, неестественно застывшие, руки похожи были на белых ласковых котят.
Тут оказалось, что опять у него раскрылся рот, и полковник, закрывая его, рыкнул в досаде. Некстати вспомнилась Катюша. Несогласованность сил, имевшая место в ней, неприятно вдруг определилась в связи с самораскрывающимся в последнее время ртом. Постоянное душевное многоборье у сестры заходило так далеко, что почти покидало плоть, отчего та становилась бессмысленной, почти вульгарной, несмотря на красоту юности. И лишь глаза, где сходятся все человеческие начала, лихорадочно разгорались, и, боясь взглянуть ими, закрывала их совсем тогда Катюша. А слова, если произносились на тот момент, катились как бы по инерции, смущая и Катюшу, и слушателей. И покинутая плоть томилась от несуразности такого состояния и как бы старалась поскорее перейти во что-то более подобающее этой несуразности: в траву, в деревья, в почву. Под любым предлогом спешила Катя удалиться в такую минуту. Час, другой пройдет, потом вернется — и как ни в чем не бывало. С жалостью все это вспоминалось сейчас полковнику. Двумя пальцами взялся он за щеку, прикрыл один глаз. Одни считали ее красавицей, другие, наоборот, не видели ничего в ней красивого. Отпустил щеку, подпер ее пальцами — опять удобно. Ощущение, не став мыслью, повело руку по всему лицу, по складкам кожи, изгибам линий, морщинам. Куда б ни упирался палец, куда б ни ложилась ладонь — везде было удобно. В последние годы близорукость прибавила на лбу к горизонтальным морщинам несколько вертикальных, и, добравшись до лба, ладонь ощутила твердые квадратики решетки, перебралась ладонь к уху — похолоднее здесь — и по щеке стала спускаться к подбородку. Здесь, по щеке, линии шли глубокие, резкие, как рельсы, и изгиб их напоминал плавность огня, охватывающего горящее дерево.
Вчера в газете мелькнуло сообщение о нелепой смерти короля твиста (принимая ванну, дотронулся до обнаженного провода). И вот теперь, связавшись с Катюшей, эта нелепость обернулась жутковато сверкнувшей звездой, видимой полковнику словно бы среди белого дня. И закряхтел он в непонятной досаде, зашумел, задвигал альбомом по письменному столу, стал было подниматься, остался и, резко вывернув голову влево, выдвинул верхний ящик стола. В ящике была лишь одна папка скоросшивателя — диагнозы за последние двенадцать лет. Раскрыв ее, полковник стал медленно переписывать диагноз от 03.X.197… года, то есть диагноз полугодовой давности, состоящий из четырех болезней. Переписав и снабдив его сегодняшней датой, полковник достал из бокового кармана пиджака, висящего за спиной на стуле, бумажник настоящей кожи — фронтовой еще подарок Нади. Уже изрядно потертый и приобретший в тех местах теплый и мягкий оттенок замши. Полковник раскрыл его и подцепил ногтем мизинца из самого маленького отделения бумажечку. Он поднес ее к глазам, выразительно, но неслышно шевеля губами, привыкая к новому словосочетанию, и, уже не глядя на бумажку, лишь вздохнув, четко и аккуратно приписал к диагнозу под номером пять новую болезнь — эмфизему легких.
Взяв этот листок с пятью болезнями, которые имеет полковник на сегодня, в вилку широко расставленными локтями и положив подбородок на сплетенные кисти, думал: «Эмфизема так эмфизема. Не такая уж серьезная добавка к тем четырем, что были до этого. Что ж, необходим свежий воздух, по возможности сопровождаемый ритмичными движениями. Придется подышать, подвигаться ритмично». Думал, что хорошо бы увеличить прогулки, но болезнь за номером два на увеличение прогулок в это время года (бедное витаминами) будет реагировать негативно. Где-нибудь в апреле, в мае, когда влажность снизится процентов на двадцать — двадцать пять, это станет возможным. А до мая, пожалуй, надо ограничиться увеличением пребывания на балконе. Однако и на балконе полковник находится до семнадцати ноль-ноль, то есть вплотную до полдника. Где-то необходимо выискивать резерв, но вот где? Опять резко вывернув голову влево, выдвинул второй ящик, не глядя взял картон с вычерченным тушью распорядком дня. То наклоняясь близко над картоном, то откидываясь, что-то сдвигал, менял местами что-то, почесывал и подбородок, и щеку и наконец замурлыкал невесть как привязавшийся легонький мотивчик, а потянувшись к карандашнице — усеченной, четырехгранной пирамиде с изображением на гранях крепостной стены и солнца, — даже напевал:
— М-м-мы… юны и надменны, да-да-с… мы юны и надменны…
Взял заостренный карандаш, стал делать на картоне легонькие пометки. Фотографией он будет теперь заниматься через субботу, чтение (давно врачи советовали) подсократил за счет художественной литературы и вышел-таки на искомую цифру. Не хватало минут восемь — десять, ведь час как минимум надо было выделить на борьбу с новой болезнью. Еще минут пять он сэкономит на лифте, до пятого этажа все равно ходить тяжело, он будет ходить лишь до третьего. В принципе-то следовало сразу выкроить минут двадцать: по четыре на сигарету. За пятнадцать лет болезней полковник свел ежедневные две пачки к пяти сигаретам. Но уж этот резерв он оттягивал насколько мог, это уж было на самый край. Разумеется, можно обратиться и к военкому и поставить в связи с новой болезнью вопрос об общественных нагрузках по линии военкомата, к которым полковник относится очень серьезно. Но ему кажется, что до этого пока не дошло. Новая болезнь, как она там? Взглянул на диагноз — эмфизема, да, эмфизема, разумеется, серьезный враг. Но не настолько же!
Итак, вполне планомерно отошел он на заранее подготовленные позиции, проверил тылы, резервы, продумал запасные варианты и теперь спокоен. Как бывает спокоен отступающий опытный командир, маневрирующий, приберегающий силы. Враг силен и серьезен, будут потери. И полынь на сердце, и новая седина, и душевные шрамы — будет все… как и там… И губы у сидящего поджались, морщины на переносице и по краям носа врезались сильнее, взгляд стал экономен, а вся поза — спокойно-выпрямленной, не требующей почти усилий. Так посидел он, по привычке проверяя себя и раз, и другой, потер лоб, задерживая руку в центре, где скапливалась тяжесть в это время (около десяти утра), и поэтому, уже не глядя на часы, поднялся принимать первую порцию лекарств.
Тут позвонили, он открыл.
— Здравствуйте, многоуважаемая Нина Андреевна!
— Доброе утро, Павел Константинович!
— Проходите, пожалуйста, Нина Андреевна. Только отчего вы всякий раз звоните, ведь у вас есть ключ и в это время суток, как вам хорошо известно, я всегда на ногах.
— Да я же ключ позабыла опять, — с простодушной улыбкой отвечала Нина Андреевна, — склероз.
— Ой ли?
— Нет, правда, правда!
И пока полковник бреется, принимает душ, до красноты растирается, завтрак уже на столе.
— По теперешним временам, — говорит Нина Андреевна, расставляя перед полковником еду и питье, — по теперешним-то временам, — говорит, занимая свое место напротив полковника под большой политической картой мира, — конечно же лучше жить врозь: молодые сами по себе, старики — сами по себе. С другой стороны, вопрос — какая жена тебе еще попадется, неизвестно с кем лучше. Моему Сашке, например, попалась так попалась!..
Нина Андреевна, приготовив два бутерброда с горчицей и брынзой, любимые очень полковником, кладет их на стакан с горячим чаем, отчего они становятся и сочными, и ароматными, Нина Андреевна зевает, не успев прикрыться ладошкой, зеленый, заслезившийся сразу глаз стрельнул в полковника — заметил ли? — и, вытирая глаз, она вздыхает:
— О господи! Да, попалась моему Сашке так попалась, одно слово — Людочка!
— Что, еще что-нибудь натворила ваша Людочка? — спросил полковник, сам меж тем не без удивления отмечая, что опять как-то незаметно у него и кусок оказался получше, и сливок — погуще, и помидор — покраснее.
— Да как же, Павел Константинович, — сказала Нина Андреевна, прихлебывая из блюдечка чай, — помните, я вам говорила, как у нее растрата случилась. Ну, еще Сашка мой сидел, года два оставалось. Вы тогда сюда только-только переехали, помните?
— Да-да… припоминаю что-то…
— Ну как же! Я ей тогда еще собрала растрату покрыть, машину ножную продала, платок оренбургский, то се…
— Да-да…
— Так вот, никакой растраты у нее не было, сейчас все выплыло: шила в мешке не утаишь!
— Вон что… скажите пожалуйста…
— А деньги ей, шалаве… ой, простите, Павел Константинович… деньги ей гулять понадобились. Мужик на лесоповале горбатится, а она уже тогда пошла вразнос. А сейчас что делает? Сашка с получки выпьет, она Лариску — хвать! — и к своей матери в Дачное, а? А то и вообще на меня оставит, сама неизвестно где… — Нина Андреевна посмотрела на часы. — Ой, пора мне, Павел Константинович…
* * *
Сегодня у полковника посещение госпиталя, куда он и отправляется прямо после завтрака. В это время года он добирается туда электричкой. Войдя в полупустой вагон, он садится в свободное купе, у окна по ходу. Двенадцать человек в вагоне, он сосчитал, и все сидят поодиночке. Еще заходят люди на остановках, и каждый, как и полковник, ищет свободное место. Навевает это на полковника сначала раздумье, почти без мыслей, — ощущение близкое заоконной неуютности, распахнутости месяца марта. Потом под стук колес, под монотонное покачивание незаметно начинает прислушиваться полковник к разговорам, которые сразу начались, как только заполнился вагон.
— …Дают землю под участки, но какую, какую?! Один овраг засыпать встанет в копеечку!
— А у нас дорогу проложили, зимний водопровод к дачам подвели, за гараж уж в этом году не берусь, не осилю.
Это два дачника, через проход от полковника. Один везет на дачу сторожевую собаку, отдал пятьдесят рублей.
— А я старший специалист — двести тридцать получаю, собаку позволить себе не могу, — говорит человек в соседнем купе. — Вот дочку замуж выдаю, кольца покупать надо, а на драгметалл опять повышение.
— Так ведь компенсацию выплачивают.
— А она у меня… хе-хе-хе… как говорится, не первый раз замужем! Ну так вот, а ковер молодым подарить надо? Надо! Кто ж сейчас без ковра выдает, правда? А на ковры тоже… м-м-м… упорядочение цен, ха-ха… Ну, так я и говорю: позвольте, тогда и мне повышайте зарплату, так? Так! Логично? Ну, отец! — Специалист энергично шевельнулся к сидящему рядом старику в вельветовой куртке на «молнии» и даже потрепал слегка при этом старика по колену.
— Да не помрешь ты с двести-то тридцати, — старик сбросил чужую руку и немного отодвинулся, — ишь ты! А как же я, всю жизнь сто, сто десять? А? А то — двести тридцать!
— Да ты постой! Это я получал двести тридцать до повышения на драгметалл, а теперь мне плати четыреста!
— Да брось ты! Не помрешь! Ишь пузо наел! Было время, совсем не платили — в колхозе, и жили ведь, не померли! А то ему четыреста! Нос не дорос!
— Нет, ты постой, ты скажи мне ясно! На сколько мне надо повышать зарплату, если сейчас я, как старший специалист, двести трид…
— Да иди ты! — махнул рукой старик и отвернулся.
— А-а-а! Не знаешь, не знаешь! А я знаю, четыреста мне, и ни копейки больше! А иначе я не согласен, да-да, не согласен!
Старик молчал. Молчали дачники. У всякого, видно, свое. Наверное, прикидывали: заборы, зимние туалеты, веранды… все надо, надо… Полковник невольно оглянулся, полный вагон людей, и все о чем-то говорят ли, молчат ли, но все о своем…
К часу дня он закончил невеселые свои дела — сдал анализы в одни кабинеты, получил результаты в других, сходил на электромассаж, принял причитающуюся долю кварца, выпил стакан лечебного чая из трав — в общем, проделал все положенные медицинские мероприятия, поднадоевшие за двенадцать лет, ибо в лучшем случае это позволяло лишь на полгода, не больше, поддерживать состояние здоровья. Поэтому под конец вошел он в кабинет лечащего врача если и не в подавленном настроении (этого еще не хватало!), то, во всяком случае, в настроении довольно странном, впервые связывая свое неблагополучие с чем-то совсем не личным, а чересчур сложным и многогранным, в чем если и было место его личных болячек, то место мизерное, не играющее роли.
Майор медицинской службы Степан Афанасьевич Варрава был из тех, кому быть врачевателем написано на роду. Краснощек (если б не положение — краснорож), усат, синеглаз, за пятьдесят, но никогда не дашь. И даже лысину обрамляли такие густые и курчавые волосы, что это казалось легкомысленным веночком. Добавить надо умеренную полноту, моторность натуры и громкий голос. Вот что такое майор медицинской службы Варрава Степан Афанасьевич. И даже то, что вместо кисти правой руки у него темно-розовый протез, ничего не меняло. Наоборот, усиливало исходящее постоянно от майора это: «Все будет хорошо!»
— Проходи, дорогой! — закричал он, приветствуя полковника взмахом пластмассовой кисти. — Садись, садись, ну, давай присаживайся, — гудел в теплые усы, листал многостраничный том истории полковничьих болезней, голову в веночке перекладывал с одного мягкого плеча на другое, не менее мягкое и белоснежное, ухитряясь и на полковника смотреть, и в папку, причмокивал круглыми губами, когда цеплял заинтересованно что-то синим глазом: справку какую-нибудь или рентгенснимок. — А что, доро-го-ооой, — катался майоров бас в небольшом белоснежном пространстве кабинета, — у-у-у, какой снимочек! — Сам наклонялся, локтем ломал папку на сгибах, на бок заворачивал, нюхал, бегал пальцами по медно-каленой лысине и дальше листал, подмигивал все полковнику: «Как, мол, брат, все в порядке? Да иначе ж у нас и быть не может!»
Эта собранная, сброшюрованная, стянутая картоном тетрадь, где таинственно, словно дорогие гравюры, мерцали рентгенснимки, где пергаментно желтели справки десятилетней давности, где полуразмытые подписи под ними, пережив намного своих владельцев, кажутся сейчас полковнику лихими и бесполезными кавалерийскими атаками, — все это лежит так близко, так осязаемо скрипит под локтем врача, сопротивляется, что екнуло сердце: «Схватить и сжечь!»
— А что ж дорого-оой, смотри-ка, смотри-ка, кровь совсем не плохая, нет-нет, а? Черт возьми!
Поцокивали вокруг согласные звуки, вкусно проглатывались паузы, заполнялись влажным сверканием, когда подмигивал майор. Кукольная темно-розовая ручка выписывала иероглифы, топорщился на ней крахмальный халат, крупные зубы заядлого курильщика похожи на ядреные желуди. Но главное — истекающая уверенность от человека этого, сидящего напротив и говорящего так внушительно, главное — живой дух, утробность мягко колышущегося через белый халат животика; одним словом, неистребимый дух плоти. Все это обступает, внушает… И речи, и жесты… Да просто расслабленное созерцание этого полного розово-белоснежного, что почти расплывается сейчас перед улыбающимся полковником, округло, мягко, клубяще так подстилает, амортизирует ежедневное резкое прикосновение к бытию. И наконец вошло, заполнило, тепло разлилось, отпустило нервный спазм, которым обычно кончается день посещения госпиталя. Хорошо теперь сидеть, слушать — и не слышать, глядеть во все глаза — и ничего не видеть. Очень нужны такие люди, пусть не все сбудется из их убеждений — все равно хорошо! Дышалось полковнику все покойнее, все легче, потеплела кожа, отлила тяжесть, и уж забрезжила такая синь, такая рань, что… заморгал наш полковник ничего не видящими глазами.
— Павел Константинович! А Павел Константинович! Дорогой, да вы слышите ли меня?
— Да-да, извините, пожалуйста, Степан Афанасьевич.
— Так вот, я и говорю, поезжайте и не раздумывайте — санаторий отличный, климат самый умеренный, сезон для вас подходящий, так что с богом, с богом, дорогуша!
Выйдя через служебный вход за ограду госпиталя, полковник оказался у девятиэтажного хирургического корпуса больничного городка, но уже для лиц гражданских. За хирургическим корпусом краснело здание операционной, дальше по обе стороны главной аллеи шли терапевтические, онкологические и прочие корпуса. Поодаль и несколько поперек общему вытянутому вдоль аллеи расположению стояло несколько ярко-желтых корпусов, назначения которых полковник не знал, ибо путь его шел обычно по главной аллее, к выходу на площадь и далее — к метро.
А больничный городок занимал целый квартал, тут были свои улицы, площади, газоны, цветники, киоски, водонапорная башня и своя помойка с жирными кошками была, метрах в двухстах от главной аллеи, за невысоким без вывески зданием. То и дело проезжали машины с красным крестом, проносили быстрые носилки с завернутым в простыню человеком. И люди, если изредка — парами, теснее прижимались тогда один к другому, а те, поодиночке, перевязанные, на костылях, в колясках, в окнах, на лавочках, непроизвольно провожали взглядом носилки, пока те не скрывались в больничном чреве, потом люди обязательно поднимали глаза на небо. Отчего небо над больничным городком было другим, особенно по ночам.
Полковник шел по главной аллее, обсаженной липами и каштанами. Вокруг цветника на деревянных ножках стояли щиты с газетами, он подошел к какой-то. «Как же так, — он думал, — лет десять запрещали всякие санатории, теперь почти насильно выгоняют, значит, что ж?..» Середина левой колонки какой-то газеты оказалась как раз перед глазами: «…изменение придвинувшегося голосования в созвучии ведет к окраске в календарную пятницу…» Полковник сделал движение головой, словно уводя ее от льющейся сверху жидкости, «…но атрибут исключения малости, — читал он русскими буквами написанное, — всегда довлеет во вдохновении высокой тональности, а поэтому решительно приходится содействовать в распределении всех начал по кругу…» Ему казалось — одно из двух: или он сейчас грохнется наземь, или газета убежит на деревянных своих ножках. Стиснув зубы, он взялся покрепче за щит, дочитал: «…извинением в качестве данности, с оговоркой, естественно, признается некоторое расположение к приводимости, ибо нельзя извлечь двоякость, не будучи уточненным до предела в проекции своеволия, — вот мой закон, позволяющий, несмотря на напряжение и ритм эпохи, в любой ситуации сохранить и ясный ум, и душевное равновесие, и даже, если хотите, физическое здоровье».
Собираясь улыбнуться, оглянулся полковник растерянно, затем неповоротливым взглядом окинул, изменив масштаб зрения, целиком страничку глуповатого воскресного юмора молодежной газетки и отошел, согбенный больше обычного, шаркающий ботинками по асфальту. Он свернул с главной аллеи туда, где в стороне, возле глухой стены, среди одичавших яблонь была затерянная и потому всегда свободная скамейка. Отдохнуть.
В словах, в предметах, звуках — во всем теперь таилась одна и та же отягчающая ум метафизичность, втягивающая полковника, словно воронка, в бесплодный круговорот размышлений. Мир теперь состоял из больших и малых воронок. Даже глуповатый газетный юмор — одна из таких воронок. Пульс участился, одышка, еле добрался до лавочки, стал дышать под счет, за стеной у больничной прачечной разговаривали невидимые женщины.
— Да у меня у самой двоюродная сестра за одним офицером, — говорила за стеной одна, — так я, верите ли, уж года три к ним ни ногой! Как приду, так и хвастают: «Этот ковер стоит триста рублей, а этот пятьсот». А что гонору, что пренебрежения к нам, а ведь семилетка за душой, всего-то…
Вот. Еще одна воронка.
— Вот и моя соседка тоже, — вторая говорила, — такая нахалка, такая нахалка, что ты! В магазин ее на машине везут. К ним солдат приходит, по дому что-то делает, убирает — мужнин денщик. Так, знаешь, как им командует! А ведь дура дурой!
— Ну, муж у тебя военный, — говорила третья, — кольца, браслеты ты покупаешь, ну и сидела бы — зачем темноту свою выказывать?
— Заелись совсем.
— Зажрались, факт, что зажрались…
«Да что они — сговорились все, что ли? — думал полковник, отдышавшись, — конечно, сегодняшнее воинство уже не то, что было но… но и не такое, наверное, чтоб уж совсем, а?»
Велика ли сетка: две бутылки кефира, буханка обдирного хлеба, полкило докторской, четыре рогалика и два сырка. А и она, пока до метро дошел, все руки оттянула. На левой даже пальцы свело, посинели. Правда, сверху лежит сверток с оренбургским платком, Нине Андреевне к Восьмому марта. Так часто вспоминала тот, проданный ради Людки-врушки, что решил полковник купить такой же. Когда видел, меняя руку, сверток, представлял, как обрадуется она. Думать о Нине Андреевне — это не то что тяжелую сетку нести, думать не тяжело, но… как-то уж не очень интересно, что ли.
В последнее время, а это, значит, лет семь-восемь последних, замечает полковник, что любой предмет, над которым он начинает размышлять, сведется в конце концов к одному и тому же. Как бы к одному общему знаменателю. Поэтому неинтересно. В самом деле, неинтересно же думать, что все люди делятся на одиноких и семейных. Или полусемейных (это те, у кого детей нет). Или на четвертьсемейных (это те, у кого кроме своих на стороне кто-то есть). На одну пятую часть семейные есть, на одну десятую. Надо бы и с Ниной Андреевной определить почетче ту часть, что их связывает. А то какие-то неловкости для обоих то и дело возникают. Вот предупредил же, что белье будет сам в прачечную носить и забирать сам, так нет же! Так и норовит сама сделать незаметно. Как-то по-разному они с ней эту часть, связывающую их, определяют. Он, скажем, процентов в двадцать — двадцать пять в последнее время. Нина Андреевна, наверное, на все сорок пять уверена. Впрочем, ведь и сам полковник лишь собирается построже как-то все уяснить для обоих и остановиться на этом. А главное, Нину Андреевну остановить, в двадцатипроцентных рамках, что ли. Ну, пусть в двадцатипятипроцентных. Но серьезно подумать об этом важном, как, впрочем, и о других, не менее важных предметах, как-то: международном положении, строительстве массовом дач, офицерских женах или о самом офицерстве сегодняшнем, — обо всем этом думать мешает какая-то свербящая необходимость прежде всего обдумать нечто само собой разумеющееся и конечно уж более существенное, чем международное положение, чьи-то жены или сегодняшнее воинство, — но что?
Жизнь в последнее время сведена к общему как бы знаменателю. Вот в чем гвоздь ребра! Сначала выпрыгнуло вполне нелепое это словосочетание. Потом распалось: на ребро, которое кто-то давно уже полковнику давил локтем, и на гвоздь, весь день сегодня ковыряющий пятку. И тут же, держась за верхнюю перекладину вагона, чертыхнулся полковник, вспомнив, что забыл купить пачку дрожжей. Нина Андреевна просила, собиралась печь пирог с капустой.
Было пятнадцать ноль-ноль, когда он принял вторую порцию венгерского нового препарата и минут пятнадцать, как всегда, посидел босиком, растирая о ворсистый ковер онемевшие после лекарства ступни ног. Потом стал обедать. На кухне записка от Нины Андреевны извещала, что кастрюля с тыквенной кашей, закутанная в ватник, стоит тут же, на табуретке возле батареи. Ничего похожего на умиление не возникло, просто стоит он в рассеянности, в одной руке держа записку с ласковыми буквами, другую положив на закутанную заботливо кашу. Какие-то нелепости прыгают через общий к жизни знаменатель. «…Она женщина хорошая, аккуратная… пенсия у меня достаточная… присмотрит в случае чего… садовый участок возле речки… дачка летняя… собака — пятьдесят рублей стоит… пчелами все болезни лечат… — Но это все сверху. А глубже — просто большие ласковые буквы, совсем необязательные строчка-две, говорящие, что человек любит писать: «А я за тюлью простояла два часа, за три человека кончился…» А еще глубже — теплота, а там под ней и еще что-то, не разглядеть, что и оформилось с грустной улыбкой: — Неродная жена». И, вздохнув (наверное, так не говорят), повязав салфетку, садится он за стол обедать.
* * *
Вечером пьют чай у полковника. Нина Андреевна — из чашки с блюдечком, обязательно с молоком или сливками. Полковник — из стакана с подстаканником, вприкуску.
— Вы читали сегодня «Правду», Нина Андреевна?
— Н-нет еще, а о чем там сегодня?
— Да это… — Полковник трет висок, потом скороговоркой: — Новую систему базирования межконтинентальных ракет собираются применять в Америке.
— А-а-а…
— Но это же совершенно несостоятельная идея, дело в том…
Полковник отставляет стакан, подходит к политической карте. Нина Андреевна с улыбкой дует в блюдечко, продолжая кивать на слова полковника, вытягивает губы и делает глоток, потом незаметно вздыхает.
Когда полковник, закончив объяснение, садится, она говорит:
— Краснодарский не в пример лучше грузинского.
— Да, — говорит полковник.
— Но я лично предпочитаю смешивать цейлонский с грузинским и немного зеленого. Один цейлонский сластит, правда?
— Да, — говорит полковник, — действительно… что-то сластит.
Попив минут пять молча, Нина Андреевна говорит:
— Вы бы рассказали хоть что-нибудь, Павел Константинович, а? Вы же воевали.
— Да это ж было… давно…
— Давно и неправда, — подзадоривает его Нина Андреевна.
— Нет, почему же? — правда, но как-то… хм… гм… да вы бы сами лучше что-нибудь, Нина Андреевна, а?
— Я? Да о чем?
— Ну, о себе, пожалуй.
— О себе? Ну нет, не-е, хитер бобер, обо мне вы и так много знаете, обо мне вы и так слишком много знаете, уважаемый Павел Константинович. А расскажу я вам лучше знаете о чем? О-о, да вот о моей подруге, можно?
— Разумеется, сделайте милость.
— Ну вот… нет, я лучше расскажу вам об одной семье, а?
— Ну ладно, Нина Андреевна, расскажите о семье.
— О семье? Ну ладно. Знаете, я давно слежу за одной семьей у нас, в старом доме еще начала следить. Мать с дочерью жили. Ну, дочь подрастала, школу кончила, уехала куда-то на стройку в Сибирь. Года два не было, потом приезжает, привозит матери ребенка, дочку Танечку. Курить начала. Ну, покрутилась немного, видит — невмоготу, дочку на мать оставила, сама опять куда-то подалась на комсомольские стройки. А бабка, значит, с внучкой Танечкой. Ну, года два-три с ней покрутилась, отдала в детдом. А тут опять приезжает дочь и привозит матери второго ребенка, Ниночку, — уже годика полтора, тоже очень красивый ребенок, как и Танечка. А сама все курит, курит, выйдет гулять, смотрит, как Ниночка в песочнице играет, а сама все курит и все молчит. Ну, пожила с полгода — опять куда-то подалась, на мать оставила. Та покрутилась, покрутилась и тоже в детдом отдала, а Танечка уже подросла, она ее забрала из детдома, в школу определила. Учится Танечка, а Ниночка в детдоме… Ну, года три не видно было дочки, заявляется, привозит Галочку. Уж такую красавицу — из всех! Выйдет во двор — одно загляденье. А сама все смотрит и все курит, курит. А Галочка среди всех детей всех красивее. Только все дети с горки катаются, кто в костюмчике, кто в пальтишке, одна Галочка в мужском пиджаке, а эта все смотрит и все курит, молча. «Эх, — думаю, — стукнуть бы тебя тазом по голове!» Белье как раз я вешать вышла. Ну, на этот раз она что-то задержалась. Даже заявление написала, так, мол, и так, дети — то се. Ее обратно к матери и прописали, работать устроили. Полгода не проработала — подалась. Галочку, конечно, на мать оставила. Та покрутилась с ней и — в детдом, а там Ниночка подросла, забрала, в школу определила, а Танечка уже в седьмом или восьмом классе, такая выправилась… дородная… Ну что ж, еще года три-четыре прошло, Танечка совсем взрослая, вышла замуж, бабку старуху потихонечку стала оттеснять, не очень стала нужна. Да и Ниночка подросла, невеста. Они и Галочку забрали из детдома. Совсем тесно стало. Ниночка ушла в общежитие, она уже работала. Галочка учится, а Танечка с мужем живет, ну ладно. Галочка — такая красавица, в школу ходит. Тут Ниночка замуж собралась, парень хороший. Ну, любят друг друга, а мать того парня знает всю эту семью и ни в какую — живите где хотите, а ко мне ни ногой! Сунулась было Ниночка к сестре, а та сама с мужем не очень, да и тесно. Короче, Танечка ее не пустила. Ну, Ниночка помыкалась, помыкалась по углам, зашла к подруге в общежитие — и решили они уснуть вечным сном. Ну, подруга шесть таблеток каких-то выпила, а Ниночка — восемь. Подругу откачали, а Ниночку не смогли, вот… На похоронах я была. Мать приезжала, все курит, курит и все молчит. А после похорон куда-то подалась. А Галочка с Танечкой живет, уже в десятый класс пошла, красавицей будет… Утомила я вас своей болтовней.
— Нет… отчего ж, наоборот… интересно…
* * *
В среду у полковника большая прогулка. Большая — раз в неделю, в отличие от малых, ежедневных. Уже с вечера, зная заключение врачей о состоянии здоровья за прошедшую неделю, полковник разворачивает план города и намечает маршрут. Собирает в рюкзак термос с чаем, бутерброды, фотоаппарат, плащ. И утром, сразу после завтрака, и выходит. Чаще всего он идет через парк имени Шевченко, а там, в зависимости от маршрута, — вверх или вниз по течению реки, так чтобы, сделав круг километров в десять — пятнадцать, вернуться к обеду. Пройдя до конца парк (а это три с половиной километра), он обычно отдыхает на скамейке. Недалеко от скамейки под навесом в любое время года стучат доминошники-пенсионеры. Крик, шум, хохот: «Дуплись!.. Рыба!.. Козлы!» И сами все такие ядреные, под стать костяшкам, что держат по-рачьи растопыренной пятерней.
В последний день месяца полковник пишет письмо Наде — бывшей жене. В письмах он обычно интересуется Надиной работой в должности заведующей детским садом в небольшом подмосковном поселке, интересуется ее общественной работой, спрашивает про отметки в школе у Раи, передает большой привет бабе Вере и, наконец, сообщает о состоянии собственного здоровья:
«Очень коротко о себе: несколько дней назад (в начале марта с. г.) закончились мои хождения по всяким процедурам (в военном госпитале). Начались они, как я тебе сообщал в свое время, еще в сентябре прошлого года. Осточертела госпитальная обстановка. Настоял — ушел, согласившись ходить через день. Результат — пока дальнейшего ухудшения не допустили. И это хорошо. В моем букете всяких болячек выпячивается склероз сосудов головного мозга и почки. Ограничили чтение, вернее, запретили. Ты знаешь, последние годы наделали мне всяческих ограничений, без которых было и шагу не сделать. Сейчас же, за исключением чтения, другая крайность — все возможно. Хотя лучше не стало. Я уж шутя говорю врачам, что я могу истолковать это как бессмысленность для меня всяких назначений и ограничений, мол, уж ничего не поможет. Отшучиваются, и по-умному, мол, в лечении не прямой путь, а много вариаций. Сейчас даже говорят — попробуйте поехать в санаторий (а то все предыдущие годы запрещали как бессмысленное).
Несмотря ни на что, психологически я пока не больной, а заболевший, которого подлечивают, и заболевание должны вылечить. Иначе, не веря в успех лечения, зачем же заниматься? Во всяком случае, чувствую себя недеморализованным и все возможное и нужное, в пределах целесообразности и разумного, делаю. Пожалуй, на этот раз (а письмо мое растянулось) буду кончать.
Рае я написал отдельно открытку, в которой поздравил ее с хорошим окончанием третьей четверти (о чем ты писала мне в предыдущем письме)».
Закончив письмо, он идет в кладовку. Кладовка оказалась вполне подходящей не только для фотолаборатории, но даже нашлось место и для хранения фотоальбомов, а их накопилось уже больше десяти. В субботу он закрывается сразу после полдника и до самого ужина сидит с красным фонарем. Покачивая ванночку с проявителем, ждет появления на бумаге как будто бы сначала каких-то грязнот, потемнений, контуров, затем, всегда внезапно, слабых, но уже вполне различимых видов: тенистой аллеи, реки изгиба с парусом вдали, беседки под дождем. Под его покачивание в перекатывающейся жидкости крепнет изображение, набирает силу, объем, движение. А вокруг тишина. Нина Андреевна — у своих в соцгородке. Укрепляет пошатнувшуюся за неделю семью сына. Как ушел полковник из академии в отставку, звонки все реже стали. Уже ученики его учеников, как молодые соколы, разлетаются во все концы. А старые друзья, как и полковник, в одиночку борются с болезнями, со старостью. Редко, редко теперь кто позвонит: «А помнишь, полковник…»
И вспомнят что-нибудь. Как из окружения выходили под Вязьмой. Или атаку немецких танков под Подольском. Или еще что-нибудь…
Словно сверкающий гвоздь, шевельнет в нем прошлое редкий звонок друга. Крепко ли вбит этот гвоздь, не потускнел ли, не поржавел? Все так же ли гусеницы гремят, мнут пшеничное поле под Подольском, все тот же ли холодок под сердцем пред танковой лавиной… И эта метафизика теперь исчезнет разве что с самим полковником.
Останется в чистом поле под Подольском обелиск с надписью:
«Товарищ, поклонись этим полям — здесь смертью храбрых пали: командир отряда Герой Советского Союза Приходько М. А., политрук Голованов С. И. и 194 бойца их отряда».
Так что дело не в звонках, пожалуй. Тихо у него в субботу. А в ванночке с фиксажем скопилось уже много фотографий, он их пинцетом перекладывает в таз с водопроводной водой. У него хороший глянцеватель, сегодня же и отглянцует, а завтра с утра резаком обрежет и будет вставлять в свободные листы альбома. Это задача — надо ведь как-то подобрать соответствующее настроение для каждой страницы. Это раньше было легко — по две фотографии на страницу получалось. Не больше. Но с каждым годом он размер уменьшал. Сейчас он их делает совсем маленькими, штук по пятнадцать, по двадцать теперь на листе помещается.
* * *
По воскресеньям полковник стирает мелкие вещи, приводит в порядок бумаги, а вечером обычно, если только не две серии, идет в кино в соседний клуб. В понедельник, делая на балконе дыхательную гимнастику, видит отъезжающих по утрам в служебном автобусе военных, живущих по соседству в военном городке. Многие из которых, не воевав, уже постарели. Полковнику просто любопытно: что же это все-таки такое — очкастое, портфельное, огрузшее, наливающееся краской, когда пропихивается через узкие двери автобуса? Без войны — какое же это воинство?! Дать же им понятие, что это такое, — затея бесполезная. Фильмы, спектакли, обелиски, учения даже — все это близко, да не то. Все это важно, но опять же — лишь для тех, кто и без этого знает, что оно такое — война. До истекания кровью, до вечной славы, до… Сегодня же дышалось на балконе легко, и от знакомой невеселой картины с посадкой воинства в автобус родился легкий афоризм: «Есть война — ее нечего объяснять, нет — никому ты ничего не объяснишь!» Сегодня удивительно легко дышалось. Вдох: «Пока я есть», — выдох: «Смерти нет», — вдох: «А смерть есть», — выдох: «Меня уже нет», — вдох… выдох… Все это было весьма кстати, с афоризмом-то. Полковнику уже казалось, что он сам его придумал. Хорошо! А то в последнее время томило ощущение безвкусности от окружающей жизни. До того уж томило, что несколько раз подряд снилось детство: парное молоко, истекающие жиром куски селедки, за которой ходили шесть километров в Пушкино, шесть копеек за фунт. Пока, бывало, донесешь, все хвосты пообгрызешь…
Как космонавты, поднимаясь в другие сферы, теряют чувство вкуса, так нечто подобное и у него. Чересчур перенасыщенной казалась ему новая сфера, в которой он сейчас живет. Ноосфера по-современному. Словно она так перенасыщена, эта ноосфера, что совсем не осталось в ней места для самого главного качества. Вот только словами этого качества не определишь. Пожалуй, было что-то близкое в афоризме, что придумал. Да, неплохой афоризм получился! Спускаясь по лестнице упругим шагом, полковник насвистывал, получалось: «Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел…» Дворник от клумбы поднял в приветствии лопату.
— Шолом алейхем, — кивнул ему полковник.
— Ась?
— Да это я так, — немного смутился полковник, — ну, приветствие есть такое… на другом языке.
— Шолом алейхем, алейхем шолом, — насвистывал полковник. Утро было солнечное, росистое. — Талант, как деньги, — насвистывал полковник, — если есть талант, значит есть, а если нету, то — увы! Трава зеленая, небо голубое, солнце греет еще, а хлеб обдирный, если не поспешить, — взглянул на часы, — можно прозевать. — Прозевать полковнику не хотелось, пришлось идти бы на третью линию.
Но такое утро, настроение такое — редкость. Чаще давит ноосфера, сердце осечку дает, как зеленый новобранец, легкие с воздухом не справляются. Ну ее, эту ноосферу, лучше б с ней не соприкасаться, уйти в себя, в свою фотолабораторию, закрыться от всех, тихим стать, просветленным, а главное, повторять: «Трава зеленая, солнце греет, небо голубое…» Ну вас всех к шуту, живите как хотите, лайте по-собачьи, добро оберегая, гонореей болейте, рожайте в тринадцать лет, уроды, растите Галочку-красавицу!
А может, не чувствуешь ты, полковник, движения? Сомневается порой, в лица вглядываясь с пристальностью, многих доводящей до испуга. «Да чувствую, — отвечал сам себе, — вместо чистоты, свежести и естественности — заменитель меда «Пчелиная радость», синтетическая черная икра, сухо рассыпающаяся, как бисер…» Движение казалось похожим на скачку потерявших управление лошадей с крутой горы к обрыву. То ровным движение казалось, полным смысла, дородства, когда вглядывался в сотни и тысячи спокойных лиц, идущих по своим делам, читающих газеты, жующих. Даже праведным оно порой казалось, когда видел радость самую настоящую в тысячах юных лиц, чудился восход, к которому ведет движение. И сомнения ниспадали в душу полковника. «А что ж, — размышлял, — для тех, кто не знал настоящего меда, и «Пчелиная радость» благодать, поди! Но я-то, я-то знаю кое-что про настоящий мед. Что ж, вы — это вы, а я — это я. К полднику, скажем, мне обязательно нужны свежие сырки». И, купив буханку обдирного хлеба, он переходит через площадь, чтобы взять в молочном киоске сырки. Хлебо-молочные продукты полковник покупает ежедневно, все остальное — раз в неделю, у него есть сумка-коляска.
* * *
Так еще прошло с полгода, в санаторий он так и не собрался, опять зима на дворе. Да и не зима, а так — не поймешь и что: то снег, то дождь, сумрачно, влажно. Эх, ту бы зиму сейчас! С сугробами до окон, морозцем, льдистым настом, ядреностью, но… чего нет, того нет… всплыло из того далекого ядреного, сугробного непонятное уже сейчас слово «шалапунь»… Да, вздохнет еще раз, чего нет, того уж больше нет. Полковник себя в руках держит. Ученые, разумеется, все объяснят общим потеплением климата на планете или еще как, полковнику дела нет до этого — тихий стал. Сидит себе в кладовочке да ванночку с проявителем покачивает. Теперь у него совсем маленькие фотографии выходят. С каждым годом все меньше и меньше, контактным способом он их производит теперь, прямо с пленки, двадцать четыре на тридцать шесть миллиметров — такие получаются. В таких фотографиях есть своя прелесть: вид большой реки, пароход с сотней людей, беседка с влюбленными — все на одной ладони помещается, одним взглядом можно окинуть. А погода промозглая его больше не волнует, он даже мерзнуть стал меньше, над Ниной Андреевной незло подсмеивается, когда та пожалуется, мол, что-то нынче знобко. «Что, — с улыбкой скажет ей тогда полковник, — не греет молодая кровь?!» — «Не греет, — соглашается Нина Андреевна, — что вы, Павел Константинович, совсем не греет!» Посмеются так оба да и сядут пить чай, а за окном в четыре часа уже темнеть начинает. Ничего, можно лампочку зажечь. Все внешнее полковника мало теперь занимает, так сконцентрировался он весь, затаился в себе. Все там внутри слышит, все там видит: вон сердце чего-то не так шевельнулось. «А мы попросим вас, уважаемое, на свое место! Раз-два, раз-два, вот так… вот так… молодчина, благодарствуем, продолжайте в том же духе, пожалуйста! — Вот левое легкое что-то иголочкой кольнуло. — А ну, подышим поровнее, помягче, распрямим грудь, и-и-и… полный вдох, теперь — плавный выдох. Хорошо, оч-чень хорошо, еще разик, еще раз! Отлично! А как там почки поживают? Стаканчик кефира не помешает? Не слушаются? Ну, это не сердце, с ними разговор короче: еще один стакан — заработают, куда денутся!» Проносятся за окном реактивные самолеты, собачники своих собак гулять вывели, лай, визг, даже вонь сюда из сквера доносится, по телевизору демонстрируется встреча родных людей, потерявших друг друга во время лихолетья. Добрые люди отыскали их, свели, бросили в объятия друг другу, льются слезы на сцене и в зале, плавно оператор наводит на них камеру. И ничего — смотрит полковник, головой не качает, как раньше, немножко беспокоит, что третий раз отрыгнул после кефира, обычно желудок дважды это проделывает, не больше. Кефир, видно, несвежий дали, завтра надо сказать, чтобы впредь свежий давали, он всегда свежий берет. Сегодня очередь пить чай у Нины Андреевны.
Нина Андреевна, раскрасневшаяся, с пробившимся потом на верхней губе, с ямочками на щеках, пьет уже шестую чашку. На краю стола сверток, полковник пододвигает его.
— Это вам, Нина Андреевна.
— Мне?! Ах, зачем? Что там?
— А вы разверните, разверните.
— Господи, платок, ну-у… нет, — она накидывает на плечи, — это очень дорогой подарок, — поворачивается к зеркалу, — к чему, Павел Константинович, такие траты?
— Так завтра же праздник.
— Все равно… это… очень дорогой подарок, и потом… как вы узнали, что цвет этот мне к лицу?
— Да уж так… старый конь борозды не испортит.
— Ну, спасибо, спасибо.
— Потом, Нина Андреевна, я все хочу сказать знаете что?
— Да-да, Павел Константинович…
— Да-а… вот, собственно, что…
— Говорите, говорите, Павел Константинович, а теплый какой, как на печке… говорите.
— Знаете, Нина Андреевна, давайте я вам буду со следующего месяца… м-м-м… давать денег в два раза больше, а то ведь шут его знает, что получается — вы и варите-парите, и убираете, и стираете, а…
— И не думайте, Павел Константинович, и не думайте… и думать не смейте. Даже обидно, право слово! Вот еще, да я же… как лучше, а не то что… извините, если что… но только… обидно же, Павел Константинович…
— Да вы не поняли, Нина Андреевна, я же как лучше хотел, а не…
— Ну какая там стирка! А уборка? Смех и грех! Что за уборка у холостого мужчины! Так что как хотите, Павел Константинович… так что лучше… пейте-ка чай, да-да… подлить погорячее?
— Да нет, спасибо.
— Ой-ой-ой! — сказала Нина Андреевна, на часы взглянув, — Дел, дел сколько! За Лариской в садик бежать надо, да стирать надумала еще.
— Давайте я схожу за Ларисой, — сказал полковник. — Заодно и прогуляюсь перед сном.
— Только, Павел Константинович, когда повезете на саночках, одеялом закутайте — снег пошел вроде к вечеру…
Сизое стремительное небо несется над соснами. Взбудораженное, вздыбленное, клочкастое. Топорщится все, все в дырах да заплатах, не небо — цыганское одеяло. Внезапно откуда-то снизу, из молодняка, рванул свежий ветер, пробил густую хвойную дремь, приподнял ветви — посветлело над головой.
Везет полковник на санках девочку Лариску. Ей четыре года. В руках у нее суперобложка с книги о художнике Ван Гоге — дал полковник подержать. Возле речки, где они остановились, чтобы посмотреть на воду, спросила Лариска полковника:
— Тебе какой сон больше всего нравится? Посмотри.
— Почему же сон, Лариса? Это ведь картинки. Вот эта называется «Кафе». Эта — «Ночь».
— Нет. Это все сны. Какой тебе сон больше нравится?
Полковнику приятно поправить Лариске шарф, проверить, не потеряла ли она калошу, приятно слушать, как называет она снами картины Ван Гога… Снег быстро и косо летит.
2. ДОЧЬ
К весне полковник все же собрался в санаторий, решив, что хуже, в конце концов, не будет. Оттуда писал бывшей жене Наде:
«…И я в какой-то мере для меня неожиданно с 15.04 оказался в военном санатории в сорока пяти километрах западнее Москвы. Первое: врачи, поглядев по диагнозам, записанным в моей медицинской книжке (в армии она заводится на каждого офицера и является как бы паспортом о происходящем с его здоровьем) за последние десять лет, решили меня просто не принимать, а отправить обратно как такого, которому санаторного лечения уже дать нельзя, а потому и само нахождение в санатории неоправданно. За такой «заботой» суть второй основной пружины, двигавшей устремление этих врачей, — боязнь, если помрет в санатории, неприятностей не оберешься. Второе: ничего со мной сделать не смогли, и я остался. Но мое лечение свели ко сну, хождению в санаторную столовую и прогулкам под наблюдением человека, ведавшего лечебной физкультурой. Если к этому добавить явку к лечащему врачу через день, его допросы, через которые для меня (или мне уж так казалось) проскальзывала тревога — принесу ли я ему крупные неприятности или нет? — довершали весь мой лечебный процесс и мое отношение к нему. И несмотря на немалую выдержку и навыки держать себя в руках, не позволять распускаться своей воле, а через нее и настроению, нет-нет да и настраивался на какой-то отрезок времени негативно, сопровождая это самооправданием о том, что и я человек и как человеку все человеческое мне присуще, а в том числе и настроения.
Но я этого не говорю тебе сейчас, потому что, если это понимать как плыть по волнам, приливным и отливным, своих настроений — не будет многого того, без чего в моем положении было бы еще труднее, а я ведь сам себе не враг и, на удивление врачам, держусь, и думаю, еще удастся немало продержаться.
Ну, я, кажется, сбился если и не на хвастовство, своеобразное конечно, то на рассуждения, похожие на что-то в этом роде. Ты уж извини меня за это. После окончания курса лечения буду проездом через Москву, думаю заглянуть к вам».
* * *
Полковник двигался полутемным коридором, расставив руки. Запах лука, пеленок, кошек, сырых углов уплотнял полумрак перед ним. Полковник с трудом преодолевал его. Руки его дотрагивались до висячих тазов, умывальников, ноги спотыкались о ящики, ведра, коробки, лыжи, детские коляски. Совсем рядом за стеной шлепали звонко карты, раздавался смех, ребенок плакал где-то, женский голос уговаривал ласково ребенка. Кто-то зубрил: «Гут, бессер, ам бесстен!» А полковник все плыл да плыл в плотном полумраке на свет, пробившийся в конце коридора. Избыток силовых линий, идущих из комнат слева-справа, которых слегка касался пальцами полковник, где-то к середине пути уже проник в него. Сгусток жизни, клубок ее был до того запутанно переплетен и неправдоподобно неуязвим, что сам барак мог сколько угодно гнить, оседать, разваливаться, — это ничего не значило: гут, бессер, ам бесстен! Громыхнула дверь с другого конца, задребезжало стекло, пахнуло свежей геранью, где-то ругались на втором этаже, смеялись на первом. Последние шаги полковник торопливо прошел, почти добежал, и постучал, и в нетерпении толкнул дверь, которой скрип тоскливый откликнулся и в нем. «Лет десять не был, ужас!» И так вперед рванулся, что боднул низкую притолоку.
— Ой! — вскричал он, оказавшись лицом к лицу с девушкой лет пятнадцати-шестнадцати. — Ты что?! Ты кто?! ты ведь не Катя? нет? а? Ты… Рая? Да? Отвечай!
— Да, — девушка, слушавшая до этого пластинку, на которой Георг Отс пел про красную розочку, медленно поднялась, все больше и больше бледнея, в то время как большие, чуть навыкате глаза ее все больше лихорадочно разгорались.
— Ну вот, — сказал полковник, успокоившись несколько и уже оглядывая чистенькую комнатку, в которой оказался, — ну вот, а я твой папа. Кстати, ты получила мою поздравительную открытку на праздник?
— Да, — тихо отвечала девушка, с силой натягивая вниз толстую русую косу, свисавшую с правого плеча.
— А мама на работе?
— Да, — еще тише отвечала Рая.
— А баба Вера?
— В деревню поехала.
— М-м-м… знаешь, а я, представь себе, и не думал, что ты такая… большая, — говорил полковник, похаживая по комнате, что-то узнавая здесь после десяти лет, что-то новое открывая. — Кстати, ты что бы предпочла в качестве подарка: велосипед или часы?
* * *
Самое первое ее впечатление — неуверенные ноги, под ними холодный каменный пол и очень высокие мрачно-зеленоватые стены бесконечно длинного этого коридора. В конце коридора — светлое пятно. Оно мягко колеблется, так как Рая движется, раскачиваясь, расставив для равновесия руки. Пол под ногами неровный, стар, весь в выбоинах, ямах, трещинах. Пол шероховат, тверд — страшно падать, надо идти. В конце коридора — кухня с большим светлым окном. Там тепло, там запахи, звуки, люди, там хорошо, туда она и идет. Она опять хочет, чтобы одна тетя с добрым лицом и ласковыми руками при виде ее, появившейся у порога, с полусмехом, с полуиспугом бросилась бы к ней, подхватила бы с каменного холодного пола. А когда подхватит, к себе прижмет, два чувства охватят Раю: во-первых, наконец кончился длинный холодный коридор, в котором так больно падать на каменный пол, второе — какие сильные, теплые, ласковые эти руки, что подхватили ее с пола.
Но чтоб попасть на кухню, надо еще, за косяк держась, взобраться на порог, а потом еще — самое трудное! — от порога пол почему-то шел крутой горкой, там шлепнуться было легче всего… но там как раз и должны уже подхватить теплые ласковые руки.
Потом, когда уже переехала та женщина из этого барака в другой, двухэтажный, баба Вера говорила, что то была Настя-вдова — очень Раю любила…
А пока человеку два-три года, бесконечное «Почему?» — так мало он знает, так несовершенно его логическое мышление. Но вот что странно — именно в этом возрасте, когда, казалось бы, человек так пуст, в нем, как никогда ярко, живут Пределы. Любовь, Нежность, Верность. Именно в этом несовершенном возрасте, как два рыцаря, в нем уживаются и Кровное Родство, и Чужеродность. Именно в этом возрасте мама забрала наконец Раю и бабушку к себе в город и Рая вдруг узнала, что у нее, как и у всех детей, есть отец, увидела его, обрадовалась — ее отец, так вот он, оказывается, какой! Он так ей понравился.
Деталей счастья сохранилось не так уж и много, но зато навсегда. Кровать, застеленная покрывалом, один конец отогнут — Раю днем укладывают спать. Льющийся через окно яркий солнечный свет, свежесть, шум упругой листвы, пение птиц из близкого палисадника и бреющийся перед зеркалом отец, белоснежные комья мыльной пены на обрывках газеты, радостно вспыхивает бритва, когда отец, насвистывая песенку, проводит волнообразным движением бритвы по ремню, закрепленному блестящей пряжкой на гвозде.
Несколько раз, уж не помнит по какому поводу, произнесено имя — Валентин. Какое красивое имя! Где-то есть человек, носящий такое имя. Вернее, имя где-то имеет соответствующего человека.
Июньский или июльский день, так много света, солнечные зайчики, сочные птичьи голоса… а может, это голоса кур, разгуливающих в палисаднике, мурлыканье кошки и это удивительно красивое имя, от которого все замирает в ней, — Валентин, — произнесенное с разными интонациями несколько раз, пока укладывают Раю спать, отвернув для этого немного покрывало. И всему виною человек, под беззаботное посвистывание бреющийся перед зеркалом на комоде. Больше ничего не надо Рае.
Это, разумеется, совпало случайно — что как раз в это время отец с матерью уже расстаются. Может быть, он уже и брился, беззаботно посвистывая, перед дальней дорогой, не очень обращая внимания на двух-трехлетнюю дочь — мала еще, чтобы понимать что-то. Но Рае позднее казалось, что именно в тот день (счастье так коротко!) стала навсегда медленно закрываться дверь за самым любимым, самым обожаемым, самым родным. Самым родным — потому что силен в дочерях сигнал отцовской крови.
Непонятно, как в этом возрасте она поняла, что он уходит навсегда. И дверь, конечно, не закрывалась так медленно, как казалось позднее. Просто чем больше она закрывалась, тем меньше в Рае оставалось только что приобретенного счастья. И вот совсем закрылась — навсегда.
Потом четыре года, пять, шесть… Были вокруг какие-то между бабой Верой и матерью разговоры о возможном возврате отца, о том, как будут жить они тогда… Но все это было уже не то, не настоящее. Раз и другой действительно заезжал отец за это время. Но лишь для подтверждения оттенка нереальности, ненастоящести, который поселился в ней навсегда. Один раз купил Рае альбом для открыток и даже положил начало коллекционированию, добавив к альбому набор открыток с репродукциями картин Шишкина. Другой его приезд запомнился тем, что совпал с землянкой в ближайшем лесу. Детство, особенно раннее, — яркий калейдоскоп одушевленных и неодушевленных предметов. Впрочем, в самом раннем детстве предметы еще и не разделены — просто калейдоскоп. Тут и тепло от печки с кошкой, и таинственный проход между сараем и мрачным забором, и бочка, в которой плавают красные листья, и грач, сидящий на соломенной шляпе, и парное молоко из домика, где живут две белые собаки, — и все равноценно. Так вот и землянка появляется в одно прекрасное время. Совсем недалеко, в лесу, полуобвалившаяся, темная, сырая — и отпугивающая, и притягивающая. Почему-то все казалось тогда, что это вход в туннель, ведущий в Америку, ведущий вообще на другую сторону земного шара…
Надежда Алексеевна — человек прямой, справедливый и совсем бесхитростный. Мать и покоряла ее своим прекраснодушием, и вызывала жалость за суету, неженственность, незнание мод, духов, за нелепости, в которых частенько вдруг оказывалась. Много было в Надежде Алексеевне и света, и любви, но и свет, и любовь те были какие-то прямолинейные, как походка новобранцев на учебном плацу. Хотелось порой остановить ее, хотелось если уж не понимания, об этом и мечтать не стоит, хотелось, чтобы мать хоть изредка догадывалась, что Раю не только кормить, поить, одевать надо, не только музыке учить, за двойки ругать, купить куклу к дню рождения, но есть ведь и еще в Рае что-то такое, о чем надо однажды маме просто догадаться. Или хотя бы разок остановиться, попристальнее поглядеть на Раю, в глаза ей заглянуть, в лицо, в уголки губ, которые все выше задираются. Короче, почувствовать однажды не по годам развитую проницательность. Ту самую, что во всех девочках усугубляется в отсутствие отца. Конечно, Надежда Алексеевна, как всякая незамужняя женщина, в этом случае попыталась совместить в себе оба начала — и отцовское, и материнское, ну а практически Рая по-настоящему не имела ни того, ни другого. Позднее, бывая дома у тех подружек, что отцов имели, например у Вальки Скворцовой, Рая уяснила, что и отцы бывают разные. И все же та же Валька Скворцова живет как бы поддерживаемая с двух сторон, а вот Рая чувствует, что даже с той, где мать должна быть обязательно, кто-то просто тянет ее за одну руку. Так бывает, когда тебя учат кататься на одном коньке, едешь-то едешь, но все как-то боком, то есть не в радость.
А ребенку стоит лишь убедиться, что он проницателен, как его уже ничего не может остановить, он проницает и проницает теперь без конца. И уже кажется Рае, что дом у Вальки Скворцовой, вернее их двухэтажная дача, и не дом вовсе, а корабль, плывущий неизвестно куда. Все какие-то лесенки, ведущие наверх и вбок, в полупустые комнатки, какие-то малозаметные старики и старушки, с которыми никто не разговаривает, глупенький красавчик Степа — братец Валькин, который постоянно занят тем, что разглядывает себя в зеркале, а если нет зеркала, то хотя бы в промороженном окне. Папа Валькин, неожиданно выходящий из какой-нибудь двери с таким ошеломленным видом, как будто раз и навсегда поражен этим домом-кораблем, плывущим неизвестно куда… Мама — полная, темная, с усиками, всегда острящая, со смеющимися и в то же время злыми глазами, ее сестра, устало спускающаяся на звук колокольчика, сзывающего всех к чаю, собака с задумчиво отвислым языком… и на фоне всего этого плывущий неизвестно куда корабль. Валька Скворцова, живущая в собственной комнатке по расписанию, приколотому кнопками к стене. Когда Рая догадалась, что ее пускают в этот дом лишь потому, что она отличница, а Валька троечница, она пережила это не душевным смятением, как надо было бы ожидать, а ощущением, что у нее появилась еще одна мозговая извилина. Уже наступала пора раскладывать все по своим полочкам, пора строгих и точных оценок. Оценки касались и собственной жизни, и жизни вокруг. Уголки губ загибались все более кверху. Весь мир казался очень ясным, стоило лишь подумать: зачем, почему? Взвесить стоило лишь все «за» и «против» — и вот уже ясно, что к Вальке Скворцовой отныне она ни ногой. Так надо, так будет справедливо! И уже до того доходила в этом возрасте ее проницаемость во все человеческое, до того все людские поступки становились ей объяснимыми, стоило лишь вот так взвесить все «за» и «против», что порою ее охватывало странное чувство — вон бежит и бежит куда-то по своим делам какой-то человек, и как это странно — бежит и бежит вдоль забора, как будто ее — Раи — и нет совсем, бежит и даже в ее сторону не взглянет!
Тут мы подошли к моменту довольно интересному — формированию человека вообще. Оно происходит комплексно: школа, папа, мама, жучка-собачка, книжка «Моби Дик», сосед-пьяница дядя Паша — очень многое участвует в этом формировании. В жизни же Раи основную роль сыграла незаметная старушка, вроде и собственного голоса в семье не имеющая, — баба Вера. Лишь с годами Рая станет понимать, почему всю жизнь ее отец так уважительно относился к бабе Вере, в каждом письме обязательно передавал ей приветы, а однажды — в один из приездов — вместо подарка оставил бабе Вере очень хороший в твердом кожаном футляре военный бинокль и наказал, чтоб баба Вера продала его на базаре и купила бы себе к дню рождения какой-нибудь подарок. Но это понимание к Рае придет еще не скоро. А пока баба Вера, ее буколический век смягчают резкие порывы Надежды Алексеевны. Баба Вера готовит, стирает, умывает, одевает, в школу провожает, из школы встречает, ведь Надежда Алексеевна все больше по важным собраниям, все больше по каким-то комиссиям. Так что баба Вера во многом заменяла Рае мать. Потом, баба Вера очень любила разную живность — кур, цыплят, утят. И эта любовь очень рано передалась Рае. Комната в их бараке окном выходила в палисадник, и там на небольшой площади гуляла вся эта живность. Однажды Рая — еще маленькая — задумала от большой любви ли или от какой-то естествоиспытательской наклонности выкупать цыплят в бочке с дождевой водой, после чего цыплята погибли все до одного, и цыплят больше не заводили. Но в доме вместо них регулярно появлялись выпадающие из гнезд грачи, скворцы, вороны, галки. Один из грачей до того полюбил Раю, что, куда бы она ни шла, садился на ее соломенную шляпу и отправлялся таким образом на прогулку. Кот Аскарид, собака Жучка. И все это шло через бабу Веру. Потому что Надежда Алексеевна очень боялась, что Рая через животных заразится стригущим лишаем… От бабы Веры незаметно переходило в Раю все, что издревле называлось разумным, добрым, вечным. Она всю жизнь брала на себя самое тяжелое, делала вид, что она самая сильная, самая выносливая, никогда не жаловалась, хотя судьба была порой сурова к ней. Мужа потеряла в первую империалистическую, когда самой было двадцать три года, сына Колю Великая Отечественная унесла. Дочь уцелела, слава Богу. Вот только судьба у дочки не сложилась, жалко ее, никак второй раз замуж не выйдет, да и не хочет выходить. Война сказалась — курить дочка приучилась, ходит — руками размахивает как матрос, глотку дерет на собраниях. А вот по дому, по хозяйству особенно не занимается — и на работе устает, и вообще не до этого. А за Раей глаз да глаз нужен, хорошо, что баба Вера есть. Внучка любимая подрастает, радует сердце бабы Веры…
Баба Вера много лет проработала на прядильной фабрике. Раньше, при хозяине, фабрика называлась — фабрика Франца Рабенека. С тех времен у бабы Веры сохранилось на казарме несколько подружек, и баба Вера любила с пенсии купить гостинец, повязаться новым платком и идти знакомым-перезнакомым путем на казарму. Раю она брала с собой. Во-первых, оставить не с кем. Во-вторых, ей просто нравилось внучку брать в этот день с собой. В то праздничное настроение, с которым в пенсию баба Вера шла на казарму, Рая-внучка, идущая рядом в матроске и соломенной шляпе, на которой сидел ручной грач, добавляла еще один солнечный луч. Да и подружки-старушки Рае радовались, словно второму гостинцу. А в результате Надежда Алексеевна опять и опять упрекала раздраженно бабу Веру за то, что та потащила ребенка на целый вечер куда-то на казарму. Для бабы же Веры казарма — переделанная, перекрашенная — навсегда оставалась куском ее молодости. Тем же самым была казарма и для ее подружек-вековушек, поседевших, согнувшихся, без зубов, полуглухих, полуслепых и все таких же, как баба Вера, неунывающих, стойких, верных чему-то такому, что баба Вера на словах бы и не рассказала, спроси ее напрямик. Верных, наверное, щедрости душевной, человеколюбию, оптимизму.
Была у бабы Веры очень религиозная сестра Пашенька. Когда она заболела, баба Вера забрала ее к себе. Это была суровая, высокая, вся в черном старуха. Она сидела у окна и целыми днями читала толстые книги, от которых пахло кожей, плесенью, ладаном. На Раю, когда та пыталась вступать с нею в какие-то отношения, Пашенька глядела тяжело и безмолвно. Потом она совсем слегла. У нее оказался туберкулез легких. Была зима, в маленькой комнате было так тесно, что ходили не по полу, а по койкам, раскладушкам. Хорошо хоть, подружки с казармы помогли бабе Вере — забрали Пашеньку к себе. Все ж комната у них была побольше, и в казарме было теплее, чем у них в бараке. А баба Вера каждый день навещала ее, носила и продукты, и деньги, чистила, убирала за сестрой. И Рая из школы заходила с подругами к Пашеньке. Чинно рассаживались перед кроватью на высоких стульях и что-то нужное говорили. А Пашенька лежала, укрытая одеялом, только желтые, высохшие руки наверху. Непонятно что — то ли ежедневные посещения Раи с подружками, немудреные их подарочки, слова их подходящие к моменту, то ли сам момент, так быстро приближающийся, — только перед смертью Пашенька немного отошла, смягчилась, говорила иногда что-нибудь мирское, даже на лице ее появлялось при виде входящих, притихших Раи с подружками что-то вроде улыбки, во всяком случае, что-то похожее на улыбку. А Рая с подружками, посидев какое-то время и попрощавшись, на улице давали волю своим чувствам, им было очень хорошо, так как они выполнили свой долг. То, что долг они выполняют, они не забывали, ибо, войдя в комнату, где лежала Пашенька, они сразу становились совсем другими, поумневшими, повзрослевшими как бы…
Но особенно много родных было у бабы Веры в деревне. Двоюродные, троюродные племянники и племянницы, их жены, мужья, дети, сваты. К ним наведывалась баба Вера с какой-то ей одной понятной регулярностью и Раю обязательно брала с собой.
И за это Надежда Алексеевна не переставала упрекать бабу Веру: «Ну что ребенку делать в деревне среди стариков и старух!» Ну а баба Вера, понятно, не оправдывается, чтоб не подливать масла в огонь. А перестанет ее Надежда отчитывать, забудется все понемножку, она в субботу — раз-два! — соберется, развяжет белый платочек, где у нее от пенсии рубль серебряный и два бумажных сохранились, — купит баранок, конфет подушечек и, встречая Раю из музыкальной школы, хвать ее за руку и шмыг на электричку, потом по лесу, потом под гору — а там и деревня.
Год за годом проходил, и Рае казалось, что этим старичкам-старушкам износу нет и не будет — все такие же: в крепеньких подшитых валенках, и русская печка, как всегда горячая, и кожаный диван в горнице, на котором спали они с бабой Верой, все такой же… скрип половиц, зимой меж окон на белой как снег вате все те же ярко-красные ягоды рябины, и ходики — тик-так… тик-так…
Словно крепкими стежками повсюду прошита жизнь этими бабы Вериными подружками! Рая любила ходить с бабой Верой, ведь куда бы они ни заявлялись, в казарму или в деревню, она видела, что им — и ей, и бабе Вере — повсюду рады.
Надежду же Алексеевну все вокруг раздражало. Вообще Рае очень рано стало жаль свою мать. Это баба Вера ей глаза открыла. И уверенность, что она — Рая — посильнее других, — это у нее тоже от бабы Веры. Это множество добрых, стойких, радующихся людей в Раином детстве, на которых как бы распалась собственная, родная баба Вера, или, вернее, не распалась, а множилась, увеличилась в некую солнечную, неистребимо щедрую силу… это множество тоже уже родных людей было для Раи потом на долгие годы уверенностью, что и она подобна им.
Можно бы на этом и закончить рассказ о том времени, но, пожалуй, надо вспомнить еще случай с учителем немецкого языка, с тем чтобы наверняка увидеть, что незаметное воспитание бабы Веры давало уже свои плоды.
Звали его Игорь Андреевич, был он не высок и не низок, наверное, полон, но поскольку одевался немодно, то нелегко было понять — полон или лишь с лица одутловат. Он частенько приходил на урок пьяненьким, и тогда была заметна одышка, с которою объяснял урок, заметны были зеленые отеки лица, редкие слипшиеся волосы на голове. Если же приходил трезвым, все это было незаметным. Как-то невзрачно вел он урок и себя. И не то чтобы как-то уж бесцветно преподавал он этот немецкий, а неинтеллигентно. Да и не старался по-другому. Сначала четверки были у нее по немецкому, потом пошли тройки. Потом была какая-то мелкая стычка меж ними, что-то сказала Рая обидное, и Игорь Андреевич стал мелко преследовать ее. Двойка следовала за двойкой. Даже подготовив урок, все равно она получала двойку, так как Игорь Андреевич лишь к ней одной проявлял теперь интерес. Дома Рая не без удовольствия рассказывала маме, как и на этот раз Игорь Андреевич поставил ей двойку. Надежда Алексеевна кипела негодованием. И вот однажды, придя из школы, Рая беззаботно сообщила ей о новой двойке по немецкому, и Надежда Алексеевна с криком: «Ну я ему покажу!» — помчалась на этот раз в школу. Через час мать вернулась: «Ну я ему показала!» Лицо ее было удовлетворенным, еще не схлынуло с него негодование, но все же больше было удовлетворения. И она подробно рассказала, как все было. Там — в учительской, потом — у директора, как она отчитала этого пьяницу Игоря Андреевича — да гнать его, алкоголика, давно пора! Сошелся, вернее, женился на женщине, которой шестьдесят пять лет, а ему сорок пять, и живет с ней. Разве может нормальный мужчина жить со старухой… Вообще много чего узнала в этот вечер Рая об Игоре Андреевиче. И о том, что в войну в плену был, в концлагере, и о том, что там ему на спине звезду вырезали, пытали, и о том, что пьет он много, а в школе жалеют его, не выгоняют, о страшной старухе — его жене — узнала. И до того все это тяжелым грузом навалилось сразу, что Рая в тот же вечер пошла зачем-то в школу. В школе было пусто, уборщица мыла класс. Рая пустым коридором прошла мимо гардероба, учительской, заглянула в свой класс. Все выглядело не так, как обычно, то ли оттого, что пусто было в школе, то ли от неправдоподобной мысли, что вот здесь, в учительской, в классе, ходит, говорит, объясняет презенс, имперфект Игорь Андреевич. Она плакала не стесняясь. Так горько — первый раз в жизни. Никто в пустой школе не мешал.
Надо сказать, что все рассказы бабы Веры, а рассказывала она Рае много, были предметными. Баба Вера и не помышляла о каком-то специальном воспитании, назидании. Она говорила для собственного удовольствия, чтобы еще раз пережить то или иное событие своей долгой, богатой жизни. Вот идут они, скажем, с Раей мимо старой больницы — баба Вера обязательно вспомнит, как рожала здесь Колю… а день был ветреный, январь, двадцать второй год, голод… как не могла она сама подняться вот на эти потемневшие (показывала рукой), окалиной покрывшиеся кирпичные ступеньки. Хорошо, оказалась рядом молодая женщина — помогла. Да еще врачи никак не хотели пускать в больницу — голод, кормить нечем… Потом пустили, конечно, — все хорошо кончилось, родила, наутро — капуста мороженая, морс из свеклы… Баба Вера рассказывала и счастливо смеялась. Или в деревню когда идут, мимо церкви проходят — баба Вера тут же вспомнит, как венчалась с мужем, только вот пожить не удалось, вздохнет. Сначала на империалистическую забрали, ранили, в госпитале в Москве на Четвертой Мещанской лежал, выздоровел, на гражданскую ушел, там и убили… Пойдут с Раей в лес по грибы, заброшенный сад встретят, осинником заросший, баба Вера вспомнит, как помещичьи яблоки таскали из этого сада, а там — вон за прудом — помещичья усадьба была, дом, беседка, все сожгли в семнадцатом… «А экономка… экономка у помещика Марья Маревна была — злая-презлая…» Потом, как-то возвращаясь из Лосиноостровской с урока музыки, встретили они с Раей эту экономку — дряхлую уже старуху. Пенсии у нее почему-то не было. И баба Вера дала ей немножко денег. Для Раи эта ожившая вдруг из дореволюционного времени экономка казалась персонажем из оперы Чайковского «Евгений Онегин», она как раз проходила по музыкальной литературе хор девушек из этой оперы…
Предметность рассказов бабы Веры была до того ощутима, что так и тянуло потрогать каменный забор, по которому лазил когда-то сын бабы Веры — Коля. А этот сын для Раи, оказывается, был родным дядей, дядей Колей. Можно было пройтись с бабой Верой по Четвертой Мещанской мимо больницы, где в 14-м году был госпиталь и в нем лежал муж бабы Веры, а значит, ее, Раин, родной дедушка. Можно было однажды встретить на рынке учителя — согнувшегося, с непокрытой головой старичка, который, оказывается, учил когда-то маму. А проходя мимо фабрики, всякий раз вспоминать, что в невероятном 1905-м на этом самом месте куда-то вместе со всеми бежала и баба Вера, хозяин фабрики Франц Рабенек вызвал войска, пороли всех нагайками…
Эти ранние сопереживания с бабой Верой, выстраиваясь в хронологической последовательности, начинали уже жить в Рае. Кусок времени в полвека длиною ощущался ею так, как прожила его баба Вера. А та все удивлялась, все ахала, все печалилась, вся сама была в том, ушедшем уже времени, хотя и шла рядом с Раей. А годы были уже шестидесятые… семидесятые. В конце концов все это перемешалось в Рае — на равных зажило собственной жизнью. Впрочем, что-то такое же, вероятно, происходило и с бабой Верой. Так, она вдруг однажды вытащила из укромного уголка один из дорогих ей предметов — альбом, в котором ее сын Коля рисовал перед войной танки, самолеты, портреты вождей. Достала и отдала без всяких сомнений Рае: «Ты только листков не вырывай, не потеряй — рисуй на свободных страницах», — что Рая и стала делать.
Вот такую странную диалектику времен привила баба Вера своей внучке Рае. Так что полковник был не совсем прав, когда, вспоминая свое время, жалел в своем одиночестве, что дочь Рая о нем ничего не знает, не чувствует. Ведь разные поколения не только живут каждое в своем времени, но еще и скрытую фазу имеют при этом, где сходятся разные времена. Но фазу — скрытую, не всякий обнаружить может.
Когда Рае было лет шесть, Надежда Алексеевна поехала отдыхать на юг, в Сочи, где снимала комнату в доме одного толстого веселого грузина. Раю она взяла с собой. Юг запомнился тем, что надо было загорать на пляже нагишом. Это было мучительно. Рая пыталась протестовать, но Надежда Алексеевна была непреклонна. Ей казалось непростительным, если хоть часть ультрафиолетовых лучей не достигнет кожи, закрытой трусами. Была с ними заветная подруга Надежды Алексеевны — Клавдия Вениаминовна. Рая заметила, что вела она себя совсем по-другому, чем мать, и впервые ей стало жаль свою мать и в то же время испытала она за нее гордость. Да, Клавдия Вениаминовна на юге сразу повела себя не так, как дома. Она и улыбалась мужчинам здесь не так, и ходила по-другому, и смотрела вокруг особым тягучим взглядом, и голос стал другим. В общем-то, Рая так уж определенно и не смогла бы тогда сказать, в чем заключались эти изменения, но то, что Клавдия Вениаминовна определенно завлекала мужчин в свои сети, это для Раи было ясно. И мужчины тут же обратили на нее внимание, а вот мать они словно бы сторонились как-то, опасались, что ли. Хотя, сравнивая мать и Клавдию Вениаминовну, Рая видела: мать ничем не хуже. Но вот, поди ж ты, даже хозяин дома, толстый веселый грузин, все чаще заходит к ним в комнату. Хохочет как-то не так, оглядывается, подмигивает. Одна Надежда Алексеевна ничего не замечает. Рае обидно было за мать, но тут же она ее и оправдывала. Она не завлекает никого, не притворяется. Если придет достойный человек — он увидит это сразу и оценит. Но достойный что-то не шел, а тем, что вертелись рядом, нравилась очень Клавдия Вениаминовна. Потом, уже зимой, к ним в гости приезжал веселый грузин, без жены, конечно. И опять Надежда Алексеевна ничего не поняла, радостно говорила, мол, как хорошо, что дружим семьями, в гости в отпуск ездим друг к другу. А когда она на кухню выходила, Клавдия Вениаминовна и веселый грузин, думая, что Рая спит, сразу срывались со своих стульев и начинали целоваться, отпрыгивали и затихали, заслышав шаги Надежды Алексеевны.
А время шло, и из многих самых разнообразных источников поступали самые разнообразные сведения, воспитывающие Раю в этом плане. Собственно, ведь и без какого-то конкретного рассказа или показа со стороны в самом ребенке обязательно, даже без его ведома, происходит какая-то аналитическая работа. Мало того, именно эти знания на порядок выше приобретенных со стороны. Так, в первом или втором классе шли они как-то из школы с Валькой Скворцовой и возле помойки увидели спаривающихся собак.
— Видишь? — сказала Валька Скворцова.
— Вижу, — отвечала.
— А кто еще так делает, знаешь?
— Знаю.
— Кто?
— Кошки.
— А еще?
— Собаки.
— А еще, еще кто?
— Куры, кто ж еще!
Валька усмехнулась, хотела что-то сказать, но тут появилась ее бабушка, и она ничего больше не сказала.
И совсем близко к этому разговору по времени пришелся приезд отца, кажется, последний, после которого начал он серьезно болеть и больше уже не приезжал. И вот когда погас свет и мать с отцом улеглись на диване-кровати, баба Вера на раскладушке, а Рая, как всегда, на своей кровати у окна, Рая решила не спать. Во-первых, ее впервые немножко покоробило оттого, что мать с отцом как ни в чем не бывало улеглись себе вместе, во-вторых, было странно беспокойное ощущение, что все чего-то от нее ждут, что она отвлекает всех от чего-то. Сна не было ни в одном глазу, но главное — уши ловили малейший звук в наступившей сразу за погасшим светом тишине. Тишина была полная, никто не ворочался, не вздыхал, укладываясь поудобнее, никто ни разу не заскрипел пружинами. Даже дыхания не слышно было. Одно ожидание, каким, казалось, была пропитана ночь. И лишь бледно светящееся окно подчеркивало напряженную тишину.
Потому, когда что-то началось там у них, на диване, Рая подумала: «Ну вот — все, как я и думала!» Хотя что она думала — было неясно ей и самой, да и думать она ничего не думала и ничего не знала… если припомнить разговор накануне с Валькой Скворцовой. И вот, поди ж ты, ничему не удивилась — наоборот, почти со взрослым разочарованием отметила, что так оно все и есть, как она и думала! Разочарование было связано с тем, что вот и взрослые они, а ведь не могут придумать более сложное, более возвышенное, чем то, что ей и так давно уже известно. То есть была полупрезрительно-разочарованная реакция на эту неинтересность их отношений там, где столько волнующего, столько интересного должно было бы быть в человеческой жизни. И тогда мстительно-капризно протянула она со своей кровати:
— Ма-а… укрой меня…
На диване-кровати сразу затихли, потом, через некоторое время, раздался подчеркнуто спокойный голос матери:
— Укройся сама.
— Не могу-у… укро-ой меня…
И еще немного помолчали на диване-кровати. Потом Надежда Алексеевна шумно встала, как-то излишне при этом шумя, подошла, укрыла. Отец говорил в это время раздраженно:
— Какая она у тебя все же капризная!
Чтобы закончить уж эту тему, надо сказать, что в целом отношение взрослых к вопросам любви поражало Раю какой-то несерьезностью. О женихах, о невестах говорилось как-то легко и просто. Разлюбил — полюбил, опять полюбил, разошлись, нашли вновь свое счастье — все это у взрослых было в порядке вещей. Да и вели они себя на Раиных глазах уж как-то чересчур примитивно — подмигивали, произносили двусмысленные плоские шуточки, производили двусмысленные жесты. Да, представление о долге, чести, любви, дружбе — все это было весьма высоким в Раином понимании. Дружить по этой причине в школе с ней становилось тяжеловато. За все десять лет у нее были две подруги — Томка Заботнова и Валька Скворцова. Но, по существу, настоящими подругами они никогда и не были. Заботнова попала в подруги по причине легкого характера и широты души, она со всеми сходилась очень быстро. Ну а Скворцова просто жила рядом.
Представление о любви совсем уж было недоступно для осуществления. Тут причина была в маме, Надежде Алексеевне, заменившей Рае мать и отца. Собственная жизнь Надежды Алексеевны была посвящена высоким устремлениям. А потому со стороны она казалась конечно же и нелепой часто, и непрактичной. Но и сослуживцы и соседи, подсмеиваясь над Надеждой Алексеевной, все же каждый год единодушно выбирали ее в парторги, понимая, что за красивыми высокими словами о чести и долге скрывается такая же бесхитростная, переполненная идеалами душа. И в результате влияние матери на Раю было тут несомненно. И даже тот факт, что прием в пионеры выглядел не так торжественно, как обещала Надежда Алексеевна, и последующие несовпадения текущих моментов реальной жизни с пламенными тирадами матери, — все это не повлияло на общий высокий уровень Раиного духа.
Ворох чувств вперемешку, мешающих одно другому, обгоняющих одно другое, перепрыгивающих друг через друга. И все острые, яркие, и все до конца не выраженные, и нет ни времени, ни желания вникать в них. От яркой солнечности одних чувств хочется просто чихнуть с удовольствием. А от других — так ей легко и грустно, что хочется просто где-то одной бродить, встречного щенка за ухом потрепать, погладить белую кошку на заборе… Ах, этот забор вокруг дома отдыха, где работает мать! Забор, переходящий в ветвистое, раскачивающееся дерево, в мир ветряной, воздушный, затемненный, мир солнечного хлорофилла. Очень сильно в это время вместе с непонятностью ощущение своей обособленности и какой-то надвзрослости, каких-то совсем не детских основ.
К Надежде Алексеевне в это время часто приходит Роман Сергеевич — огромный, неторопливый, надежный. Несомненно, привлекательной надежностью веяло от его сильной фигуры, больших, неуклюжих рук, доброй улыбки, широкого, слегка изрытого оспой лица, волос, зачесанных назад. От дыхания, от глаз его, от всего — как сидел, разговаривал, как руку осторожно клал Рае на лоб, когда она болела. Роман Сергеевич делал маме предложение стать его женой, Надежда Алексеевна не соглашалась. Через какое-то время Роман Сергеевич опять приезжал. Тесную комнату почти целиком заполняла его фигура. Он двигался боком, стараясь ничего не разбить, улыбался по-детски, с ямочками на щеках, и, как ни старался умерить свой голос, комната наполнялась добродушно рокочущим с мягкими перекатами голосом: «О-о… а-а… у-у…» Было немножко похоже на то, что сильный человек без усилия постукивает-перекатывает только что вынутые из ручья валунчики среднего размера. Роман Сергеевич опять делал предложение маме, Надежда Алексеевна ссылалась на дочь, на то, на се… А Рая лежала с легким гриппом и до того любила Романа Сергеевича, до того ей хорошо было оттого, что он рядом, до того ревновала его к маме — они сидели довольно близко на диване, — что слезы временами сами катились по ее лицу, ей казалось, что на сердце лежит раскаленный и тяжелый-тяжелый камень. Роман Сергеевич видел это, срывался к ней с дивана: «Голова? Болит сильно?» Рая кивала в ответ, страшась своей непонятной ревности, нежности, слезы мешали говорить ей, она кивала и жмурилась от счастья — огромная теплая рука уже опускалась на ее лоб, становилось тепло, спокойно, словно она уже была на теплой печке… Но как ни уговаривала Рая маму согласиться, та отказывала Роману Сергеевичу раз за разом. А потом он перестал приезжать.
Для полноты картины надо сказать несколько слов и о занятиях музыкой. Вернее, о том, что было связано с Агнией Григорьевной — ее учительницей музыки.
Агния Григорьевна была человеком страстным и в то же время суховато-замкнутым, у нее были поджаты не только губы, вся она была поджатой. С нею рядом было особенно заметным светящееся Раино лицо. Агния Григорьевна, если разобраться, и сама была светлой масти, что-то между шатенкой и блондинкой, но словно бы чем-то присыпанная, словно вобравшая в себя все, что только можно — все прошлые честолюбивые мечты, стремления, да всю прошлую жизнь вместе со светлой мастью. Она говорит ровным голосом:
— Еще раз… но теперь правильно, ну… вот так.
У Раи способности. Агния Григорьевна только что закончила консерваторию и считалась перспективным преподавателем. Она бы, разумеется, хотела быть исполнителем, но и перспективный преподаватель это тоже много. У нее волосы гладко зачесаны и стянуты сзади в тугой узел, лицо волевое, решительное, немного всегда обиженное. Но это оттого, что у Агнии Григорьевны неправильный закус зубов. Лицо от этого кажется немного надутым, верхние зубы немного длиннее, особенно два клыка по бокам, так называемых глазных зуба. Поэтому Агния Григорьевна редко улыбается, а смеется так вообще раз в году, если уж что-то ее неожиданно слишком рассмешит. Но тут же резко оборвет себя и плотно рот закроет. Она была резковата в движениях, быстра, говорила и страстно и неразборчиво одновременно, особенно когда отчитывала за невыученный урок. Любимым героем ее была Татьяна из «Евгения Онегина», она любила читать наизусть эту главу — особенно с чувством у нее получались слова: «Но я другому отдана и буду век ему верна!» После этого Агния Григорьевна вся вспыхивала, сжимала тонкие губы и вызывающе глядела всем в лицо, словно ждала возражения. Время, ей казалось, вокруг такое, что Татьяна должна быть всем смешна… Поговорив с Надеждой Алексеевной, она назначила Рае дополнительные уроки — уже дома у себя, в комнате, где в полстены висела картина маслом: Агния Григорьевна девочкой играет на фортепьяно Бетховена. Тут же появлялась ее мама, высоченная старуха, не выпускающая изо рта папирос с астматолом, вся в суставном ревматизме, в шишках, выпуклостях, и одновременно веселым и страшным басом рокотала: «Моя Аггочка-а! Во-от мо-оя Аг-гочка-а играет на фортепьяно… Моя Аг-гочка-а по двенадцать часов занималась. А если у моей Аг-гочки хоть что-нибудь не получалось, тогда она играла всю ночь!! Но чтобы моя Аг-гочка пошла на урок с невыполненным заданием — ни-ког-да-а!!!»
Эти не выученные до конца уроки преследовали Раю, ей постоянно снилось, что с невыученными уроками, с нотной папкой она с электрички поднимается по ступенькам переходного мостика. Агния Григорьевна жила с другой стороны платформы. И вот поднимается Рая с тяжелым чувством на этот переходный мост, а он все выше, выше и уже раскачивается на ветру, а под ним страшные провода высоковольтки…
Разумеется, как-то логически переварить все, что касалось Агнии Григорьевны, Рая не могла, да это и не дело детства. Детство ведь похоже на игры маленьких котят, щенков, на озорные прыжки кенгуру, когда никто не знает, и он сам прежде всего, куда ему прыгнется в очередной раз. Но все, что исходило от Агнии Григорьевны, для Раи складывалось в единую — и привлекательную, и отталкивающую — струю, с которой долго она жила, все больнее ее ощущая, все зорче присматриваясь… Однажды к ним на урок забежал преподаватель из соседнего класса, речь шла о первом конкурсе исполнителей. Забежавшему преподавателю понравился в первом туре конкурса Ван Клиберн, Агнии Григорьевне больше понравился японец. Потом, когда через некоторое время Ван Клиберн с триумфом выиграл конкурс, Агния Григорьевна была этим недовольна, она говорила о каких-то посторонних мотивах, которые помогли Вану Клиберну завоевать первое место. Спустя год или полтора, опять же на Раин урок, случайно забежал тот же преподаватель и опять говорил о Ване Клиберне и еще о ком-то, кто играл то же самое, но насколько это лучше получалось у Вана Клиберна, и тогда Агния Григорьевна с огромным уважением, с огромным чувством чужого превосходства произнесла: «Ну, это же Ван Клиберн!» И это врезалось, запало в Раю, и высокомерная нотка превосходства, и то, что оно чужое, а главное то, что всего год назад Агния Григорьевна вообще Вана Клиберна не считала за музыканта, а сейчас не просто считает, а словно бы намекает всем, что это она его и открыла. После этого некая легкая грусть поселилась в Раиной душе, чувство понимания этих взрослых, которые, оказывается, не так и сложны, как это может показаться, вот ведь сама Агния Григорьевна начисто позабыла, что говорила всего год назад.
А впрочем, из данного факта какого-то дополнительного превосходства над взрослыми она не ощутила. Ведь в это превосходство она уверовала задолго до того. Легкую лишь грусть ощутила. Грусть оттого, что взрослые так часто, не замечая, портят окружающую жизнь. Особенно это часто случалось в раннем детстве, когда покупала мать Рае очередную игрушку. Всякий раз она своим вечным преувеличением превращала это радостное событие в свою противоположность: «Рая, ты только посмотри — какие глазки у этой куклы! А волосы, волосы какие, ну как живые! И она же говорящая, Рая! Вот, вот послушай — ма-ма! вот наклони, наклони ее — ма-ма!» Почему это всякий раз отравляло покупку, отравляло игрушку, ведь все действительно было у куклы — и глаза, и волосы — все такое прекрасное, и «мама» кукла говорила, и глазки закрывала, а подарок уже не в радость. Процент фальши, доля процента — и все уже отравлено. И лишь легкая грусть остается в юном сердце, заставляющая как-то по-особому держаться, по-особому относиться и к игрушке, и к матери. Эта позиция собственного держания еще не была до конца самостоятельной, но она уже была чем-то явно противоборствующим той поразительной несамостоятельности взрослых, как в этом случае — с Агнией Григорьевной и Ваном Клиберном. На уроках музыки Рая была сдержанной, замечания Агнии Григорьевны выслушивала без выражения. Это тем более теперь поражало Агнию Григорьевну, что она уже, приглашенная Надеждой Алексеевной, побывала у них дома, видела Раю совсем другой. И вот тут, на уроке однажды, видя, что Рая и на этот раз никак не реагировала на ее резкое замечание, она, не сдержавшись, добавила: «Дома ты обаятельный ребенок, а тут…» Что она хотела этим сказать — было неясно, но обиду ее Рая почувствовала, почувствовала с тем удовлетворением, словно бы между ними шла война и в ней впервые она одержала маленькую победу. Кто, когда сказал, что между ними шла война, конечно ж нет. Но вот поди ж ты!
А ей уже пятнадцать. Два ощущения владеют ею в это время. Первое — под школьной формой, темно-коричневым платьем, белым фартуком — собственное тело, белое, нелепое, с тонкой, прохладной матовой кожей. Второе — радость. Лоб чистый, высокий, чуть выпуклый, как и у отца. Глаза ясные, открытые. Нос прямой, может, лишь чуть длинноват, но именно это и уравновешивает лоб и слишком уж распахнутые глаза. Губы чуть тонковатые, уголки их загнуты кверху. Немного веснушек, мягкий овал подбородка, стройная длинная шея. И брови вразлет — воинствующие какие-то и в то же время мягко переходящие в закругления. Глаза искрящиеся, иронично-добрые. Доброта и в загнутых кверху уголках губ. Добрый гул ей слышится в самой себе, сколько прекрасных дел ей предстоит осуществить в жизни! Странный возраст, когда в человеке лишь гул, лишь звон, лишь звук… «Валентин»… Именно один лишь звук был и тогда — в таком раннем детстве, — что так поразил ее в солнечный июньский день, когда укладывали спать, отогнув немного покрывало. И потом, через годы и годы, когда краем уха услышала, что уже не стало этого Валентина (болел чем-то), Валентина, который так и оставался для нее всего лишь звуком, — не удивилась, не поразилась, слишком уж в том солнечном детстве поразило ее это несоответствие — красота и благородство этого прекрасного звука: Валентин — и какой-то реальный человек мужского пола, существующий, скрывающийся за этим звуком. Все это тогда ее поразило — на фоне белоснежной накрахмаленной простыни, голубоватого в твердый рубчик покрывала, солнечного света, льющегося через открытое окно, возбужденного разговора матери с отцом. (Куда-то собирались они идти — на день рождения к кому-то? — на то время, пока она будет спать.) И это произнесенное — Валентин, — все это настолько тогда поразило, что, узнав через годы и годы о смерти этого Валентина, с удовлетворением почувствовала эту раннюю свою проницательность, идущую, оказывается, из таких еще детских времен… Так вот и с отцом. Отец, в общем-то, тоже оставался для нее лишь понятием, словом, звуком: чистым, сильным и мужественным…
И вот он появился — большой, рыхлый, какой-то испуганный, схватившийся рукой за голову, с большими слезящимися глазами, тихой правильной речью, с четкой логичностью, обижающей почему-то Раю… Ах, да в ней же самой уж давно развилась точно такая логичность, жажда расставить все по полочкам, давать всему оценки… а теперь словно бы со стороны увидела она, как это грустно…
* * *
— Так что бы ты все-таки предпочла в качестве подарка, — выговаривал четко и правильно слова стоящий перед нею почти чужой человек, — велосипед или ручные часы?
— Я схожу за мамой. — Рая словно бы только и ожидала, когда полковник сойдет с половика, соединяющего стол с дверью, рванулась, задев его косой, и исчезла.
Пластинка крутилась вхолостую. Полковник не спеша подошел, остановил…
Через два дня уезжая, он сказал на вокзале Наде:
— Как Рая на мою сестру Катю похожа! Я, как увидел, не поверил даже, даже о притолоку стукнулся. Забыл, что она у вас низкая.
— Как не забыть, — отвечала Надя, — десять лет не был.
3. ПИСЬМО
А вернувшись, он зажил так же размеренно, как и до этого, распорядок был прежде всего. Но поражение от встречи с дочерью разворачивалось, охватывало все больше. То не было тем резким поражением, когда спутал ее с сестрой Катюшей, — то поражение осталось частичкой ноющей смуты, не больше. Теперешнее же состояние было совсем другого толка. Скажем, привидится вдруг за утренним чтением газет Раина рука. И не может уж оторваться, вспоминая. И рука поражает гладкостью кожи, угловатостью изгибов, загаром или, наоборот, нежностью незагорелой части, два маленьких родимых на плече пятна поражали, розовые ногти, форма заостренных пальцев, след ушиба на локте, причудливость голубоватой вены на запястье — все вдруг начинает поражать его тогда за утренним чтением газет. А бесконечные оттенки движений — это ль не достойно поражения?! Скажем, как держит Рая блюдце, или… да что там — даже мурашки, когда на кожу попадают холодные капли воды, и даже мурашки необыкновенно поражали. В общем, долго перечислять, чем поражают руки дочери теперь. Поражало, что есть такие руки, — и все тут, существуют. И предстоит им играть на пианино, писать, предстоит масса самых разнообразных дел. Придет время, обнимать будут кого-то, качать ребенка в люльке… Так же можно было вспомнить о шее, о волосах, спине, ногах… Можно мысленно и одной ступней любоваться, и этого достаточно, с высоким подъемом, стройной, красиво перехваченной красным ремешком босоножки. Да и босоножки на ее ногах поражали теперь полковника, вспоминаясь. Так как принадлежали ей, ее ступне с таким красивым подъемом. Поражало и платье в ярких больших цветах, и белый отложной воротничок вокруг шеи. Он как бы отдельно поражал.
Полковник ел, спал, принимал лекарства вовремя, совершал прогулки, по-прежнему ко всем общественным нагрузкам по линии военкомата серьезно относился, ни разу не сорвал, занимался фотографией по субботам, продолжались чаепития то у него, то у Нины Андреевны, — и вместе с тем все больше поражался. И уж теперь поражался тому, что не может никак сообразить, охватить, словом, выразить — чему же в конце концов он поражается так? Ну, есть она — дочь Рая, родная, всегда была, приветы всегда в письмах передавал. И как во сне, порой охватывало сомнение: не так он как-то поражается. Всегда ведь знал о существовании дочери. И Надя писала часто о ней, о ее успехах в школе, и в обычной, и в музыкальной, и о приеме в пионеры, об аппендиците, о туристском походе. Он знал о ней очень многое. И тем более поражала она его теперь вся. Может быть, лишь (что было странным) за исключением глаз. Собственно, лишь в первый момент они его и поразили — словно кто-то швырнул в полковника две только что очищенные голубоватые луковицы среднего размера — такие были резкие, вытаращенные, крупные да голубоватые. А потом он как-то свыкся, что ли, в общем, глаза его нисколько не поражали, не вспоминались вот так специально за утренним чтением газет.
Ему казалось, что он в любой момент может остановить поражение, отдать приказ и остановить. Но, во-первых, это никак не мешало до мелочей расчерченной жизни. Во-вторых, это извлекло из полковника нечто уже само по себе достойное поражения, ибо наряду с полковником, делающим по утрам гимнастику, принимающим порцию утренних лекарств, заводящим по сигналу радио часы, срывающим перед сном листок календаря, — наряду со всем этим существовал теперь полковник, страстно ждущий письма. А письма не было. Рая не ответила на его письмо, хотя они и договорились о переписке. Напрасно ждал полковник каждое утро почту, искал среди газет, журналов — письма не было.
Так год прошел, и опять врачи предложили съездить в тот же санаторий под Москвой. Перед самым отъездом пришло письмо. Прочитанное второпях и спрятанное в бумажник, оно лежало всю дорогу во внутреннем кармане пиджака. В поезде не было никакой возможности его перечитать. Приехал вечером, устраивался, ужинал, оформлял документы, устал. Да и свет погасили рано, так и лег, положив письмо под подушку.
Так чисто, сильно, страстно били всю ночь в барабанную перепонку сладостные соловьиные трели, что за мгновение до пробуждения приснилось что-то радостное. А когда проснулся, сморщился, повертел мизинцем в свербящем ухе и неуверенно сунул руку под подушку. Да так и замер, схватил письмо. Он взглянул на часы марки «Победа», лежащие на ночном столике, — шесть двадцать. И легко поднялся. Утро оказалось пасмурным, но так много света в июне, что уже на веранде ударило по глазам, покачнуло полковника. Он постоял, умерил в себе это июньское несоответствие возрасту и физическому состоянию, потом тихонько в парк спустился. Была и еще одна причина ступать сейчас осторожно, медленно и тихо по травам, блестящим от росы. Полковнику показалось, что подавленная, поломанная, в землю вбитая каблуками трава пахнет сразу по-другому. Была еще причина — хотелось подкрасться, разглядеть певца среди ветвей берез и кленов, лип и сосен, лиственниц и каштанов, вязов и ольхи и еще многих и многих деревьев старого парка, названия которых он не знал, а догадываться не хотел. Кажется, туя здесь росла, барбарис и еще что-то дымчато-реющее.
Под кронами, закрывающими небо, ходил он в сумрачном освещении, а сладкозвучный певец пролетал, видимо, над ним, так звуки, чистые и страстные, оглушали полковника то справа, то слева. Полковник развернулся круто, пошел к статуе оленя, полускрытой серебряным кустарником. Жилистая рука с бутылкой, емкостью ноль целых восемь десятых литра, раздвинула перед полковником ветки, и навстречу ему выглянуло гладко выбритое лицо слесаря-сантехника Вани Гурова. На голове у Вани была белая в цветочках пляжная шапочка с длинным голубым козырьком от солнца, из-под которого Ваня Гуров зорко обозрел пространство перед собой и, увидев одного лишь полковника, показался весь.
— Доброе утро, Ваня! — негромко сказал полковник.
— Здравия желаем, — отвечал с улыбкой Ваня и остановился, не зная, как поступить дальше. — С приездом вас, — добавил он.
В карманах куртки, за поясом, в рукавах, за пазухой — все у Вани было набито бутылками.
— Двадцать семь вошло? — спросил обрадованно полковник, вспомнив по прошлому приезду удивительные объемы Ваниной одежды.
— Двадцать восемь, — отвечал серьезно Ваня.
— Ну да, ну да, — теперь уж точно вспомнил он, — двадцать восемь. Теперь в магазин?
— Так точно.
— Так ты ведь уже пьян, — вглядывался полковник в покрытое мелкими каплями пота лицо, через гладкую кожу которого пятнами сочился алкогольный румяный азарт. — Да ты, брат, изрядно пьян!
— Никак нет! — пошатнулся Ваня Гуров, как показалось полковнику, при попытке встать по стойке «смирно», но сетка с бутылками на неправильно сросшейся руке не позволила этого. — Никак нет, — твердо сказал Ваня Гуров, — я только выпимши!
— Ну что ж… — задумчиво произнес полковник, наблюдая, как то уменьшались, то вновь смотрели с кроткой улыбкой глаза Вани Гурова. — Ну что ж… иди тогда, братец.
И, осторожно обойдя полковника, чтоб не задеть бутылками, которыми увешан с ног до головы, Ваня Гуров скрылся в кустах так же бесшумно, как и появился.
— Да-а, — сказал полковник, — от великого до смешного… да.
Он пошел по малому кругу цветника и обошел его — двести метров, если верить указателю. Все скамейки были в росе. Он заглянул на вместительную веранду, где вечером танцуют под радиолу. В углу, не долетев до урны, валялись апельсиновые корки, кроме этого, полковник обнаружил окурок на перилах. Он тогда пошел вдоль корпуса по асфальтовой дорожке, все поглядывая на цветные стекла окон, на деревянную резьбу карнизов, на башенки, балкончики — все было занято грачами. Он свернул на тропинку к спортивным сооружениям и возле забора увидел то, что надо, — свежие сосновые доски, лежащие покатой горкой, уже пригретые солнцем, с теплой росяной влажностью, терпким запахом смолы. Нет, лучшего места не найти. Он уселся поудобнее, достал письмо, стал перечитывать, не вникая в смысл, лаская глазами буквы, выделяя написание отдельных, например, «д» хвостиком кверху или «т» с черточкой вверху. Он держал письмо на весу, осторожно расправляя места сгибов, то далеко относя его, то вновь поедая глазами, словно старатель над золотоносным песком.
Тут увидел полковник — и не поверил! — на веранде Елену Николаевну Барковекую, и поднялся, и пошел к ней:
— Елена Николаевна! Вы ли это?!
— Павел Константинович!
— Елена Николаевна, голубушка, как же я рад вас видеть!
— И я вас, Павел Константинович! Очень, очень!
Они пошли по большому кругу. Это километра полтора. И сперва не знали, о чем говорить.
— Ну и как вы, Павел Константинович, как Надя?
— Давно уж врозь…
— Жаль… А так… как оно все?
— Да скриплю помаленьку, а вы-то, вы-то как, Елена Николаевна?
— Да я, Павел Константинович, давно на пенсии… Живу в Москве, сюда, в поселок, за пенсией лишь приезжаю, тут у меня комната осталась, тянет, знаете ли, изредка сюда… после войны ведь сюда приехала, так и жила здесь…
— Понятно, понятно.
— Да-а… — Елена Николаевна поджала запавший рот и добавила, глядя вдаль поверх деревьев. — Да-а… а живу я теперь в Москве, внуков, правнуков нянчу… а нелегко все это, старая стала, старая. Вот совсем недавно опять упала, но опять удачно, — Елена Николаевна, довольная, посмеивается, — только вот нос немного поцарапала. Заметно?
— Нет, что вы — не очень.
— А-а… — лихо отмахнулась она. — Что нос — ерунда! Время ушло, вот что главное! Время ушло, конечно. Павел Константинович, но если бы вы знали, как хочется хотя бы еще немного врачом поработать! Вы знаете, Павел Константинович, сейчас ведь многих врачей поснимали… даже с очень высоких постов. Вы меня понимаете, Павел Константинович!
— Понимаю, — говорит полковник. — А помните, как вы к нам в медчасть прибыли вместо Григорьева? Мы еще удивились, как это вы так быстро в курс дел вошли.
— А что тут удивляться, если я медсестрой начинала еще в первую империалистическую? Мне ведь, Павел Константинович, уже много-много лет. У меня ведь и медаль есть за первую империалистическую… на Анненской ленте.
— Да? А я и не знал! Красивая медаль-то? — Он искоса поглядывает на идущую рядом Елену Николаевну, сколько же ей — семьдесят? Восемьдесят?
Елена Николаевна вопроса не слышит, губы поджала, нос, хоть и оцарапанный слегка, вздернут, глаза прищурены. В голубеньком в цветочек халатике она, и есть в ней сейчас что-то от нахохлившейся птицы, что отстала от стаи, провожает стаю грустным взглядом, стая скрылась, прошумела, а она все глядит, глядит… А вернее, пока идут они не торопясь по большому прогулочному кругу, Елена Николаевна как бы сама себе рассказывает…
На русско-японской войне погиб у нее родной дядя Миша. После революции 1905 года был арестован дядя Федя…
— …Их, арестованных, ночью должны были по этапу гнать, и надо было узелок с бельем передать, взрослые, понятно, боялись, я — девчонка — меж жандармских лошадей пробралась: «Дядя Федя, дядя Федя!» Я его очень любила, он меня на скрипке учил играть… а их ведут, и только цок-цок — копыта лошадей, только дзинь-дзинь — кандалы… луна, жандармы едут, шашки наголо… поблескивают, и только цок-цок… только дзинь-дзинь…
Гимназия, кружки, муж — профессиональный революционер. Крупное дело по доставке оружия в Сухуми, в котором участвовал муж с товарищами. Собственные первые шаги в революционной работе — связь, доставка нелегальной литературы. Первый бой в Махачкале в семнадцатом…
— А вернее, не Махачкала тогда еще, — говорит Елена Николаевна, отрешенно глядя перед собой, — а Петровск-порт, Махачкалой она стала, Павел Константинович, позднее, в честь товарища мужа — Махача Дахадаева. Банды имама Акцинского спустились с гор, наш госпиталь окружили, и надо было до прихода красных два часа продержаться… я и перевязывала, и ружья касторкой смазывала, и патроны подтаскивала… Потом наши подошли, рукопашный бой начался… Да-а… многое в жизни было, но страшнее рукопашного боя ничего не было… когда двое-трое одного забивают… до смерти… или когда сарай обольют бензином и подожгут… как же они кричали, бедные, как кричали… Потом Махачкалу надо было срочно покидать, на пароходе уплывали, в Вольске остановились, муж был председателем уезда, а я с агитационной работой по селам разъезжала, в двадцатом кулаки поднялись, восстания по всему Поволжью. Нас, жен партийцев, что с агитацией разъезжали, схватили в селе Рыбном, били… у меня дочка на руках была, ей прикладом попало… умерла через три дня. В сарай заперли, а ночью подкрались те из крестьян, что к восстанию не примкнули, раму выставили: «Давайте к Волге бегите скорее…» Там лошади ждали уже, спаслись кое-как… Помню, едет лошадь по замерзшей Волге, справа низкий берег, слева высокий, на высоком леса все, леса, снега. А у меня в глазах все потемнело, сама не своя, просто невменяемая… и такая тоска в душе…
— Потом голод начался по всему Поволжью, я уже тогда, после дочки, немного отошла, занималась охраной ребенка и материнства.
Елена Николаевна надолго замолкает. Ей, видимо, и выговориться хочется, и в то же время некоторые эпизоды до сих пор без волнения не может вспомнить. Волноваться же нельзя. И выговориться ой как хочется. Ведь, в сущности, в большой московской квартире одиноко протекает жизнь ее. Дети, внуки, правнуки — у них у всех жизнь своя, поговорить не с кем. И вот изредка, за пенсией наведываясь, встретив случайного знакомого, отводит она душу, вспоминает. Воспоминания чаще всего вот такие же — беспорядочные, с пятого на десятое, то горестные, если войну вспоминает, то веселые, к примеру, когда футурист Маяковский однажды в Кисловодске за косу дернул, а то до сих пор ей самой не очень понятные, когда царя близко видела…
В тридцать седьмом мужа арестовали, в шестьдесят пятом полностью реабилитировали.
— Обидно? — говорит полковник, повинуясь смутной необходимости как-то напомнить о том, что он слушает.
— А вы как думаете?! — так и вскидывается Елена Николаевна, насмешливо поводя острым подбородком. — А вы как думаете, Павел Константинович, — не обидно, когда вослед тебе кричат: «Вон она — жена врага народа!» Не обидно, когда твоих детей из института попрут! Я в Москву приехала, два месяца на вокзалах жила, чтоб на прием к высокому начальству попасть. В два ночи шла очередь в приемную занимать, в два ночи! Потому что если в первую десятку не попасть, то не примут. Только десять принимали — если хочешь к самому высокому начальству попасть. Попала. «Возьмите, — говорю, — хоть узелок с вещами, его же летом забирали, а сейчас зима на дворе». Был такой мороз… такой мороз… пока с двух ночи ждешь, во всех парадных греешься, у всех магазинов перебиваешься… где потеплее… да-а… — Она вздыхает. — В конце концов к самому высокому начальству попала, в кабинет за мной вошли двое военных, по бокам встали… только я, конечно, ничего не боялась… Это, Павел Константинович, хорошо, что сейчас восстанавливаются все добрые имена… — Она замолкает, тень набегает на лицо, гаснет, сникает, в размерах уменьшается и тут же, словно весеннее небо, не желающее долго в тучах оставаться, светлеет, очищается. — А вы знаете, Павел Константинович, — весело вскидывается она, — я ведь царя видела, да-да, вот так же, как вас, не верите?
— Нет, почему же, вы что-то уже начинали рассказывать… как на празднике…
— Ах, да это совсем не то! То на празднике «Ромашки» я принцесс видела, его дочек, — туповатые, надо сказать, были особы. А тут сам царь… Он с царицей зачем-то к нам на Кавказ приезжал… незадолго до революции, в шестнадцатом, что ли… Ну, народ, понятно сбежался, я в первые ряды пробилась, смотрю во все глаза. Царица не понравилась, нет, надменная такая, немка же. Все в ней немецкое. А царь ничего. Русский. Только грустный…
— Грустный?
— Да, вы знаете, Павел Константинович, очень-очень грустный. Я даже не знаю, с чего бы царю и быть таким грустным, — Елена Николаевна вздыхает, — по-видимому, все же чувствовал… что будет конец ужасный… все ведь уже катилось черт знает куда… футуристы уже эти были…
— Маяковский?
— Да. И он, и его дружок Каменский, в женских кофтах, у нас в саду выступали, мы: «Футуристы, футуристы!» А у меня коса была в два пальца толщиной, он меня хвать за косу! Вот время было! — радостно посмеивается Елена Николаевна, сейчас вся в том благословенном времени, когда была такая юная, гордая, с темно-каштановой косой, как на старинной фотографии, что висит у нее на стене, где сфотографирована она с группой гимназисток, красиво рассевшихся вокруг красивого стола.
— Ну а потом что было?
— Потом? — она некоторое время глядит на Павла Константиновича, не сразу способная расстаться с юностью, где столько такого незабываемого, яркого, сладкого — и драки с соседским мальчишкой-реалистом, и, запершись в чулане, тайное курение отцовских сигар, отбившее на всю жизнь потом охоту к зелью, и смерть великого Толстого, когда в знак протеста были сорваны в гимназиях занятия и церкви были завалены бумажками «За упокой раба грешного Льва», а ведь Толстой был церковью отлучен…
Сколько ж в той юности было и прекрасного, и трагического… и недолгое преподавание в качестве народного учителя в маленькой школе на турецкой границе («Вы знаете, Павел Константинович, нам платили побольше, чем другим — тридцать три рубля и тридцать три копейки…»), и еврейские погромы в Кишиневе.
— …Пух летел… пух из перин летел до Унген, а это ведь сорок верст от Кишинева, у нас в подвале шестнадцать человек скрывалось, рояли скидывали с балконов, лавки крушили, к трамваю привяжут рулон материи, трамвай идет, а материя за ним развевается… А дальше?.. Что ж дальше? — дальше в сорок первом война началась, и я как врач сразу на фронт попала…
— К нам в часть?
— Ну что вы, до этого еще столько было всего! Сперва курсы кратковременные прошла, хирургов не хватало. Вы знаете, Павел Константинович, заводят нас в морг — лежит молоденький летчик, ну до чего же красивый! Как сейчас помню: чернобровый, волосы с синеватым отливом, фигура отличная. И что б вы думали: отравился от несчастной любви! Тут война, первые дни войны, кровью истекаем, ну, сами все прекрасно помните, а этот от несчастной любви отравился! А ведь были самые первые дни, и нам, хирургам новоиспеченным, потренироваться было не на чем, и вот перед нами первый труп войны — из-за несчастной любви! Как же мы его резали! — Елена Николаевна горестно качает головой. — Резали и сшивали, резали и сшивали! Учились на нем…
— А потом?
— А что потом?.. Известно что — отступали. С боями, конечно, но отступали, потом раненые пошли, такое было… лучше не вспоминать…
Но не вспоминать она не может, дальняя та боль прорезала лоб двумя глубокими морщинами, и лицо, потемнев, еще больше стало похожим на мраморное изваяние.
— …На снегу оперировали, на соломе, в палатке — везде. Наматывали на валенки подушки, прибинтовывали к ногам и по двенадцать — пятнадцать часов у стола. Руки не мерзли, а вот ноги почему-то мерзли… час за часом, день за днем… дадут горячей болтушки на кукурузной муке или кружку кипятка с сахарином, и кажется, ничего в жизни и нет вкуснее! Действительно, Павел Константинович, так вкусно было, так вкусно, после войны ничего такого вкусного не ела, ни на банкетах, ни на праздниках. Как польется в тебя горячая струя, так и оживешь, так и опять к операционному столу… конечно, это ненадолго согревало, минут на двадцать, но все-таки… А вы знаете, Павел Константинович, у меня легкая рука!
— Елена Николаевна, побойтесь бога! И это вы говорите мне, мне, тому, кто у вас на столе трижды побывал! Вы что, забыли, сколько осколков вы вытащили отсюда и отсюда, — полковник прикасался то к плечу, то к ноге, то к груди, — помните, после боя под Подольском?
— Я этот бой никогда не забуду, Павел Константинович… И вас когда в медсанбат принесли…
— Да-да, — с удовольствием говорит полковник, — я очнулся, говорю: «Только к Елене Николаевне! Только к ней!»
— Ох, Павел Константинович, многие, очень многие раненые хотели оперироваться только у меня… Они ведь так и говорили: «Доктор, у вас очень легкая рука!» У меня за эту войну две медали… А за ту только одна — на Анненской ленте. Тут как-то приглашение пришло, в Кисловодск приглашают на встречу этих… ну как их, ну которые воевали?
— Участник войны, что ли?
— Да нет же, господи, которые постарели…
— Пенсионеры?
— Да нет же, нет! Какие пенсионеры, Павел Константинович, Бог с вами! Воевали же! Во-е-ва-ли! А теперь, понятно, постарели.
— Ветераны?
— Ну, разумеется, приглашают на встречу ветеранов! А я, к сожалению, не могу.
— Почему?
— Да я ж не ветеран.
— Не ветеран?
— Нет.
— У вас что — нет и удостоверения участника войны?
— Нет.
— А где ж оно — потеряли?
— Потеряла.
— Черт знает что! Вы меня, конечно, извините, Елена Николаевна, но всему же есть предел, всякому альтруизму, всякой духовности! Святым духом, как говорится, сыт не будешь. Ну почему, почему вы не восстановили удостоверение?! Ведь это и пенсия другая, и вообще… в очередях стоять не надо.
— Эх, Павел Константинович… мой муж… вы, разумеется, знаете, что он воспитывался в семье дяди своего, Калистрата. Ну а Калистрата народ тогда избрал Патриархом всея Грузии.
— Патриархом? Дядю вашего мужа!
— Ну да. Калистрата. Да это ж всем известно. Он-то не хотел, но раз народ избрал, пошел и очень хорошо справлялся со своими обязанностями. Ну а муж воспитывался в его семье. И, естественно, это сказалось.
— Ничего не пойму! Патриарх, вообще церковь и… революционер! Как-то не вяжется все это. Ведь, ей-ей, не вяжется, а?
— Не понимаете?
— Не понимаю.
— Ну, знаете ли, Павел Константинович, не понять тут просто-напросто нельзя! Ведь вера обязательна и здесь, и там, святость — и здесь, и там, чего ж не понять-то? Разумеется, что муж и меня приучал к тому же. Ой! — весело смеется. — Вспомнила, и смех, и грех! Как мы с ним только что поженились, ну, думаю, похозяйничаю! Пошли в магазин, а он одну миску покупает и две ложки — вот и все наше хозяйство! Хватит нам на двоих, говорит… Вот так и меня приучил… Одним словом, не хочется как-то ничем пользоваться… удостоверением каким-то… нет, правда-правда.
— Но вам же положено! По-ло-же-но! Вы ж воевали.
— Да так-то оно так… но все равно не хочется… Я ведь и в партию потому не вступила. Так и не вступила… — покачивает Елена Николаевна горестно головой, переживает, не находя ответа: правильно ли решила, в партию не вступив… ей столько лет, но ее серьезно занимает это!
Жизнь у этой женщины позади не просто огромная. Полковнику кажется сейчас, что эта жизнь — неохватная. Время, прожитое ею, даже историки разбивают на периоды, чтобы объективно как-то охватить, осознать…
— Елена Николаевна, — говорит полковник, — скажите мне, пожалуйста, вот прожили вы большую, можно сказать, огромную жизнь, всякое в ней было — холод, голод, тюрьмы, несправедливость, война, потеря близких, но все-таки скажите мне: как ощущается вами эта огромная жизнь, по существу — целая эпоха, которую прошла наша страна? Что это такое — наша эпоха? Какое у вас, у человека, вынесшего на своих плечах эту эпоху, ощущение, ведь вы не из книг все это знаете.
— Да уж, разумеется… — вздыхает она.
— Так вот — какое же ощущение? Мы скоро шестидесятилетие собираемся отмечать, и что же это такое — шестьдесят лет? Не анализируя на периоды, не разбивая на первую, вторую, третью пятилетки, а в целом, единым охватом, как это все вами ощущается, лично вами, а? Сможете вы мне ответить кратко, а? Что же это все-таки такое, что осталось позади, что это за годы — шестьдесят прожитых страной лет? Что это было такое? Как, по-вашему?
— А это, Павел Константинович, — подумав, отвечала, — это было счастье… Да-да, просто счастье!
И потом, после долгого молчания, когда уже заканчивали круг, Елена Николаевна, словно бы вспомнив, что сейчас расстанутся, вскинулась, дернула его за рукав:
— Ну а вы-то, вы-то как, Павел Константинович… ну, с Надей расстались… а как оно, все остальное?
— А я… а я, Елена Николаевна… Я письмо от дочки получил.
— Письмо? Это хорошо… Это, Павел Константинович, очень хорошо, когда письмо от дочери. А знаете, вам уже пора на завтрак… идите, идите, — слегка подтолкнула и уже вдогонку повторила со вздохом: — Это очень хорошо — письмо от дочери.
— Спасибо! — обернувшись, с чувством отвечал полковник. — Ну, пойду… Мы ведь с вами еще встретимся, правда?
— Да-да, я побуду здесь еще немного.
* * *
После завтрака полковник, запершись в номере, писал:
«Рая! Сама понимаешь, как твоему письму я рад. Ты пишешь: «Хочу с тобой переписываться». Я — тоже. И это простое, естественное желание, но осуществить его с самого начала, как ты убедилась, не так просто и требует много понимания всей проблемы этой, включающей как простоту, так и сложность переписки.
Что такое переписка? Порой мы ее имеем, но не задумываемся над ее существом. На мой взгляд, это выраженное в письмах продолжение прерванного обстоятельствами личного общения с другим товарищем, единомышленником, который не только понимает с полуслова (а порой и без слов) внутреннюю суть того, что они должны выражать, но в этом общении взаимно обогащаются мысли, чувства переписывающихся товарищей в широком смысле этого слова. Значит, это такое общение, в котором должно знать и знают все самое сокровенное. Даже такое, о чем или котором твои мысли, чувства, бывает, еще не отложились, еще туманны и расплывчаты, но друг их поймет как надо, скажет свое слово, если оно будет необходимым, но при всем этом будто бы незримо, взаимно чувствуется понимающая, твердая рука друга, на которую, если понадобится, всегда можно положиться. И это не только в трудную минуту, но и в том, что порождает преходящие сомнения, а порой мучительные раздумья — по поводу и без повода.
Мне кажется, я приблизительно, в какой-то мере многословно (значит, недостаточно четко, правильно) определяю суть того, что мы имеем в отношениях между людьми, именуемого в житейском обиходе перепиской настоящих друзей. Мне думается, что и ты иначе не думаешь, если над этим вопросом задумывалась. И дальше.
У нас с тобой ни дружбы, ни переписки (я понимаю переписку, в которой была бы вырастающая из дружбы потребность) не было. Дружба, в основе которой не только вера в Человека с большой буквы, а с ней не только доверие, но и уважение, идущие из глубины твоего «я», простое, искреннее, чистое, доверчивое, дружба, да еще проверенная во многих проявлениях нашей быстротечной жизни, — такая дружба у нас еще не успела отложиться, а вернее, сложиться.
Так ведь это. И от этого не уйдешь. Да и нужно ли уходить? Нужно только глубже кое в чем разобраться. Значит ли это, что переписка (я понимаю с основой дружбы) у нас невозможна и исключена? Я так не думаю. Хотя трудности будут, но мы их в состоянии преодолеть и преодолеем, если этого по-настоящему захотим оба. Я знаю немало случаев (а может, и ты тоже), когда знакомство и переписка начинались заочно, порой по случайному обстоятельству, а в своем развитии становились потребностью продолжать общение, продолжать потому, что все, о чем я говорил в своем письме раньше, становилось все более значительным, все более выраженным и ощутимым.
Значит, может быть и такая переписка, в которой складывается дружба на основе духовного общения, пусть в письмах, и дополняется уже в последующем личном общении, при встрече, то есть наоборот, а не так, как этому привычнее — что вначале дружба, а потом переписка и т. д. и т. п.
Ну, я, кажется, не слежу за четкостью и ясностью изложения мыслей. Ты уж на этот раз не будь строгим судьей, не придирайся.
Итак, что же нужно для этого?
И я снова, в который уже раз перечитываю твое письмо: «Не знаю, почему я не ответила на твое письмо. Сначала — очень хотела, а потом как-то забыла, вернее, не забыла, а просто так получилось, что мне тогда ни с кем ни разговаривать, ни переписываться не хотелось». И если ставить все точки над «и» и называть вещи своими именами (независимо от того, приятно это или неприятно), то это получилось потому, что уже тогда в результате мучительных раздумий ты с непримиримостью, свойственной молодости, в глубине твоего чистого «я» осуждала и в какой-то мере не признавала такого отца, который как таковой почему-то и где-то, и мало того — даже не приезжает (что не казалось тебе невозможным, если он не отец в кавычках). Разве можно к такому, с позволения сказать, отцу тянуться с девичьей чистой душой, с мечтами золотой поры юности, с заветными думами и со всем таким только своим — чистым и сокровенным?
Конечно, нельзя, если ты права в этой своей убежденности.
Но права ли ты?
Достаточно ли тебе известно о всем том, что вначале надо знать о человеке, прежде чем его осуждать, прямо или косвенно, с непримиримостью молодости?
И не лучше ли пока не впадать в положение судьи по тому, в чем, может быть, не до конца разобрались сами родители, пусть до той поры, пока не станет известно о них все, все, связанное с этим?..
Рая, ты только не сердись. Может быть, я не совсем прав, так выпячивая суть. Но согласись, неразумно разумным людям уходить от нее тогда, когда ее нужно не обходить, а с нее начинать. А я ведь, если не полностью прав, недалек от истины. Да и ты уже не маленькая, а взрослая, думающая, самостоятельная, может быть, чуть замкнутая девушка. А ведь ты пишешь: «Думаю, так больше не будет». А в другом месте опять: «Хочу с тобой переписываться». И если я откликаюсь всем лучшим, что во мне сохранилось и есть как в человеке немолодом, а старом и честном коммунисте (а таким я себя и сейчас считаю), разве я мог иначе писать?
Таким образом, на поставленный мною страницей ниже вопрос о том, что нужно нам для нормальной дружеской переписки, — нужно ли…
И я, и ты, коль будем понимать трудности в этом и по-настоящему захотим их преодолеть, преодолеем. Только не забывать о возможных рецидивах предубежденности, не забывать о вере в человека, о доверии к нему в такой мере, чтобы ему можно было открыть, говоря словами поэта: «Всю душу с любовью, с мечтами…» А ведь в жизни само ничего не бывает. Надо делать. Давай начинать!
Рая, ты пишешь: «Пожалуйста, напиши мне о себе. Я все-таки хочу тебя знать. Обо мне ты уже кое-что знаешь. Мама, наверное, тебе пишет, но на всякий случай я повторяюсь: в институт не поступила, большую часть времени сижу дома, все остальное провожу на неинтересной работе, буду заниматься».
Делать ли мне критический разбор такого письма или ты его теперь сама сделаешь… очевидно, сделаешь…
И поэтому кратко ограничусь лишь немногим, ведь мое письмо и так вылезло за свои обычные размеры.
О себе я напишу, но не в этом письме. Нужно учитывать, что я прожил большую не только по годам, а и по насыщенности содержанием жизнь. Если я увлекусь воспоминанием, по-книжному говоря — ретроспективно, то это будет нелегкая задача осмысливания наших дней (в смысле нашего поколения молодежи двадцатых годов этого века) от юности до зрелости и старости. А поскольку более тридцати лет я был комсомольским работником и партийным работником (на селе, в промышленности, в армии) — это значит брать в неразрывной связи с жизнью нашего поколения. Заманчиво и, пожалуй, увлекательно — но нелегкая задача и как бы в ней не распылиться на мелочи и несущественное. Поэтому, может быть, начнем с установления большего взаимопонимания и в этом вопросе? О чем бы тебе скорее и лучше всего хотелось бы знать? Конечно, лучше всего об этом было бы рассказать при встрече. Но это, учти, будет опасно для твоего бюджета времени. Я много видел, немало думал. И, найдя благодарного слушателя, могу увлечься по-стариковски и не один день последовательно рассказывать при встрече…»
Полковник поискал, помял подбородок с ямочкой и, покашливая, перечитал последний абзац, подслеповато водя ручкой под словами. Вздохнув, медленно пишет он дальше, фразу, другую, подергивая прозрачным веком и сбоку, вскользь следя за письмом, и откладывает письмо. «Ах, как хорошо бы присесть у ее ног на скамеечку и рассказывать, рассказывать…» Левой рукой обхватив себя под мышкой, правой прикрывает глаза. И прошлое, словно разбавленный концентрат, начинает подогреваться, двигаться, дышать…
Теплый вечер, бабье лето, летит прозрачная паутина. В лучах заходящего солнца огромное колхозное поле, впервые вспаханное трактором марки «Титан». Ровно уходят к самому горизонту борозда к борозде — борозды красноватой тяжелой земли… Холодком возбуждения охвачена душа, ведь тогда казалось, что вот так жизнь и пойдет дальше ровными рядами до самого красноватого горизонта.
* * *
Итак, почему же они расстались? Вот и Елена Николаевна спрашивает: почему? А что ответить?! До сих пор в полковнике перекатывается драгоценная сладостная капля любви к Наде, бродит эта капля в сердитых, секретных извивах полковничьей души, то скрываясь на долгие дни и месяцы и даже годы, затолканная на запасные пути, то неожиданно пробьется, вот как сейчас, протает сердце, расслабит черты, откинет корпус полковника на спинку стула, глаза прикроет. Легко уносится полковник в даль, то непроницаемую, то переполненную, взбудораженную тогдашней новизной: пятьдесят третий год, пятьдесят четвертый, пятьдесят пятый… Дни, холодноватым светом исполненные, ночи покороче вроде были… торопливы и псевдоторжественны, да, торопливыми и псевдоторжественными кажутся ему отсюда те годы.
«Говори, говори, говори мне скорее что-нибудь!»
И как лакмусовая бумажка — закипающее в нем в ответ: «Ну что вы за люди, Надежда, — изболтались все и без слов не можете даже ночью! За день никак не наговоритесь. — И уже не в состоянии сдержаться, как танком: — То у тебя собрание, то заседание, то актив, то планерка! Сколько же можно?! Ну сколько?»
И Надя, затихая, отодвигается к самой стене, так медленно уходят, наверное, под воду. Все больше она отодвигалась, все обиднее. А полковник, после того как они стали вместе, уже привык жить как бы вдвойне, двойным стволом как бы: первый ствол сам по себе, как и жил до Нади, второй — ветвистее — в ней, с ней, в ее словах, ощущениях. Читает ли она книгу, слушает ли пластинку с песнями Руслановой или просто задумается о чем-то неясном и самой: раньше, на фронте еще, когда встретились, остановили одинокое движение каждого в отдельности, — всегда легко было обнаружить в ней сильное присутствие полковника. Может, годы молодые тому причина, новизна, яркость чувств, фронтовая обстановка, но жила Надя действительно тогда одним полковником, его делами, заботами, судьбой. В округлости губ, в теплом дыхании, в напряженном прищуре глаз, а всего сильнее в неосознанных токах, делающих суть ее по-настоящему женской — чувствовалось во всем сильное присутствие полковника.
А тут, когда с войны вернулись, подхватило, понесло ее половодье энтузиазма, половодье возрождения, охватившее всю страну. Словно бы запела песню, она пела, а полковник ждал, все ждал… Как фронтовичку заметили, выдвинули, облекли доверием. А тут и подошли эти… странные (другого слова сейчас не найдет полковник), да, именно странные пятидесятые годы. Что-то нелепое стало твориться и вокруг, и в собственной судьбе, в семье собственной. Разница лет между ними обернулась вызовом одного поколения другому. Оказалось, к разным они принадлежат. Он не хотел ничему верить, она поверила сразу. «И на солнце есть пятна!» — сказала с нехорошей усмешкой. Сгоряча замахнулся подвернувшейся под руку гантелью — провидение удержало. О гантели потом не вспоминали, но уже не мог подойти, как раньше, обнять за плечи, когда сидит, озадаченная чем-то, или пластинку слушает с песнями Руслановой. Оттолкнет не оттолкнет, но и узнает не сразу, сперва что-то в себе остановит, отодвинет, местами поменяет — обидно! Очнется: «А, это ты, о господи! Тут профтехплан горит, ну а ты, полковник, как всегда, со своими нежностями!»
Как-то, уже махнув на все рукой, заглянул в ее записную книжку. Записная книжка партийного руководителя, как и положено, полна цифр, дат, фактов и фактиков, о которых надо постоянно помнить парторгу. Ничего нового. Но все читал эти быстрые строчки, написанные Надиной рукой, удивляясь теперь самому себе, испытывая и оскорбительную боль, и теснения нелегкие в груди:
«…бороться за самое передовое управление… Каждому дню работы высокую эффективность… Принятие соцобязательств… Руководитель должен быть ответствен и за производственную, и за воспитательную работу, и особенно за соцсоревнования… Оформление протоколов общих собраний в пятидневный срок, отчетно-перевыборных в семидневный… О работе групп народного контроля… Составить к первому список задолженности по профвзносам и партвзносам… Вторая и четвертая пятница каждого месяца — занятия политкружка… Партийная организация не имеет права выносить решения в адрес профорганизации, а также в адрес других общественных организаций — может только рекомендовать… Доклад «Советский образ жизни»… Организация юбилея… Перевыборы в кассу взаимопомощи… Проверка деятельности пищеблока… Новая Доска почета… Вызвать на треугольник прогульщиков… Торжественные проводы на пенсию в разрезе новых соцобрядов… Распределение жилплощади… Городская конференция — по четыре делегата от управления… Воскресная прогулка работников на природу… Установить контроль над фильмами, которые показывают в нашем клубе… Проверка деятельности подсобного хозяйства…»
Полковник закрывает записную книжку жены. Мысль о безвыходности положения, не в первый раз уже приходившая к нему и до этого, на этот раз странным образом связалась в нем с инстинктивными, по-видимому, склонностями человека к плетению узлов с тем, чтобы потом распутывать эти же собственные узлы, одним словом, к охоте за собственной тенью, к убеганию и одновременному преследованию. Всплывают в памяти запавшие в душу эстампы Пиранези — сюита тюрем. Не в первый раз уже начинает полковник плутать мысленно по бесчисленным, убегающим вверх, вглубь, вбок ступеням. Все лестницы, ступеньки — большие и маленькие — бесконечно варьируются на эстампе, убегают, спасаются от преследования, им вторят столбы, арки, пролеты, сочетаясь друг с другом, эти элементы архитектуры порождают тот неуловимый поток бегства архитектурных форм в глубину эстампа, который служит объектом непрестанного преследования и погони для завороженной полковничьей мысли, — нет, из такой тюрьмы не убежишь, убеждается он. Полковник, усмехаясь, все барабанит и барабанит пальцем по столу и вот, смахнув легкость усмешки, нахмурившись, поднимается и, не давая исчезнуть тому, что волнисто так забрезжило в льющемся через край потоке бегущих ступеней, идет к окну, к радиоле, перекладывает стопку пластинок. Ну, разумеется, Бах — фуги. Ставит и слушает. Стараясь не растратить подольше тонких и высокоразвитых чувств увлекательнейшего бегства по ступенькам Пиранези в сопровождении изумительных звуков баховской фуги, полковник не отвечает на слова жены, повалившейся на стул, едва зашедши в комнату: «Чайку нет? Во рту пересохло от этих дебатов, а толку чуть! Опять две трети не собрали! Паш, поставь чайничек, в магазин-то я сегодня не успела, уж обойдемся как-нибудь, а?» «А когда ты успевала? — думает полковник, стараясь подольше сохранить в себе чувства, которыми охвачен, молча отправляется он с чайником на кухню. — А у меня ведь, между прочим, завтра в десять, — думает полковник, — занятия в академии, и свежая рубашка была бы кстати».
Да, ее несло, но в том же потоке, лишь разными струями, несло и полковника. Учеба в академии, чтение лекций в училище, летние лагеря под Ржищевом. Но самое главное — уже подхватили, несли странные пятидесятые годы, изменившие многое и многих изменившие. Изменили они и полковника. Исподволь, конечно, не сразу.
Словно одежки с луковицы, сдирала с прошлого бытия лихорадка тех лет, охватившая всех поголовно. Возбуждение перед гигантским стриптизом завораживало. Сладостен был акт развинчивания матрешек, увлекал. Все более мелкая соизмеримость оказывалась в руках. «Остановитесь, братцы! — кричал в душе полковник, — нельзя же эдак!» Но вокруг пили жадно, взахлеб, еще недавно таинственную глубину. Поразительны были не факты, пусть самые невероятные, поразительна была сама возможность очеловечивания божества, символа эпохи. Поразительно было узнать, что символ вполне по-человечески бывал порой несправедлив (как мы порой бываем), бывал иногда неумен (можно сказать, даже глуп), усмехался злобно, не знал, куда деть руки, особенно ту, больную, произносил не всегда великие слова и даже изредка позволял себе символ выразиться совсем некультурно, почти так же, как наш сапожник дядя Вася. Короче, поразительно было уже не то, что он (символ то есть) вообще, оказывается, ел, спал, кого-то любил, а кого-то, наоборот, ненавидел. Всем стала известна марка табака, которую курил. Теперь любой мог закурить… при желании.
За околицей деревни, в глубоком овраге, в самом конце его, была еще более глубокая яма, в детстве казавшаяся бездонной пропастью. Была завалена она корягами, камнями, заросла травой вся, мхами, мухоморами. Вечный полумрак, увеличенная изгибами глубина, переплетение корней, фосфоресцирующая мгла по углам — неисчерпаемостью, бездонностью, сырой девственностью веяло от ямы в детстве еще за десять шагов от нее. Как часто прибегал сюда он мальчишкой — Пашкой-шкетом — в горькие минуты. Посидеть полчаса в преддверии какой-то необычной жизни, в которую, несомненно, вела та яма, и то было отрадой в тяжелые минуты жизни. И вот измерили яму, необходимый кубаж песка привезли, засыпали. Недосягаемость, непостижимость к простой геометрии свели, прежний трепет стал смешон, ненужным трепетом оказался — из мальчишки вдруг тогда сразу в подростка превратился, усишки пробились, юношей стал, секретарем ячейки, стихи стал писать. Уже по отчеству величали: «Павел Константинович»… Так и эти пятидесятые странные годы — словно ровная площадка вдруг открылась — ни бездны под ногами, ни неприступности над головой. Подобно многим своим ровесникам, полковник сопротивлялся охватившему всех развенчиванию главного имени эпохи. Да, он чувствовал теперь и прежнюю тяжесть, и несвободу своего существования, и (сродни детскому) прежнее суеверие, загораживающее путь для собственного многогранного развития личности. Все так и было. И все же не спешил расстаться с прошлым наш полковник, во снах все еще было по-прежнему — тихо, надежно, — с затаенной прошлой нежностью смотрелись сны. Непривычно становилось, когда просыпался, сквозняк в самом себе, опасный крен ощущался.
Для человека, долго несшего на своих плечах тяжесть и внезапно освобожденного от нее, всегда есть опасность на первых шагах зарыться носом. Так и полковник — упирался. Но днем и ночью сонмы ртов, глаз, восклицательных знаков газетных заголовков нашептывали, орали, пели, плясали — втягивали в свой гвалт. И полковник стал потихоньку пританцовывать в этой облегченности, что обещала так много. И действительно, все большую подвижность ощущал в себе солидный к пятидесяти годам полковник. Чувства, мысли, логика — все раскачивалось, освобождалось, торжественно обретало свои права. Его и самого порой смешила неуместная в пятьдесят-то лет попытка раскрепоститься, не обращая ни на кого внимания создать свой неповторимый взгляд на жизнь — кокетство какое-то подозревалось тут. С другой стороны, в нем уже ворочалась и обида — жадное стремление наверстывать упущенное, и он завидовал своим курсантам, которые начинали с такой свободы.
После войны окончив Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР имени К. Е. Ворошилова, он заведовал в это время кафедрой артиллерийского училища, вел занятия с курсантами по тактике.
И вот, стоя с длинной указкой у макета артиллерийского полигона в окружении подтянутых юных курсантов с персиковой свежестью лиц, с глазами лучистыми, чистыми, с плечами развернутыми, дыханием боксерским, блеском пуговиц слепящим, хрустом новеньких ремней морозным, — нет-нет да и замирал среди бодрой речи своей наш полковник вздрагивающим концом указки над каким-нибудь ориентиром макета артполигона: отдельным кустом, например, или красной колокольней, или заводской трубой. И стоял секунды две-три, охваченный ароматическим теплым ветром того бесконечно далекого деревенского утра, когда в шестнадцать лет тайком примерял перед зеркалом шинель постояльца — командира расквартированной в деревне части. Свежие, золотисто выскобленные половицы избы, запах мяты, котенок на подоконнике, крынка с молоком, чистое полотенце с вышивкой, солнечные зайчики повсюду, росистое утро, звонкий крик петуха — и сам он, тогда еще Пашка-шкет, с горящими пуговицами шинели, горящими глазами, топорщащийся весь, шестнадцатилетний весь еще, перед ослепительным зеркалом в овальной раме… И еще глубже, подобно солнечному зайчику, высвечивается совсем уж непримечательное утро, когда даже еще и не Пашкой-шкетом звался, а просто — Стручком. Деревянный перрон железнодорожной станции близ деревни, объявление на стене, которое он читает по складам:
«При проездах по железным дорогам, на станциях и в поездах остерегайтесь неприятельских шпионов, среди которых бывают и женщины. Всякие сведения о наших войсках они сообщают нашим врагам. Поэтому посторонние разговоры воинских чинов с незнакомыми людьми или в их присутствии могут принести неисчислимый вред русской армии. Каждый военнослужащий должен постоянно это помнить и не говорить о том, что может обнаружить расположение или передвижение русских войск и их составов. Недостаточно следить за собой, надо смотреть и за другими, удерживать товарищей от излияния откровенности. Всех неизвестных, которые будут расспрашивать вас и прислушиваться к разговору между вами, немедленно указывайте коменданту станции, жандарму или железнодорожному начальству».
Две дамы прогуливаются по перрону, он идет за ними. «Среди шпионов бывают и женщины!» Что из того, что они разговаривают меж собой, скажем, о шикарном новогоднем платье парижского фасона, который сейчас очень популярен в столице. Туалет исполнен из мягкого кашемира темно-зеленого цвета мандарин. Слегка драпированная юбка с большим вырезом оканчивается узким и длинным треном. Блузка — кимоно. Кроме рукавов, вся покрыта богатой вышивкой, исполненной синим, красным и зеленым шелком. Треугольные высокие обшлага рукавов из такой же вышивки, у открытого ворота два маленьких отворота. Узкий бархатный кушачок. Просто и элегантно — очень удобно танцевать новый стильный танец танго…
Из вокзального буфета доносятся звуки танго.
С почты несут елочные подарки от Брендакова и Шиканова из самой Москвы. Новые картонажи по рисункам русских художников предлагает Рождественский базар.
Подпоручик в высокой смушковой папахе рассматривает листок «За Родину», где печатаются фотографии раненых и убитых: «Капитан Грязев Б. Л. — убит, штабс-капитан Желябужский — ранен, морской врач Щегольков — убит, гвардии подпоручик Сафонов — убит…» Ранен, убит, контужен, пропал без вести… убит… убит… Какой бесконечный список! Какие красивые фотографии людей! Вглядывается в их лица с недетской болью Пашка-шкет (или Стручок — неважно). Вот гвардии подпоручик Сафонов — убит, вот морской врач Щегольков — убит… убит… убит… совсем же! насовсем же!! Почему же не проносится ураган над землей, ураган, ломающий дома, выворачивающий с корнями деревья?! Ведь убит же гвардии подпоручик с лихими усиками, убит морской врач с золотыми пуговицами на мундире… Играет музыка, щебечут дамы, несут рождественские подарки… И поднимается в нем до спазмов в горле, до закипания слез на глазах страстное желание поднимается — стать поскорее большим и сильным. Защитить всех и всё. Как Илья Муромец — русскую землю и русских людей…
Сильным инстинктом отцовства охвачен полковник с замершей указкой в руке, весь в желании сберечь насколько можно эти горящие глаза, что окружают его со всех сторон, эти распрямленные спины, раскаленное дыхание, доверчивость душевную. Почти чувствует он тяжесть, что обрушится с годами на юные плечи, расправленные, готовые и не готовые теперь, после облегченности пятидесятых годов, для этой страшной тяжести. И, сделав несколько быстрых глотательных движений, словно страдающее животное, полковник говорил тогда: «Ориентир первый — отдельный куст у дороги, ориентир два — красная колокольня, ориентир три — заводская труба…» — пытаясь голосовым воодушевлением, паузами, покачиванием головы, движением мышц лица, особым качеством взгляда внести то, что уже невозможным стало для слов, и видя с горечью, что его курсанты воспринимают лишь суть слов, холодных знаков, кабалистическая связь которых с настоящей жизнью им недоступна, хотя он-то даже указкой пытается расшифровать, извлечь из воздуха доверительные сигналы — увы!
Полковник берег теперь каждую минуту. Использовать как можно с большей пользой открывшуюся для человеческого духа беспредельность — вот была тогда задача номер один! Ни ямки, ни бугорка, о которые можно споткнуться. Уже и самого слегка пьянило это, призывало, будоражило, мерещились в недалеком, до основания перестроенном будущем собственные сверкающие вершины. Истосковавшийся дух полковника требовал пищи — застой кончился. Мировые сокровищницы человеческого гения ждали полковника, принадлежали ему, требовали настойчивого приобщения. И он погружался, с упоением погружался, скажем, в чтение того же Новалиса или Бодлера. Или спешил на какую-нибудь модную выставку. Литература, живопись, музыка — как все прекрасно! Как все доступно! Все, буквально все теперь важно, ничего нельзя пропустить. И вот ежедневно после академии происходит в нем в течение часа или двух этот напряженный разговор между логикой и раскрепощенным чувством. После чего полковник и сам уже многое подмечает, собственное умозаключение извлекает.
Он словно бы попал в более уплотненные слои, где все уже не так — все теперь крупнее, значительнее: и собственное тело, и собственный ум. Даже лекции для курсантов помимо факта давали теперь ощущение собственного присутствия — это чувствовали и курсанты, и он сам. И рос от этого в собственных глазах, скрываясь за постоянной хмурой улыбкой, вернее, полуулыбкой.
Ужас, обрушившийся в начале развенчивания, сошел почти на нет. Полковник не кончил жизнь самоубийством, как некоторые, полковник не сошел с ума и не запил. Надо было начинать жить. Ужас сходил волнами, как бы всякий раз выталкивая все больше наверх. Кровь бунтовала, не хотела верить фактам, но дисциплинированный ум уже считался с ними. Да и кровь — не только хан Батый, скачущий на взмыленном скакуне, крушащий всё и всех, кровь еще и триста лет рабства под копытами того же хана Батыя, да еще триста лет под другими копытами. Малозаметная тоска сочилась из того разлада, чуть неудобная, как неуловимый взгляд косого, тоска почти кажущаяся, почти поглощенная взбудораженностью, вспаханностью окружающей новой жизни, изменившей даже походку полковника.
Противится кровь, бунтует. Но что такое кровь?! О ней и сказать-то ничего вразумительного нельзя — так, реликт, инстинкт, уголек тех далеких далей, невразумительных и унизительных, — вспомни хотя бы, как глупо крушили, сжигали помещичьи имения, парки, усадьбы. Их бы использовать под школы, дома отдыха, санатории. Ан нет — закрутит что-то головушку, под ложечкой засосет, взорвется душенька — по-ойдет гулять! Ах, как же сладко ей тогда кровью литься, пожарами полыхать… Нет, кровь липка, темна, дика… И хоть робко вначале выметают прах в доме покойника, с состраданием, трепетом и угнетением, выбрасывают сор, бумажки, мусор после него, недавно живого, глаз не поднимая, но уже в глазах засвечиваются огоньки высвобождения, свежего пространства, своевольного движения. Так и наш полковник какое-то время еще скорбел, сопротивлялся развенчиванию главного имени, уже больше по инерции, совсем не так, как вначале, а сам меж тем молодел и наливался силой, чуть-чуть стыдливо-глуповатой. Был, был такой налет — стыдливой глуповатости. Но тем не менее со смелой радостью чувствовал, что, несмотря на возраст, по части внутреннего развития, которое обещало новое время, он не уступит своим курсантам, нет-нет. Хотя над теми, понятно, и не довлеет ни возраст, ни груз метафизики.
Новые книги, новые спектакли, картины художников, еще вчера считавшиеся несозвучными времени, сегодня всем доступны. Вершины, вчера еще недосягаемые, — всё сегодня для полковника! Хлопотами большими или не очень большими стало все это на сегодня — всего-то. Не сиди только на месте, двигайся только, иди гляди, свободно размышляй, проводи время в библиотеках, на выставках картин, на кинофестивалях.
А с Надей совсем стало просто. Уже отвыкли друг от друга, каждый живя своей жизнью. Жили как бы на одной стремительной реке (так несло обоих), но уже каждый на своем берегу. Уже не раздражало полковника, когда Надя задерживалась допоздна на собраниях. Наоборот, так странно было видеть ее засветло. Да ей и самой было вроде не по себе оттого, что пришла домой так рано. Ходит, бывало, из угла в угол, все ходит. Походит, походит — идет на кухню, в форточку курит. И видно было, что страстные речи еще звучат в ней, жаркие вспыхивают споры, язвительные выпады так и проступают на лице, и тогда кожа на скулах натягивается и тускнеет. Казалось, постоянный зуд испытывает все ее существо по привычному напряжению. В полковнике все топорщилось, сторонилось этого зуда. С недобрым чувством наблюдал, как берется она за тряпку, словно бы действительно собирается пыль протереть по углам, но тут же и рассеянность какая-то обволакивает ее — так, бывало, и застынет с тряпкой в руке, видно, прикидывает, догадывается с усмешкой полковник, как лучше, как четче обойти ту или иную партийную несуразицу, провести линию, отыскать скрытые, но естественно же имеющиеся всегда резервы. И, передумав пыль вытирать, одной рукой за горло взявшись, идет неуверенно к грязной посуде, с третьего дня еще сваленной в раковине. А может, за стирку взяться, коль пришла сегодня вовремя? — приходит ей на ум, когда случайно заглянет в ванную комнату. А-а-а, махнет рукой, идет курить в форточку.
А тут и время подходит переписать какую-нибудь ведомость на инвентаризацию, где Надя выбрана председателем комиссии.
Иногда ей на глаза полковник попадется, спохватится вроде тогда, вся колыхнется к нему, начнет варить, кормить, рубашки стирать. Но случайность подобной заботы оскорбляла полковника хуже привычного невнимания. Потом и это безразличным стало. Ровно голубел его взгляд при Надюшиной суете. Полковник в это время серьезно увлекся историей, полагая, что в истории, и только в истории, ответы чуть ли не на все вопросы. Года полтора он усиленно занимался эпохой Петра. Интересовался историей литературы. В четвертой статье Чернышевского «Очерки гоголевского периода» нашел он следующие многозначительные строки: «Для нас идеал патриота — Петр Великий, высочайший патриотизм, страстное беспредельное желание блага родине, одушевляющее всю жизнь, направляющее всю деятельность этого великого человека». Неужели же наш демократ не читал, думал полковник, знаменитого указа от 1723 года, да и других, о которых уже тогда говорилось, что они написаны кнутом? Или же увлечение Петром говорит о другом, о том, что даже такие передовые люди, как Белинский и Чернышевский, были захвачены мыслью о полном своеобразии русского исторического процесса, мыслью о том, что в России великие преобразования могут идти только сверху, насильно. Есть о чем поразмыслить полковнику. Ведь это же, в общем-то, отсталый взгляд, ибо в нем не только восторг перед личностью Петра, действительно незаурядной, но и отстаивание вообще идеи самодержавия — вот-де и демократы!
От Петра, естественно, спустился вглубь, в эпоху Ивана Грозного. Но надо сказать, что история уже не отвечала полностью духовным потребностям полковника. Странноватый осадок оставался от нее. Брал он, скажем, переписку Курбского с Иваном Грозным или брал раскольников, призывавших умирать за древнее благочестие, или изучал «свободных каменщиков» — масонов и даже если брал народ, идущий за Стенькой Разиным, стремящийся свалить гнет помещичьего государства, в той или иной степени стремящийся вернуться к старым порядкам, существовавшим до того времени, когда это государство сложилось и окрепло, — все, ну буквально все! — смотрели не вперед, а назад. Точно так же поступало и боярство, выступающее против царя, — все, как сговорившись, смотрели в темную глубь прошедших веков. Все эти странности, что открывались перед полковником почти ежедневно, требовали, естественно, настойчивого осмысления. Мир Надиных забот, партийно-производственных увлечений сравнительно с собственным казался таким приземленным, суетливым. Собственно, расстались гораздо раньше, чем разъехались по разным городам окончательно и официально. Даже ребенок, народившийся к тому времени, уже не мог ничего изменить. Была весна, полковник уезжал в летние лагеря под Ржищев, Раю бабушка — баба Вера — забрала в деревню, и кажется, к явному облегчению обоих. А вскоре и совсем расстались. Полковник по рекомендации врачей переехал на Украину, к дальним родственникам, у него как раз тогда наступил период серьезного увлечения даосизмом. Он даже перевел одну работу Дао-цзе о числах, с английского, разумеется. Впрочем, в то время, когда так безболезненно расстались, его интересовало многое — не только даосизм. Океан человеческой мудрости плескался перед ним, призывно звал, на что ни бросишь взгляд — все интересно, все таит бездну возможностей.
Переведенную работу о числах он собирался использовать в диссертации, которую уже писал в то время. На тему… на тему… — и он, согбенно сидящий над недописанным к дочери письмом, безнадежно пытается вспомнить сейчас, спустя так много лет, трет лоб, сопит, нет, не может вспомнить. Но что-то интересное было такое… кажется, об особенностях тактики китайской армии. Ну да… о тактике… И за основу этой особенности было взято как раз из этой работы то странное отношение китайцев к числам как таковым. Полный смысл этого странного отношения китайцев к числам и тогда был полковнику не совсем ясен, но погружаться мыслью в его противоречивую суть само по себе было великой радостью. Китайский принцип в основе не похож на наш, зыбок, неустойчив, противоречив, и если все в нем и находилось в равновесии, то в равновесии начальном, пронизывающем все мировоззрение Китая, равновесии противоположностей принципов Ян и Инь. Число как таковое страстно интересовало мудрецов Китая, но понятие количества, по существу, не играло никакой роли, гораздо интереснее для них было, четное это число или нечетное. И это, как ни странно, управляло всем мышлением Китая, и в частности, как казалось полковнику, находило выражение в особенностях тактики китайской армии, личном бесстрашии солдат. Об этом он собирался писать в диссертации. Да, несомненно, было какое-то мистическое пренебрежение к количеству в этом древнем народе. Словно дети, они не очень различали (или не хотели различать), тысяча перед ними или миллион — и то, и другое было просто большим числом. В общем, все это довольно сильно увлекло полковника в свое время. Ведь почти такое же непонятное отношение к количеству и в нашем народе — тысяча или миллион для него одинаково много. Не ухудшись здоровье полковника через год-полтора, после того как переехал в Киев, кто знает, возможно, что-то интересное и получилось бы у него с диссертацией. До серьезного ухудшения, конечно, было еще далеко, еще многое узнал он, увидел, прочитал, еще и классическая музыка вошла в его жизнь, и это, пожалуй, единственное приобретение тех лет, наполненных горячкой узнавания, к которому он сохранил навсегда благоговейное чувство. Хорошо помнит даже сейчас, спустя так много лет, как впервые в золотисто-бархатном зале Театра имени Леси Украинки, закрыв глаза, унесся душой в необыкновенные сферы и, совсем потерянный от томящего восторга, думал: «Почему же никто не запрещает этого блаженства, ведь это же все — подражание Богу! Если бы он был, разумеется». Потом долго бродил по тихим мощеным улочкам ночного Киева, по улице Саксаганского вышел на бульвар Шевченко, спустился по нему к Днепру, дошел до Владимирской горки. Гранитная фигура Владимира Мономаха с золотым крестом в руке и быстрое перемещение ночных туч над ним — показалось все это снизу полковнику чуть ли не пределом всего истинного на свете, всего самого настоящего, к чему лишь и может стремиться человеческая сущность. Придя в свою тихую квартиру на Красноармейской, невдалеке от бывшего «Детского мира», зажигал он настольную лампу с зеленым абажуром, раскрывал книгу и читал, читал…
В душе была полная свобода. О Наде редко вспоминал, о дочери — еще реже. Братья не подавали вестей, и полковник был им за это благодарен. Ему казалось, он ушел от них так далеко! Старший делал успешно карьеру в науке, младший спился, затерялся где-то на великих стройках, которыми охвачена страна. В Братске? На БАМе? Ищи ветра в поле. Как, о чем с ними говорить, если встретятся, — они ж теперь все такие разные. Полковник за эти годы далеко ушел. Собственная прошлая жизнь унизительной казалась, в виде винтика, в виде части, звена, зависимости, в виде малозначительного компонента, дефиса, двоеточия в какой-то могучей формуле прошлого, которое (даже странно полковнику спустя всего семь лет) носило имя, было синонимом имени всего лишь одного человека.
Теперь полковник все подвергает свободному критическому анализу. У него и раньше была эта особенность, потребность докопаться до самых основ. Так, еще подростком, в году четырнадцатом или пятнадцатом выписал через издание «Всемирная Новь» за двадцать пять копеек книжку «Фокусник-чародей, или Тайны черной магии» с приложением чудо-карты «Спирограф» для беседы с духами, с загробным миром, а также для вызывания Люцифера. Выписал специально, чтобы самым тщательным образом все проверить на себе и самому убедиться потом уж на всю жизнь, что ни с духами, ни с загробным миром, а так же и с Люцифером нормальному человеку общаться никак не возможно.
Теперь поле, в котором можно двигаться, необозримое со всех сторон — иди куда хочешь, везде ровно, приятно. Да и то правда, коль все в мире относительно и абсолютов нет, то важен сам принцип докапывания до истин (которых, в общем-то, и нет, если строго-то), сама работа духа важна, сама импровизация, игра интеллекта. В этом поступательном движении по созданию внутреннего мира свободной личности, казалось тогда, и заключается настоящая диалектика. Тогда казалось: самое главное — забыть, что был когда-то всего лишь частицей, винтиком, лишь отраженным светом. Оторваться от рабского ощущения своей прошлой частичности, оформиться в цельность, самобытность, яркость. После чего открытие единого смысла всего и всех будет само собой разумеющимся. Страна переживала настоящий ренессанс духа. Культура всех времен и народов становилась доступной и понятной. Даже Кафка, даже Ницше… но… Уж собственная непохожесть на других радовала — в ней одной ведь доказательство, что ты незауряден. Кафка, Ницше — это уже всем известно, а читали ли вы, скажем, Новалиса? Нет?! А Бодлера?! То-то! Главное теперь непохожесть, это винтики все похожи… Немного смущали, вернее, издалека, глухо как-то, одышкой какой-то где-то на лестнице между третьим и четвертым этажом, непонятной сразу, ощущались братья. Эта похожесть мешала немного, мешало то, что думалось невзначай о них… при одышке. Мешало, как мешает порой тонкой работе задубевшая, вросшая навсегда мозоль, — отчего приходится все делать и медленнее, и внимательнее. Нет, он не думал о братьях, как-то специально никогда не думал, но иногда, и всегда в самый неподходящий момент (проснется, например, в грозу), вспоминался то Петр, то Иван, а то и оба вместе. На исходе шестого десятка в сердце все чаще стало появляться как бы незаполненное местечко, или, лучше сказать, вопросик, совсем маленький и как бы невзначай. Появление вопросика внешне, полковник это помнит точно, совпало, кажется, с изучением гегелевских триад. Или нет, по-видимому, после «Пиковой дамы» Чайковского, да-да, вроде бы после этого: «…тройка, семерка, туз…» Да, в общем-то, сейчас и неважно, а почему-то надолго привязалось, скорее всего, случайное, где-то услышанное, прочитанное, возможно: «Становление, развитие, предназначение». Становление — это был для него уже пройденный этап, давно уже ощущал он себя как личность свободную, яркую где-то, сложную, установившуюся, во всяком случае. Развитие — это тоже было понятно. Далеко, очень далеко ушел полковник без ложного бахвальства от того винтика, каким был когда-то. И в грегорианском унисонном пении разбирается, и в метафизике, и в теургии, ну а уж в остальных областях, более известных, так сказать, имеет вполне солидные знания, позволяющие вести профессиональные разговоры даже со специалистами. Но вот предназначение — бессмертный, так сказать, след, — вот с этим было не совсем все ясно. В общем-то, тут совсем было неясно. Хорошо поработал полковник в мирной жизни, неплохо повоевал, в академии преподавал — сейчас его птенцы разлетелись по всей стране, — все это так. Но вот в сердце свободное местечко… братья почему-то вспоминаются совсем некстати… Надя… Рая… Тут сосредоточиться бы надо, как раз отвлечься от всего… А тут Петр, Иван. За братьями Надя вспомнится вдруг ни с того ни с сего… дочь… какая? — подрастает, наверное… Может, это все-таки знак был, как теургия объясняет, предопределенность, что скоро все измениться должно. Но как бы там ни было, но вскорости сильнейший сердечный приступ свалил полковника, успели доставить в реанимационное отделение военного госпиталя, отходили. Ну а после этого, а было ему тогда… а-а, не так это и важно… здоровье стало быстро и верно уходить. Полковник связал тогда это с уходом в отставку (о-тстав-ка! — слово-то какое) и срочно позвонил военкому о том, что хотел бы оставшиеся года посвятить военно-патриотическому воспитанию молодежи. К этому времени надо отнести и начало знакомства с Ниной Андреевной. Но это уже все другое…
* * *
Да, это уже другое, шестидесятые, семидесятые годы, сегодняшний год. Да, это уже все совсем другое, совсем, совсем… Лет двадцать уже нет человека, чьим именем называли когда-то эпоху, с чьим именем шли, и полковник шел, в бой, под танки ложились. Давно уже нет и тех, кто заварил всю эту кашу с развенчиванием. А есть сейчас полковник — больной и постаревший. Он снимает руку с лица, долго моргает, вновь привыкая к свету, и, низко склонясь к листу, со вздохом пишет дочери Рае дальше:
«А встречу все же мы организуем и сделаем это обязательно. Теперь о твоем письме лишь коротко. В нем все есть и ничего нет, кроме возможного начала нашей переписки. К примеру, об утверждении, что я о тебе, Рая, все знаю из писем мамы. Договоримся быть откровенными, искренними и правдивыми. Следуя этому, я могу себя и тебя спросить: а все ли о тебе знает мама? Учитывая ее занятость, интересы и запросы. Сфера партийной работы, как и другая любая, поглощает человека полностью. Стала ли мама твоим лучшим душевным другом, советником, товарищем, который от тебя отличается лишь возрастом (значит, старшим товарищем), большим жизненным опытом отличается, к сокровищам которого тебе нужно и должно прибегать в минуты девичьих раздумий и сомнений? Если этого не получилось, то что может написать мне мама о тебе в своих чрезвычайно редких письмах? Только внешне формальные стороны происшествий, покрупнее в твоей жизни, вроде: поступила — не поступила в институт, — а что за этим кроется для человека и, самое главное, у человека в душе?.. А что она может написать о сложной мозаике чувств и мыслей, связанных для тебя с неинтересной работой, а раз неинтересной, то и душу в нее вкладывать и работать с душой трудно. А что такое труд, в котором нет творческого удовлетворения как вообще, так и для самого труженика, я уж не говорю о тех, для кого человек трудится?
Ведь если попробовать отойти от формальностей в своем написанном и раскрыть так называемые скобки, пожалуй, что и твое письмо, как и мое, начнет вылезать за пределы размеров, о которых у нас сложилось впечатление как об обычных. И если ты раскроешь суть всего того, что стоит за символом, обозначенным в твоем письме словами «в институт не поступила…», «сижу дома…», «неинтересная работа…», «буду заниматься…» и т. д., — раскроешь, как это должно быть в переписке между нами (я уж не говорю о восприятии, ощущениях, пусть будут только твои мысли и чувства по этому поводу), письмо сразу станет живым словом, но только на бумаге выраженным, человека, которому есть что сказать и выразить.
Ты кончаешь свое письмо словами: «Этого пока достаточно». Мне остается, пожалуй, остановить себя на том, что я тебе написал, именно этими словами твоего письма».
Полковник отложил письмо, вышел на веранду, огляделся и пошел по направлению к речке по узкой тропе, пересекающей небольшое, заросшее травами поле. Потрескивали провода высоковольтки, солнце то скрывалось за облаками, то вновь светило ярко, на противоположном берегу реки, что огибала санаторий, подростки купались, мальчишки и девчонки, возились, сталкивая друг друга в воду. Визг, гам, бултыхание. Девчонки, вылезая из воды, напускали на себя невозможную обиду, отряхивались по-щенячьи, шли молча гуськом и вдруг все разом бросались на кого-нибудь из мальчишек, и тот летел под общий хохот в воду. «Ну, держись!» — рычал из воды, девчонки удирали по тропинке, размахивая руками, вскидывая ноги над цветами, темные, рыжие, каштановые волосы развевались как конские гривы. А через пять минут опять все вместе: шум, гам, хохот, визг, падение тел в воду, блеск брызг, солнечный ветер, загорелые крепкие тела, вскрики: «Не надо, Андрей! Отпусти… дурной! Ой-ой-ой… и-и-и…» Рая бы так никогда не визжала, раздеваясь, думал полковник. Он снял полуботинки, сунул в них носки, взял в руки и пошел по тропинке вдоль реки. Было колко, прохладно, вольно его ступням. Он снял рубаху и, оглянувшись, майку. Поеживаясь, завернул все в скатку, сложил вдвое и взял под левую руку, правый бок подставляя солнцу. Проходя мимо, он разглядел ту, что так по-дурному визжала на всю реку. Девочка-подросток с каким-то выражением торопливости на худеньком личике переплыла на его берег. В ярко-синем купальнике, она пританцовывала, тяжело дыша, на тропинке и показывала мальчишкам язык. Пропуская полковника, отступила одной ногой, и тогда другая, оставленная перед ним на тропинке, особенно бросилась в глаза. Шероховатостью колена (должно быть, цыпки), независимостью бросилась и в то же время расслабленностью, мягкой беззащитностью подколенного изгиба, нежностью пока еще не форм, а чего-то перекликающегося с непрекращающимся над головой потрескиванием высоковольтки. Несколько ромашек придавила, не сломав их окончательно. «Мышиный жеребчик», — одернул себя полковник, делая строевой шаг, мелькнуло теплым облачком лицо Нины Андреевны. Еще один строевой шаг — пахнуло детством, парным молоком… садилось солнце, гнали стадо по деревне… еще один шаг — перед ним полевое раздолье, травы, из которых он знал лопух, ромашку да полынь. Он сорвал лопух, накрыл им голову, растер между пальцами полынь, поднес к носу, потом, поколебавшись, лег в траву и скрылся ото всех. Солнце проникало к нему, слепило, дробило зелень, комковатая земля отдавала тепло. Шум, гам, всплески, крики: «Отстань! Отпусти! У-у-у, Танька, как здорово!» — долетали в его укрытие, спина хорошо прогревалась. Лопух, затемняя обзор, касался виска прохладной внутренней стороной, позволял полежать немного, поглядеть вместе с травой на солнце. И крики, и всплески, и озорные игры бронзовых тел — все было по-прежнему рядом, и в то же время, когда полковник спрятал в траву свое не очень хорошее в такой солнечный день тело, все стало как-то лучше, естественнее, спокойнее. «Им и мне спокойнее, — так думал полковник, покусывая былинку, — да-да, они прекрасно понимают друг друга без слов… без слов… — так наполнены они одинаково. И это как пароль. И тогда, оказывается, слова совсем не нужны, они вообще тогда могут быть противоположными и мысли и чувству: «не надо» будет «надо», «отпусти» — наоборот, будет «держи меня покрепче». И Рая меня поймет, если только я их пойму. Вот как сейчас. Пойму их книги, их песни, желания, мир». И полковник поднялся во весь рост, снимая с головы зелень. Вот он, мир! 28 мая 197… года. Электричка несется там, в глубине чистого поля, реактивный самолет оставил след в чистом небе, вон красная байдарка, гребет мужчина, молодая женщина загорает на носу байдарки, рассеянно думает, погрузив руку в воду, майские опята лезут из земли, солнце зашло за тучу, и край ее от этого стал ярок и черен. Мир, разъявшийся на все звуки алфавита, вновь сцементировался Раиным лицом и вдруг шевельнулся повторным видением горячей кожи, мелькнувшей в цветах на узкой тропе, в висках зашумело сразу, наверное, все же перегрелся. И тогда заспешил в свой корпус номер один, палату двадцать семь дописывать письмо.
На веранде встретил физкультурницу Машу в синем спортивном костюме.
— Вы из какой палаты? — строго спросила физкультурница Маша.
— Из двадцать седьмой, а что?
— В городки играете? Мы команду создаем.
— А в шахматы нельзя?
— В шахматы есть уже, в городки надо.
— В городки… подумать надо, давно уж и биту в руки не брал, подумать надо.
— Думайте поскорее, — сказала физкультурница, — после обеда скажете, хорошо?
— Хорошо.
«Как твои гланды, — писал полковник дальше, — стоило ли удалять их? Ведь у врачей нет до сих пор единого мнения, одна школа стоит за немедленное удаление всяких гланд, другая — за то, что это нужно делать в крайнем случае, после многочисленных попыток подлечить их консервативными методами лечения.
Пишешь лаконично, чуть ли не языком Сейфуллиной, о том, что уже вторую неделю не работаешь. А может, эта работа не давала тебе никакой творческой радости и удовлетворения? Пишешь, что у тебя много свободного времени сейчас. Значит, много читаешь? Кто же самый достойный прозаик и какие его произведения тебе наиболее понравились? Как видишь, я не ставлю вопрос, кто твой признанно любимый писатель и какое его произведение ты выделяешь и почему? А может, ты в литературе увлекаешься поэзией? Признаюсь, в молодости моей был такой грех и из-за этого увлечения меня, сельского паренька, заметили и потащили за уши на выдвижение по лестнице комсомольской работы. Если к поэзии тянутся твои симпатии, а судя по тому, что ты приводишь стихотворение Е. Винокурова, я близок в своей догадке, — то кто твои любимые поэты кроме приводимого в письме Винокурова и почему именно они? Их лирика тебя привлекает, мастерство, а может быть, философская глубина проникновения в суть житейскую, но облеченные в поэтическую и совершенную форму, в образ?
Ну, я назадавал тебе вопросов, ты уж не вздумай проявлять неудовольствие и тем более так или иначе меня бранить. Просто пойми, подойди терпимей и извини, если что не так…
Я тут в санатории неожиданно встретил замечательного человека, которому очень многим обязан, — Елену Николаевну Барковскую. Она у нас одно время возглавляла медчасть на фронте. Мама ее хорошо знает. Она меня трижды оперировала, можно сказать, вернула с того света. И представь себе, до сего дня я считал, что Елену Николаевну знаю хорошо. Но вот неожиданно в случайном разговоре человек раскрывается перед тобой, и с удивлением обнаруживаешь, как мало все-таки мы знаем окружающих нас людей… даже тех, кому мы многим, а порой и жизнью обязаны. Как много мы в свое время недодали им!
Вообще приходит порою неожиданная догадка, что все мы как-то особо связаны. Ты не находишь? Но в силу каких-то внутренних, только нам присущих качеств мы за всю жизнь так почти до конца никогда и не раскрываемся. И лишь в редкие минуты душевной смуты или в каких-то критических состояниях, когда речь идет о жизни и смерти, и приходит наконец это самое важное понимание самих себя…»
Снова не дописав письма, полковник отправился вниз, в библиотеку. Стоял у полки, перебирая книги, раскрывая какие-то, листая, страницу-другую прочитывая. В зале, где у окна стоял рояль, кто-то по-детски властно взял аккорд, послушал-послушал, да как ударит так, что, может быть, даже разбилось где-то стекло — сразу стало светлее, просторнее. И еще стремительнее ударил невидимый музыкант, и еще, и еще… наддай, наддай! как груженый воз на крутую гору пошел, преодолевая тяжкую диалектику сути. Звуки, как дикие, вырвались из тесной клетки и тут же сцепились в огнедышащее что-то, божественное, болезненное. Самое страшное вспомнилось полковнику — рукопашный бой под Каменкой. Клубок боли, своей ли, чужой ли, ручьи крови — своей ли, чужой ли? Ужас, передающийся через деревянный приклад или железный штык, которым добивают живого человека. Уханье, кряканье, хряканье, стон, бульканье, нечленораздельное воодушевление и еще — томление. То перехвачено не горло было, а душа — полный мешок под завязку звездочек… И еще что-то было там, на рассвете, в росистом овраге у деревни Каменка — то ли уши заложило, то ли время остановилось, то ли душой обменяешься обязательно с тем, кого через мгновение добьешь прикладом, так тошно, то-ошно так, когда штык просовываешь через миллион живых человеческих клеток. Что-то было самое важное, ибо навсегда потом проникся полковник упоительной человечностью после рукопашного боя, страшнее которого ничего уже не было на войне. А звуки всё громоздились, враждебные друг другу, невозможные, сплетались в чуткий клубок боли, ненавидящие друг друга, сладостные, врубаясь через штык ли, через приклад ли, — и вот перед внутренним взором полковника развеялся туманец, стал уверенно крепчать наивно одутловатый облик гениального Мусоргского, и тут же полковник и узнал, что играют, опознал эти звуки совершенно непостижимой, бессмертной силы. И, узнав, сразу почувствовал словно близкое присутствие воды: чистого лесного озера или глубокого моря. И успокоился. Словно бы теперь уже плыл: «…Нет уз святее товарищества, отец любит свое дитя…» Только буквы еще подпрыгивали перед глазами, но это, наверное, звуки мощные сотрясали воздух вокруг, да, кажется, и потолок вместе с воздухом, и стены, и все здание. На душе было тепло и доверчиво, полковник прижал пальцем дрожащие немного буквы:
«Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, братцы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по душе, а не по крови может только один человек. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу пропадать на чужбине: видишь: и там люди! также божий человек, и разговоришься с ним, как со своим, а как дойдет до того, чтобы поведать сердечное слово, — видишь, нет, умные люди, да не те, такие же люди, да не те! Нет, братцы, так любить, как русская душа, — любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем бог дал, что ни есть в тебе, а… — сказал Тарас, и махнул рукой и потряс седою головою, и усом моргнул, и сказал: — Нет, так любить никто не может!»
Теплое чувство внезапно охватило полковника. Таким огромным, неправдоподобным человеческим чувством потрясло, что он зажмурился от счастья и потер рукою горло. Вспомнились не те, кого сам спасал, и не те конкретные, которые спасли полковника: Степа Мотыль или Вася Панков… Надя, Елена Николаевна… Вспомнилось сейчас просто что-то необыкновенно теплое, братское, что бормотало порою нечто нечленораздельное или кричало, материлось невпопад, когда прикрывало своим телом от близкого взрыва, то, что дышало тяжко, сопело, корчилось, напрягая все жилы, когда тянуло раненого полковника по снежному полю, то, что ласково утешало, потерпеть просило, когда лежал на операционном столе… Все руки, спины, голоса и взгляды перемешались в одну теплую, необыкновенную душевность — военное братство солдат.
Все стихло, свет померк за окном, в зале уже не играли, старинный камин тускло поблескивал, листва за окном трепетала, запах книжной пыли в сознании вызывал что-то невнятное, высокое чувство редких душевных сдвигов, полковник осторожно поставил книгу на полку. В палату вернулся, торопливо писал письмо дальше:
«Кстати, уж если речь зашла о стихотворении, твой автор пишет: «Мы юны и надменны». Ясно и коротко. Мы — юны, это бесспорно, но почему мы надменны? Юность советского труженика, как правило (речь идет не об исключении), лишена черт надменности. По отношению к кому ему проявлять свою надменность: к отцу, к матери, к брату, к сестре, к товарищу?.. К таким же советским людям, как он сам, но только в силу загруженности трудом меньше читающим, меньше развитым, но честным и хорошим советским людям?
Автор пишет: «Доступен мир. Он прост, он понимаем. Но вот приходит время, и тогда мы узнаем, что ничего не знаем». Нельзя не согласиться, что подростку мир, который он видит с родительской колокольни (чаще всего), доступен, прост и понимаем. Он живет запросами и интересами, из которых складывается его детский мир (более ранний или более поздний). Но вот приходит зрелость, пишет автор. О какой зрелости может идти речь? Зрелость — это продолжительный период, проходящий через всю юность, молодость человека, процесс складывания его взглядов, убеждений, характера, который складывается в не первой уже молодости человека. Значит, приходит не зрелость, а юношеская молодежная пора, приходит большее приближение к той жизни, какая есть и какой дети, конечно, не могли, да и не должны были знать, пока они были детьми. Значит, здесь нет конфликта, он в метафоре автора, но не в самой жизни, какая она есть в действительности.
Автор пишет: «Ударит час! И розовая мгла спадет: пред нами полночь и светила. И тут же встанет во главу угла то, что вчера еще ничтожно было». Образно и хорошо. Но у кого спадет розовая мгла, у ребенка, подростка, юноши?.. Это не праздный вопрос. Ведь детству присуща розовая мгла как неизбежное следствие сберегания детских умов и душ от грубых сторон иной действительности.
Я об этом пишу так подробно, потому что ты стихотворению Е. Винокурова предпослала что-то вроде ключа: «А вот мой вопрос». И если брать в нем образы красивые, звучные, не вникая глубже не совсем удачной философской подосновы (объективна она или субъективна у автора — неважно), то можно не совсем правильные выводы сделать.
Но ты правильно подчеркиваешь, что можно по-разному воспринимать стихотворение. Одно ближе тебе по духу, по настроению, мыслям, переживаниям. Другое ближе мне, как отвечающее чем-то и как-то, к восприятию которого образовались предпосылки в ходе дней моей жизни. Но вот суть, единство содержания и формы (диалектическое единство) мы можем и должны одинаково понимать и оценивать.
Это относится и к поэту, и только тогда он будет любить жизнь и, ее любя, творить, и это творчество будет борьбой с плохим за упрочение хорошего, красивого, прекрасного, которым чем дальше, тем больше можно и должно украшать человеческую жизнь. Вот такое молодое, если хочешь, юношеское, влюбленное в жизнь мировоззрение я признаю. Это же значит превращаться из созерцателя жизни, из пассивного или полупассивного в активного борца, строителя этой жизни, который в своем жизнелюбии, в утверждении трудом красот жизни человеческой идет вечно молодым и жизнеутверждающим путем — так до сих пор было в жизни.
И наконец, насчет твоего решения не поступать в этом году в институт. Я думаю, что твоя аргументация застенчивостью и неуверенностью ошибочна и поэтому несостоятельна. Ты неправильно идешь, считая, что просто нужно сначала избавиться от застенчивости. Это не так просто, если это выпятить как проблему номер один. С этим надо справляться по ходу обычных дней, обычной жизни, в обычной, тебя окружающей среде. Конечно, нужна будет воля и упорство, нужно выработать в себе умение делать именно то, чего из-за застенчивости хотелось бы не делать. Надо сказать себе раз и навсегда: «Так надо!» И это можно и нужно делать именно в коллективе, день ото дня, все больше вырабатывая в себе собранную волю, направленное упорство и настойчивость, возрастающее умение владеть собой, и главное — делать не то, что хотелось бы, а то единственное — нужное и целесообразное. И я уверен, что это тебе по плечу и под силу. Поэтому побольше спокойствия, поменьше нервозностей и крайностей. Я в тебе уверен еще и потому, что ты моя дочь и в тебе в какой-то мере все эти качества есть, пусть они и в зародышевом состоянии, неразвиты, но они будут, образуются. Ведь и Москва не сразу строилась. Вот так-то, а то, что вообще до института поработать полезно во всех случаях, — это верно, как верно и то, что учиться никогда не поздно.
Кстати, если уж речь зашла о стихах, то не так давно мне в руки попалось одно стихотворение Л. Ошанина. Не удерживаюсь от искушения и привожу его в письме тебе, вот оно:
В огне войны иль в мирной тишине, Среди друзей, чья дружба нерушима, Мы все равно, как с ласками любимой, Со смертью встретимся наедине. Но если ждать, когда, с какого края, Тебе столкнуться с нею суждено, — Нельзя ни есть, ни спать, ни пить вино… Так лучше жить, опасность презирая. И вдруг упав на снег или в траву, Слабея, задыхаясь, умирая, Шептать упрямо: — Я еще живу.Не правда ли, замечательное стихотворение? А как метко, я бы сказал, философски оно определяет суть того, как должен человек жить, не сдаваться до той поры, пока у него есть признаки жизни.
А может быть, оно мне так нравится потому, что оно так коротко, в такой поэтической форме выражает суть того, что я думаю и что я сам, вольно или невольно, от поры до времени переживаю и испытываю? Но ничего, против искушения не устоял (я ведь тоже человек) — тебе написал, а теперь подождем, что ты мне о нем скажешь. Хорошо?
Ну, буду кончать это в какой-то мере необычное для меня своей сумбурностью письмо. Привет бабушке и маме.
Маме я попробую написать хоть короткое письмо, и если это получится, то, может быть, сейчас же… На обратном пути обязательно заеду к вам».
* * *
Где-то со второй половины месяца установилась очень ветреная, очень солнечная погода, резко повысилась солнечная активность. Полковник, хоть почти и не покидал палаты, чувствовал себя все более неважно. К концу пребывания и совсем расхворался. Так что из санатория на поезд его сажала на всякий случай Елена Николаевна.
— К своим вот хотел заехать, дочери обещал, — сказал полковник, устроив в купе чемодан и вновь оказавшись на перроне возле вагона, где ожидала его Елена Николаевна, — да вот не получилось. Буду ждать теперь письма.
— Да-да, вы уж лучше не искушайте судьбу, Павел Константинович, лучше уж письма ждите…
4. ВОЗВРАЩЕНИЕ
Письма не было. Правда, дома сразу стало легче полковнику. Размеренная жизнь, привычный круг забот — все это благодатно действует на пожилой организм. Но письма не было, вот в чем дело. Неожиданно у полковника появилось желание посетить родную деревню. С удивлением думалось: «Ведь это ж так близко… а год идет за годом… ждать нечего… ждать теперь чего-то уж не приходится!» Поехал.
И не узнал своей деревни. Собственно, деревни давно уже не было, город со всех сторон давно уже сжимают дачи. Окружающие леса, перелески, даже просеки высоковольтки — все вокруг отдано под дачи. Когда попадаешь сюда, сначала замечаешь даже и не дачи, а заборы. Такие ровные, новые, со вкусом пригнана доска к доске. Есть металлические, легкие, ажурные — заботливо покрашены. На столбиках колпачки, чтобы дождь не повредил. На воротах сигнализация, ведущая в дом. Заборы, разделяющие соседние участки, чаще всего двухцветны. Один хозяин любит желтый цвет, другой — зеленый. Там, где забор не сплошной, видны внутри четкие дорожки, одни посыпаны песком, другие — заасфальтированы. Продуманно натянута проволока, по которой ночью бегает сторожевая собака. Блок на проволоке не скрипит — хорошо смазан. Просмолены и столбы, на которых натянута проволока, чтобы долго стояли, не сгнили. Под шнурочек подстрижен кустарник. Геометрически правильно разбит сад, напоминает фигуры на шахматной доске. Одноэтажных совсем не много. В основном же дачи двухэтажные, но появляется кое-где уже и третий — то флигелечек, то надстроечка в два-три окошечка стыдливо прикрылась тюлем на третьем этаже. Одноэтажные дачки попроще, немного похожи еще на избы, какие были в его деревне. Другое дело двухэтажные. Расписные наличники, петушок золотой гребешок на коньке крыши, полумесяцем чердачное оконце — затянуто цветным стеклом, полубалкончики, балкончики, мезонинчики, легкие веранды, увитые плющом. Настолько удобные плетеные кресла на тех верандах, что половина забот покинет вас, стоит лишь опуститься в такое. Фигурные желоба для сбора дождевой воды (волосы после мытья мягкие!), коленчатые, белой жести трубы, ребристые, высокие бочки, артезианские колодцы, шланги для поливки сада. Это у всех. Одноэтажные дачки тянутся изо всех сил, тоже начинают хорошеть, фигуреть, но куда им до двух-трехэтажных!
Кое у кого уже и собственная котельная. Небольшая, конечно, такая же свежевыкрашенная, чистенькая, как и все вокруг. Почти игрушечная, но ведь своя! И до того это все умилительно, что хочется, как ребенку, прощать многое… Дымит собственная темно-синяя труба, собственная горка шлаковых отходов за воротами, собственный кочегар в чистом брезентовом переднике стоит у ворот.
Зеленый косогор, с которого зимой так здорово было нестись на лыжах, кому-то помешал гараж поставить. Снят косогор аккуратно бульдозером, свезен на свалку.
Полковник шел по улице, которую, казалось, только что поливали или даже мыли с туалетным мылом. Людей не встречалось, не пробегала собака, не сидела на заборе кошка, не брела коза с обрывком веревки на шее. Вся жизнь была за забором. В кинообразном мелькании штакетника кто-то наполнял эмалированное ведро водой, кто-то подрезал кустарник, кто-то насвистывал арию, белил ствол яблони, где-то в прохладной низине за деревьями по-детски всхлипывала пилорама, подросток лет пятнадцати поставил таз с кусками хлеба, облитыми молоком, перед собачьей будкой. Подтянул техасы, присел, смотрит, как пес лениво ест, не вылезая из будки.
Полковник ходил, пока не устал, все сравнивал одноэтажные дачки с двухэтажными, а двухэтажные — с трех. Любопытно все же было, что никак не может определить: хорошо это или плохо, что на месте родной деревни теперь красивый дачный поселок. И поскольку ответа не было, он и продолжал упорно ходить, смотреть, сравнивать. Собственно, цели такой, хорошо это или плохо, лично у него как будто и не было. Это был как бы запасной ответ на тот случай, если спросят: «Чего ходишь третий час?» — «Удивляюсь», — должен ответить. «И чему ты удивляешься, полковник?» — «А тому, что не могу никак в толк взять: хорошо это или плохо, что вместо родной деревни дачи теперь?»
К обеду вполне удобно стало приспособить к лицу выражение раздражения. Оттого, что ходит-ходит, а все вроде без толку: никак не может почувствовать в себе — хорошо это или плохо: то, что видит сейчас. Тем более что и устал уже изрядно — ступни действительно жгло, а он все ходил, ходил — не мог находиться. Сам-то себе он привычно объяснял, что с годами, с болезнями его организм перешел на экономный режим: вот чувства и отказываются дублировать надежную работу мозга. А ум еще утром, когда только вошел в поселок, выдал четко и безошибочно — плохо! Да-да, очень плохо, когда кормят собак белым хлебом с молоком, плохо, когда имеют собственную котельную, собственного (тем более) кочегара. Так и работал ум в привычно негативном режиме, совсем не мешая. Чувства же никак не соотносились с ним. Собственно, их как бы и не было, и уж, конечно, не искалось в них ответа — хорошо это или плохо все тут. А все в полковнике собралось в один пучок, в чутье, наверное. Как гончая, бежал он среди чужого, странного, неприятного, раздувались чувствительно ноздри, чуя родные запахи, сторожили уши забытые звуки, то обмирало все в груди, наверное, опасно для его здоровья, то все опять рвалось вперед, вперед… Бежит зеленым косогором, пыхтит как паровоз, и чем выше он взбирается, тем виднее ему сквозь лозины голый и широкий большак. Там, на повороте к городу, где стоял ветряк когда-то, теперь теннисный корт. Но для полковника тотчас же проступает через покрытие корта кочковатый деревенский выгон, где прыгают на одной ножке мальчишки — играют опять в лунки. То опять замрет он надолго от одного вида низкой тучи, осветившей по-особому даль над зеленями, над желто-красной грядой леса за ними, а то фыркнет, затопорщится весь, чуть ли сам не взлетит большой птицей — ф-р-р! — когда вдруг окажется перед стволом столетнего вяза, разбитого временем, но узнанного полковником той особой дрожью воспоминаний, когда воскликнешь всем существом своим: «Да точно ли с тобой бывало здесь такое?! Да точно ли ты сам ехал здесь еще безусым парнем в ночное, сладко вдыхал свежесть росяного луга и далеко за деревней в сыром и лунном поле, где серебром отливает полынь вдоль тропинок, протяжно пели:
Как на зорьке на заре Стоят кони во дворе, Выходила Акулина На новое крыльцо, Брала коней за повода, Вела коней во стойла…»А сердце уже вскачь понеслось. Вон и Быстровка разлилась под косогором мелким светлым плесом. Сейчас мост капитальный, а тогда — кое-как, а за мостиком слева, за круглыми прудами, с берегами мягкими в гусином пухе, — огромная изба деда Чичкала. Уже в сенях, грызя подсолнухи, бывало, встретит тебя одна из трех его дочек, чаще Люда. Стихнет на гумне молотилка, семизвездие Стожар вспыхнет в чистом небе, огонь вздуют, народ молодой на вечеринку собираться будет. Издалека еще, от стогов, ометов дальних еще заиграет на западающей клапанами гармонии Климка-черт. Ах, как хорошо потом, захватив фонарь «летучая мышь», отправиться зачем-то с одной из дочек деда Чичкала на теплый двор. Где воркуют голуби под застрехой, куры усаживаются на белый нашест, овцы хрустят соломой в закуте, плетенном из лозняка, вздохнет корова, отражая огромным фиолетовым глазом свет фонаря…
Пахнет дымком костров, на которых сжигают прошлогодний бурьян, пахнет зеленью, масляной краской, стружкой от новых заборов. Бодрящий, весенний крепкий запах зарождающейся юной жизни. За фигурно-решетчатым забором, от которого у полковника возникло ощущение таблицы умножения, две нарядные девочки вертели в воздухе веревку. А третья, раскрасневшаяся вся, скакала в ней и вслух считала: «…Двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь…» В теплом солнечном дне детский звонкий голос был словно полнокровный пульс этой зазаборной жизни… «Двадцать восемь, двадцать девять…» — считал полковник вместе с ней.
На самом краю дачного поселка около невесть как оставшегося ветхого домика на лавочке сидел старик в белом хлопчатобумажном костюме, брезентовых туфлях, только что обновленных зубным порошком и от этого синевато-влажных еще. Полковник присел отдохнуть.
— Мне уже много лет… — сказал старик. — Я трех жен пережил… Это ведь тоже нелегкое дело. — Старик посмотрел на полковника: — У меня-то живет уже квартирант, а то бы я вам сдал комнату… Да, а так у меня уже третий год живет один пенсионер. Да… хороший человек. Мы с ним хорошо живем. Чайку попьем, спать ляжем в передней. Или радио слушаем, или разговоры ведем, про политику или про что еще… хорошо… не скучно. Я ему земли дал немножко, он картошку посадил. Вот сейчас он в лес ушел, в восемь ушел, до сих пор нет. А я кашу гречневую сварил, придет — будем обедать… Я вот в больнице был с неделю, так он сам оставался — ничего. За курочками присмотрит, кошек покормит. Он кошек не любит. А сейчас в город-то поедет — грибов, варенья наварил, не увезти. На всю зиму, да-а… Зима-то долгая… А на следующий год опять приедет… К себе, правда, ни разу не позвал, хотя бы раз просто так позвал, не-е… Я бы, может, и не поехал, да-а… Тут в том году туристы ночевали, пустил я, так они уже два письма прислали: «Будете в городе — заходите, худо-бедно, а встретим». А как же… А этот — ни разу, да-а… А мне умирать скоро, да-а…
— Да живите, — сказал полковник, невнимательно прикидывая, на сколько он будет помоложе словоохотливого деда.
— Да я бы пожил еще… что ж, пожить-то можно, я живу хорошо… Брата вот недавно похоронил.
— Сколько брату было? — спрашивал полковник. — Еще-то кто остался?
— Брату-то? Брату было девяносто, а еще сестра двоюродная в Воронеже, да-а… тяжело это. Дочь придет, когда уберет хоть у меня, вот у меня и чисто. Иногда и полы вымоет. Дочь не забывает. А жены все до шестидесяти только доживали. Почему, и сам не знаю… Все трое вместе лежат, у меня оградка там хорошая. Покрашена. Там и у меня есть местечко в оградке. У меня все хорошо. Место там хорошее, солнечное, оградка хорошая, покрашена, цветочки, да-а… хорошо…
— Хорошо-с, — сказал полковник, — ну, всего, — и торопливо зашагал на станцию.
* * *
На обратном пути в булочной купил для Нины Андреевны ее любимых конфет — батончиков. Сам полковник предпочитает вприкуску и чтоб твердый сахар был мелко поколот острыми щипчиками. У Нины Андреевны есть такие щипчики. Она загодя для него специально накалывает целую сахарницу.
И вот сидят пьют чай на кухне. Слышат, как в комнате Лариска весело переговаривается в раскрытое окно с соседским мальчиком Валериком:
— А я, когда захочу, у меня на голове появится неспадимая корона!
— А я — вожак черных атласных коней!
— А я — белых!
— А я — Сивка-бурка, а по отчеству Буян!
— А я — Конек-горбунок по фамилии Златогривый!
— А я…
— А вторая фамилия…
— А я от злого хозяина убежала.
— А я на ночь мышкой превращаюсь, а днем я — конь, вожак всех черных атласных коней, все мне подчиняются, я всех главней!
— Нет, я главней, — Лариска запрыгала на кровати так, что та отчетливо заскрипела, — кровать моя стоит, — громко распевала Лариска, — стоит, стоит, и небо синее — и сердится, из солнца град идет во сне, и кони дикие — по всем дворам, но можно их поймать, вот так! Я, я — главней!
— А знаешь, Лариска, — крикнул Валерик, — за сараем опять сожгли ночью кошку. Ту, которая на тигра похожа.
— А-а-а… — зарыдала Лариска, и Нина Андреевна, чертыхнувшись, побежала в комнату, окно захлопнула.
Но Лариска все плакала, плакала, и полковник со стаканом чая пошел к ней:
— Хочешь, я тебе расскажу сказку про… ну, скажем, про крота, а?
— Про какого такого еще крота-а-а…
— Про слепого.
— Про какого такого еще слепого…
— А вот про какого. Слушаешь?
— Ага-а…
Так и шло время. От Раи писем не было. Сперва ждал, считал дни, недели, месяцы… Потом понял, что дочь неизбежно взрослеет, не успел, уходит, становится все более недосягаемой…
* * *
А Рая сначала хотела написать письмо. Она же обещала. Но ведь тот, кому придется писать письмо ей, оказался таким умным… таким старым… больным… даже жаль его как-то. А главное, слишком уж какой-то выразительный, чтоб вот так безоговорочно принять его с первого раза — вот, мол, мой отец, и точка! Вот если б это была какая-нибудь прекрасная книга — подарок отца, чтобы, прочитав, поставить на полку и всегда знать — тут она…
С первого раза не поступив в МГУ на факультет журналистики, она не пала духом. Той же осенью подала заявление в школу журналистики при районной газете и, окончив ее за год, успешно выдержала конкурс на журфак.
Учеба в университете захватила полностью, лекции, семинары, секция настольного тенниса, где рост (в отца) и реактивность (в мать) сразу дали неплохие результаты. Театры, выставки. Кроме этого, очень много читала стихов, пробовала сама писать.
Первая газетная практика была в Ульяновске. Все нравилось ей — город, Волга, люди. От переизбытка чувств, оттого, что все получалось как надо — первые репортажи, очерки, статьи, — от ощущения радости бытия ей хотелось сделать близким что-то хорошее. Из близких — мама, баба Вера, подруга Таня. Решила откладывать гонорары, чтобы близких прокатить по Волге на теплоходе. Поэтому питалась в основном хлебом и салатами. Скопила. В Москву вернувшись, купила билеты на теплоход до Астрахани и обратно. Провезла близких по Волге, с двойным теперь как бы восхищением — и за себя, и за них.
Через год на практику поехала в Кировскую область, в самую глубинку, в районную газету. Редактором газеты был Николай Сергеевич Кравцов, которого за небольшой рост и подвижность звали просто Коля. Ему было уже за тридцать, женат, сын подрастает, через год обещан перевод в областную газету. Николай Сергеевич по первым же Раиным материалам увидел, что толк может быть, стал всячески поддерживать ее, несколько материалов направил в областную газету, где они и были напечатаны. Но был, с его точки зрения, у Раи большой недостаток — страсть автора все время выпирала из того трафарета, из которого все же не должен выходить любой газетный материал. Трафарет конечно же не догма, позволяет и метафору к месту, и бойкий диалог, и даже просторечие к месту. Но у Раи страсть все больше и больше попирала даже в принципе трафареты. Особенно после того, как съездила в командировку в одну отдаленную деревеньку. Тут с ней, конечно, что-то непонятное произошло. Страсть страстью, но когда пожила она в этой деревеньке, все в ней уж как-то слишком резко переменилось. Лицо изменилось, голос, глаза. А что мог Коля Кравцов? Ничего. Его же через год берут в областную газету. Вот на этой почве у них и состоялся разговор. О том, что все равно придется писать по трафарету, как все, то, что нужно.
— Ну что ж, тогда вообще писать не буду!
Собралась и уехала.
Мало того, с тех пор и в университете не появлялась. Сколько Надежда Алексеевна ее ни ругала, сколько ни просила — ни ногой! Замкнулась. Мелькнула, правда, в это время мысль отцу написать. Сдержалась. Не написала.
Коля Кравцов писал ей в Москву, чтобы опомнилась, университет хотя бы закончила, один ведь год всего-то и остался. Ведь потом можно и не в газете работать. Писал-писал, а потом вдруг и сам, словно с якоря сорвался, задурил-загулял. Все бросил — семью, газету, областную карьеру, на Север подался. С Севера писал, что ему без нее тяжело, что любит, что ждет, ну и все прочее, что пишут в этих случаях. Стих даже сочинил. Поехала. На маленькой станции Оленья сошла и Колю Кравцова сперва и не узнала: почернел, зарос, уже третий день ждал ее, чтобы встретить. Ну и, понятно, гулял от радости, поил всех подряд, скупил в привокзальном буфете все пирожные и кормил собак бродячих. Вот такого мужа привезла маме, Надежде Алексеевне, Рая. Прямо скажем, не подарок. Но привезла, никуда не денешься, и стали как-то жить. Родилась дочь Марина. А еще через год появился и сын Игорек. Внук полковника.
5. БРАТЬЯ
Вроде облачко полупрозрачное найдет, рассеется весь, сам себя тогда видит вроде бы, как стоит-глядит полковник через окно на женщину, что граблями прочесывает траву возле дерева во дворе, переступая босыми ногами по дорожке. Если мелкий влажный песок, как приятно ступать по мягкой прохладе, если гладкая глина, гладкостью льда, должно быть, откликнется в душе, новогодней елкой на катке, разноцветными фонариками. Острый камушек подколет середку подошвы, стерню напомнит — идешь в жаркий полдень, ступню немного набок ставя, чтоб не обколоться. Ветерок если с реки, запах осоки, влагу несет, ручка грабель становится влажной, ладонь не скользит, дерево чувствует ладонь. А если ветерок сейчас с дороги, полынь обязательно принесет, запах пыли, бензина — концентрат многих причин и следствий. А звуки независимы от прочесывания травы граблями. Ты гребешь, продираешься сквозь густые, влажные травы, вычесываешь то это, то другое. А трактор в поле тарахтит себе, а электричка прогремит мостом, а то вдруг с каким-то приседающим серебристым звуком вспорет синее пространство над тобой реактивный самолет. Вот солнце вышло, лопатка чувствует ласковое прикосновение; пространство перед глазами видится резче, отрывистей, обрывок газеты с заголовком «На родине Чернышевского» — у каждого в душе есть доля Рахметова, как бант на голове девочки, доля, украшающая нас немного. Полуистлевший фитиль на зубьях грабель зацепился — коптилка в землянке вспомнилась. Рыбья кость — пленный немец-«язык», подавившийся костью, когда ел руками со следами еще веревок, озираясь, жадно запихивая в рот еду. Кусок шлака — работа истопником в котельной подсобного хозяйства в тридцатые годы еще, когда перебрался в город, жил впроголодь, писал стихи под гул насосов, ночуя в той же котельной на теплых бойлерах. Страница письма, вымоченная дождями, с приставшим сором, землей: «Если до седьмого не приедешь, то я…» Продираются железные зубья по листве, влажным травам, путаются, запутываются, отступают назад, опять вперед, вновь, взмахнув, погружаются… «Если до седьмого не приедешь, то я…» Пасьянс предметов и движений, времен и тишины — как ни раскладывай его, обязательно сойдется и мощным усилием вытолкнет из глубины наносов сладкой истомы миг, счастье, бесконечное где-то эхо его… Словно опять, взявшись за руки, бегут братаны с зеленого косогора, чтобы враз всем троим оттолкнуться и броситься в светлые воды речки Быстровки…
Младший, Иван, — техник-строитель, уже давно оторванный ломоть. Как исчез с горизонта лет двадцать — тридцать назад — только слухи изредка доходят. Братск вроде строил, потом на БАМе оказался, дамбой море где-то перегораживал, потом на АЭС его занесло. Впрочем, из-за пьянок нигде не задерживался. Непутевая жизнь его раньше времени свела в могилу мать. Один раз заезжал, правда, уже с явными признаками алкогольной деградации, — просил денег. Полковник не дал, сказал, чтобы впредь в таком виде не появлялся, — не пустит.
Старший брат — геолог. Защитился перед самой войной, занимался поисками стратегического сырья, во время войны был оставлен при НИИ. После войны они поддерживали отношения, одно время имели даже общую дачу с участком. Но разглядел потом полковник, что старший брат не только не имеет тех жизненных масштабов, которыми отмечены с войны вернувшиеся, но еще и насмехается в душе над этими укрупненными масштабами. В мирной жизни они-де наивны, мешают достичь настоящего успеха. Сам старший вгрызался в послевоенную жизнь с такой яростью, с такой слепотой, что никогда не забывал в свой список научных работ (сотни две там было, из них десятка полтора самого высокого ранга), так вот, старший, Петр, ни разу не забыл в этот список включить самую мелкую, захудалую — листок какой-нибудь реферативный, в котором с десяток соавторов было. Услышал однажды полковник невзначай разговор Петра с женой:
— Ты бы, Петр, сказал брату: пусть горбыль с военного склада выпишет, полковник все же.
— Да неудобно, и так…
— Участок твой, да и дача в основном из твоего кармана, не так, что ли?
— Да так-то оно так, но брат все же, может сам догадаться…
Полковник догадался, привез горбыль. Но уже приглядывался с каждым днем все пристальнее, прислушивался с каждым днем все грустнее.
— У нас в НИИ, как и везде, — любил рассказывать брат, — как и везде — болото, но в нашем хоть что-то поймать можно — перспективы, не зевай только!
И не зевал. Поиски стратегического сырья давно оставил, стал заниматься чистой наукой — тектоникой. Там, оказывается, еще с тридцатых годов шел спор между фиксистами и мобилистами, рассказывал брат полковнику. В чистую науку погрузившись, он чувствовал себя как рыба в воде, быстро шел в гору, кого-то отпихивал, кого-то попросту топтал. Но главное, в том давнем споре фиксистов с мобилистами поддерживал тех, кого надо — по обстоятельствам. Вначале — мобилистов, потом фиксистов. Тут-то и попятился полковник — и от доли в даче отказался, и от денег, что взамен предлагали. На письма не отвечал, к телефону не подходил — отстали… Ну а младший брат, Иван, по тому, как много лет вестей не подавал, пить не бросил. «Вот так-то, — думалось и раньше не раз уже полковнику — еще тогда, идущему гулкими коридорами академии, где до блеска натерты полы, где стрельчатые окна до того высоки, что, кажется, хранят в себе солнце, даже спрятавшееся за тучу, а часовые при входе — в сапогах, отражающих зимнее солнце этих высоких окон, — вот и есть братья, — думалось, когда шел вот так подтянутым строевым, — и вроде бы и нет братьев».
«Как же не хочется умирать-то! — с ужасом пробивает полковник легкое облачко рассеянности, отворачивается от окна и выходит со вздохом на теперешнюю команду свою: — Ну-ус, десять тридцать, — говорит бодро, — пора!» Пора принимать лекарство.
* * *
Если же сумели бы мы сейчас связать как-то воедино невнятное томление полковника, сердечную его надсаду, несмотря на бодрый голос, если бы попробовали во что-то целое, определенное материализовать то, чем сейчас охвачен он, раздавливающий очередную порцию лекарства в большой ложке, то увидели бы мы тогда за тысячи километров отсюда дом один, ступенечки, ведущие на чердак, и брата Ивана, с трудом одолевающего те ступенечки. Услышали бы, как бормочет он:
— Ну, отдохнули? Отдохнули. Пойдем дальше… вот так, вот так… Иван Константинович… потихоньку, полегоньку… на бок, на бочок… теперь на колено… ручками упремся… еще немного… еще чуть-чуть… уф!.. н-ну… у-у-уф… уф… Да-с, на каждой ступенечке теперь отдыхать приходится, сердце обрывается, весь потом покроюсь, нет здоровья. Да и откуда ему взяться, здоровью-то? Сегодня утром я посчитал — выходит, пью уже семнадцать дней. Если среда — то семнадцать, а если пятница, тогда девятнадцать. Да… Надо как-то выбираться. А тяжело. Если б кто знал, как тяжело! Очень. А было время, когда я не понимал, как это можно страдать с похмелья. Неужели было?! Конечно. С чего-то ведь я начинал пить. Думал, что притворяются люди, придумывают повод для продолжения пьянки. За компанию лишь и присоединялся к похмеляющимся. Ради бравады юношеской, тоже хотелось казаться мужчиной, страдающим с похмелья, ради того, чтобы других не обидеть, присоединялся еще. Матушка, помнится, говаривала частенько: «Ванька наш жалостлив, рубаху с себя снимет да отдаст!»
Потом, я думаю, мне всегда нравилось посидеть в компаниях, поговорить, я общественный человек, одиночества не любил — вот что тогда было важным. В общем-то, пока сам с похмелья не стал страдать, откровенно если, в водке я не видел ничего приятного. Притворялся, что приятно пить, — это правда, а на самом деле дрянью она мне казалась. Воротило с нее. В техникуме я спортом занимался. Хе-хе-хе… Спортсмен! Ну-ну… по бутыльболу, а? Смакование спиртного с годами пришло. Ну что? Еще на одну ступенечку переберемся? Торопиться не будем, время есть, раньше десяти они сюда не заявятся, я все рассчитал. Просто сейчас на чердаке хорошо, солнце, ветерок гуляет, голуби воркуют… Что-то такое похожее было вначале, когда попал после техникума по распределению на Дальний Восток. Да, много света, солнца, проветренности во всем мире, и… парочки по скамейкам, по скверам воркуют, завидовал. Назначили сразу прорабом участка. Неожиданно после студенчества появилось сразу много денег. Рабочие на «вы» называют, а главное — самостоятельность, масштаб, объекты на сотни тысяч. Работа нравилась, даже увлекала. Что-то, помнится, я даже стыдился этого увлечения работой, казалось мне, что своим увлечением я как-то оскорбляю более старших товарищей. В них я подмечал некоторое пренебрежение работой. Старался хотя бы внешне походить на них. Поэтому и от пьянок не отказывался, когда звали, хотя и шел на них с таким тяжелым чувством. Все боялся я своим отказом обидеть кого-нибудь — люди мне тогда все очень почему-то нравились. И всю-то жизнь я старался никого не обидеть, а получалось совсем не то всегда.
А пьянки следовали одна за другой! В первое время меня поражало: работать-то когда?! С аванса, с получки, с премии, со сдачи объекта, по случаю дня рождения, с праздников, с выговора или с награды, в субботу обязательно, в понедельник — тоже. Месяца через два-три обнаружил я, что если не каждый день, то через день уж точно — пьем! Отказаться как-то неудобно, скажут: «Молодой, загордился, выделиться хочет перед начальством!» Ну и идешь к столу, даже руки потираешь, как опытный пьяница. Идешь и думаешь: «Рюмку-другую, чтоб только не обидеть, — и в общежитие, почитать что-нибудь». В техникуме я очень любил читать. Всего Диккенса прочел и этого… как его, ну… Флобера. И наших, помнится, читал, Грина, например, или Чехова. Ан нет — одну, другую рюмку выпьешь, третью примешь, ну и — пошло-поехало! У кого-то обязательно деньги найдутся, кто — на машине куда-то смотается, и вот уж привезли — гуляй до утра! А утром на работу. Сидишь на разнарядке, носом клюешь. С похмелья не страдал, а вот спать хотелось…
Ну вот, с год-то так я еще держался, справлялся на два фронта. Денег, правда, уже не хватало. Да и каких тут денег хватит?! Вот и бегаешь в бухгалтерию за авансом, выдумываешь разные предлоги. Помню, шапку спрячешь за пазуху, а мороз! — зайдешь: так, мол, и так — холодно, шапку не мешало б приобрести, дайте полсотенки на шапку. Ну, посмеются в бухгалтерии, там в основном женщины были, да и дадут, выпишут. А Мишка-нормировщик уже шепчет: «Я сейчас, занимай столик». Этот Мишка приехал к нам откуда-то в командировку и все собирался назад уезжать, стул даже не брал, сидел на чемодане. Так года два или три и сидел на чемодане, спился совсем, сипеть стал и всем говорил, что он вот-вот уезжать должен, сколько ж можно на чемодане сидеть!
Ну что ж, дальше — больше, стал я уже фиктивные наряды подписывать: денег-то никак не хватало. Мастер у меня оказался пройдохой. Любой дефицит достанет, дай только наличными. Вот и пошли наряды, теперь деньги всегда были. Что-то доставали, что-то обмывали. Так и пошло и еще с год тянулось. Прогулы, естественно, пошли, выговора, строгие, простые и даже с последним предупреждением. Один объект комиссия вообще не приняла. Ну, потом, конечно, был вытрезвитель, товарищеский суд — перевели на три месяца в подсобники… Давай-ка, Иван Константинович, еще на одну ступенечку передвинемся повыше… вот так… вот так… сзади себя локотком обопремся и… фу-ты, пылища-то какая! — десять лет, поди, не мыли здесь… во-о-о… хо-ро… уф!.. у-у-уф… Да-а-а, а на чердаке сейчас благодать, солнце, наверное, бьет через все щели, опилки под ногами четкие, каждую опилочку видно, солнце их нагрело, пахнут вкусно! Голуби у слухового окна чистят перышки… А сердце как колотится. Да, Иван Константинович, никуда ты не годишься, теперь с неделю надо в себя приходить, вот так сразу не остановишься, тормоза теперь надо спускать постепенно. Если б возможности позволяли, по-хорошему, дня два надо бы теперь вино пить, потом дня два — пиво, потом уж день рассол, а потом уж — банька и чай, — вот как надо, если б всё по-хорошему-то! Но где там — в десять придут. Правда, до десяти еще время есть, вполне достаточно. Ну-с, перевели, значит, меня в рабочие, а я, представьте себе, даже обрадовался. Меня уж самого тяготила такая жизнь. Да и стыдно было, когда разбирали на товарищеском суде. Человек триста в зале, и все на тебя одного глядят! Работал я в бригаде каменщиков, мне там нравилось. Во-первых, не надо было ни о чем думать, во-вторых — клади себе кирпич потихоньку да клади. Первое время я, конечно, медленно работал, выложу ряда два-три и скорее отвесом проверяю — ровно ли. Ну а потом освоился и дело пошло. Через два месяца разряд повысили, да и сам я видел — действительно неплохо получается. Срок кончился, начальник вызвал, спрашивает:
— Ну как? Будем дальше работать или нет?
— А как же, — отвечаю, — будем, конечно.
— Пить будешь? — спрашивает.
— Нет, — говорю, — завязал.
А какое — нет! Друзья уже ждут за воротами, отметить такое дело. Так и дальше пошло. Поосторожнее просто стал, на глаза старался пьяным не попадаться. Но уже мнение обо мне было неважное. На другие участки переводили. Начальники часто вызывали. «Если б ты, — говорили мне, — не был бы молодым специалистом, давно бы выгнали тебя!»
Два с половиной года я так-то кое-как дотянул и поехал сразу на шесть месяцев в отпуск к матушке, в деревню. Дорога у меня оплаченная, денег — километр. Матушка очень обрадовалась, дня три гуляли по случаю моего появления. Потом уж и кончать надо, а я остановиться не могу. Неделю пью, вторую пью, друзья уже объявились, как тут остановишься. Посмотрела матушка на меня, посмотрела да и говорит: «Женить тебя надо, Ванька! Вот в чем дело. По твоим заработкам, по твоей непутевой жизни женить обязательно надо!» — «А что, — отвечаю, — я не прочь, да на ком?» — «А вот у Юзека, у свата, аж четыре дочки — выбирай любую!»
Встал я утром, голова болит, все на работе, делать нечего. А что, думаю, дай схожу к Юзеку, он мужик ничего. Взял бутылку, пошел. Короче, через неделю сыграли свадьбу со средней Юзековой дочкой, Валей. Она ничего была, даже вполне хорошая, хозяйственная, молодая, симпатичная и очень трудолюбивая. Да у них все трудолюбивые в семье были. И решил я на Дальний Восток не возвращаться. Теперь была семья, надо было начинать новую жизнь. А там ведь все смотрели на меня как на пьяницу, не хотел я туда везти Валю. Послал запрос в отдел кадров, документы прислали, и подались мы в Казахстан, в Караганду. Там у Юзека был какой-то дальний родственник в шахтстрое. Денег на дорогу взяли у того же Юзека, свои я уже все закончил. Ну ладно, устроились неплохо. Сначала комнату снимали у одного чуваша, их давным-давно туда выслали, они там прижились, сады развели, в общем, жили неплохо. Даже жаль было от них уезжать, когда квартиру дали. Так вот… Ну что — еще одну ступенечку одолеем? Или отдохнем? Да нет, потихоньку будем все же наверх пробираться, а то тут пыльно, полумрак, отсырелость какая-то, кошками воняет. Давай, Иван Константинович, давай, давай, дорогой. Вот так, вот так — чем выше, гляжу я, тем ты царапаешься лучше, вон уже и солнечное пятнышко видать. Ну так вот — в Караганде я первое время не пил. Пока то, пока се — пока устраивались, квартиру ждали, да и с Валей было интересно: с работы спешил домой. Ходил, помню, по квартире за ней как собачонок. Ощущал какую-то родственную душу. А потом, я ведь привязчив очень. Матушка говаривала частенько: «Ванька у меня ужас как привязчив, ласков, я, мол, девочку хотела, поэтому, наверное». Мне для Вали все время хотелось что-то хорошее сделать, благодарность какую-то я к ней чувствовал. Один раз ночью она встала, пошла зачем-то на кухню или в туалет, а я вскочил и встал за дверью, она назад возвращается в темную комнату, а я ее сзади — как схвачу! Да-а-а… Вообще-то мог ее так запросто заикой сделать… и как это я сразу-то не сообразил… Хочешь для человека что-то хорошее сделать, а получается черт знает что, чушь какая-то. И часто так на протяжении своей жизни огорчал я хороших людей, и не только Валю, но и других, Петра Семеновича, например, начальника участка. Но это в Хабаровске уже было, выручал меня сколько раз! А я его подвел. И ведь никогда я сознательно это не делал, на самом деле сам в себя верил, а вот что-то всегда вмешается — и обязательно сорвешься, все обещания к черту летят, и подводишь хорошего человека. Это особо огорчало меня всегда, у меня и сердце-то в основном не водкой, а этим испорчено, болело всегда за хороших людей, которым я столько неприятностей принес. И матушка б пожила б годок-другой, знаю, если б не мои чудачества. И братьям я был всегда помехой, один по военной части пошел, другой — по научной, я уж им стараюсь не мешать, можно сказать, последние годы из-за этого и хоронюсь. Хорошо — страна большая, места хватает. Но в первую очередь мне, конечно, Валю жалко! Сколько я ей зла принес все же…
Вначале-то мы с ней неплохо жили, прямо скажу — неплохо. Я все еще не пил вначале. Ну, под воскресенье там возьмешь, конечно, бутылку, из баньки там придешь, сядем вечерком и выпьем. Вернее, я ее, бутылку-то, за вечер сам и уговорю, потому что Валя могла выпить рюмку — не больше. В воскресенье пивца возьмешь, так и протянешь выходные. А вот в другие вечера скучновато было, поговорить-то нам не о чем было. Ей о моих делах скучно было слушать, а мне — о ее. О том, что купить она собирается в квартиру да как обставить ее, где детскую кроватку поставим, как ребенка назовем. Мне-то, помнится, было все равно, как назвать, а вот фигура у нее тогда здорово изменилась, пятна по лицу пошли. Да это все, конечно, ничего, а вот поговорить по вечерам действительно не о чем было. Я хотел, чтобы она хотя бы те книги прочитала, которые я сам прочел. Чтобы нам с ней было о чем разговаривать. Даже список этих книг составил: Диккенс, Грин, Чехов и другие. В библиотеку ее записал. Валя же мне нравилась, я с ней собирался всю жизнь прожить. Просто она немного отстала от меня, так как, кроме школы, нигде не училась, сразу в колхоз пошла работать. Ну, с книгами ничего не вышло. Она в Караганде устроилась работать на овощную базу, перебирать овощи. Приходила усталая, а я тут и ужин сготовлю, чтобы только она читала по списку. Но почему-то всегда у нее еще дела находились: то постирать, то в квартире убирать, то еще что, она ведь очень хозяйственная была, я уж говорил об этом. Вообще-то она и читала даже что-то, но уж очень медленно как-то развивалась в этом, не так быстро, как мне хотелось бы. Скучновато с ней было, особенно по вечерам. Слушаю, слушаю ее о том, что купим да куда поставим, да и скажу, бывало, как бы в раздумье: пройдусь-ка, мол, я, Валюха, перед сном воздухом подышу, не возражаешь? А сам — на вокзал, дом-то наш как раз рядом был, там буфет в ресторане, стакан пропустишь — и на боковую. Короче, стали потихоньку друзья появляться, вернее, собутыльники. И стали уже приходить с бутылкой. Курили, правда, на кухне. Вале ведь вреден был дым. Но вообще-то она всегда гостям была рада, она у меня гостеприимная была, что есть — все на стол. Да у них вся семья гостеприимная, н-да…
Н-да… что же там дальше-то было… да, я видел, что она им нравится, я же говорил, что она симпатичная. Особенно я увидел, что она Круглову нравится. Дружок там у меня появился такой, Круглов. Ну так вот, я когда их вдвоем оставлял, а сам в магазин за бутылкой бежал, боялся все, как бы между ними чего не произошло. Все время бегом бегал, чтобы побыстрее вернуться. А возвращаюсь назад, обязательно в окно загляну (у нас первый этаж был), как у них там: все ли в порядке. Потому что Круглов тот был не женат и бабник большой. Ну что ж потом было? Да, попивать стал, все больше с этим Кругловым. Но и с другими тоже. Добирался домой в час, а то и в два ночи. Но все это пока не отражалось на нашей жизни. Утром все вычищено, выглажено было у меня. Завтрак готов. Хоть и тяжело — иду на работу. Как-нибудь до обеда перебьешься, а в обед можно пива кружки две-три выпить и до вечера дотянуть. А вечером, когда деньги есть, в ресторане мы с Кругловым сидим, а если нет денег, то так — возьмем с Кругловым пару бутылок, едем к нему в общежитие. Летом одно время повадились, посидев пару часиков в кафе и выпив при этом, разумеется, изрядно, уходить не расплатившись. Каким-то образом сходило, не попались ни разу. А тут и Вале срок подошел в декрет идти, поехала рожать к себе в село, вернее, самолетом полетела. А телеграммы о том, что долетела благополучно, дня два-три почему-то не было. Мы с Кругловым ее отлет отметили, и тут меня в пьяном настроении, естественно, охватила мысль, что не долетела она, разбилась, — оттого и телеграммы нет. И она, думаю, разбилась, и не родившийся еще ребенок. Ребенка-то почему-то не было жаль, а вот Валю — до слез. Вот так и сидел я и жаловался на судьбу Круглову, а Круглов как мог успокаивал. Может, говорил он, еще и не совсем разбилась, может, как-нибудь все же долетели и телеграмма вскорости все объяснит, а? А я ему на это говорил, что, мол, нет — чего уж там, если б долетела, давно уж телеграмма была бы, третий день уже. И запили мы, так мне Валю жаль было, да и Круглову жаль ее тоже было, я сам слезы у него на глазах видел. И так, помнится, нам хорошо было горевать, что потом, когда пришла телеграмма о том, что Валя долетела благополучно, я вроде не очень и обрадовался, то есть остановиться было уже трудно. Так как-то закручинился, запил и уж не понимал, кого мне больше и жаль: себя ли, Валю ли…
В общем, с размахом стали пить после ее отъезда, да и скучно мне было без нее, я уж попривык к ней. И если теперь выпадал какой-то вечерок без выпивки, сразу так пусто, одиноко становилось: ни к чему душа не лежит. Слоняешься из угла в угол, ну а выпьешь, вроде и разойдешься, и опять все прекрасно. Тут меня обратно перевели в рабочие. Списал я, значит, материалов больше, чем надо, вот и перевели. Почти каждый месяц это делал, и ничего. На что-то пить каждый день надо. То ресторан, то кафе, то домой ко мне едем — почти каждый божий день… что-нибудь да сорганизуем. Как говорится, бьешься-бьешься, а к вечеру напьешься! Ну а тут влип. Бросили на низовку. Каменщиком я могу, теперь плитку научился класть. И начали мы потихоньку с Кругловым ходить халтурить, он по сантехнике немного волок. Хотя у него профессия была горного техника, пока не спился. И получалось, у нас каждый день калым — то десятка, а то и двадцатка. Я, например, так научился класть плитку на казеиновом клее — пальчики оближешь. Наперебой приглашали. Да вообще-то и правда — чисто у меня получалось. Если уж честно, мне своими руками что-то делать нравилось больше, чем распоряжения другим отдавать. Я, наверное, нечестолюбивый человек. Я люблю перед работой сесть посидеть, сигарету выкурить, прикинуть все: что и как, насчет предстоящей работы. Какая такая будет стенка, откуда плитку я буду класть, бордюрчик как пройдет, чтобы все, значит, красиво получилось. Чтобы мне самому нравилось — это для меня главное. Что там потом заплатят, угостят, покормят — это само собой, а главное, чтоб самому работа нравилась. Как приятно потом после хорошей работы помыть руки, вытереть чистым полотенцем, которое сама хозяйка тебе подаст, и не спеша пройти к столу. А там, скажем, борщец со сметаной дымится, я без первого, например, не могу. Ну и к борщу стоит все, что полагается. Хорошо это — с полстаканчика плеснуть в себя с устатку и хлебать борщ со свежим хлебом и чуять, как разливается тепло и сытость по всему телу — хорошо поработал! Жаль, что обычно на этом не кончается. Идешь, а в кармане у тебя десятка, а то и двадцатка. Настроение хорошее, сейчас бы в самый раз отдохнуть, да ведь деньги в кармане. Жгут! И ведь что самое интересное: обязательно кого-нибудь да встретишь! А если на улице не встретишь, зайди в шашлычную, там уж обязательно встретишь. Бутылка, другая… Ну и как домой добрался, утром, само собой, не помнишь, голова трещит, тошно, а на работу надо. Тут основное до работы добраться, встать, значит. А там-то, на свежем воздухе, конечно, разойдешься, кладешь стенку, кирпич мастерком подправляешь, раствор лишний убираешь, чтоб все было, как не может быть. В общем, когда работа есть — незаметно до обеда дотянешь, хуже, когда раствор не завезут или еще что. Тут и покуришь, и потреплешься: кто там вчера чего, кто как домой добирался, кого жена привела, кто сам шел на ушах. А время без работы все равно медленно идет, куришь-куришь, а все еще полдесятого только. Попробуй тут дотяни до обеда. Ну и начинаешь, конечно, соображать. «По рваному, что ли?» А желающие всегда найдутся. И уже кто-нибудь в магазин побежал. Вот так.
В общем, в марте Валя родила Олю. Мы с ней заранее договорились, если дочь, назвать в честь Валиной мамы — Ольги Матвеевны — тоже Олей. Ну вот, пришла телеграмма, а у меня, как назло, ни копейки! Чтоб хоть какой-то подарочек послать. Я ведь, если честно, за все декретные месяцы и послал-то ей рублей сорок всего. Да и то с квартальной премии. Как подумаю, бывало, так себя сволочью и обзову. Мы с Валей решили, пусть до осени они побудут в деревне, пусть дочь немного окрепнет. Ну, так и жили: они там, я тут — в Караганде. Я уже решил, как они приедут, все — завязывать. А пока скучал, конечно, и пил себе по-прежнему, а на других женщин я и не смотрел даже: они меня не очень интересовали. Как взгляну, так Валю свою вспомню, и всегда сравнение в ее пользу. Она у меня была такая аккуратная, роста среднего, фигура хорошая, все хорошее, и лицо свежее, и еще глаза — темные, сверкающие, настоящие украинские. А если солнце в них попадет, то начинали они как янтарь плавиться. Как вспомню, так обязательно подумаю, что завязывать надо с пьянкой. Я и не вспоминал, что по вечерам бывало раньше скучновато. Так ждал ее приезда. Ну а пьянки, само собой, конечно, шли. Я им особенно значения не придавал, так уж твердо решил с ними кончать. В разлуке, на расстоянии казалась мне все больше Валя дорогим подарком судьбы.
Так, значит… Лето пришло, они еще не приехали — фрукты самые, овощи пошли, жаль было действительно из деревни в такое время уезжать. Написали, что побудут до осени. Я-то, конечно, скучал, но согласился, что так будет лучше. В общем, почти год без жены прожил. Было нелегко год прожить. Но из трехсот шестидесяти дней триста уж наверняка я засыпал, отключившись по причине принятия полной нормы. А норма в то время, не то что сейчас, была у меня тысяча двести граммов водки. Я то есть что хочу сказать, что, по существу-то, за этот год не так уж много было вечеров, когда я уж слишком тосковал по ней. В общем, жил неплохо, меня уже перевели из рабочих в мастера. Да-а… А тут и осень подошла. Тут можно бы им и приехать уже ко мне. Но у меня в ноябре отпуск подходил. И я решил, что приеду к ним на Октябрьские праздники в отпуск. Она мне еще писала, чтобы я хотя бы в селе у них появился с поезда трезвый, потом, мол, пей — сколько хочешь, но «только трезвый приедь». Да мне и самому хотелось доехать трезвому, появиться перед ними в человеческом виде. Тем более что в дальнейшем я твердо решил, что если совсем сразу и не брошу, то, по крайней мере, выпивать по праздникам лишь буду и по дням рождения. Лучше б, конечно, бросить совсем, опять легкой атлетикой заняться. Ну да ладно — получил я отпускные за два года, премию, зарплату — всё как не может быть, — что-то около тысячи набралось. Купил всем подарки. Матери — отрез на платье, теще — кофту вязаную, тестю — кожаную кепку, а Вале — платок настоящий оренбургский. Дочке — игрушек разных. И бегом, чтоб ни с кем не встречаться, прямо на вокзал. Бутылку я с собой взял. Бутылку взял. Сяду, думаю, в поезд, вся суматоха позади, и тут поем я и с устатку выпью стакан, не больше, и на боковую. А утром опять поем и выпью — так и доеду. Ан нет! Свинья, как говорится, всегда грязи найдет. Стакан я выпил — это правда. А потом думаю: «Что же делать?» Попутчики какие-то неинтересные, всё бабки с мешками. На полку вроде рановато. В окно глядеть? Чего она будет стоять до утра, взял и допил. А как допил, в вагон-ресторан, само собой, подался. Ну а уж дальше что было — четко и не помню. Проводников поил всю дорогу, официанток. Подарки купленные раздарил налево и направо. Одним словом, когда поезд на нашей станции остановился, проводники, спасибо им, вынесли меня, и на перрон положили, и чемодан рядом поставили. Спасибо им. Поезд у нас на минуту останавливается, свистнул и ушел, а я лежу на перроне, встать не могу, но все вижу, все понимаю. Юзек стоит, вижу, Ольга Матвеевна, матушка — ну, одним словом, все родичи, а впереди Валя с дочкой на руках. Все смотрят, а у Вали прямо слезы на глазах. Тут я себе самое страшное слово дал: «Больше в рот — ни капли!» Ну, слово давать, сами понимаете, легче, чем выполнять. После отпуска вернулись мы в Караганду, и все пошло по-старому. Дочь мы, правда, не взяли. Ольга Матвеевна уговорила нас ее оставить. Сказала, воздух у вас в Караганде плохой. Дочь немного прихварывала. А может, возьми мы дочь, все по-другому у нас бы сложилось? Кто знает. Хотя я думаю сейчас, нет. Я ведь человек нечестолюбивый, нет у меня стремления чего-то добиваться, как другие: работать, квартиру обставлять, вещи покупать, на черный день что-то припрятывать. Нет во мне ничего этого. Меня все больше к людям тянет, я компании люблю, люблю других слушать, когда они про свою жизнь рассказывают. Нравится, когда что-то похожее на мою жизнь в этих рассказах обнаруживается. Люблю, когда совсем незнакомый человек сырком с тобой поделится, разговоришься с ним. Теплота общения между людьми мне важнее всего. Только, к сожалению, без водки это невозможно, ну никак не получается насухую. В общем, не знаю — привези мы дочь, может, само собой отошел бы я от пьянок, от друзей. Чего сейчас гадать. А так приехали мы одни, и скоро мне опять по вечерам скучновато стало с Валей. О чем говорить? О тряпках, обоях, картошке на зиму — сколько ж можно?! И я говорил, берясь за шапку: «Пройтись, что ли, перед сном?» А Валя уже кричала: «Опять припрешься на карачках!» Еще кричала: «Смотри — не пущу, так и знай!»
В общем, все пошло по-старому. И еще года два так жили. То ругались, когда я добирался до дому или не добирался — ночевал у Круглова в общежитии. То мирились, и она меня отмывала, отчищала, утром к завтраку будила. Я ее ведь жалел всегда, всегда из ресторана что-нибудь да везу ей, помню, то цыпленка табака, то антрекот какой-нибудь заверну в газетку. Шляпу, бывало, потеряю, руки все в кровь собью, а цыпленка табака довезу. Раздумаешься о ней, и так, бывало, жаль ее, бедную, — ну до слез. Ну и возьмешь ей что-нибудь, в салфетку завернешь. Это ее всегда трогало, вернее, она от этого быстрее отходила, переставала ругаться и начинала меня в порядок приводить, воды там ночью подаст или еще что.
Но потом мне все тяжелее становилось отходить от пьянок. Возраст уже к тридцати приближался, давал знать. И вот однажды мы с Кругловым (похмелиться было не на что) взяли зимнее мое пальто и поехали на толкучку. Пальто было совсем новое, в магазине стоило сто восемьдесят рублей. Воротник — серый каракуль. Нравилось мне пальто. И Вале нравилось. Мне еще и потому не хотелось его продавать, что оно ей нравилось. Но ведь делать-то было нечего, трясло нас с похмелья так сильно, что надо было ехать на толкучку. Завернули мы тогда пальто мое в газету и поехали. На толкучке Круглов, накинув пальто на себя поверх плаща, так как дело весной было, пошел, а я в сторонке стоял. Решили за него рублей сто взять, все ж оно сто восемьдесят стоило. Но никто почему-то больше двадцати пяти рублей за него нам не давал. Потом один мужик хотел дать сороковку, но мы ему чем-то показались подозрительными, потребовал паспорт показать. Не ехать же обратно за паспортом через весь город, да и выпить хотелось поскорее, во рту все пересохло! Так за двадцать пять и отдали и в тот же вечер и пропили. Потом костюм ушел таким же макаром. Меня ведь к тому времени уже выгнали из шахтстроя, так что денег совсем не было. В общем, когда однажды Валя заглянула в шкаф, она так и ахнула. Ведь я уже и за ее вещички принялся. Конечно же был большой скандал, конечно ж Круглова — на порог ни ногой! А мне — кончать раз и навсегда. Вот на каких условиях помирились мы. А меня она заперла и с моими документами поехала куда-то на работу меня устраивать. И устроила! Вот жена!! Работа была разъездная и сначала мне даже нравилась. Я по месяцу не бывал в Караганде, дружков прежних по месяцу не видел. И в командировках в первое время не пил вовсе. Как-то люди всё новые вокруг, да и на колесах — мы ж с холодильниками по всей стране разъезжали. Ну а потом, естественно, как-то освоился на новом месте, что-то раз обмыли, другой… ну и пошло. И пошло, пошло… да еще как пошло-то! На колесах — оно еще и лучше. Там, в этих холодильниках, такие комбинаторы оказались — всему в два счета научили: где что взять подешевле, где продать подороже. В общем, деньги всегда были. И ведь что главное — все равно не хватало! Я, помню, заявление написал, чтобы зарплату жене переводили, а мне бы одни командировочные давали, так ведь все равно не помогло — пил в долг, а когда возвращался, все равно приходилось отдавать. Ну что сказать, еще год так-то, наверное, прошел, и Валя ушла от меня. К другому. Вот так…
А вообще-то, наверное, правильно сделала, что же жизнь свою калечить, она же еще молодая была. И все-таки трудно мне было это перенести. Я ее любил. Я как раз ехал из Петрозаводска. Недели три ее не видел, соскучился, даже букет на вокзале подвернулся — купил. Взбежал одним махом три ступенечки — у нас же первый этаж — и я в квартире, а там записка: так, мол, и так — нам надо расстаться, я так больше не могу, уезжаю с одним хорошим человеком в Пермь. Если будешь высылать на воспитание дочери — хорошо, а если нет — то и так не пропадем, обойдемся. Меня все это так ошеломило. До этого у нас и разговора не было о том, чтобы разойтись из-за моих пьянок. И вот на тебе! Я даже думаю, поставь она вопрос ребром, я бы, может быть, действительно бросил пить. Потому что, повторяю, любил ее очень. А «Пермь» — слово потом с год не мог слышать. Как услышу, так все во мне и оборвется. Хотя она в Перми той немного нажила. Через некоторое время, узнал я, вернулась к матери в деревню одна. Даже письмо мне потом присылала: давай, мол, опять сойдемся, чего меж своими не бывает, дочь ведь у нас как-никак. Но только я к этому времени уже перегорел. Напиши она мне такое письмо не через год, а через месяц, я бы ей все простил. А через год — не-е, не мог. Я ее любил. Я даже целый год в кино не ходил, чтобы случайно не увидеть там историю, похожую на нашу. Вот до чего уж дошло. До того я это все ярко себе представлять начал, как у нее, у моей жены, значит, теперь все с этим другим происходит, что говорят они друг другу при этом, ну, в общем, все как представишь, как схватишься за голову — ой-е-ей! — как огнем охваченная голова становится. И если срочно не напиться до бессознательности — не знаю, что б и было тогда. Вот тут-то я уж стал пить по-настоящему, до этого цветочки были, а теперь ягодки. Квартиру сменил, не мог в той. В другой дом перебрался, на пятый этаж. Друзья у меня теперь завелись самые разнообразные, но, конечно, все — «выпить не любят». И пропил я с ними все, что мог. В квартире один спальный мешок остался да раскладушка. Да на балконе в ящике вместо цветов лук рос, так что закусить всегда было чем. Ключ от квартиры теперь всегда перед дверью под ковриком лежал. Чтобы всегда ко мне войти можно было. Ну и шли. И Круглов, и другие, и те, кого вообще в первый раз видел. Проснешься, а в комнате неизвестные лица, черт знает откуда, как, чего? А-а-а, думаешь, ладно, главное ведь — выпить, а уж потом разберемся — что и к чему. Некоторые с женщинами приходили, кто на час-другой, а кто и на ночь. Иногда приду, а у меня изнутри закрыто, стучусь — не пускают. Это в собственную-то квартиру! Так я как в таких случаях приспособился — вылезу на крышу, повисну на карнизе и прыгаю к себе на балкон. Карниз — беда — далеко выступал, можно было запросто промахнуться. Ну, пьяный, пьяный, а соображаешь и начнешь раскачиваться туда-сюда, и — гопля-ля, да и угадаешь к себе на балкон. В общем, я ни разу не промахнулся. Ну а на балконе у меня спальник был, заберешься в него, даже в комнату не выходя, и — гуд бай… Вот так… да… ну что ж… Да, а меня уже выгнали из ремконторы, я после холодильников туда устроился, но проработал немного, месяца полтора-два. Запил по-черному, когда Валя меня покинула. Уже стал и одеколончик пробовать, но по-настоящему еще не втянулся. Все ж не совсем я еще опустился, подрабатывал изредка на разгрузке вагонов, станция-то рядом. Иногда я запирался, никого к себе не пускал. Когда были деньги, покупал несколько бутылок водки и запирался.
Я одну бутылку обязательно привязывал на веревку и спускал со своего балкона вниз на соседний подо мною. Когда водка кончалась, я всегда мог вытянуть свой энзэ за веревочку и с удовольствием выпить. Там подо мною жила одна молодая женщина, так что я был спокоен — бутылка будет в сохранности, как найденная. Звали ее Тамара Гезий. Были у нее правильные черты лица, Софи Лорен напоминала. Были большие зеленые глаза. Был у нее всегда очень острый гастрит — она только молоко пила. И к ней ходил очень хороший непьющий парень — Володя Кондаков. Они должны были вот-вот пожениться. Так что за свою бутылку я вдвойне был спокоен. Да, а еще эта Гезий любила классическую музыку. И вот они ее часами слушали с Володей Кондаковым. А я пьяный лежу обычно на балконе, на звезды гляжу и слушаю тоже. У меня с этой Гезий что-то вроде дружбы со временем появилось. Вова Кондаков ничего не имел против, он вообще был очень положительный парень, я радовался за них. Не курил, не пил, всегда рубль займет, если пропадаешь. Ну так вот — я даже разработал целую сигнализацию стуков по батарее парового отопления. «Здравствуй!» — «Как дела?» — «Хлеб есть?» — и так далее. «Поставь какую-нибудь пластинку», — было. «Спокойной ночи», — было. В общем, целый разговор можно было вести. Наше перестукивание всегда очень удивляло моих собутыльников. Они прямо-таки приходили в изумление. Тем более их поражала сама Гезий, когда я придумывал какой-нибудь повод, чтоб показалась она сама…
Э-э-э… что-то засиделся ты, Иван Константинович, пора, брат, пора на следующую ступенечку, да и знобко здесь, в полумраке. Давай, давай, вот так… за перильце, за перильце… не сгнило?.. вот… в-вот… гвоздь… вот так… хорошо… фу-у-у… хорошо-с… теперь уж недалеко, уже побольше солнечного чердака видно над головою, отсюда вид как из колодца — темно, холодно, а там-то сейчас как хорошо, поди… крыша наверняка прогрелась…
Да-а… так что ж дальше-то? А дальше стал я уже допиваться до чертиков. Уже стала мерещиться, преимущественно по углам, всякая чертовщина. С криком вскакивал и уже опять закрыть глаза боялся. Только закроешь, начинает вылезать из углов всякая нечисть, всего тебя опутывает волосатая какая-нибудь мерзость, ну — не приведи господи! Стал я тогда так рассчитывать, чтоб напиваться до отключения, да так, чтоб еще и на утро граммов сто пятьдесят осталось. То есть две бутылки запасал на вечер, теперь меня уж граммов восемьсот мертвым укладывало, уже здоровье не то было. На вагонах я познакомился с Виктором, он лет на пять был меня постарше, он был слесарем-инструментальщиком… естественно, пока не спился окончательно. Жил он на квартире у одной пьяницы-старухи. Вернее, она не то чтобы совсем была старуха, а лет сорока, может, с небольшим. Но стра-ашная была на вид от постоянного пьянства. Жила она на краю города, в «Шанхае», сплошь состоявшем из сараев и развалюх. Был этот Виктор какой-то весь несвежий, затхлый, и развалюха, в которой он жил с хозяйкой, была такая же темная, сырая, заплесневелая, дыры заткнуты тряпьем, ящиками, картонками какими-то. А самое отвратительное, что он еще и спал с этой полусгнившей бабкой-пьяницей. От всего там исходил дух такой несвежий, что полчаса побудешь там и полуотравленный выходишь. И вот потихоньку стал я в себе обнаруживать такой же дух. И стало нравиться мне у Виктора, уютно даже у них показалось. Место, которое мне отвели там за печкой на трех или четырех ящиках, прикрытых замусоленной телогрейкой, со временем стало мне даже нравиться. Хорошо было зимой забираться туда пьяному. От порывов ветра, снега вся развалюха ходила ходуном — скрипит, стонет, а мне так хорошо за печкой, тепло, уютно — никто никогда меня здесь не найдет. Да и кому искать-то меня? Я даже писем ни от кого не получал. Ту зиму я совсем не работал. В свою квартиру на пятый этаж боялся и возвращаться, так как за несколько месяцев ничего не платил. Воровали мы с Виктором уголь на товарной станции, тем и топились, и кормились, а главное — поились. Потом однажды Виктор сказал, что приходил участковый, забрал документы, кончилась их вольная жизнь, оформляют их обоих в ЛТП. Пришлось мне их покинуть. С сожалением покидал. Какие бывали там уютные вечера! Как выползали из всех щелей такие же замшелые, как и мы. И садились все играть в лото на три карты. По пятачку с карты. Тесно сидим друг к другу, ходики тикают, свет слабый, глаза у всех слезятся, голоса сиплые, а всем хорошо — за стеной ветер, темень, снег. Ну так вот — ушел, а куда идти, не знаю. Забрел в парк. Там зимой пусто, хорошо. Только гляжу — в озере, в проруби люди шевелятся, моржи. Тут и меня как осенило: или — или. Или я стану моржом и начну новую жизнь, или все — конец мне. Когда они ушли, я подошел, разделся и полез в черную зимнюю воду. Обожгло, и сердце чуть не выскочило, было такое ощущение, что руки-ноги у меня отнялись, но я кое-как вылез, надел что попало на мокрое тело и бегом побежал в свою квартиру. Там залез поскорее в ванну, нашел мочалку, кусок мыла и давай оттираться, отдраиваться! На другой день я был у проруби уже с полотенцем, как настоящий «морж». А через три дня уже работал подсобником, потом каменщиком, потом мастером с двухнедельным испытательным сроком. Купался каждый день, вернее — окунался. Я уже не боялся настоящих «моржей», которые сидели в проруби по пять, по десять минут. Они же, узнав, что я до этого вообще не купался, а сразу начал, без всякой подготовки, очень удивились. Оказывается, для этого существует целая система подготовки. Я не пил уже, пить нельзя, так как я «морж», — это объяснил врач, который вел за нами наблюдения, даже писал кандидатскую диссертацию. Человек, оказывается, в состоянии опьянения переоценивает свои силы и может в проруби находиться гораздо дольше, чем разрешает его здоровье, отсюда простуды, отсюда болезни. У меня было теперь оправдание — не пить, я был так доволен! Так теперь я и говорил всем, рад бы, да нельзя, «моржам» ведь нельзя. И лыжи я достал из кладовки. Теперь до работы часиков в шесть сбегаешь на лыжах до проруби, окунешься, разотрешься и домой — готовишь завтрак: мясо там жареное, яйца и кофе черный. И на работу. Весной перевели в прорабы меня. Друзья не узнавали, я сам не узнавал себя. Пришли как-то Виктор с хозяйкой — оформление затягивалось, и они все еще сидели и ждали в своей развалюхе. Принесли бутылку. Я их встретил хорошо. Нажарил мяса, глазунью сделал, свежим луком посыпал. Они все ходили по квартире, и им, я видел, было неуютно от чистоты, свежести, солнечности. У меня была солнечная сторона. На хозяйке была вытертая до кожи шубейка и муфта, изъеденная молью, она все куталась в нее, так неуютно ей было. Глаза слезились, моргает от большого света, она вытирала их и ахала оттого, что у меня такая хорошая, светлая квартира. А на Викторе была пожелтевшая в сундуке рубаха с потеками. Больше они у меня не были. Стали у меня денежки заводиться, стал покупать кое-что я. Книги, магнитофон «Астра-2». Соседи приходили, просили иногда на вечер по случаю каких-нибудь празднеств. Компании исчезли. Вернее, они еще наезжали по инерции изредка, я встречал хлебом-солью, только сам не мог — «морж». И так мне моя новая жизнь нравилась! Я Гезий уговаривал начать купаться, она обещала подумать. Вова Кондаков к ней по-прежнему ходил, они все еще не поженились. Она была красивая, глаза удлиненные, зеленые, но с какой-то сумрачностью, с какой-то злостью — гастрит ей не давал покоя, все время обострения были, наверное, поэтому. Хотя в разговоре я ни разу не видел, чтобы она раздражалась.
Так вот, возвращаюсь однажды с лыжной прогулки вечером, а в подъезде знакомый парень из соседнего подъезда, как звать, позабыл, а вот жену его — армянку — помню, фамилия Марказьян, двое детей у них было, но все это неважно, а рядом с ним стоит невысокая девушка в богатой норковой шубе. И вся искрится — шуба, черные волосы, глаза, снег летит, фонарь сияет. В общем, они меня поджидают, чтоб попросить магнитофон, у них какое-то застолье организуется. Ну, поднялись они ко мне, он меня познакомил с этой самой Галочкой. Она работала зав детским садом. Она в этой шубке под падающим снегом показалась мне довольно симпатичной. Лицо смуглое, волосы черные как смоль, а глаза ярко-синие. Правда, маленькие такие глаза, зато нос прямой, настоящий греческий. Отец ее и правда был грек, как я потом узнал, а мать русская. Ну, взяли они магнитофон, меня приглашают посидеть у них, все ведь знали, что я не пью, но просто посидеть всегда звали. И Галочка эта тоже приглашала, голос у нее оказался со струной, красиво вибрировал. Я взял и пошел. Они пили, ели, веселились, меня угощали свежими огурчиками. Это Галочка, оказывается, их где-то достала у себя в детском саду. Так вот мы с ней и познакомились, и начался совершенно новый период в моей жизни…
* * *
Старший из трех братьев — Петр Константинович — тяготиться жизнью не мог да и не хотел по причине, о которой речь будет ниже, но и он этот день провел странно. Порою удивляясь этой самой странности и в то же время с необыкновенной яростью отстаивая ее.
Где-то ко второй половине жизни человек, оглядываясь, видит ее не целиком, а как бы кусками. Один поярче, другой потускнее, потяжелее один, а третий — так себе. И выстраивается это все перед мысленным взором оглянувшегося, приклеивается одно к другому как попало, сооружается в нечто странное, громоздкое, тяжеловатое — тем более если и во второй половине ты пожил-таки изрядно. Что посветлее, поярче — само собой наверху окажется при этом. Все самое основательное, как фундамент, — внизу, естественно. А то, от чего и сам захотел отречься, на задки сдвинешь, чтоб лишний раз глаза не мозолило — дело ведь к крыше идет. Ну а крыша у всех более или менее похожая — над ней уже чистое небо. На чердаке голуби воркуют.
Петр Константинович, расписавшись с Ниночкой в столь почтенном возрасте, о крыше, правда, еще не думал. Дети, внуки, родственники морщились. «Второй этаж старик возводит!» — острили. Петр Константинович не ввязывался. «Ну их — нервы надо беречь». Насчет второго этажа он не думал. Как и о крыше. После Елизаветы Викторовны, с которой прожил почти сорок лет, какой уж там второй этаж! Так, балкончик, погреться, свежим утренним воздухом подышать, выйти поутру — нектар вдохнуть. Машину он все же решил переписать на Ниночку, как и договорились, а с дачей — вернее, со второй половиной ее, лично принадлежавшей Петру Константиновичу, с дачей он решил повременить. Была, правда, договоренность и относительно дачи, но теперь можно было не спешить, поскольку уж все равно расписались. Ниночка, правда, хотела переписать все до загса, но тут уж Петр Константинович проявил изворотливость и уговорил. Так что теперь можно было переписать одну лишь машину, хватит.
После прошлой ночи была небольшая одышка, и, едва войдя в кабинет, Петр Константинович включил вентилятор, сел и развернул утренние газеты. В отделе, которым он руководил почти двадцать лет, знали его привычку читать по утрам газеты, и до десяти никто не решался его беспокоить. Просматривая рассеянно газеты, Петр Константинович прислушивался к собственному дыханию, которое ему — увы — совсем не нравилось. Привычно ловил он разговоры за тонкой стенкой, отделяющей кабинет от общей комнаты отдела. Раза два-три бросил искоса взгляд на бумаги, которыми завален стол. Стал передвигать их, перебрасывать, небрежно глянув слева направо, сортируя на первоочередные и на то, что может подождать. Одну из бумаг, с пометкой «Срочно», вздохнув, стал листать, хотя содержание ее хорошо было известно Петру Константиновичу. Группа молодых геологов во главе с доктором наук Каримовым на Южном Урале, в районе деревни Искрянка предлагает создать геологический полигон с целью экспериментального подтверждения огромного горизонтального надвига, который, судя по заключению этой группы, продолжает и сейчас надвигаться с востока на запад на более молодые породы. Предлагают для доказательства использовать лазер. Куратор Уральского научного центра Коротков Виктор Степанович просил срочно дать отзыв на это письмо. Петр Константинович знает, что отзыв Короткову нужен отрицательный, он же фиксист и не признает горизонтальных надвигов. Дать нужный отзыв Петру Константиновичу труда не составит. А вот чего он тянет вторую неделю — загадка. Сам для себя Петр Константинович объясняет это тем, что в последнее время с Ниночкой закрутился, делами почти не занимается. Но отзыв писать все равно надо. Дело тут ясное. Отечественная геология стоит в основном на фиксистских позициях, то есть мобилистскую идею о горизонтальных надвигах не признает. Одним словом, спор тридцатых годов между фиксистами и мобилистами закончен в пользу фиксистов… или еще не закончен? Вот ведь группа Каримова предлагает для решения его использовать лазер, современные технические достижения… А собственно, зачем лазер, зачем современные технические достижения… Петр Константинович с непонятным выражением на лице — какая-то сложная смесь снисходительности, спеси, самоиронии, тяжеловато, с одышкой поднимается, идет к шкафу, забитому геологической литературой, и отыскивает на своей полке одну из самых ранних своих работ «Тектоника Урала», год издания 1941-й. Постукивая голубеньким мягким переплетом, возвращается к столу, раскрывает предисловие:
«…естественно, после комиссии под руководством академика Заварицкого вопрос об уральских надвигах, как типичной форме, окончательно и бесповоротно отпал…»
Может, именно это введение и спасло его тогда, в тридцатые, когда спор между мобилистами и фиксистами из научного перерос в политический. Над мобилистами зло смеялись в прессе, травили, навешивали ярлыки. На беду, мобилисты слово «надвиг» часто заменяли французским «шарьяж», что, собственно, одно и то же. Так вот за этот шарьяж их обвинили в преклонении перед заграницей. Собственно, то, что произошло в сороковые в биологии, в геологии началось уже в тридцатые. Часть мобилистов была репрессирована, другая поспешила отказаться от слишком подвижной земной коры. Старший друг и учитель Петра Константиновича Фредерикс Георгий Николаевич был арестован одним из первых.
Да, Петр Константинович был тогда молод и горяч, он с жаром отстаивал перед высокой комиссией, приехавшей на Урал, свои мобилистские позиции. Нет-нет, он не сразу отказался от идей мобилизма. Даже в этой книжечке с выцветшей обложкой, что лежит сейчас перед ним, одно лишь предисловие продиктовано тогдашним страхом, охватившим вдруг всех в связи с арестами. В самой же работе, если ее начать читать, с десяток блестящих описаний этих самых надвигов, от которых он отказывается в предисловии. Вот она, трагедия и комедия жизни! Горько покачивает он головою, протирает клетчатым платком запотевшие очки. Что же спасло его тогда? Ведь он так спорил с комиссией, убеждая в «поле», показывал эти самые надвиги… которые сейчас и пытается возродить группа Каримова… Вероятнее всего, спасло конечно же не это глуповатое предисловие, а рабоче-крестьянское происхождение. А вот его учитель — первооткрыватель уральских надвигов — оказался сыном обрусевшего немецкого барона. И что из того, что его отец был комендантом Зимнего дворца? — канул в Лету Георгий Николаевич Фредерикс, как будто и не было никогда человека. Уже потом, во время хрущевской оттепели, Петр Константинович пытался разыскать хоть какие-нибудь следы. Писал в Ленинград в Горный институт, где работал Фредерикс. Из отдела кадров пришла официальная бумага, что дело бывшего профессора Горного института из архивов изъято. Ездил сам в Ленинград, пытался разыскать родственников учителя. Увы, никого в живых у Фредерикса не осталось. Петр Константинович уже хотел было поставить точку на этом деле. Но на одном из совещаний в Свердловске он встретился с геологом — корейцем Дзю, который отбывал в начале сороковых срок в Воркуте. Срок был не очень большим и скорее всего профилактическим по причине такой странной фамилии — Дзю. Ну что это за фамилия — Дзю! Давай-ка, братец, посиди на всякий случай! Так вот этот самый Дзю уже после срока, восстановленный во всех правах, и вспомнил в случайном разговоре, как перегоняли их из одного лагеря в другой. И в конце колонны плелся, все больше отставая, один старичок. И вот, окончательно выбившись из сил, назвал себя не то Фредериксом, не то Фердериксом — в общем, что-то похожее. Но самое главное, он, как и Дзю, оказался геологом. То, что старичок был геологом, Дзю запомнил крепко. Старичок сказал ему, что он тоже всю жизнь был геологом, как и Дзю. «И неплохим!» — разговор заканчивая, добавил этот Дзю-кореец и вдруг, передернувшись лицом, без голоса и слуха, словно бы про себя, запел, всем телом раскачиваясь:
Из Колымского белого ада Шли мы в зону в морозном дыму, Мой товарищ упал, спотыкнувшись, Я из строя рванулся к нему. «Стой! Стреляю!» — воскликнул конвойный. Злобный пес разорвал мне бушлат. «Дорогие начальнички — будьте спокойны, Я уже возвращаюсь назад…»А еще, перед тем как совсем уж попрощаться, старичок добавил, что его отец лично знал Ленина. Ну а потом, перекрестившись, вышел из колонны, сел на придорожный камень и ото всех отвернулся. И пока Дзю оглядывался до самого поворота, он видел, как снег косо летит, как скорченная фигурка неподвижно сидит на камне. А потом, когда колонна отошла дальше, позади раздался выстрел, и человек исчез, как будто его никогда и не было на свете…
Петр Константинович ежится, вспоминая все это, вспоминает, как по молодости лет он горячо отстаивал перед высокой комиссией такие очевидные для него тогда уральские надвиги. Трудно сказать, действительно ли он тогда не убедил комиссию или она их просто-напросто не захотела увидеть?.. Петр Константинович опять идет к шкафу, берет труды Заварицкого и, полистав, на странице 57-й находит то место, где академик пишет, что во всех предшествующих работах, где описываются надвиги, «отсутствуют доказательства, основанные на объективных фактах». Иными словами, подводит Петр Константинович черту, основным научным аргументом фиксистов тогда, да и сейчас, было то, что механизм надвигов нельзя наблюдать воочию… Ну а эта энергичная группа Каримова и предлагает с помощью лазера провести подобные наблюдения в «поле» и поставить наконец-то все на свое место.
Собственно, лично для Петра Константиновича и без лазера все ясно. Он и сам лет двадцать тому назад при хрущевской оттепели взялся было возрождать мобилистские надвиги, возрождать дело своего учителя, безвинно погибшего. Но оттепель быстро пошла на убыль, сам Хрущев стал праветь на глазах, и в вузах даже не успели исправить учебники — фиксизм, чуть поколебавшись, опять вернулся в нашу геологию.
Потом, когда на смену Хрущеву пришел боевой генерал Брежнев и многие опять связывали с ним всяческое оживление, возрождение, изменение, Петр Константинович уже не связывал… и оказался прав. Более спокойная земная кора, которую проповедует фиксизм, обещает и более спокойную жизнь. Надо хотя бы к старости мудрым становиться. Да и у этих, из группы Каримова, с годами все, конечно, пройдет. Ну а пока они взывают о необходимости внедрения мобилистских идей, говорят, что во всем мире мобилизм набирает силу, одна наша геология застряла на фиксистских позициях, авторитет ее от этого падает. Может быть, все это и так. Но ведь пока я начальник, ты — дырка! А ты начальник, я — дурак! Кто такой в принципе-то этот Каримов? — доктор наук. А кто такой Коротков? — членкор! И кто такой, в сущности, Петр Константинович? Тоже всего лишь доктор наук. А за спиной у Короткова? За спиной у него сам академик Толстолобиков! Так что нет, пока «ты — начальник, я — дурак!». И так будет всегда. Он грузно поднялся, отметив, что, несмотря на вентилятор, одышка никак не проходит.
Ночью Ниночка воскликнула даже: «Ого!» Но вот теперь одышка. «Надо опять начать ходить на теннисный корт», — думает Петр Константинович, а то с событиями последних двух месяцев, когда все с Ниночкой решалось, забросил Петр Константинович теннис. Рабочий день давно начался. Петр Константинович листал отчеты, кого-то слушал по телефону, сам кому-то звонил. Пора было начать писать отзыв…
* * *
А Ниночка еще валялась на широкой постели. Зевала, в одном углу полежит, в другой перекатится. Собственно, это были две спаренные кровати из немецкого гарнитура «Хельга». Так широка была эта кровать — что вдоль, что поперек — почти квадратная. Например, в девятиметровую комнату одноэтажного барака, где прожила Ниночка восемнадцать лет вместе с мамой и младшим братишкой Сашей, эта «Хельга» вообще не поместилась бы, и Ниночка легко вздохнула. Вздох был юный, легкий, как утренний ветерок из сада, надувавший упруго тюль на окнах спальни. Нежные запахи цветов проникали из сада в ее спальню, Ниночка, потягиваясь, разглядывала свои ноги, далеко вылезшие из нежно ощущаемой шелковой рубашки из Китая. Пройдясь взглядом по ногам, она остановилась на ногте большого пальца левой ноги и пошевелила немного им. Тут же ей вспомнилась челюсть Петра Константиновича в стакане с водой между стеной и кроватью — туда он прячет на ночь челюсть. Ниночка вскочила, побежала в ванную комнату, сбросила шелковую рубашку, включила сильно душ и долго поливала себя. Потом растерлась полотенцем, надела эластичный купальник и направилась было на пруд, который располагался в самом конце сада. Но, услышав голоса, звон ведра, велосипедный звонок и многие прочие звуки давно проснувшейся второй половины дачи, населенной плотно детьми, внуками и правнуками Петра Константиновича, Ниночка, поколебавшись, все же набросила халатик. Попав из спальни сперва в библиотеку, она обнаружила там тетю Дусю — какую-то дальнюю родственницу, которая после смерти Елизаветы Викторовны живет в качестве домработницы внизу, в комнатенке рядом с гаражом.
— Тетя Дуся! — воскликнула Ниночка. — Доброе утро! Где-то здесь мне Петр Константинович оставил книжку.
— Не знаю я ничего, — отвечала тетя Дуся, отворачиваясь к стене, скрывая тон своих слов в энергичности, с которой принялась протирать стекло.
— Да вот же она, — засмеялась Ниночка, увидев зеленый томик, положенный отдельно на тумбочку. — Фет.
— Не знаю, — отвечала тетя Дуся не поворачиваясь, — ничего я тут толком не знаю.
Ниночка, глядя ей в спину, пожала плечами и несколько раз привстала на носки, разводя руки в стороны. В одной была книга, в другой полотенце. Легкая поза эта с предметами в руках показалась чем-то интересной, и Ниночка еще разок, глядя как в зеркало в спину тети Дуси, повторила изящный взлет над полом с книгой и полотенцем в руках. «А-ах! — вдруг догадалась она по спине, по этим двигающимся равномерно лопаткам под ситцевым выцветшим платьицем в цветочках, — да ведь она еще, наверное, женщина, сколько ей? лет сорок, как маме, сорок пять, да у нее наверняка что-то было с Петром Константиновичем…»
На дорожке, загораживая путь, стоял взрослый мальчик Коля — внук Петра Константиновича от дочери Надежды. Коля в этом году окончил десятилетку, тело у него развивалось неравномерно, руки-ноги, например, быстрее и как бы автономно. В душе от этого был дискомфорт, на лице голубые точки.
— Здравствуй, — сказала Ниночка, улыбаясь.
— Старый выжил из ума, а она и рада.
— А может, это любовь? — сказала Ниночка.
— Любви все возрасты покорны? — с презрительным выражением сказал Коля.
— Умный мальчик, — сказала Нина, — а ну-ка дай пройти тете! — И, легонько книжкой отодвинув Колю, она прошла на пруд.
— Нина! — воскликнул Коля.
— Нинок! — поправила, полуобернувшись, Ниночка. — Сегодня же среда, по средам я — Нинок.
— А-а-а…
— Ну конечно, по четвергам — Нинель, в пятницу буду Нино, по субботам я… по субботам я просто Нинка, или Нинка-картинка, в воскресенье — Ниночка. А вот в понедельник — Нина, так что до понедельника чао! И… и рот, пожалуйста, закрой — влетит кто-нибудь…
Петр Константинович позвонил на дачу, чтобы предупредить Ниночку: он сегодня задержится в институте, аспиранты-заочники подъехали, поэтому заночует в городе. На самом деле ему хотелось посмотреть по телевизору футбольный матч «Динамо» — «Спартак», а идти смотреть на вторую половину дачи, где был телевизор, ему теперь не хотелось.
* * *
Так на этой вечеринке, где угощали меня свежими огурчиками, я и познакомился с Галочкой, и начался совершенно новый этап моей жизни. Первое время она звала меня Иван Константинович, долго никак не могла привыкнуть.
В тот же вечер я поехал ее провожать. Она жила на другом конце города. В такси был полумрак, город был уже ночной, в огнях, от ее шубки веяло и свежестью, и теплотой. В общем, стали мы с ней ходить в кино и на концерты. А если не было ни кино, ни концертов, просто сидели у меня дома часов до одиннадцати, а потом я на такси вез ее на другой конец города. Она жила у старшей сестры, а вообще-то была сама из Краснодара — там у нее были отец и мать. Так-то она была ничего, только уж больно нервная. Работа такая — с детьми. Тем более дети у нее были ослабленные какие-то, за это ей дополнительно доплачивали десятку, что ли. Она мне про это не раз говорила, про десятку. Ей было двадцать шесть лет, мне тридцать один. Она окончила педучилище, хотела в институт поступать, да не поступила. Привозила по вечерам иногда свежих огурчиков, иногда помидоры. Ну, чай согреем, попьем. Я частенько на кухне гантелями занимаюсь, она обычно сидит в это время на раскладушке, шапку мохеровую разглаживает, после снега приводит в порядок, у нее такая привычка была. Она вообще аккуратная была очень. Ну, сидим так и сидим, я взял однажды и сказал: «Давай поженимся». А она вдруг заплакала, к окну отошла и стала глядеть на железную дорогу. Я еще подумал: «Чего это она?» Тут она говорит, что жених у нее был, да разбился — он летчик-испытатель был. Ну, я, конечно, говорю, что жаль, но что ж теперь-то делать? Теперь я буду, если она не возражает, разумеется. Она вроде и не возражает и в то же время все плачет, а вернее, не плачет, а хнычет. И говорит сквозь хныканье, что согласна, да жених был летчик-испытатель — уже и пожениться хотели, да вот беда, разбился. А я опять говорю, что жаль, но что ж теперь-то делать?! Тут она вытерла глаза и говорит, что не девушка уже, вот в чем дело. Я ее стал утешать, говорю, что у меня у самого была жена, ребенок даже. Впрочем, это все она уже и сама знала. Хотя, когда я ей это сказал, ну, что, мол, значения никакого не имеет, девушка она или нет, она сразу успокоилась, повеселела. Хотя, если уж честно, я и правда думал, что она девушка. Но тут решил, что действительно неважно все это — был бы человек хороший. Хотя и было как-то неприятно немножко, уж очень свежей она выглядела до этого. Но потом я и сам привык к этой мысли. Сели мы тут рядышком и стали обсуждать. Вернее, она уже все, оказывается, продумала. Во-первых, я подаю на развод, я ведь до сих пор еще не подавал. За зиму нас разведут, и весной мы с Галочкой распишемся. Во-вторых, высылать на ребенка мне лучше не как попало, а четко: одну четверть зарплаты. А ведь я то месяцами не посылал, то наоборот — отсылал все деньги, какие были. То есть у нас с женой была в силе как бы первая договоренность — могу высылать сколько совесть позволяет. Но тут я решил, что Галочка права, лучше высылать норму. Потом она сказала, что, если я ей позволю, она займется моим гардеробом, так как свой к свадьбе у нее давно приготовлен. А для меня она уже прикинула на первых порах два костюма, один ежедневный, другой — черный — к свадьбе, два пуловера: один китайский, другой — еще какой-то, ей сестра обещала достать. Да, хозяйкой она оказалась расторопной очень, с такой не пропадешь. Только вот внешне она была полноватой, не обхватить с одного разу. Но я подумал: ничего — может, как-нибудь со временем привыкну. Или, может быть, она со временем похудеет. Бывает же, что женщины после родов худеют. И стал я ей все деньги отдавать. И что ж вы думаете?! Через месяц костюм появился, через два — пальто, рубахи какие-то английские пошли, лакированные туфли. Друзей прежних, когда они однажды заявились, она их вышвырнула из квартиры! Так что и след их простыл. Вот так Галочка! Я ею прямо восхищался.
Да, на работе меня теперь не могли узнать, начальником участка поставили, профоргом выбрали. Раз мы с ней как-то возвращаемся с концерта (Штепсель с Тарапунькой приезжали), так вот часиков в одиннадцать это было. И решили зайти ко мне, чайку попить, а потом я ее, как обычно, на такси отвезу. Я всегда сберегал рубль на такси. Провожать ее боялся. Шуба на ней стоила не знаю и сколько. Я уже понимал, если б с нее сняли шубу, я б пропал. Ну так вот — довезу ее на такси в полночь, развернусь, ручкой помахаю — и поехал как будто домой, а на самом деле за углом обычно остановлю такси, рубль отдам и бегу себе домой через весь город пешочком. Тратить еще рубль на обратную дорогу — жирно будет, ее ведь и завтра придется на такси везти. Вот так было дело, она и не знала.
Так вот, с концерта приходим ко мне, ключа под половичком, естественно, нет. Я уж догадался, что это кто-то из друзей. Ну, стучимся — не открывают. Хихикает только какой-то женский голос и еще вроде бы Круглов кричит: «Д-дядя, обожди!» Он меня дядей звал. Что тут с Галочкой сделалось! Как начала она тут колотить кулаками, как начала стучать ногами, как кричать начала. Те сразу открыли. Действительно — Круглов с какой-то женщиной. Вышвырнула их с треском моя Галочка! «Чтоб и духу вашего, — кричит, — здесь больше не было!»
Правда, надо отдать ей справедливость, с получки или аванса, когда я отдавал ей деньги, она сама всегда брала две бутылки «Столичной», и мы ехали на такси в общежитие, где нас принимали как дорогих гостей. На ней шуба за шестьсот рублей, да и я разодет как цыган. А главное — не пью! Это было моим друзьям непереносимо. Посидим этак часок-другой в компании, она рюмочку выпьет, даже две иногда, а я — ни-ни. И уезжаем. Вот так зима та шла и шла, в мае наметили свадьбу делать. Уже все для свадьбы было. У нее фата, у меня — костюм черный. Кольца из Краснодара обещали — настоящие, из червонного золота. А я, бывало, нет-нет да и подумаю: а ведь не очень мне и хочется на ней жениться, не очень-то я ее люблю. Есть в ней много хороших качеств, она даже сказала, что после свадьбы обязательно возьмется за меня — учиться дальше заставит, с ребенком можно будет пока обождать. А со временем мы вообще можем перебраться в Краснодар и папа ее купит нам кооперативную квартиру. Хорошо, что мы с ней заранее договорились, что будем жить как муж с женой лишь после свадьбы. А то не знаю, что бы я с ней и делал, ну не лежала к ней душа, и все тут! А почему — и сам не мог понять. Она ведь и пела вдобавок, тоненьким, но очень приятным голоском, и мечтательность напускала вечернюю. Но все же какие-то маленькие у нее были глазки, а лицо, наоборот, крупное, полное. Но не в этом было дело, конечно. Я ведь и сам далеко не красавец. А вот что-то мешало мне, а что — и сам понять не могу. Мне бы радоваться, когда она привозила очередную импортную рубаху, которую где-то с превеликим трудом достала для меня, или огурчиков зимой привезет, бывало. А я, если откровенно, совсем не радовался. Все знакомые, друзья говорили, что я к лучшему изменился, поздравляли, завидовали, наверное. Какую я себе шикарную жену отхватил, и какие у нее в Краснодаре шикарные родители — папа чуть ли не академик. А главное, как это все на меня благотворно повлияло. А мне, повторяю, что-то все муторно было. Сам не знаю с чего.
Тут Восьмое марта подошло. Я купил Галочке хрустальную вазу. Она обожала изящные вещи. Пришел к ней, а сестра говорит, что поехала к родичам в греческую колонию. Под Карагандой есть такая. Ну что делать? А дай, думаю, съезжу туда. Набрал полную сетку вин, ликеров, водки (сам не пью, пусть другие выпьют), взял адрес и поехал. Приезжаю, дом огромный, двор, хозяйство — все как не может быть. Захожу, так-то и так-то, одним словом — вашей Галочки жених! Проходи — прошел. Гляжу — сидит моя Галочка с какой-то женщиной в углу и мотают они пряжу в клубки. Ну, поздоровались. Она себе мотает, а я себе сижу на стуле, сетку рядом положил. Еще помню, сетка легла на ковер и бутылки легли на ковер. Вазу лишь показал издали — мол, тебе. И все шепотом почему-то, тишина такая была во всем доме. Это в праздник-то! Она мне из угла кивнула, мол, спасибо за вазу, и мотает себе пряжу. Я сижу — что еще делать? Сидел, сидел, потом Галочка говорит: «Обед скоро». «Ага!» — думаю я, и еще с полчаса в молчании просидели, а они все мотают, мотают. Потом пошли все же обедать. Мужчин было несколько, все носатые, похожие, несколько женщин, тоже носатых, темных, среднего возраста. Галочку посадили от меня далеко. Бутылки я, правда, все сразу же взгромоздил на стол — пейте! Но бутылки не произвели никакого впечатления. А вот борщ, что подали, вызвал заметное оживление. Борщ, правда, был славный! Я такого даже на Украине не едал. И стали тут все макать в него красный перец. Я тоже взял стручок, макнул, так потом еле съел тарелку — горько! Вот это перец! А они ничего — едят, макают. Я говорю — по рюмочке, праздник все же. Тем более они все по-гречески говорят, словно меня и на свете нет. Какое-то высокомерие у них я почувствовал по отношению к себе. Но по рюмке они все же выпили, правда, кто выпил, кто — нет. Ясно было — вино в их жизни не играет никакой роли. Тут они заспорили между собой: съест один из них десять стручков перца или нет. Поспорили, договорились на никелированную кровать, и тот, который рискнул, начал поедать эти жуткие стручки. Так один за другим и съел все десять! Да, вот это люди! — подумал я. Но после посещения колонии этой мне совсем что-то расхотелось жениться. Только как же отвертеться от этого — я не знал. Помог, как всегда, случай.
В апреле у Галочки был день рождения. Поехали отмечать в ресторан. Она разрешила пригласить всех моих друзей из общежития. Ну и гуляли так до одиннадцати. А на одиннадцать тридцать я такси вызвал, чтоб Галочку домой отвезти. Я не пил, конечно. Вернее, пил один боржом. Скучно мне было. Вокруг все пьяные, и Галочка выпила рюмки три-четыре по случаю дня рождения. Ну, ждем такси, уже расплатился я за все. Скучновато, мои друзья допивают, доедают, а я пошел по телефону еще раз насчет такси позвонить. Тут подошла официантка знакомая — Светка. «Что-то, Ванечка, тебя давно не видно? — говорит. — Женился, что ли? Круглов рассказывал». — «Может, — говорю, — тебе-то что?» — «А ты посмотри, — говорит, — в каких я чулках хожу, — приподнимает юбку, смотрю — действительно дырка на чулке, — не стыдно тебе?» Я еще подумал про себя — мне-то чего стыдиться, я ведь с тобой не спал, иди к Круглову, — но взял и дал ей десять рублей, скучно мне было. Да и она пьяная была. Но нас обслуживала хорошо. Ну, иду, значит, обратно к столу, а там, вижу, за мое отсутствие друзья к Галочке пристают, просят, чтоб она мне разрешила по случаю такой даты, Галочкина дня рождения, выпить за ее здоровье. Пить мне не хотелось, я устал от такого скучного вечера, просиди-ка трезвый в пьяной компании шесть часов. Но вмешиваться не стал. Галочка тоже была выпимши и с улыбкой уже какого-то права на меня решала — выпить мне или нет? Хотя за все я ведь платил, да и не в этом было дело, все же мы были еще не муж и жена. Но я не вмешивался. Трезво это все так оценил, и стало мне совсем скучно ото всей этой пустоты. Галочка решила жребий бросить — пить мне или не пить? А когда подбросили монетку, выпало пить. И тут я решил: ах так! Глянул на часы — одиннадцать пятнадцать, до закрытия пятнадцать минут. Светка! Она тут как тут. Это была очень расторопная официантка. За два года работы в ресторане купила себе кооперативную квартиру. «Две водки, два пива и с собой столько же заверни, себе шоколадку!» Повторять ей не надо было. И через минуту я уже пил. За столом пошло веселье по новой. До закрытия я успел выпить и водку, и пиво, а в такси даже пытался Галочку обнять, но только обнять ее рук не хватало. Да еще и в шубе она была, да и толкалась, говорила, что пьяный я. В общем, обиделся я, довез ее и развернулся в общежитие. И загулял! Там меня как родного встретили. Так мы и гуляли между общежитием и моей квартирой. В квартире я находил записочки от Галочки, она бывала там по вечерам, но нас по вечерам там не было. А потом и у меня развернулись вовсю. Маг хрипит, вино рекою льется, все пляшем и поем. У нас один техник был — цыган, так он цыганочку так плясал! Закачаешься! Я думаю, у Гезий потолок обсыпался. Сунулась было Галочка к нам, но меня в туалет спрятали, а ее вежливенько выставили за дверь. К тому времени дверь уже сорвали с петель, так она приставленная просто для вида стояла, но все равно. Мы гуляли вовсю. Я помню, с балкона перегнулся, вернее, повис, зацепившись за что-то ногами, что-то Гезий объяснял, почему у меня душа не лежит к Галочке, хотя она и очень хорошая. А Гезий со своего балкона глядит вверх на меня, улыбается и еще с шумом носом воздух выдыхает и быстро-быстро проводит пальчиком под своим носом: туда-сюда, туда-сюда. Мое раскачивающееся лицо было совсем рядом с ее лицом. С каким-то странным возбуждением глядела она и молчала. Может, ждала, не сорвусь ли я с пятого этажа. С Вовкой Кондаковым она еще в то время не расписалась. А какой хороший парень был! Непьющий…
Ну вот… опять, значит, все меня любят, уважают, опять все рады ужасно, что я к ним вернулся. Развернулись на радостях вовсю, магнитофон гремит, пол дрожит. Магнитофон иногда до утра не выключался, как хоть не перегорел. Особенно почему-то полюбилась эта — «Ах, люблю цыганочку, она замуж вышла…». И тут мне всегда вспомнится, что Галочка-то замуж не вышла и уж теперь-то наверняка за меня не выйдет. И ее было так жаль, и себя, и жениха ее разбившегося, и все вместе со мной ее жалели, бедную. «А ну поехали к ней в детский сад! — кто-то крикнул. — Извинимся. Она человек хороший!» — «Извинимся! Извинимся!» — загалдели все, загремели, за мной покатились по лестнице. Цыган с гармошкой, Круглов с мандолиной, я с бутылкой. Схватили два такси, набились все туда, человек десять, покатили. Приезжаем. Вывалились, в вестибюль зашли. «Галочку нам!» — кричим. Ну а сами, понятно, запели, заиграли, цыган вприсядочку пошел. Гляжу, на лестнице показались воспитатели в белых халатах, тихий час там был как раз, дети выскакивать начали. Галочка тоже появилась. Я разглядел ее, когда с ней плохо стало и она упала на ступеньки. И тут я все понял и закричал: «Все назад, в такси!» И мы умчались опять — допивать, догуливать.
Всё. После этого с Галочкой было покончено. Я лихорадочно заторопился покидать Караганду. Я боялся, что она вернется и все мне простит. Тогда уж мне было бы деваться некуда. Я через Круглова передал ей магнитофон, купил билет на самолет и полетел в Хабаровск зачем-то. Только вот впопыхах потерял документы.
И остался без денег, без друзей, без документов. На первых порах было трудно. Пить забыл. Есть было нечего. Я, правда, устроился на квартиру к какой-то женщине. Но есть было нечего, работы не было, пока это все наладилось, а пока голодно. Как же я там голодал! Я прямо умирал от голода. А рассказать о своем положении гордость какая-то не позволяла. Я так голодал, что почти ничего не соображал. Поэтому многие дни этого периода полностью вылетели из памяти. Хорошо лишь помню, как спускался в погреб, когда уходила хозяйка на ночное дежурство. Там у нее стояли горшки с внутренним салом. Чтоб ложку сала набрать, мне приходилось понемногу соскребать его во многих горшках. Чтоб незаметно было. Потом я набирал из мешочков в шкафу крупы. Отсыпал из каждого не более полустакана и, чтоб было незаметно, встряхивал мешочек, взбивал его наподобие пуховой подушки, чтоб он выглядел полным. Потом на керогазе варил я кашу и съедал ее иногда полувареную моментально. Так я немного заглушал голод и мог уснуть. А на другой день опять ждал, скоро ли уйдет хозяйка на дежурство. Потом она, конечно, догадалась обо всем, и пришлось мне ее покинуть. Как сейчас помню это утро… последнее…
Утро. В мое окно по проволочным нитям лезут, хватаясь за раму, листья вьюна. Большинство из них, пронзенные солнцем-рентгеном, кажутся вывернутыми наизнанку, внутренне обнаженными — со скелетами наружу, с четкой кровеносной системой. За листьями, чуть отстав от них, тянутся бархатные фиолетовые и вишневые цветы, похожие на маленькие граммофончики. А уже за всем этим цветным великолепием через разбитую форточку проникают ко мне утренние сочные, ясные звуки. Вот простучали каблучки по асфальту, кто-то чихнул с наслаждением. В верхней части окна, свободной от зелени, — сильный, рассеянный, небесный свет. Возвращаюсь в комнату, в сумрак. Первое время вижу лишь контуры, тени. Слева, рядом с топчаном, нахожу бутылку из-под шампанского — мой графин. Внизу пошарив, вытаскиваю на свет божий засохшие за ночь полуботинки. Выгребаю, вытряхиваю из них ночных мотыльков, нежнейшая пыльца остается на моих руках, напоминает успокаивающее прикосновение березовой тончайшей кожицы, которую в лесу однажды старшие братья Петр и Павел прикладывали к моей пораненной ноге.
Беру свой графин за теплое горлышко и выхожу в зеленую прохладу веранды. Графин раскачивается, оттягивая еще сонную, слабую руку. Он ловит солнце между листьями, окружающими веранду, и пускает зайчики по деревянному полу. Спускаюсь в сад по влажным от росы опилкам, задеваю головой две вместе натянутые проволоки. Долго не затихающий мелодичный звук — тихий звон колокольчиков удаляющейся тройки или кузнечиков в ночном южном поле.
Вот я вернулся уже, спокойно пью холодную воду, спокойно гляжу на картину. Это бодрая, уверенная картина. Она захватила всю стену над плитой и не уместилась, прихватив еще и треть стены, у которой мой топчан. Вечером картина, как и слабая лампочка под самым потолком, раздражает меня. Неуютно чувствуешь себя в комнате без занавесок, освещенной лампочкой из-под потолка. Не зажигаю я лампочку и по другим соображениям: летят на свет ночные гости — бабочки, мотыльки, а главное, обязательно на огонек заглянет хозяйка этой времянки — Дора Тимофеевна, скорбным видом всякий раз понять давая, что давно пора платить за жилье.
Итак, я пью воду и рассматриваю без всякого раздражения картину на клеенке.. Верхняя часть ее забралась на потолок, синеватый, в пупырышках небрежной побелки, а нижняя не поместилась — мешает плита, и пришлось подогнуть немного. Поэтому рыбки, которых кормит полная красавица, кажутся, если прищурить глаз, выпрыгивающими прямо из грязной плиты. Дверь с веранды открыта, скрывает часть картины. Но я знаю, там, за дверью, едет красавец мужчина в усах тараканьих, в сомбреро, на лошадке с ослиной головой и смотрит на полуобнаженных красавиц с тихой полуобморочной улыбкой.
У водопроводного крана, где в пыль тяжело падают капли воды и тут же сворачиваются в шарики как ртуть, а не растекаются, меня уже ждала, конечно, Дора Тимофеевна.
— Доброе утро, — сказала она, — сегодня уже шестнадцатое.
Поэтому дверь моя открыта, и комната уже наполнилась сильным медовым запахом яблок и свежих сосновых стружек. На веранде в ящиках, в стружках, в опилках лежат большие холодные яблоки — местная антоновка. Заготовлены впрок на всю зиму. Два яблока у меня уже в кармане плаща. Там же сетка, зубная щетка, бритвенный прибор со старым лезвием. Весь багаж в одном кармане плаща. «Прощайте, красавицы на стене!» Привык к вам за три недели. Выхожу, пересчитывая мелочь — семнадцать копеек. Негусто. Но сегодня меня ничто не огорчает, действует до сих пор утреннее настроение. Или… или мне действительно сегодня повезет?! Пора бы, подзатянулось все как-то слишком на этот раз.
…Я шел по толстому ковру и не слышал собственных шагов. Это парализовало, словно я шел по чему-то живому. Ковер с письменным столом составлял букву «Т». А за столом сидел он, от которого многое зависело, и помешивал ложечкой чай в тонком с двумя ободками стакане… Зеленое бильярдное сукно стола было покрыто толстым стеклом, в котором, тепло мерцая, отражалась, но не сильно лампа дневного света над столом. Два телефона по краям стола, как две дополнительные руки, между ними чернильный прибор желтого мрамора. Левее прибора легкий вентилятор, разгоняющий дрему, правее — орехового дерева стакан с тонко очиненными карандашами. Стакан с крепким чаем нарушал этот порядок на столе, и начальник взял и поднес его к губам.
Мне бы сойти с этого ковра, услышать собственные шаги, вспомнить сегодняшнее бодрое утро, уйти бы в сторонку от того, наконец, на что я накололся, войдя в этот кабинет. Я же продолжаю идти с неприятным чувством неуверенности, что иду в мокрых ботинках по чему-то живому и покорному, завернутому в этот дорогой и чистый ковер. И еще — я все время думал, что надо придерживать совсем оторвавшийся карман плаща. А он ждал. Прихлебывал чай и разглядывал меня. И шевелил еще губами. Войдя и прикрыв за собой дверь, тяжелую, обитую кожей, с бронзовыми, как на дорогих венских стульях, кнопками, и оставив с облегчением в приемной легкую и бесшумную, как вентилятор на его столе, быстроглазую секретаршу, я накололся именно на это: он рассматривал меня с заинтересованностью человека, считающего, сколько ног у паучка, который случайно попался ему на глаза. Не более.
Я продолжал двигаться, все больше накалываясь, насаживая себя на невидимую иглу. И наконец уперся в стол. Оказался приколотым булавкой на белой бумаге, на свету, на виду. Осталось прицепить ярлык, приклеить этикеточку. Протягивая заявление, я все еще крепко прижимал карман, но чувствовал я себя увереннее — ковер я уже прошел, и он не мог уже видеть сейчас моих ботинок. Отсыревших, резиново-мягких. Да и оторванный карман не мог видеть, так как я стоял очень близко к столу. Но он не торопился, он чуть откинулся, чтобы удобнее было рассматривать меня. Он включил вентилятор, напомнивший мне опять секретаршу. На кого же он похож?
Тень непозволительного сомнения пробежала по его лицу, слабое раздражение, как после бритья, проступило на румяных щеках. Что-то показалось ему не совсем понятным во мне, в чем-то засомневался он, прежде чем заполнить на меня этикеточку. И обиделся на себя за то, что не смог вот так с ходу, с первого взгляда, как и положено, в общем-то, начальнику его ранга, которому уже полагается бесплатный паек в конце недели, — не смог вот так сразу определить, что за человек сейчас перед ним. Он был неглуп и за много лет на этом посту знал, что маленькое сомнение потянет за собою сомнение побольше, а то, в свою очередь, — еще и еще. Так что лучше не надо.
Это длилось мгновение, может, два. И вот он уже спокойно глотнул чай из стакана, крупно, уверенно так глотнул и сразу подобрел. Засветились мягко глаза, как будто он только что всласть посмеялся над собственной шуткой. Прошла обида на самого себя, и он стал доволен — нашел наконец мне место в своей коллекции посетителей-просителей, которых принимал по вторникам с трех до четырех. Место, по-видимому, невысокое, но еще и не безнадежное для меня. Это все видел я четко по тому, как откашливался он, проверяя голос, как брал бумажку у меня с легким вздохом утомленного ответственностью человека, как, чуть губу оттопырив, читал бумажку быстро, стакан не отпуская от крепких губ, лишь скосив глаза при этом вниз и в сторону. Но ведь главное было, что нашел место и теперь знал, что со мной делать.
Мог ли он подписать заявление? Конечно! Красный, хорошо заточенный карандаш как восклицательный знак: внимание! — стоял ближе всего к нему. «Возьми его, видишь, он даже наклонился к тебе!» На кого же он так похож?! Да, конечно, он мог подписать, но мог и не подписывать, и этим правом он воспользовался.
«На кого же он похож?» — думал я, идя бесцельно по улице и разглядывая витрины. За аптекой я перейду площадь. И тут я вспомнил, что в своей уверенности он похож на того мужчину-красавца с картины на клеенке.
Был мелкий дождь, туман к вечеру. И зачем-то я попал на стадион. Слабый ветер помешивал туман в огромной чаше стадиона. По краям чаши прямо из тумана поднимались четырехглазые прожекторы-великаны. Светили, словно заглядывали в чашу, — никуда не скроешься от них. Я решил без всякой цели обойти стадион. И пока шел, все ежился, все казалось — подглядывает кто-то за мной. Я не знал, около какого прожектора надо будет остановиться. Не знал, зачем вообще надо останавливаться. Может, возле этого надо остановиться? Уж очень высоки были эти прожекторы. Днем в бездействии они намного пониже. Так и не выбрав места, я сделал круг и оказался снова возле кассы. Я мог бы поклясться, что здесь никого не было, когда начинал я обход. Теперь лежал на боку пьяный. Лежал, прижав ухо к земле, словно вслушивался — что там внутри. Меховая шапка, только что купленная, по-видимому, сохраняя форму, откатилась к фонарю и наполнилась желтоватым светом.
Тащить его было тяжело, бесчувственное тело выскальзывало из рук. Голова сыто болталась, синий галстук задрался, в горле булькало, он быстро глотал. Я едва успел уклониться. «Вот порося, — выругался я про себя, — ну и порося!» Пьяного вырвало еще два раза. В перерывах он трезвым голосом приказывал: «Уберите детей, детей уберите!» Я покрывался потом. Иногда пьяный вдруг начинал твердеть у меня в руках, на секунду почти проявляя сопротивление, и тогда я бормотал срывающимся голосом: «Что же ты здесь лежишь, здесь машины. Сейчас мы тебя к забору, к забору перетащим». А сам между тем быстро шарил по карманам пальто, брюк, пиджака. «Где же они? — быстро думал я. — Где же они?» — и два пальца в кармашек для часов и… радостно, как рака, двумя пальцами — хрустящие, нежные, гладкие, сложенные вчетверо, в тугой комок. Кажется, я даже чувствовал цвет их — голубой или, на плохой конец, зеленый… Теперь, раскидывая лужи, — за угол. Хотел зафутболить меховую шапку, но прихватил — сунул за пазуху. Через двор, на проспект, мимо парикмахерской, кинотеатра, зачем-то в подъезд, успокоился… Вышел обратно на свет, вытащил руку, разжал кулак и… это были тридцатикопеечные лотерейные билеты. Сосчитал — восемь штук. И по одному, немного помяв зачем-то каждый, стал бросать в лужу возле ног. А ветер относил их быстро, словно парусные кораблики, в тот угол, где собрались на луже тонкие морщины. Когда белые дрожащие комки сбились в кучу, я ушел не оглядываясь.
Запрокинув голову, я почти висел на спинке скамейки. Глядел в темное, непроницаемое небо, полное влаги. Иногда нехотя, словно переваливаясь через край, она выпадала на лицо. В темноте, разговаривая, шли две женщины. Одна сказала, замедлив шаг: «Что это с ним? Уж не болен ли?» — «Да ты что! — другая отвечала. — Просто пьяный». Они ушли. Во всей больнице светилось лишь одно окно. Дежурная сестра со сном боролась.
Ну а дальше, после того как я съехал с квартиры Доры Тимофеевны, я не очень помню жизнь свою в течение лета и осени. Какие-то подвалы, чердаки, распивание с подозрительными личностями в вокзальном туалете тройного одеколона. Совсем не помню, как удалось опять устроиться на стройку разнорабочим, как-то ведь взяли без документов. Сначала мешал раствор, потом в каменщики перевели, койку дали в общежитии, адрес появился, письмо от матушки пришло. Валя опять вышла замуж, на этот раз за кого-то из Баку, туда они и уехали. Дочку оставили у Ольги Матвеевны, осенью в школу пойдет. Я так и ахнул: «В школу уже!» А меня уже тянуло пить, я уже в одиночку полюбил пить. Возьму бутылку, выйду в тайгу, сяду на пенек и пью из горлышка. Сижу пью, вздыхаю, а чего вздыхаю, спроси меня — не знаю. С работы приду, ничего-то мне не хочется. Даже помыться или переодеться. Только и думаю: где бы выпить? И ведь обязательно найдешь! Как ни бьешься, а к вечеру напьешься! Теперь у меня была постоянно какая-то внутренняя дрожь. Только если выпьешь, и отпускало. Я было сунулся, как в Караганде, однажды в прорубь, но только до половины и долез. Значит, все. И поплелся под мост, там у нас место было. С Исаевым, дружком, частенько там посиживали. А раз с похмелья сидел я на профсоюзном собрании и вдруг словно отключился. И кто-то словно бы спрашивает меня, строго так спрашивает: «А ну, Иван, отвечай! Второй закон Ньютона знаешь?!» Я, конечно, вскочил, кричу: «Эф равно эм на а!» И тут же слышу, хохочут все вокруг. Собрание ведь, на собрании я, а не на экзамене. Испугался я — такое впервые со мной было, да и неудобно. Ушел я. И тут же быстренько накатал заявление в бухгалтерию, насчет пятидесяти рублей. Вообще-то мне десятка была нужна, на пару бутылок. Но ведь десятку могли и не дать, заподозрить, а пятьдесят дали — я верно рассчитал. Я так обрадовался! Скорей в магазин. В общем, через пару дней в больнице оказался. Глюкозу кололи, витаминчики давали, внушали, что пить вредно и аморально. Точно я и сам об этом не знаю. Ну, вернулся, устроили, конечно, суд товарищей. «Позор для треста! Гнать таких! Каленой метлой…» До сих пор не могу привыкнуть, когда меня такими судами разбирают. Сто человек глядят на тебя во все глаза, как на что-то… нечеловеческое. Потому что, несмотря ни на что, я думаю, во мне есть что-то и человеческое. Ну, после этого, понятно, я совсем запил, и ночью мне в кровати уже что-то мерещиться начало. Словно кто-то сверху грозно говорит: «Вот он! Вот он — позор нашего треста! — Я голову под подушку, а он: — Не прячься, не прячься, все равно вижу! — и уже наводит пистолет. — Позор! Таким не место! Таких к стенке!» Тут я не выдержал, сбросил подушки, одеяло и ворвался на третий этаж, там у нас всё профсоюзные и комсомольские активисты проживали. Они меня в основном и честили по очереди на собраниях. Ну распахнул дверь к ним в комнату, кричу: «Стреляйте, гады! Нате…» — рубаху на груди рванул… Так будто бы рассказывают. Сам-то, конечно, я ничего не помню, сам-то я думал, что все это снится мне в страшном сне. Ну, очнулся уже в больнице, под капельницей. Под капельницей, между прочим, с похмелья очень быстро отходишь, дня через два я уже помогал врачам за больными ухаживать. Врачи меня полюбили и даже говорили, чтобы я отдохнул у них подольше. Процедурами особенно не мучили. Да я ведь и сам отлично понимал, что все лечение в себе самом. Никто тебе бросить пить не поможет, если сам не поможешь. Я все думал, если б Валя тогда не ушла от меня, то я мог бы, пожалуй, бросить пить. Все же тогда я еще не пил по-настоящему. Баловался, кровь играла, весело пил, больше дурачился, больше из спортивного интереса. А тут уж остановиться не мог. Вышел из больницы и опять, чтоб внутреннюю дрожь унять, пил, пил, пил…
Уже водку почти что и не пил: одеколон, туалетную воду. Эх, и хороша ж была водичка туалетная! Десять бутылок — четыре рубля. Потом уж и на это денег не хватало. Политуру пил, зеленку, лак для окраски ногтей, жидкость от потливости ног — господи! — чего я только не пил! Все в ход шло, в чем хоть капля спиртного была. Паста, зубной порошок… Ведь не поверите, если скажу, что однажды кто-то брякнул, будто бы старая известка на спирту замешивается, так взял ободрал всю штукатурку со стены, разболтал в воде и воду ту выпил. И смех и грех! Утром идешь в туалет, а твоя моча сверкает всеми цветами радуги — такие, брат, дела! Помню, раз под мостом через реку спрятались с дружком от людей подальше, из ржавой баночки пьем политуру, запиваем прямо из реки и ржавой селедочкою заедаем. Над нами машины проносятся, люди туда-сюда проходят, а мы в полумраке сидим, от всех скрытые, возле самой воды, у замусоренной речушки, и пьем из ржавой банки, и селедочкой вонючей с удовольствием закусываем. И, представьте, нет на свете счастливее нас!
Под этим мостом мы теперь частенько собирались с Серегой Исаевым. Дружок там у меня такой объявился. Он работал вначале главным инженером, сам рассказывал, но постепенно докатился до того же, до чего и я. У нас уже там был стакан, мы его прятали за сваей на полочке. Ложка была, на всякий случай, если вдруг у нас иногда закуска объявится. Хорошо было нам сидеть в сумерках, а над головой машины проносятся. Молчать и тихонько пьянеть. И в какое-то новое все больше впадать состояние. Когда все-все понимаешь. И уже что-то большое и никогда не осуществимое начинает видеться тебе, перед чем все наши дела смехотворными потугами кажутся. Все лучше, все мудрее видится окружающее. Неважно, что завтра будешь мучиться, от кошмаров на стенку лезть будешь. Все это будет завтра; а сегодня — тихое блаженство, благодушное прозрение. Не глазами, душой созерцаешь Прекрасное — и в этом суть и счастье. Пускай проходят, мост сотрясая, над нашими головами машины, пускай бегут по своим делам люди, мы сидим молчим, наливаем, выпиваем. Наслаждаемся. Иногда спросит один: «Ну, как пошла?» — «Ничего», — другой ответит. И опять сидим кайфуем. Одним словом, вот так я в Хабаровском крае и испортил себе желудок окончательно. Уже и до язвы дело дошло. Врачи посоветовали сменить район проживания. И вот я оказался здесь — в Московской области.
Тут мне сначала даже немного повезло. Послали строить для подсобного хозяйства химкомбината коровники, цементировать скотные дворы и прочее. Неделями я не бывал на объектах — и ничего, все как-то с рук сходило. А в том году в город перевели. Три раза уже разбирали на собраниях и судах товарищеских. Все нервы и издергали! Тут такая шайка-лейка собралась в товарищеском суде во главе с Константой Спиридоновной, старой девой. Душа товарищеского суда! Так в стенгазете на Восьмое марта и написали — душа! Так вот, они меня уже этой зимой вплотную к принудлечению подвели. Пришлось слово дать, что сам стану ходить в больницу, сам стану антабус глотать. Полтора месяца я выдержал, а потом думаю: «А-а, была не была!» Взял после этого антабуса бутылку пива и выпил — и ничего, не загнулся. Так что, я думаю, все эти лечения — е-рун-да! Больше на псих берут. Но теперь-то, пожалуй, уж больше мне не отвертеться. Принудлечение это принудлечение!
А как у них еще зимой руки чесались на два годика меня в элтэпэ упрятать! И у Константы Спиридоновны, и у Марьи Ивановны — профорга нашего. И ведь что ты скажешь — и эта тоже без семьи, видно, некуда силы девать. С какой яростью, с какой страстью меня спасать бросились! Дай волю — на два б срока меня упрятали. «Позор! Разложение! Деградация!» О боже… Да за что же мне такое наказание? Я ведь и так еле живой! Я устал от всего! Я теперь, если вусмерть не упьюсь, и не живу, а как будто все время еду по тряской дороге. Я все время не ощущаю то одну, то другую часть тела. Только я не тело не ощущаю, а как будто не ощущаю целиком свою натуру, душу свою, смысл свой.
Вот даже такой простой факт. Пока не дали мне место в общежитии, жил я в квартире мастера Колтунова, он уезжал на два месяца в отпуск к сестре в Ленинград и предложил пожить у него. Так вот однажды обнаруживаю себя я сидящим в кресле и читающим чужие письма: жены Колтунова к нему. Я их взял, оказывается, в ящике стола и спокойненько себе читаю. И тут я как будто включился: да ведь это же гадко — читать чужие письма! Хотя помню прекрасно: за полчаса до этого, когда я их только обнаружил, у меня и мысли подобной не было. Чего-то, какую-то часть своей души, где стыд у меня, значит, я совершенно не ощущал, наоборот, помню, радовался даже, что чужие письма обнаружил. Я ведь писем от жены не получал… а мог бы, повернись все по-другому, да…
Так вот, словно какая-то часть моей души отскочила от меня от постоянной этой тряски, что теперь я все время ощущаю. Да Я это еще тогда заметил, когда в Хабаровске полез в прорубь и долез лишь до половины. Вторая половина отказалась мне повиноваться. Теперь-то я чувствую, что не на два куска я распался, а на десять, а может, и на сто, так уж меня иногда трясти начинает, мысли рвутся, всё в обрывках каких-то, неоконченные. Это я лишь сейчас поутру — час или два после крепкого запоя — могу вот так все гладко вспоминать, рассказывать. Пока онемевший мой мозг как бы не чувствует боли и сам по себе как бы без моего участия работает себе и работает, то есть текут и текут воспоминания плавно, без запинки, как говорится, не рвется нить воспоминаний. А как только я очнусь от шока, удара алкогольного, то сразу вразнос пойду. Сразу разлечусь на сто частей — вот что страшно-то… Словно все что-то хочу я вспомнить, что-то самое главное и никак не могу! И надо опять скорее пить, пить — одно желание, чтобы всему опять во мне собраться. Но только вместо собирания проваливаешься в такие пропасти ужаса, что и описать невозможно. Невозможно описать, в каком мраке, разрывающем тебя на части, пропадаешь, в каком клубке опутывающих тебя со всех сторон гадин маешься часами. Ползут тогда по тебе мохнатенькие, как почки с ивы, с многочисленными липкими ножками. То сверкающий глаз вперится в тебя, насквозь жжет, прожигает. Но самое страшное — очень часто в последнее время слышу матушкин голос: «Брось, Ваня, опомнись, приезжай, сойдись с Валентиной, живите, дочь ведь у вас…» Все углы обсмотришь, откуда идет этот голос, — страшно! Ивовых почек, ползающих по мне, я уже не боюсь. Я понимаю, что все это галлюцинации… спокойно снимаю их с рук, с плеч, груди, полными горстями спокойно сгребаю и в помойное ведро выбрасываю. А вот голос! Эт-то да! Да ведь со всеми интонациями, со всеми матушкиными оттенками, особенностями — нет, такое никак не может просто показаться. Я месяца два или три тому назад очнулся в подобном состоянии. Ну, думаю, всё — или я опохмелюсь, или на этот раз помру. А ни ко-пей-ки! Еще вчера, пока пил, и друзья были, и деньги. Пока деньги есть, друзья будут. А вот когда нет ни копейки, поди займи попробуй, хотя б на пиво. Все карманы перетряс — ничего! Осмотрел я свою комнату — все казенное, да и что тут загнать можно — простыню? полотенце? — так не война ведь сейчас! И чувствую, не выпью кружку пива — помру. И как представил я только эту самую кружечку пивца — тяжелую, холодную, с белой пеной по бокам, представил, как погружаю в нее свои пересохшие губы, делаю огромный сладкий глоток, так верите, чуть не задохнулся! Наверное, о любовном поцелуе я так не мечтал никогда. Вытряхнул я все из своего рюкзака — носки, мятые рубашки… гляжу — нож, хороший, охотничий, купил когда-то с получки за десять рублей, продавец знакомый продал без охотничьего билета. Ну, схватил я его и к ларьку. Дворами, конечно, не дай бог — кто увидит! От любой машины шарахаешься — не начальство ли?! Кое-как до ларька добрался. Как раз мужики идут, губы вытирают, пива напились, счастливцы. Я: ребята, нож возьмите, похмелиться надо. Один остановился — а что просишь-то? Да хоть на кружку пива, говорю. Ну, мужик на меня посмотрел-посмотрел да и взял мне три кружки пива. Я от счастья и слова не мог вымолвить. Ну, думаю, сейчас смаковать буду! И что б вы думали, ставлю перед собой эти три кружки, хватаю одну — залпом выпиваю. Хватаю вторую и чувствую — пить не могу. Ослаб сразу, холодным потом покрылся, ноги дрожат, не держат, а главное-то — пить не могу. Вот она стоит передо мною — темненькая, холодненькая, край хорошо посолен — а пить не могу! Что ты будешь делать! Так и поплелся обратно в общагу. Из второй кружки даже половины не отпил, а третья вообще осталась нетронутой. Как вспомню, до сих пор жалко. Не ножа, конечно, а этой полной кружки пива. Сюда бы ее сейчас… Впрочем, у меня дело сейчас посерьезнее. Давай-ка, брат, последнюю ступенечку преодолеем… вот так… и вот так… уже и голова на чердаке… уже скоро, скоро…
Ну что ж, почти и добрался. Да-а… наверное, с месяц тому назад дали мне вагон продуктов, с которым я должен был выехать в дальний район. Бригада уже там была. Да вот не выехал, не успел. Вышел из конторы я в обед, еще и раздумывал, помнится: сегодня мне выехать или уже завтра… с этим самым вагончиком продуктов. Подхожу к столовой, вижу, два парня мелочь считают, вижу — на бутылку не хватает. Поглядел, вроде парни неплохие. Ну и взял им бутылку — жалко, что ли. Они мне стакан налили. Короче, пили до ночи, а ночевать ко мне пошли, в вагончик. Среди шпрот, бычков в томате и ящиков с яйцами. Утром обнаруживаю, что от аванса в восемьдесят рублей, что получил накануне, копеек двадцать осталось. На мороженое. У парней, естественно, тоже ничего. Ну что же делать-то? Похмелиться-то надо! А вагон с продуктами на что? Ну и пошло. День пьем, другой пьем. Дней через восемь-девять стало в вагончике от продуктов посвободнее. Тут угрозу мы какую-то почувствовали. Тот парень (повыше), что к магазину все бегал продукты на водку обменивать, милицию уже заприметил, интересуется уже милиция. Тут друзья мои, сухой паек прихватив, исчезли, канули, как говорится, в неизвестность под покровом темноты. Ну а я собрал остатки продуктов — в одном рюкзаке теперь все поместилось — и подался сюда, к знакомому леснику на край города. И с ним еще пили, дня два или три, пока в рюкзаке что было на водку менять. А вчера уже и здесь меня разыскали, передали, чтоб готовился: придут сегодня в десять. Будут брать. Наверное, и Вандышев будет — замначальника. Он ведь всегда все похороны, все юбилеи устраивает. Это его хлебом не корми — дай только какое-нибудь мероприятие организовать. Ведь как строитель он нуль без палочки. И вот надо же! Есть такие люди, всю-то жизнь вместо дела занимаются общественными мероприятиями, а выгнать никак нельзя — не пьют они, не то что я. Вот в чем дело. И Марья Ивановна, конечно, будет. Она из той же породы — общественников-дармоедов. Таких именно и выбирают на общественные посты, на производственных-то постах с них как с козла молока. Ну, они и лезут из кожи вон, чтобы отличиться на каком-нибудь товарищеском суде. Какого-нибудь алкаша-бедолагу с дерьмом смешать — это ж им такая отрада в жизни! Прямо счастье. Так что и Константа Спиридоновна обязательно будет. Им ведь только дай насладиться чужим страданием! Чужим позором!
Я сегодня утром, как очнулся, сразу же представил их лица. Как не могут они скрыть удовольствия, наслаждения перед чужим несчастьем и позором. Представил и задрожал. Где же мне силы взять все это еще раз перенести! Нервы совсем ни к черту! Я даже заплакал, ей-богу! И почему это хорошим людям так тяжело жить на белом свете?! Я не о себе, я тут вспомнил одного спившегося мастера из Львова. Где-то мы с ним в Сибири повстречались, в Братске, кажется. И он мне всю ночь рассказывал о баянах. И как же он, братцы, понимает сей предмет! Непостижимо! Он рассказывал, а я музыку его баянов слушал, ей-ей. И вот бросил все, в Сибирь подался, в бараки, холод, пьянство. Кашлял всю ночь простуженно, плакал даже. За что же такая жизнь, я вас спрашиваю?!
А у меня сегодня голова четкая, ясная. Это у меня изредка бывает после больших запоев. После особенно сильных. Как будто от сильного удара все онемеет, и так все четко соображаешь, и ничего не беспокоит. Все онемеет перед страшной болью, которая придет позднее, часа через два. Нет, теперь уже раньше — через час, я думаю, через полчаса. Но только настоящие кошмары будут только завтра. Ну а завтра-то я буду далеко, в больнице, под капельницей — мне не страшно. Я все рассчитал. Что? Съели? Константа Спиридоновна?! Не удалось вам речь обвинительную сказать, уж, наверное, заготовили, уж, наверное, ночь готовили, не спали. Что, Марья Ивановна, все ваши подсчеты задолженности моей по профвзносам — ко всем чертям собачьим, а? А я ведь действительно уже четыре месяца не плачу ни копейки. Хотели пригвоздить меня к позорному столбу, ан — не дался! Да? Не удалось заклеймить! Я ведь вчера еще, когда в пьяной горячке метался, так ясно представил все ваши трезвые лица с поджатыми губами. А я больше не перенесу вашего негодного суда, слышите! Да я лучше в петлю! И тут-то меня и осенило. Я все рассчитал — вот балка, веревку я выбрал потолще, чтоб не так больно было, ящик, когда его отброшу из-под ног, — как раз: ноги сантиметров двадцать до пола не достанут. А минуту я спокойно могу выдержать без воздуха, я уже проверял. А вам сюда добираться пятнадцать ступенечек как раз пятнадцать секунд. Пусть еще пятнадцать секунд на всякие охи-ахи, когда вы увидите тело мое бездыханное в петле, — ноги двадцать сантиметров до пола не достают. У меня в запасе еще целых полминуты остается. А за полминуты, я где-то читал, у нас выпускается полмиллиона шелковой ткани. Так что вполне успеют из петли вынуть. Ну и куда ж тогда меня? Не на суд же — скорей в больницу, под капельницу. Под капельницей хорошо, я был уже там. Вы-то думали меня заклеймить, а я ушел… опять от вас от всех ушел… Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел… Чу! Слышу, слышу ваши сладкие голоса… голосок Константы Спиридоновны, елейный… И Марьи Ивановны… прямо-таки ангельский: «Это где же наш Ваня, шалунишка, схоронился?.. Да что ж на этот раз натворил он, бяка!» И Вандышева старческое бормотанье слышу, и ручек его потирание иудино ощущаю — все слышу, все знаю! Не боюсь я вас! Только трясется все. Когда меня начинает вот так трясти и все подпрыгивает перед глазами, мне кажется, что это не я рассыпаюсь на сто осколков, на сто мыслей одновременно, а это мир рассыпается, показывая мне одному свою жгучую тайну непрочности. Ибо все-то его видят прочным, надежным, верным. Ну, пора. Поднимаются, скрипят ступенечки. Пора! Что б еще такое напоследок… вспомнить бы, все же сорок шесть лет прожито. А-а-а! Ну конечно — луг, ромашки, солнце — какое хорошее начало для конца!..
* * *
На похоронах Ивана братья помирились.
Когда полковник увидел кряжистую фигуру, потемневшее лицо Петра, не раздумывая пошел навстречу. Словно бы и не было меж ними долгих лет отчуждения, молчания, неприязни, словно бы все это было лишь сором, трухой, пеной, а главное — Ванька, которого уже не вернуть, по живому обрублено, и душа кровоточит у обоих.
* * *
А годы идут. За эмфиземой легких стало печень прихватывать. Курение до трех папирос в день свел полковник и строго выдерживает норму. Вообще поблажек себе по-прежнему не дает, как всегда, много занимается общественными делами. У них в инициативной группе при горвоенкомате много отставников-энтузиастов. Люди, конечно, самые разные. Есть и весьма интересные, прямо-таки загадочные даже. Да взять хотя бы товарища Мурасеева, что заведует платной стоянкой номер один. Высок, красив, здоров — словно образцово-примерная мужская особь. А голос? Ясный, громкий, уверенный. И в то же время нечто незримое постоянно витает вокруг товарища Мурасеева. А недавно вдруг узнает полковник от Нины Андреевны, что сын ее Сашка устроился работать именно на платную стоянку, именно к товарищу Мурасееву. Вот ведь… Хотя что тут удивительного, Сашка человек вольный, где хочет, там и работает. И все-таки…
Как-то пили чай у Нины Андреевны, Сашка зашел. И на этот раз разглядел полковник его получше: высокий лоб, худое нервное лицо, глаза, запавшие настолько, что будто б и не глаза уже, а сама душа так глубоко запала. Пока, в коридор выйдя, Нина Андреевна с сыном шушукались, полковник уловил, что Сашка просит денег, а у Нины Андреевны вроде нету. И тут полковник неожиданно для себя и предложил:
— Саша, в чем дело — возьми у меня. Ты ж теперь человек рабочий, отдашь.
— Конечно, Павел Константинович! — обрадовался Сашка совсем по-детски. — Двадцать пятого, с аванса — как штык!
— Ой, Сашка-Сашка! — только и сказала Нина Андреевна, бросив неопределенный взгляд на полковника.
А полковник и сам бы не смог объяснить, почему он дал в долг Сашке, ведь ясно же было, на что пойдут те деньги. Никогда не давал полковник денег на водку. Родному брату не дал. Всегда считал, что это во вред человеку. Дать на хлеб, на молоко, на мясо — это одно, а на водку — извините. Это ж только общее зло усугублять… А тут вдруг взял и дал… А вообще-то жизнь вокруг какая-то не такая стала. Чем больше полковник к ней приглядывается, тем все больше убеждается — не такая. Колбасная какая-то… Тем более что как раз тогда Сашкина жена Людочка заявила, что надоело ей жить на сто рублей Сашкиных, а хочется жить по-человечески. Лариску оставила у Нины Андреевны, а сама ушла к мяснику из универсама, тот будто бы обещал ей за это какое-то кольцо с изумрудным камнем, необыкновенное… Да, все больше вокруг крепчает дух этот колбасный… Ну а Сашка… что ж, Сашка, он и есть Сашка, не на колбасу занимает… на водку… и что тут лучше, что хуже — поди определи в данный момент действительности…
Долг Сашка вовремя отдал, слово сдержал. И это почему-то очень обрадовало полковника. Они не то чтобы подружились как-то, нет, слишком уж разные они. Но неизменно приветливо встречаются теперь. Сашка очень уважает полковника. А тот хоть и подтрунивает порою над Сашкой, но только всегда необидно. Что же касается Нины Андреевны, то ей такие отношения между сыном и полковником очень нравятся. Она и не скрывает этого.
6. САШКА И ПЛАТНАЯ СТОЯНКА
За день мало ли пройдет людей перед Сашкой. Один и не поздоровается, даже и не взглянет, покажет жетон на машину, и все. Такому Сашка молча сунет через окошко карточку: «На, распишись», — и тоже: все. Другой кивнет ему через стекло, тогда и Сашка в ответ кивнет. Есть которые здороваются, это чаще из тех, кто недавно приобрел машину, произносят фразу-другую: о погоде, например, или, заглянув к Сашке в бытовку, на двери которой: «Посторонним вход запрещен!» — вежливо говорят: «Как у вас тепло!»
Сегодня выходной, на автостоянке оживление. Кто аккумулятор снимает, кто брезент натягивает, кто снег чистит, кто-то косточек собакам принес. С 223-го места снимает весь каркас, перетаскивает на 210-е. Приезжают — тогда Сашка перекладывает карточку из левого ящика в правый. Уезжают — перекладывает из правого в левый. Доски привозят, цемент, устраиваются на зиму. Собственно, о всех проводимых на стоянке работах владелец личного транспорта должен оставлять запись в журнале, который лежит за окошечком на столе. Во-вторых, владелец должен передать сторожу-приемщику — а так называется Сашкина должность — свой жетон. Чтобы сторож точно знал, кто на каком месте и с какой целью. Но поскольку выходной сегодня, и завстоянкой товарищ Мурасеев отсутствует, сторож не очень следит за всем этим. Запишут в журнал — хорошо. Не запишут, просто так ему скажут: «Я снег почистить на двадцатом», — махнет рукой, проходи, мол, ладно.
Зашел в бытовку со сто седьмого места.
— Дай десять копеек, — попросил.
Сашка его только что впускал через ворота. Новенький ярко-красный «жигуль». Сам владелец, солидный, при галстуке, пристегнутый новеньким ремнем, выглядит молодцом. Рядом полная достоинства жена. Еще и постояли немного в воротах, словно кто-то собирался их фотографировать как идеал тройственного союза: муж, жена и автомобиль. И вот на тебе!
— Дай десять копеек!
Сашка до того опешил, вся дремь, вся слабость похмелья с него слетели. Он достал из сейфа банку из-под кофе с казенными деньгами и выкатил мелочь на стол. Увидев это, владелец со сто седьмого торопливо сказал:
— У меня есть, есть, — похлопал себя по груди, — но крупные, не хочется в автобусе возиться.
Сашка хотел было ему предложить разменять, казенные деньги позволяли, но уж очень владелец со сто седьмого места суетился и все повторял:
— Я потом тебе вложу в банку, у меня есть, есть, — и все похлопывал по невидимым карманам на груди.
Потом пришел дед — хозяин злой собаки по кличке Мухтар, что привязана на самом опасном месте — возле стенки военного тира.
— Можно я собачку покормлю? — сказал тихим, усталым голосом. Какой он среди автовладельцев медлительный, все про что-то думает, вниз смотрит. Потому что очень старый и больной. Собака его ни к кому не привыкает, тоскует по деду, оттого и злая. Радуется не нарадуется на нее завстоянкой товарищ Мурасеев.
Зазвонил телефон, сторож поднял трубку.
— Алло?
— Не «алло», Александр Иванович, а — стоянка слушает!
— Хорошо, Владимир Георгиевич.
— Теперь так — обедали?
— Нет… да я тут, Владимир Георгиевич, булку нашел, пожевал, да вообще-то и не хочется…
— Нет, так никуда не годится — сейчас буду!
«Вот черт! — подумал Сашка. — Теперь припрется, будет выговаривать, что не все жетоны отобрал он у владельцев, находящихся на стоянке, не все записи сделаны в журнале — не отдохнешь!» Сашка даже привстал, словно собирался навести какой-то порядок, но лишь вышел из домика, прикрыл одну половину распахнутых настежь ворот и стал ждать, раздумывая: куда пойти обедать. В столовую или домой. Тут вскорости подошли товарищ Мурасеев, за ним пожилая женщина, торжественные такие, довольные, — принесли Сашке обед из трех блюд в судках, мисках, банках. Жена приготовила, оказывается. Ну что делать? — надо Сашке принимать, благодарить, надо есть да похваливать. Да и то пора ведь уже что-то и перекусить — обед давно уже, а утром у Сашки, как обычно, чай да сигарета. Ну а тут борщ со сметаной и мясом, три котлеты с жареной картошкой (аж под ложечкой засосало), салат помидорный и майонезная баночка с сахарным песком. И пока Сашка ест это все с аппетитом, товарищ Мурасеев с женой сидят напротив и очень серьезно глядят на Сашку. Когда начальство ушло, уложив в сумку посуду, Сашка пьет вторяк, но вторяк очень сладкий, благо — сахару достаточно. Сашка вяло размышляет о товарище Мурасееве.
Ровно в пять, вздрогнув, начали зажигаться прожекторы на двенадцати высоких столбах, окружающих стоянку с интервалом в семьдесят метров. Время зимнее, темное. К семи часам последний владелец покинул стоянку. Это владелец допотопного «Москвича» с места сто сорокового «а».
— Спокойной ночи! — сказал он. — Поплетусь в свою деревню. Возьми вот, — он протянул Сашке бутылку вина «Кавказ», — чтоб ночью скучно не было.
Заперев ворота и спустив с привязи Джека, Сашка налил стакан вина, отломил немного хлеба и стал пить не спеша, ворочая языком при этом, пропуская вино за десны, увлажняя им всю полость рта, испытывая за многочасовое воздержание известную всем пьющим жажду. Зазвенел телефон.
— Стоянка слушает, — сказал Сашка, оторвавшись от стакана.
— Мурасеев Ве Ге! Все в порядке у вас, Александр Иванович?
— Да, все в порядке, Владимир Георгиевич.
— Рано сегодня все убрались по домам.
— Да, темнеет рано… снег вот пошел…
— Снег — это очень плохо, Александр Иванович, вы знаете, от снега часто обрываются провода и звенит сигнализация.
— Знаю.
— А вы знаете, что в свое дежурство придумал Иван Сергеевич?
— Что?
— Взял и все обрывы проволокой стянул!
— Да ну?!
— Да!! И сиди себе. Ему бы только лампочка не мигала, ему бы только ночь прошла. А вы знаете, Александр Иванович, зачем кроме звуковой сигнализации у нас еще и световая?
— Конечно. Вы же говорили неоднократно, Владимир Георгиевич, когда на обходе попадаешь ночью к западным воротам при южном ветре, звук будет относиться и там, у западных ворот, значит, его совершенно не слышно. Ну а если лампочку оставить в темной бытовке и она начнет при этом мигать, то ее очень хорошо видно от западных ворот — так мы даже при южном ветре сразу зафиксируем сигнал нарушения.
— Правильно! — удовлетворенно сказал товарищ Мурасеев и продолжил далее мысль свою: — Ну так вот, а Иван Сергеевич что придумал: затянул все проволокой. Да как?! Я еле потом распутал. А ведь тут и смысл сигнализации исчезает…
— Да, — сказал Сашка и осторожно отхлебнул из стакана.
— Я вообще думаю, Александр Иванович, со временем перейти на фотоэлектронную сигнализацию.
— А что? Вполне есть смысл! — И Сашка осторожно понюхал корочку.
— Ну, разумеется, есть, мы же наверняка будем расширяться — это несомненно, ведь только в нашем микрорайоне на сегодня более двух тысяч беспризорных машин. А сколько может вместить наша стоянка. Кстати, сколько? Сколько у нас стоянко-мест? Если вдруг ревизия нагрянет, а Мурасеева Ве Ге не будет рядом. Сколько вы должны ответить?
— Триста сорок, — поднимая голову на левый угол рамы, где приколота бумажка с этой цифрой, Сашка отвечал.
— Правильно! — удовлетворенно произнес товарищ Мурасеев. — Если забудете, цифра всегда перед вами. Ну так вот, а машин две тысячи, и с каждым годом их становится все больше, число автовладельцев растет! Растет! — воскликнул радостно товарищ Мурасеев. — Вы только подумайте — две тысячи! В одном нашем микрорайоне… А-а… а если оглянуться, с чего мы начинали…
— С чего? — спросил Сашка, отхлебнув глоток.
— Что — с чего?
— Я спрашиваю, Владимир Георгиевич, с чего мы начинали?
— А-а… собственно, вы историю развития отечественного автомобилестроения хорошо знаете?
— М-м… откровенно говоря… того… не очень.
— Ну-у-у… это надо знать. Это вам, Александр Иванович, теперь обязательно надо знать… вам же работать, не-ет, так нельзя. Сами знаете, контингент у нас — ого-го-го! Тут тебе и доктора наук, тут тебе и артисты, и космонавт на пятом месте, хоккеист международного класса на триста третьем — «жигуль» последней марки. Нет-нет — так нельзя… а вдруг кто спросит? Да-а… А зародилось, знаете ли, все еще в тысяча девятьсот двадцать пятом году, мы закупили тогда у Франции сто машин марки «рено» и-и… тридцать, если мне не изменяет память, да, ровно тридцать машин марки «фиат» в Италии. Положено, так сказать, начало отечественному легковому транспорту. Ну «фиаты» недолго проходили у нас, выбоины московских тогдашних улиц им явно пришлись не по вкусу. «Рено» оказались повыносливее. Это, если вы видели фотографии тех лет, был автомобиль с откидывающимся верхом типа «кабриолет», скошенная, знаете ли, такая форма капота, за что «рено» был удачно прозван — «утюг». Да-а… поздновато, конечно, все же двадцать пятый год уже… Впрочем, если уж быть точнее, у нас легковой автомобиль появился, разумеется, много раньше. Были у нас раньше двадцать пятого года уже и американские «кадиллаки» и была одна английская «пирс-аррау» — огромная такая восьмиместная машина типа «фаэтон», она была национализирована у последнего русского царя еще в семнадцатом году, были у нас и австрийские «штееры», капризные, надо сказать, машинки, была даже одна русско-балтийского завода, но все это были случайные машины. А вот первая сотня «рено» и тридцать «фиатов» — это уже какое-то первое упорядочение легкового транспорта, я считаю — начало. Двадцать пятый год — это надо запомнить.
— Хорошо, — сказал Сашка, — запомню.
— Ну вот и порядок, спокойного вам дежурства, Александр Иванович.
— Спасибо, Владимир Георгиевич.
Уже два месяца жил Сашка без жены. Попил вина вволю, задолжал кругом, в том числе и полковнику, отчего страдал и ругал себя с похмелья крепко. И решил, что надо за ум браться, с долгами расплачиваться, Лариску от своей матери забрать и остаток жизни ей посвятить. Третий месяц он уже работал на платной стоянке, здесь нравилось ему. Да не в том дело, что нравилось, а просто было непохоже на все остальные работы, которые он перепробовал за свои сорок с небольшим. Приятно было Сашке постигать какие-то секреты новой работы. Подъехав, машина должна остановиться перед воротами, напротив круглого железного щита с четкой надписью черным по желтому «Stop». А Сашка, согласно инструкции, должен обойти ее со всех сторон, убедиться в исправности, в наличии запасного колеса, подфарников и всего прочего, чтобы утром, машину получая, автовладелец не востребовал бы с Сашки несуществующего колеса или утерянных подфарников. «В семье не без урода, — постоянно учит сторожей товарищ Мурасеев, — могут проскочить без запасного колеса или без подфарников, а потом потребуют. Уже был случай, сбрасывались на зеркало заднего обзора. Сейчас, разумеется, мы кое-чего добились — и в обмен на то, что оставили им каркасы, не отвечаем за наружные антенны и зеркала заднего обзора, но подфарники и запасное колесо по-прежнему на нас лежит». Так что по инструкции сторож-приемщик, прежде чем пропустить машину, обязан осмотреть ее. Но Сашке лень.
Сашка пьет чай, слушает маяк. За машиной если кто придет, номер назовет — Сашка карточку из правого ящика вынет, в левый переложит и опять сидит — хорошо! А вечером, когда уже нет товарища Мурасеева или, как сегодня, по воскресеньям, Сашка осмотр заменяет тем, что выходит из бытовки на крыльцо, слегка наклоняется на секунду-другую, словно бы рассматривая водителя, и, якобы узнав его, Сашка бодренько машет рукою, мол, проезжай, проезжай — я тебя уже знаю, выделяю из трех с лишним сотен остальных, свой! Это очень радует автовладельца — новый сторож и уже узнает его! — и автовладелец машет радостно из машины. Он тоже Сашку узнает, приветствует. Вот ведь как хорошо оба они устроились!
До этого службы у Сашки были не то чтоб слишком деятельные по сравнению с нынешней — случались и такие, в геологоразведке, к примеру, когда из спальника месяцами не вылезал, — но только везде он был не один, с людьми. А вот теперь, часами оставаясь наедине с самим собою, волей-неволей думалось про что-то, делать-то было абсолютно нечего. И было в этом одиночестве нечто непривычное, неожиданно в чем-то даже привлекательное, как бы небольшой, но всегда приятный сюрприз. С этим чувством он теперь и отправлялся на работу. Прожив сорок с лишним лет, Сашка, оказывается, жил до этого, совершенно не думая. То есть думал, конечно, о чем-то, всякий ведь думает о чем-то. Скажем, проснешься и сразу же соображаешь, конечно: «Трояк есть — можно грести к магазину». Или на работу, скажем, пришел ты в кочегарку, а тут — подфартило — завоз угля по графику. Конечно же думаешь, как загнать хотя бы одну машину — выпить-то хочется! То же и о Людке — жене то есть — были какие-то мысли. А вот мыслей далеких каких-то, обо всем сразу, обо всех сразу — сроду таких у Сашки никогда не было.
И потом, все это совпало совершенно с иной обстановкой, не похожей ни на что другое. Во-первых, начать надо бы с того, что на платной автостоянке совсем не сквернословили. Это поразило Сашку. Потом он обратил внимание на то, какая здесь, на территории стоянки, чистота невероятная. Ни бумажки, ни соринки. Когда он сказал об этом товарищу Мурасееву, тот лишь гордо усмехнулся и, закурив, подошел и аккуратно опустил спичку в урну.
Буквально все здесь было продумано и предусмотрено. Четыре стены бытовки были использованы с максимальной пользой. Висели графики распорядка, должностные инструкции, прейскуранты за всякие услуги и опять инструкции, инструкции… на все случаи жизни, могущие иметь место на платной автостоянке номер один. Затем на десятках гвоздиков, аккуратно и продуманно вбитых, висели ключи и от центральных ворот, и от западных, и от восточных, а отдельно, на виду — от запасных, которые всегда заперты и должны открываться лишь при стихийных бедствиях — пожарах, наводнениях. Ключи от туалета, который открывается лишь на время пользования. Ключи от установки для зарядки аккумуляторов. Ключи от двух собачьих будок, до сих пор еще не занятых собаками. Еще были ключи от двух столов, которые в случае надобности разрешено открывать сторожам-приемщикам. Кроме этого, на гвоздях побольше висели запасные поводки с ошейниками для собак, которые появятся в пустующих будках. Висел еще капроновый трос с карабином на случай пожара — им надо будет оттаскивать загоревшуюся машину. А под тросом в пожарном красном ведре лежала брезентовая накидка для тушения пламени и по бокам от троса — огнетушители марки «ОМ-2».
На специальном гвоздике из нержавейки оставлял ключи от своей машины начальник ГАИ. На маленьких гвоздиках на раме вешаются жетоны автовладельцев, идущих чистить снег со своих каркасов. Между окнами — щит сигнализации, щит включения внешнего и внутреннего освещения, внизу обогревательные приборы, на столе — электроплитки, чайники, приемник «Рекорд» и радиотрансляционная установка, по микрофону которой можно призвать к порядку любого автовладельца, задержавшегося на своем месте больше положенного времени — пятнадцать минут летом, тридцать — зимой. Особый включатель правее окна — это для вращающегося наподобие перископа прожектора, установленного на смотровой площадке второго этажа бытовки.
— Моя конструкция! — с нескрываемым ликованием говорил товарищ Мурасеев, когда устанавливали его. — Я вообще, — говорил товарищ Мурасеев, — хотел установить прожектор на крыше смотровой комнаты, так чтобы, не выходя из нее, можно было бы вертеть его, как из подводной лодки, но крышу сразу надо было строить по-другому. Но все равно — хорошо… как в концлагере!
На столе товарища Мурасеева — сейф, телефон, счеты, бланки, квитанции и так далее — все, что может понадобиться, все на своем месте. Не совсем понятно, как оказалась на стене, как раз над телефонным аппаратом, картина художника Крамского «Портрет незнакомки». Скорее всего, вымпел «Победителю соревнований» — треугольный, голубого бархата, с мягкими бахромками — был тому причиной: требовал для симметрии чего-то такого… нестандартного. А может, «Портрет незнакомки» — это случайный рефлекс, бесконечная производная судьбы самого товарища Мурасеева, — кто знает.
Вот он идет — Сашке видно через окно — ровно в десять от автобусной остановки. Он идет не спеша вдоль ограды стоянки, мимо запасных ворот, мимо западных, приближается к центральным. По-хозяйски осматривает забор, недавно покрашенный зеленой краской, проволочное ограждение поверх забора, два почти незаметных проводка сигнализации с внутренней стороны ограды, собачьи будки наблюдает товарищ Мурасеев с нескрываемым удовольствием — дело в том, что ему удалось придумать такую конструкцию входа в будку, что и собака туда может свободно проникать, и в то же время ни дождь, ни снег внутрь не попадает. Уже обметает ноги на пороге бытовки товарищ Мурасеев, дверь открывает, входит, снимает перчатку, Сашка поднимается навстречу:
— Доброе утро, Владимир Георгиевич!
— Я вас приветствую, Александр Иванович!
Они обмениваются рукопожатием, и товарищ Мурасеев садится за свой стол, а Сашка — за свой. Завстоянкой обязательно с утра полчаса хотя бы молча посидит за столом, ничего не делая. Спросит лишь сдержанно:
— Сколько денег?
— Сто рублей, — ответит Сашка.
— Это хорошо, — мечтательно произнесет товарищ Мурасеев. И сидит, зная, что рядом в сейфе, в банке из-под кофе, — сто рублей. Тянет удовольствие. Потом отпирает сейф, берет банку со ста рублями. — Пожалуйста, квитанции, — не поворачиваясь к Сашке, говорит и начинает принимать деньги, собранные сторожем за сутки. Сначала по квитанциям за временную стоянку, за пользование эстакадой, за пользование подзарядной станцией, потом принимает основной доход стоянки, то есть по квитанциям за постоянное хранение. Он раскладывает деньги по разным коробкам в зависимости от источника дохода. «Времянку», например, — в коробку от зубного порошка, а «постоянку» — в яркую коробку из-под леденцов.
Закончена основная операция по приему денег, и в общем-то, завстоянкой делать здесь нечего. Теперь лишь в конце месяца ему необходимо составить табель и сдать все деньги в банк. Но если б кто так сказал про Мурасеева, стал бы смертельным врагом его. Никто этого, конечно, не говорит и никогда не скажет, но ведь про себя подумать может. Поэтому с такой пристальностью во взгляде встречает человека товарищ Мурасеев. Особенно тех, кто имеет личный транспорт, особенно того, кого вышестоящее начальство навязало товарищу Мурасееву поставить на автостоянку.
— Читайте, — со вздохом дал автовладельцу инструкцию об обязанностях всякого, кто занимает место на платной автостоянке. — Не возражаете? — вежливо спрашивает он человека.
— Приказ не обсуждают, — в тон товарищу Мурасееву подыгрывает автовладелец с легкой улыбкой, поигрывая ключиком при этом.
— У вас какая машина-то?
— «ВАЗ» двадцать один ноль одиннадцать, — с тихой гордостью произносит владелец, все ключиком золотистым поигрывая перед товарищем Мурасеевым. А ключик вдобавок на красивом брелоке.
— Хорошо, хорошо, — раздумчиво и так тихо говорит товарищ Мурасеев, опуская глаза и стараясь не смотреть на ключик золотистый, — А где живете-то?
— На Привокзальной, дом номер…
— На Привокза-альной… ах вон что-о-о… хорошо, хорошо…
Все это похоже на начало шахматной партии. Какие-то первые, еще выжидательные ходы, когда партнеры еще в равных позициях, непонятно еще чем все и кончится.
— Техпаспорт, пожалуйста, — тихим, добрым голосом. — Так, так, так… хорошо… А-а… простите, на учете где стоите?.. Так, так… хорошо, хорошо… Теперь членский билет, пожалуйста.
— А у меня его…
— Что?! — едва сдерживая ликование — вот оно, наконец-то! — Ай-ай-ай! Как же так, без билета, а? И хотите место на нашей стоянке?
— Да у меня…
— Без билета не могу, — поджимает губы товарищ Мурасеев, — отложим до понедельника.
— Да ей-богу, завтра же…
— Завтра у нас воскресенье, а у вас? Или вы считаете, что я обязан и в воскресенье…
— Да нет, ради Бога, но… войдите в мое положение… машину девать некуда, ведь разденут и разуют до понедельника.
— А что я могу? Войдите и вы в мое положение — нельзя!
— Под окном стоит, не спим с женой, по очереди караулим, сделайте что-нибудь, а я уж не знаю как и благодарить буду.
— Ох! Ну что мне с тобой делать? На слово поверить?
— Да уж поверьте, поверьте, пожалуйста.
— А свой-то паспорт у тебя хоть есть? Есть. Ну давай… Так, Пчелкин… Был тут у нас один Пчелкин, так мы его все Жужалкиным звали, ха-ха-ха…
— Хе-хе-хе… — невесело вторит Пчелкин-Жужалкин.
— Ну ладно, ставь свой «жигуленок» на сто пятое место… о-ох.
— Спасибо, спасибо!
— Там снега полно…
— Я вывезу, вывезу, спасибо.
— Там каркас немного обвалился, так ты его… того…
— Спасибо, сделаю, все сделаю…
После того как Пчелкин с шапкою в руках, не переставая благодарить, покинул служебное помещение, товарищ Мурасеев хорошо вздохнул, с хрустом потянулся и вышел на крыльцо. Расставив ноги стоял, победоносно оглядывая стоянку.
— Егорыч куда пошел, туда? — спросил один автовладелец.
— А куда ж ему идти еще?! — отвечал товарищ Мурасеев.
— А стрелка секундная на ваших часах есть? — спросил его другой автовладелец.
— А почему бы ей не быть! — отвечал сверху с крыльца товарищ Мурасеев.
— А-а-а! — закричал он, увидев маленького автовладельца, пытавшегося незаметно проскользнуть мимо.
— Да я… — начал было маленький.
— Мы ему место дали! Договорились по-человечески, а…
— Да я… заболел.
— Отговорка! — гремел с крыльца товарищ Мурасеев. — Договорились же до первого снега. Договорились?!
— Догово…
— Ну вот, понимаешь, твой «жигуль» мешает же нам чистить!
— Заболел…
— Отговорка! Вот иди бери машину и перетаскивай свой «жигуль» на другое место. Быстро!
— Да я…
— Понял?! Всё! Ну иди!!
И стал маленький бегать, стал всех упрашивать перетянуть его машину на другое место, потому что на двести девятом она мешает чистить снег. Хотя она совсем и не мешала, да и снег чистить нечем. Бульдозер пока занят и неизвестно когда освободится. Товарищ Мурасеев возвращается в помещение:
— «Мерседес-бенц»! — говорит он Сашке. — Вы только вслушайтесь, Александр Иванович, — «мер-се-дес-с-с»… и сразу — бенц! Это же как э-э… это же как женщина — умная, томная, горячая… э-эх…
У Сашки, правда, таких никогда за всю жизнь не было, но уж так это с вывертом, на какой-то особый манер произносилось товарищем Мурасеевым — аж мурашки по лопаткам пробегали… а главное, это непонятно волнующее — бенц! Сашка оживился, слушает.
— Да, да, Александр Иванович, именно «мерседес-бенц» и хотят купить наши прославленные Белоусов и Протопопова.
— А что — он лучше, что ли, наших?
— Ну еще бы… ну еще бы… — снисходительно улыбается товарищ Мурасеев, снимает очки. — О-ох… Александр Иванович, наивный вы человек — двадцать лет гарантия! Вот так-то! Двадцать лет! А вы как думали?! Двадцать!! А если сломается что, сразу заявление — и тебе тут же новые детали высылают. А иначе там и покупать никто не будет… Ну да ладно, — вздыхает, очки надевает, — давайте все же поработаем немножко, а? У вас там, кажется, кто-то подъехал? Или я ошибаюсь?
Сашка приподнимается с места чуть-чуть и видит, что никто, конечно, и не думает подъезжать. Сашка садится обратно. Товарищ Мурасеев в связи с расширением стоянки чертит новый план эвакуации автомашин на случай стихийного бедствия. Теперь через центральные ворота будут эвакуироваться машины с номера первого по восемьдесят девятый. Через западные ворота — с восемьдесят девятого по сто пятидесятый. Но тогда же через восточные слишком много получается… если же открыть запасные, то… то тогда не совсем понятно — откуда же ждать стихийное бедствие… И все же через час новый план эвакуации готов, все продумано, все учтено. Даже непосвященному видно, что новый план более надежен, более соответствует идее, ради которой товарищ Мурасеев проводит дни и ночи в бдении по поводу стоянки: вдруг удастся что-нибудь еще придумать для улучшения, для большего соответствия тому пониманию жизни, которое уже в крови и в нервах у товарища Мурасеева. Поэтому все сразу закипает в нем, как только он увидит непорядок, расхлябанность вокруг.
Покончив с новым планом и повесив его под плакатиком «В случае пожара — звони по 01», товарищ Мурасеев, не отдохнув ни минутки, сразу же начинает на куске ватмана писать разными карандашами с бумажки, заготовленной дома, объявление следующего характера:
«Внимание!!! Тов. автовладельцы, просим вас приносить пищевые отходы, не забывайте о нас — четвероногих друзьях ваших. А мы постараемся оправдать ваше доверие. С уважением и надеждою к вам сторожевые псы: Тимофеевна, Мухтар, Джек, Полкан».
Он торжественно относит объявление на веранду, через которую проходят автовладельцы, и укрепляет его между объявлениями о проведении собрания среди автовладельцев в последний день каждого месяца и самым главным объявлением о том, что в случае неуплаты в срок за стоянку автовладелец лишается места без всякого предупреждения и навсегда! И, укрепив новое объявление, отошел на шаг, полюбовался, склонив голову набок: «Прекрасно!» И ощущая в душе сильнейший подъем, схватил чистый листок, стал быстро и четко писать:
«Неуклонно развиваются все отрасли народного хозяйства, развивается наука и техника, все богаче становится духовная жизнь советских людей, повышается их благосостояние. Подъем благосостояния особенно заметен на фоне быстрого роста парка личных автомашин в нашей стране. С каждым годом растет приток автомобилей для индивидуального пользования. При быстром росте автопарка возникает ряд острых проблем, и в первую очередь — проблема личного хранения собственного транспорта. Платная стоянка — универсальная форма решения данной проблемы. Удобство, дешевизна — окупается в три-четыре года при средней окупаемости производственных сооружений по стране в восемь — десять лет. Платная стоянка, устроенная надлежащим образом, гарантирует полную сохранность личного транспорта, а значит, сохраняет надолго психическое, моральное и физическое здоровье владельца, который, если хорошо разобраться, является тружеником полей, станков и научных лабораторий».
Одним духом написав такое убедительное вступление, товарищ Мурасеев перешел к сути. Дело в том, писал он, обращаясь к военкому города, что, когда комиссия принимала стоянку, остался ряд невыполненных работ по электроснабжению, телефонизации и водоснабжению. В акте приемки было указано, что невыполненные работы предстоит позднее выполнить, присоединившись к распределительным щиткам рядом расположенного горвоенкомата. Однако ж водоснабжение не проведено до сих пор. А поэтому и писал далее товарищ Мурасеев военкому города:
«…Совет стоянки убедительно просит Вашего разрешения на присоединение к Вам хотя бы временного водопровода, без которого совершенно немыслимо высококвалифицированное обслуживание автовладельцев нашей стоянки. Работы будут выполнены первоклассными специалистами и, естественно, за счет средств автостоянки номер один. Завстоянкой Мурасеев В. Г.».
За три года ежедневных его стараний платная стоянка достигла почти идеала. Теперь приходится постоянно думать о ней, и тогда лишь удается что-нибудь еще улучшить. Поэтому у товарища Мурасеева сегодня очень удачный день — проведено сразу два улучшения. Голова, болевшая с утра, уже не болит. Вот только снег идет и идет, тихо, сонно на стоянке, автовладельцев почти нет. Сашка носом поклевывает.
— Завалит стоянку, — грустно говорит товарищ Мурасеев.
— Да, — встряхивается как лошадь Сашка.
— Я с детства снег не любил, — говорит товарищ Мурасеев, — зато все двенадцать фонарей горят… через горсовет не помогло, через облсовет добился — прибавили напряжения… это хорошо… а Степаненко выговор дали — так ему и надо! Теперь Клавдию Савельевну поприжать бы… через второго секретаря, он у нас стоит на тридцать втором месте. Пусть заберет контейнер с мусором! На платной стоянке должна быть чистота! За-аберет, куда денется!..
Унизить человека для него не было самоцелью, от природы товарищ Мурасеев не был злым. Но ведь люди безнадежно проигрывали в сравнении с той идеей, которую постоянно носил он в себе, жил ею, просыпался часто посреди ночи, словно бы специально, чтобы еще раз убедиться, что на самом деле существует Идея, не приснилась однажды она вроде сна красивого, уж до того прекрасного, что порою самого одолевало: «А достоин ли сам такого, товарищ Мурасеев?!» Что ж о других-то говорить тогда! А потому, коль видел человека хотя бы и первый раз в жизни, тут же, вполне естественно, сразу начинал презирать его. Как бы даже и помимо собственной воли, а словно бы уже с высоты стоянки, с высоты всех ее двенадцати столбов прекрасных. Презирал, еще не зная толком и за что, но сразу ощущая, что есть за что-то, обязательно должно быть. Было, было почти в любом человеке какое-то несоответствие идее, не тянул почти каждый на эту высокую, мудрую мурасеевскую идею. Тот за воротник закладывает, этот матерится через слово, третий жене изменяет, пятый явно не по средствам живет… на какие такие шиши машину приобрел? Шестой… шестой окурок мимо урны бросил. Седьмой просто здоровьем слаб. Или вот такой, как сегодняшний Пчелкин-Жужалкин, к примеру, забывчивостью непростительной с детства страдает, ненадежен — и таким нет места в идее товарища Мурасеева. Всех, обязательно всех надо как-то встряхивать, одергивать, подтягивать… заставлять расписываться в десяти бумажках, имеющих юридическую законность. Одним словом, приходится делать так, чтоб человек хоть немного почувствовал, как много ему недостает на человека быть походимым. А уж потом только пускать на платную стоянку. Самому же, чисто по-человечески, товарищу Мурасееву бывало даже и жаль только что униженного и оскорбленного… не им, идеей. Уже через минуту-другую тому же Пчелкину-Жужалкину, осознавшему наконец-то, за сорок лет несознательной жизни своей, куда он все-таки попал, осознавшему, что никак не тянет он на это, хоть и «жигуль» у него самой последней марки, товарищ Мурасеев готов уже и посочувствовать, по плечу похлопать, человеческим голосом сказать: «Ты мне звони, достанем брезент тебе на каркас, достанем — я же в курсе: кто гараж получает, кто брезент продает… звони…»
— Вы не возражаете, Александр Иванович, — говорит он без четверти семь, — если я вас покину, жена, наверное, заждалась. — Это у него такой юмор, когда он в хорошем настроении.
— Не возражаю, — отвечает с улыбкой Сашка, давая понять, что он вполне оценил юмор начальника.
Они стоя за руку прощаются, и товарищ Мурасеев с портфелем в левой руке не спеша идет вдоль ограды. После работы он обычно идет на автобусную остановку мимо восточных ворот, утром же идет мимо западных и этому правилу никогда не изменяет.
А Сашка ставит чайник, разворачивает сверток с ужином, и главное — достает из бокового кармана пальто четвертинку, несет на веранду немного охладиться.
Идея, вынашиваемая товарищем Мурасеевым уже много лет, наконец-то начала материализовываться в платную стоянку — первый росток нового экономического порядка, о чем полжизни мечтал товарищ Мурасеев. Понятно, что платная стоянка не венчала саму Идею. Справедливая, по твоим человеческим заслугам жизнь — вот что должно было венчать Идею. А платная стоянка — это лишь начало. Но начало хорошее.
Пятое число, день зарплаты, день собрания. И поскольку это совпадает на этот раз с субботой — на автостоянке субботник. Но сначала товарищ Мурасеев зачитал им всем приказ комбината, в котором говорилось, что при проверке работы некоторых автостоянок области были обнаружены существенные нарушения: где-то брали плату больше, чем по прейскуранту, где-то еще плохо знакомы с правилами работы платных автостоянок.
— Вот и у нас такой случай имел место в прошлое дежурство Александра Ивановича. Он допустил нарушение основного правила платной стоянки, а именно: пункт первый, где прямо сказано: «На хранение в первую очередь принимаются личные легковые автомобили отечественных и зарубежных марок и лишь во вторую очередь, и то лишь при наличии свободных мест, принимаются госавтобусы». И то лишь — экскурсионные и туристские, а если просто автобусы, как вы вчера, Александр Иванович, приняли, то какой вместительности? А? Кто знает? Ай-ай-ай…
— До одиннадцати вроде мест, — неуверенно сказал профорг.
— Правильно! А вы, Александр Иванович, поставили какой? Двадцатиместный! То есть дважды нарушили. На первый раз ограничимся порицанием в устной форме. Но правила, Александр Иванович, нужно знать назубок, да-да, назубок… Может быть, вы не знаете и новый план эвакуации машин с платной стоянки номер один в случае стихийных бедствий? Скажите-ка, через центральные ворота с какого по какое место эвакуируются машины?
— С девяностого по двести шестьдесят пятое, — ответил Сашка.
— И-и-и…
— И со сто семьдесят первого… нет, со сто семьдесят второго по… по сто девяносто третье…
— Н-ну, допустим, а через западные?
— Через западные… э-э-э… э-э-э… с пятого, нет с пятнадцатого… или нет, не с пятнадцатого… а-а…
— Да-а…
— С семьдесят пятого, что ли…
— Да-а… нет-нет, на стенку не подглядывать, я сам знаю, что там висит план эвакуации, но вы-то должны его знать наизусть, днем и ночью вас спроси… нет-нет, надо выучить и завтра же доложить, а? Договорились? Ну вот и хорошо, вот и ладушки. Пойдем дальше. Опять больной вопрос о собачках, будем брать еще одну, к западным воротам, или нет?
— А что за порода? — спросил сторож Егорыч.
— По-моему, смесь дога с московской сторожевой.
— Ну что ж, — решили все, — добрых кровей — надо брать.
— Теперь об ограде за туалетом, ну, вы знаете где — поржавело же там все, проволока не выполняет своей функции. Со сто восемьдесят шестого принес моток колючки, будем сегодня на субботнике ржавую заменять. Ну, есть?!
— Есть! — ответили на это.
— Пойдем дальше — реконструкция сигнализация намечена на весну, уже все обговорено, будет, будет и у нас наконец-то фотоэлектронная сигнализация… а пока надо на старой тянуть. Вы уже в курсе, что она проведена неопытными людьми, не был оставлен допуск на случай мороза. А при морозе, как вы уже знаете из прошлых моих бесед, происходит натяжка проводов — вот для чего нам необходим этот допуск. Поэтому за зиму у нас так много случаев самопроизвольного разрыва цепи — надо это учесть всем.
— Учтем, — сказали все.
— Ну вот — о собачках поговорили, о колючей проволоке решили, с сигнализацией вопрос ясен. Что нам еще осталось решить, а? Ну, даю наводящий вопрос, зима ведь, новый год скоро, а?
— Да, холодно, полушубок бы не помешал…
— Э-э-э, не то, не то — о чем нам надо еще поговорить, о чем важном очень в нашей работе, может быть, самом важном, а?
— Может, о ружьях для сторожей?
— А что — не помешало бы ружье!
— Ну как дети! — с отеческой улыбкой покачал головой товарищ Мурасеев. — Про все вспомнили, а про соцобязательство забыли, а? Нехорошо, нехорошо… А товарищ Мурасеев все помнить должен, да? Он начальник, да? Ну ладно, шутки в сторону, какие есть предложения? Читаю прошлогодние соцобязательства, с тем чтобы в этом году взять повышенные:
«Мы — коллектив сотрудников платной автостоянки номер один, принимаем следующие соцобязательства: первое, выполнять ежемесячно финансовый план на сто три процента, а годовой финплан к двадцать пятому двенадцатого. Второе, находясь на дежурстве, особенно в ночное время, принимать всевозможные меры к недопущению проникновения на стоянку посторонних лиц. Третье, при приеме дежурства уделять особое внимание исправности сигнализации и натяжению колючей проволоки. Четвертое, быть всегда вежливым и опрятным в обращении с автолюбите… то есть автовладельцами, помнить постоянно, что ничто не дается нам так легко и не ценится так дорого, как веж-ли-вость…»
— Итак, подумайте, — кончив читать, сказал товарищ Мурасеев, — чтобы в этом году обязательно взять повышенные.
После собрания пошли на субботник, разделились на две группы. Одна занялась проволокой за туалетом, другая стала перетаскивать собачью будку от автобуса подальше вдоль ограды к центральным воротам, с тем чтобы у западных ворот равномерно разместилась еще одна будка для новой собаки. Мурасеев, чтобы на субботнике было как на настоящем субботнике, включил музыку через громкоговоритель, время от времени перебивая ее собственными объявлениями, в основном направленными к автовладельцам, которых по случаю субботы было довольно много на стоянке.
— Товарищи автовладельцы! — обращался к ним Мурасеев. — Послушайте сообщение: за третий квартал истекшего года четыре автовладельца, находясь в пьяном виде, совершили наезд на пешеходов! Четыре человека находятся в настоящее время в больнице. Товарищи автовладельцы, органами ГАИ в настоящее время проводится операция «Ремень безопасности», помните правила дорожного движения: «Прежде чем двигаться, пристегни ремень безопасности!» Товарищи автовладельцы, с наступлением новогодних праздников многие граждане занимаются незаконной вырубкой елок. В связи с этим совет нашей автостоянки просит вас и ваших родственников не нарушать законодательство по вырубке лесонасаждений!
Прочитав объявление, сидит товарищ Мурасеев пригорюнившись. Все вроде бы хорошо, безукоризненно. Но ведь он не мальчик и отлично понимает, что его идея буксует, то есть масштабно все-таки не реализуется. А раз так, то никогда и не станет всеобщей экономической философией, не завладеет психологией масс, а значит, рано или поздно изживет сама себя. Да уже и так — ряд платных автостоянок, возникших вслед за мурасеевской, приказали долго жить — расформированы! Обэхээсэс, финорганы, прокуратура, да что там — прямо надо сказать: сама Конституция не способствует установлению нового экономического порядка. Ведь все, буквально все надо перестраивать, ломать. Иначе же никогда энергичные, смелые, решительные люди не дождутся заслуженно справедливой жизни… Мимо прошаркал согбенной походкой хозяин Мухтара, пошел кормить свою собачку.
— Ну почему, почему я, — вслед ему воскликнул товарищ Мурасеев, — здоровый, умный, сильный, должен жить так же, как и этот нелепый, выжатый как лимон человечек?! Когда же кончится эта уравниловка? Всё, всё перестраивать надо! «Увы… — озираясь вокруг, тоскливо думал. — Этим у нас и не пахнет!»
Да, ничего, казалось, не предвещало резких изменений, наоборот, все как бы внушало, что еще долго, очень долго все будет по-прежнему. Но ведь человек, как говорится, под богом ходит. Сегодня жив, а завтра…
* * *
Бывшая жена полковника Надежда Алексеевна в контору утром заглянула, а ей:
— Брежнев умер!
— Вот это да! — так и ахнула Надежда Алексеевна. — Может, жив еще?
— Да нет, вчера и концерт поэтому отменили… Радио надо включить, будут передавать.
И пошла она из конторы, забыв, зачем приходила, одна мысль сверлила: «Как же так — жил, жил и вот умер. Плохо ли, хорошо ли жили, но всё же жили, а что теперь?..» — и куда ей идти теперь, с кем душу отвести, — баба Вера в деревню погостить отправилась, Рая, с мужем поругавшись, исчезла и как в воду канула. Чего только не надумалась Надежда Алексеевна за эти дни, и вот через неделю прислала дочь телеграмму: на турбазе у друзей на озере Селигер — вон куда занесло! С зятем все эти дни Надежда Алексеевна не разговаривала, всем только говорила: какой он садист, не хочет пальцем пошевелить, чтобы жену искать, одно отвечает: «Сама найдется».
— А если ее и в живых-то нет?
— Ну а тогда тем более нечего суетиться, все равно уж ничем не поможешь.
Внучка Оля в школе, внук Игорек в детсаду. Чем их в ужин кормить? А-а… что-нибудь придумает она… куда ж ей все-таки идти? Бредет она по снежным лужам, дошла до клуба, где теперь она работает кассиром в кино. Но в клубе ей сейчас делать нечего. Дикая вдруг мысль мелькнула — не дать ли полковнику телеграмму… о чем?.. зачем?.. Сама себе удивилась. Нет, наверное, все же к зятю надо идти. Он, правда, с утра, скорей всего, спит, по ночам много работает, но ведь такое случилось, что… можно…
Пришла, стучит, слышит — зять кричит из ванны:
— Кто там?
— Я! — кричит Надежда Алексеевна в замочную скважину.
И тут Рекс залаял.
— Срочно что-то? — зять кричит. — А то я в ванне.
— Да я слышу, — кричит в замочную скважину, Рекс не узнал ее голоса через замочную скважину, еще пуще залаял. — Рекс! Рекс! Замолчи! Это я.
— Что там стряслось? — кричит зять из ванны.
— У вас радио работает?
— Работает.
— Включи, будут передавать важное сообщение.
— Важное? Ладно, включу.
— Очень важное сообщение, — потом все же не удержалась и, оглянувшись по сторонам, громким шепотом сказала в скважину: — Брежнев умер!
— Да ты что?! — воскликнул зять, называя тещу на «ты».
— Да-да, будут передавать, включи.
— Хорошо, включу.
— Ну вот, — вздохнула Надежда Алексеевна, и стало ей полегче.
Но все равно очень сумрачно на душе. Что-то Рейган там в Америке затевает, в Афганистане нехорошо, в Польше еще хуже, а про Ливан и говорить нечего, недавно палестинских раненых привезли в Москву — что ж эти израильские изверги только делают, маленьких детей так калечат! А если что с ее внуками будет такое?! С Олей или Игорьком… ох-хо-хо… Ну как жить дальше?! Там колбасы нет, здесь — мяса, урожай в этом году неизвестно какой будет, сводки пока не радуют. Да это бог с ним — можно и поголодать, впервой, что ли! А вот плохо, что надвигается что-то… а что? — и не поймешь… вообще ведь все плохо… а теперь вот, может быть, еще хуже будет… кто ж теперь будет на его месте?.. Наверное, Романов из Ленинграда… или Пельше… а может быть, Черненко?..
Пришла в контору опять, а там как раз инструктор горкомовский Ольга Ивановна. Надежда Алексеевна за долгие годы общественной работы со всеми в горкоме перезнакомилась, разговор, естественно, сразу же о том, кто теперь будет.
— Может, Романов?
— Нет, скомпрометировал себя, свадьбу дочери закатил в Таврическом дворце, посуду взяли из Эрмитажа.
— Ну и ну! — так и ахнула Надежда Алексеевна. — А Пельше?
— Пропал.
— Как пропал?
— А вот так — никто и не знает где.
— А Черненко?
— Застрелился.
— Да ну?!
— Из-за сына, сын удрал за кордон.
— Ох-хо-хо… да кто ж тогда будет-то, может, Устинов?
— Староват.
— А Шеварднадзе?
— Этот слишком молод, горяч.
— Тогда кто же, кто же? Кто там у нас еще-то остался, кому доверить можно?
— Никто ничего не знает. Будут решать.
— Конечно, будут… — Идет Надежда Алексеевна, головой качает. — Что будет, что будет!.. Внучки что-то долго нет из школы, а пора бы… И когда эта Раиса из своего Селигера вернется, зла не хватает! Тут такие дела надвигаются, а ей хоть бы хны! Укатила, отпуск себе устроила… да хотя бы вернулась благополучно, мало ли что, все ж далеко… надо на карте поглядеть, где Селигер этот… А чем внуков кормить в обед сегодня? Надо что-то придумать… пойду-ка на кухню… может быть, там еще не знают, что Брежнев умер…
Тут она увидела Олю, из школы возвращающуюся.
— А Игорь где? В детсад заходила?
— Не-а…
— Ну как же так! Мать неизвестно где, Брежнев умер, такое кругом творится, а ты не знаешь, где Игорь!
— Бабуля, а нам противогазы сегодня выдали, мы и в бомбоубежище спускались!
— Ну, час от часу не легче.
— Бабуля, а Рекса можно, если что, в бомбоубежище взять с собой?
— Я ей про Игоря, а она мне тут!
Да что же это такое делается! Побежала к детсаду, Игоря встречать… Комсомольская юность, фронтовая молодость и потом тридцать с лишним лет на общественной работе, в основном на партийной, развили в Надежде Алексеевне невероятную ясность. Ее паровоз, сорвавшись с привязи еще в семнадцатом году, продолжал лететь на всех парах, и остановить его можно лишь в коммунизме. А жизнь, к немалому возмущению Надежды Алексеевны, то и дело загоняла паровоз в какие-то тупики не тупики, а в переулки-закорюки какие-то. То в кукурузу, то в поголовную химизацию… культ личности потряс ее до глубоких основ, она и поверила и так до конца и не поверила во все эти развенчивания. Это было как в детстве — тебе говорят: не бойся, Бабы Яги нет, это просто выдумки, и ты точно знаешь, что нет ее, а все ж страшновато. Надежда Алексеевна так на всю жизнь и осталась в детстве или, правильнее, в юности, на том паровозе, который все летит, летит… и они все в красных косынках, все такие молодые, мужественные на том паровозе, и видно далеко-далеко вперед, где их всех ждет коммунистическое будущее… А на самом деле — ни черта не видно! Вчера — друзья, и друзьям помогать обязательно надо, от себя отрывать последнюю корку хлеба или последнюю рубаху, а сегодня оказывается, что это вовсе и не друзья, а враги и им твоя рубаха совсем ни к чему — своих рубах хватает… Да, невероятно усложнилась международная обстановка — где друг, где враг?.. Одно радует: что и в стане проклятых империалистов не все гладко, там тоже ищут выгоду свою среди своих, там тоже идеология идеологией, а хлеб с маслом — это хлеб с маслом!.. А тем более с русской икрой…
К вечеру все успокоилось, внуки сделали свои дела, покормлены, спать уложены. Пельше, оказывается, в комиссии по похоронам. И Черненко нашелся — куда ж ему деться! Если даже и сын у него… того… но ведь сын за отца не ответчик, а отец за сына тоже… мудрые слова, а кто их сказал! То-то! Да нет, все будет хорошо. Вон многие страны прислали соболезнование. Рейган, говорят, собирается на похороны сам приехать, а если нет — пришлет, сказал, заместителя. Во всем мире достойно оценили Брежнева, а французы, те вообще говорят: с Брежневым связан период огромного роста СССР, превращение его в мощную державу, все ж восемнадцать лет был бессменным, этап большой и важный мы прошли, за мир боролись все восемнадцать лет. Совещание в Хельсинки — тоже его дело — всё верно пишут газеты. Что-то будет… что-то будет… Холодок приятной новизны овеял Надежду Алексеевну, и желание этой новизны было несомненно…
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
7. НОВЫЕ КАК БУДТО ВРЕМЕНА
Прошло года три-четыре. Полковник едет в электричке, глядит на людей и думает: «Позавчера зарезали в этой электричке парня — сегодня хоронят уже. Это, наверное, ужасно, и многие знают об этом, но вот сидят, едят, зевают, разговаривают, как будто знают какую-то тайну, делающую происшествие совсем не ужасным».
Как будто без всякой связи он думает о том, что только после второй мировой войны мир был уже более тридцати раз на грани термоядерной войны, перед которой меркнут все ужасы апокалипсиса. Полковник — человек военный, но и он сейчас не может представить всех этих ужасов. Пытается представить, прикрыв глаза, и — нет, не может, как ни старается… так, лишь слегка что-то чудится ему, мерещится что-то ужасное, связанное с выдрыгиванием каким-то, с выворачиванием каким-то наизнанку, всей человеческой сущности выворачиванием наизнанку… да-да, с современной молодежью что-то такое связанное (это уж точно), с равнодушием их молодых взглядов, с блужданием глаз, жестокой насмешливостью, все чаще переходящей в жестокость ко всему живому. Непривлекательность будущего заключена была уже в самой бесполости современной молодежи, в бесполости их духа, фигур и взглядов, в бесполости современных фасонов, телодвижений — это ужасно, в этом ему действительно что-то мерещится от будущих ужасов, на грани которых мир был уже более тридцати раз!
Да, мир висел на волоске, но в ответ никакой паники. Не замечал же полковник действительно никакой паники вокруг, все жили, как и жили, как будто бы этого, угрожающего миру тридцать раз кряду, нет и не было никогда. А ведь многие, многие даже из сидящих здесь в вагоне, как и полковник, наверняка знают обо всем этом. А вот ведь, однако ж, есть в человеке нечто, что требует этого самого — как будто… Или вот, таинственные ложи вольных каменщиков, неожиданно приходит на ум полковнику, их железная дисциплина, опутали весь мир в виде гигантских щупалец… Понять же это большинству сидящих в электричке не дано. А впрочем, скорее всего, этим людям и дела нет до каких-то там лож вольных или невольных каменщиков, о которых вспомнил вдруг полковник. Для большинства опять же — как будто и нет никаких таинственных лож. «Как будто…» — странно, полковник раньше никогда не придавал никакого значения этой самой расплывчатости — «как будто». Сейчас же его очень поразило, как все-таки много значит это — как будто — в жизни человека. Мало сказать — значит, а как много держится на нем, на этом «как будто», если разобраться. Люди живут, ведут себя, радуются, едят, пьют, детей рожают, сочиняют хорошие и посредственные стихи, дома строят так же, хорошие и посредственные, и еще много всяких дел после себя оставляют. Но главное — от всех их дел, от всей их жизни остается неистребимый осадок, что делают они все дела свои и живут все так, как будто будут жить еще бог знает сколько, как будто не существует для них для всех, для каждого в отдельности железная необходимость через какое-то время обязательно умереть. Как будто не существует возможности быть зарезанным в ночной электричке, в подземном переходе, на прогулке с собачкой или еще в ста или тысяче разнообразнейших ситуаций. Как будто не существует какая-нибудь неизлечимая болезнь, от которой умирают ежедневно и ежечасно, даже вот в эту самую минуту, тысячи невинных. Еще более невинных, чем ты и я, еще более молодых, чем ты и я. И даже те, кто, в отличие от тебя, еще ничего от жизни не получили, — они-то за что?! А мы живем, как будто ничего этого нет и быть не может. Опять же разумом согласны, что — да, есть. То есть, наверное, все так и есть, но опять же какой-то реликт детства, какая-то детская святая неиспорченность живет в людях и требует, чтобы этого всего как будто не было. Едим, пьем, дома строим, детей рожаем — одним словом, худо ль бедно ль, жизнь продолжаем не на бумаге, а на земле. Знать, удивителен и мудр сей живительный инстинкт — в каких-то главных вопросах, надчеловеческих, трансцендентных вопросах есть благодатная первопричина оставаться навсегда нам детьми, ибо нашей взрослости все равно недостаточно, чтоб разрешить эти вопросы, и остается просто жить, как будто нам и дана одна лишь жизнь, а… а смерть дана кому-то другому… только не нам, это что-то чужое, не наше — смерть-то!
Глаза, уши, сердце, все клетки наши — живые, и все в нас внимает и понимает лишь жизнь, словно смерть мы будем понимать лишь став мертвыми, вот тогда и вникать в нее будем, а не пока живы. А пока как будто и нет никакого вопроса… Полковник очень поразился этому заслону людей от смерти, этому мудрому инстинкту жизни, защитной реакции, отвращающей, исторгающей из живого человека самую мысль, самую идею смерти. Значит, живи, радуйся, не думай о ней, не окружай себя заранее смертными образами. Полковник вспомнил историю осажденных городов. В тех городах, окруженных вражескими войсками, несущими людям смерть, женщины теряли способность рожать. Живые люди, лишь пораженные мыслью о смерти, одной лишь мыслью запретною пораженные! — уже не могли воспроизводить жизнь. Что за могучая сила в этой дешевой уловке, в этом детском как будто?! Люди как панцирем защищены этим детским, каким-то сновиденчески-игровым как будто. И ничего, живут себе или в жизнь играют понарошку. А жизнь идет себе, несмотря на все предсказания, ибо люди живут, не ломая голову над смертью, не готовясь к ней. А кое-кто призывает, что надо бы со дня рождения, вернее, как осознал, что тебе ее не избежать, так и готовься, напрягай все мысли и чувства, представляй ее с косой или нейтронной бомбой. Ан нет, живой родится лишь от живого!
Итак, человек, твое единственное реальное биологическое бессмертье — дочь, внук и так далее — как продолжение рода человеческого зиждется всего лишь на этом, на как будто, зиждется всего лишь по сути своей на понарошечной, детской игре в бессмертие. Но коль действительно лишь так: живой родится от живого, не пораженного даже самой мыслью о смерти, то так ли уж понарошечна эта наша игра в как будто?
Тут недавно пили как-то чай они у Нины Андреевны, а по телевизору показывали документальные кадры — охоту одних банд, занимающихся в Гималаях где-то контрабандой опиума, за другими конкурирующими бандами. И вот одна из банд перехватила двух крестьян из другой банды и, допросив их, ведет к яме, чтобы забить палками и зарыть в этой яме. Яма уже готова, как ровным голосом сообщил диктор, уже подходят спокойно с палками те, которым предстоит забить несчастных. И все знают, как забивать сейчас будут, как зароют потом… Но вот крупным планом показали лица этих двух, и полковника охватило странное чувство, которого, сколь ни вспоминал он, не знал до этого. Хотя ведь и война за плечами, и смертей повидал, и сам убивал, и его убивали, а вот все равно поразился, когда показали их крупным планом. Лица были уже мертвыми! В чем тут дело, он не смог бы сказать — что-то серое было, а можно ли по телевизору серое передать? Что-то неподвижное? Нет, не совсем, скорее, что-то отваливающееся, быстро отходящее уже от этих приговоренных лиц. И это еще не совсем точно, но уже ближе: лица те были еще прежней формы, прежних размеров, как и при жизни, но как бы уже задернутые смертельной тоской, простившиеся навсегда еще и не с жизнью, но с самой идеей жизни, с надеждою, плоть уже быстро остывает, сереет, мертвеет. Как и рыба, лишенная воды, уже не рыба, так и здесь — плоть, лишенная какого-то невидимого океана, уже не плоть, а… а что-то ужасное… казалось, еще немного, и не понадобятся и палки, само все в них затихнет… Вот ведь что странно, когда нет этой игры в как будто!!
А полковник сейчас словно пробил потолок над головою, он теперь одновременно и в нелепом, и в грустном положении. Жизнь этих читающих, беззаботно ведущих разговоры в электричке, — все это словно бы полковником сейчас оставлено в комнате одной, и тело полковника словно бы еще в той комнате, вместе со всеми. Ну а головою, потолок пробив, словно бы он уже и на чердаке… ветерок гуляет, голуби воркуют у слухового окна… И вот ведь сколько стремился он сюда, сколько сил затратил, но бог уж с этим… плохо, что вместо комнаты — чердак всего-то. Жить, конечно, можно — много ль старику теперь надо… Хотя, понятно, не очень уютно на чердаке, потише, конечно… сквознячки ощущаются, но ведь все это не то! Не стала ведь смерть понятнее, осмысленнее никак не стала… просто вместо потолка крыша теперь над полковником… И тянет теперь его еще выше, выше… за крышу… хотя и за нею нет ничего, он-то знает, там синий лишь цвет… а полковник все тянется, тянется, прямо-таки на цыпочки встает. И надо теперь ему, чтобы выше головы и выше крыши еще что-то существовало… пусть синий цвет, пусть всего лишь это будет определять страстное полковничье желание, лишь бы существовало это — как будто.
Ничего, разумеется, там не существует, синий цвет это просто обман зрения, как утверждают физики. Обман, но глаза ведь действительно видят синее. Да, глаза — единственная наша связь с великим океаном, из которого мы вышли. Надо, ой как надо, чтобы это как будто всегда стояло над нами, пусть обман глаз, чувств или еще чего-то, но только надо. Чтоб было что-то выше нас, чище нас, красивее, было бы, обязательно было! Пусть как будто всего лишь, пусть, пусть. Это не страшно, это пусть, это, заигравшись, можно потихоньку и в сторонку сдвинуть, оно ж — это как будто — такое маленькое, такое незначительное — его ж легко в стороночку подвинуть, легко о нем забыть, оно что есть, что нет его. Такой уж пустячок, что сама Жадность, сама Скупость и та не откажет в таком пустячке-утешении: создать мир — как будто; озолотить, полюбить, обессмертить кого-то. Ведь это же все не по-настоящему, а как будто — это ж такой пустяк, ну пожалуйста…
Полковника и раньше поражали просто живущие люди, Нина Андреевна хотя бы: пьют, едят, на работу ходят, детей рожают, в подкидного дурачка играют, детей женят, внуков нянчат. То есть, думалось полковнику, все как-то облегченно живут, вроде б и не живут серьезной жизнью, а лишь в нее играют. А оказывается, вон оно что — чтоб жизнь текла и продолжалась, только так и надо. Надо как будто играть всего лишь в нее, а жизнь, несмотря на это, вроде б совсем и не обижается на людей — течет себе, продолжается. Именно за счет массы людей, масса-то совсем не глупа, а наоборот, здорова, здорова тем детским здоровьем, что еще много и много обещает, несмотря на все пророчества. Главное — быть частью массы! Если масса это инерция — быть частью инерции, потому что имя этой инерции — жизнь!
И вот еще что, полковник чем дряхлее, тем все более жалеет, что поддался когда-то Красивому, что возвышалось над массой и инерцией, — лукавому красивому духу. Господи, да если бы духу — душку! «Фальшивомонетчики! Идолопоклонники! — ругается он про себя, и не поймешь, кого ругает он конкретно. — Трусливые лицемеры… шлягеры-флягеры-флюгеры…» Он старается найти слово пооскорбительнее — да-да, флюгеры, ведь им все равно как думать, сегодня так, а завтра эдак. Понятно, что сами эти флюгеры ни во что святое не верят, а ловят вот таких простачков, как полковник. Особенно сейчас достается от полковника, сидящего в электричке, Бодлеру, которого любил он так раньше.
Ведь что ж этот Бодлер? Сначала воспевал революцию во Франции в 1848 году, даже журнальчик основал революционный, где писал:
«Чрезмерное увлечение формой доводит до чудовищных крайностей… исчезает понятие истинного и справедливого. Необузданная страсть к искусству есть рак, разрушающий все остальное… Я понимаю ярость иконоборцев и мусульман против икон… безумное увлечение искусством равносильно злоупотреблению умом».
То есть говорит чуть ли не языком разрушителя эстетики. И все это во имя народа, во имя революции. А что тот же Бодлер говорил двумя годами раньше, то есть до революции? Он говорил, что, когда ему случается видеть, как городовой колотит прикладом республиканца, он готов кричать:
«Бей, бей сильнее, бей его, душка-городовой… Я обожаю тебя за это битье и считаю тебя подобным верховному судие, Юпитеру. Человек, которого ты колотишь, — враг роз и благоуханий, фанатик хозяйственной утвари, это враг Ватто, враг Рафаэля, отчаянный враг роскоши, искусства и беллетристики, заядлый иконоборец, палач Венеры и Аполлона… Колоти с религиозным усердием анархиста!»
Ну а что писал тот же Бодлер в 1855 году, то есть через семь лет после революции, в которую он так усердно подпевал революционерам? Он писал, что идея прогресса просто смешна, что она служит признаком упадка. Эта идея — фонарь, распространяющий мрак на все-все вопросы знания, и кто хочет видеть ясно в истории, тот должен загасить этот коварный светильник. «Вот так-то, — с запоздалым сожалением думается полковнику, — все они как флюгеры, куда ветер дует, туда и поворачивают». А уж впечатлительны! Как истерические женщины… В общем-то, они и не продаются, а просто не способны плыть против течения, подобно бумажке, летящей по ветру, они оказываются в стане революции. Когда же восторжествует реакция, они уже находят идею прогресса смешной и уже с пеной у рта отстаивают противоположную религию… Ну а разве сегодняшние апостолы духа чем-то от Бодлера отличаются? Во все времена они на подхвате у власти, во все времена у них нос по ветру. Полковнику не хочется и думать о них, скучно. Да и времени нет. Времени совсем не осталось. А что осталось? Дверь? Да, все так и считают, что дверь… порог… но ведь все живут так, как будто это действительно всего лишь порог, за которым есть еще что-то. Ну а что там может быть? Да ничего там быть не может. А всякие как будто — так это всё для утешения… Еще лет десять тому назад и сам полковник точно так считал, что нет абсолютно ничего. Сейчас же он не то чтобы медлит перед ответом самому себе, он словно бы какую-то микроскопическую работу в душе производит. По обломкам, по осколкам в памяти собирает он все, что осталось в нем от тех необыкновенных состояний, когда врачи спасали его на самом краю. И край этот раньше лишь фигуральностью являлся, образностью, а вот с годами вспоминался осколками картин, ощущений, все более предметностью обрастал, звуками наполнялся, запахами. Уже полное воссоздание края порой захватывало полковника, ну а в последнее время — с явным упадком сил — особенно. А ведь игрой все начиналось, просто от случая к случаю вспоминалось, встречному-поперечному рассказывалось. Потом все серьезнее вспоминалось, все последовательнее. В конце концов край, на котором раз пять или шесть побывал полковник, о чем с лихостью когда-то рассказывал всем, еще там не побывавшим, теперь для него самого сделался табу, теперь и сам полковник в своих размышлениях туда проникает не ранее, чем проведет в душе микроскопическую работу — чтоб уж ни капельки, ни пылинки, ни соринки там не оставалось.
А собственно, достроить край совсем не трудно было. Оставалось напоследок уяснить всего лишь две вещи. Вернее, одну, но как бы в душе полковника двуединую. Этим полковничьим двуединством были конечно же дочь и страна. Всё прочее, в том числе и сам он (большое, огрузшее тело), полковника уже не интересовало. А вот дочь сильно беспокоила полковника. Вообще беспокоило молодое поколение. Ибо это же будущее! Но когда мысль его, перепрыгнув через как будто, во всем ужасе воспринимала возможность атомного апокалипсиса, вставала перед ним реальнейшая угроза всему будущему. Полковник как человек военный хорошо понимал, что, разразись война между сверхдержавами, будущего просто-напросто не будет! То есть вполне возможен вариант без будущего. Но тогда, простите, что же это за поколение, которое все по привычке называют молодежью? Ведь основная, философская, так сказать, сущность молодого поколения именно в будущем и заключена. Но коль вполне возможно, что мир подошел к черте и у него нет уже больше будущего, тогда перед нами уже не молодежь, хоть внешне и очень похожа на нее. На самом же деле это уже нечто совсем другое по своей сути… Да, мир за последние годы по меньшей мере раз тридцать был на грани атомной войны, вариант без будущего мог наступить уже много раз, угроза этого и сейчас очевидна. Так что вполне мы уже сейчас имеем дело не с молодежью, в том изначальном ее понимании как человеческое будущее, а дело имеем всего-навсего с тем последним поколением, которому меньше всех повезло… «Ах, Рая, Рая», — он вздыхает…
Ему от электрички пройти всего полтора квартала пешочком, и он уже в военкомате.
Как обычно, пока не собрались, разбившись на группки человека по три, по четыре, курят, обмениваются новостями. Товарищ Мурасеев, который сегодня отчитывается за проделанную работу, кому-то громко звонит по телефону:
— Петя, а? Мурасеев Ве Ге! Здоров! Как? Хорошо, ага! А я картошку привез! Да нет, ничего… А я, знаешь ли, картошку-то привез, привез… — И, повышая голос, раздельно и четко: — Тебя же, Петя, никогда не дождешься, хоть ты и обещал! Так что я сам привез, да! Вот так-то! Ну пока, а то мы тут будем начинать уже. (Хотя до начала еще добрых полчаса.) Ну, привет, Петюнь! — И, хмыкнув бодро, товарищ Мурасеев закончил разговор и энергично помял волевой подбородок, по всему было видно, что разговор доставил ему немалое удовольствие.
«Ну что за человек! — невольно присматриваясь, думает полковник о Мурасееве. — Здоровый, ладный, справный, а вот всё… как-то не так в мужике… а жаль…»
Заглянул военком, поздравил всех с праздником, делами интересуется.
— Ну как, — спросил он Мурасеева, — водопровод тебе провели, теперь твоя душенька довольна?
— Как не быть довольным! А вдруг на автостоянке пожар вспыхнет, нам никак нельзя без водопровода! Да. Борис Иванович?
— Ну?
— Вы говорили насчет места, что вам с весны где-то одно понадобится на стоянке, так есть у нас одно… хорошее местечко.
— Да не мне — одному ветерану.
— Так я и говорю, есть — присылайте, поставим.
— Ну ладно — добро.
— Борис Иванович!
— Ну что еще?
— А как насчет валенок, помните разговор — списанные, хотя бы старенькие, а то сторожа у нас, ведь ни сапог, ни валенок!
— Ну подойди ты к Игнатычу, я ж распорядился, возьми на складе списанные.
— Ну есть.
— Я ж распорядился.
— Всё, всё, я понял, есть. А если еще понадобится место на стоянке, то всегда…
— Ну ладно, ладно, понадобится — не понадобится, начинайте, товарищи, — время.
Достав очки, товарищ Мурасеев раскрывает блокнот и начинает читать:
— За мною была закреплена, во-первых, школа номер один, военрук — товарищ Бармичев. Там мною проведены за истекший период четыре лекции в девятых-десятых классах с общим охватом в восемьдесят три человека. Задавались вопросы, на которые мною были даны устные ответы: о военной дисциплине, о том, где служат офицеры, сколько они получают. В школе номер девять, которая также за мной закреплена, военрука нет, уволился. В этой школе учился Герой Советского Союза Корнеев. На восьмое мая, на торжественную линейку мы пригласили брата Героя, его мать, и удалось собрать около тридцати человек однополчан. Кроме этого, нам удалось разыскать близких и друзей генерала Хрусталева — командира дивизии, в которой воевал Корнеев. Друзья и товарищи генерала передали в дар школе, в организованный нами уголок боевой славы, генеральский мундир Хрусталева и три документа, удостоверяющих его личность. Кроме этого, в механическом техникуме, военрук товарищ Трунин, мною сделано два доклада в письменном виде к юбилейным датам — Седьмого ноября и Первого мая, три раза побывал на занятиях по изучению устава внутренней службы. К недостаткам следует отнести то, что в техникуме вместо спортивных игр и упражнений на снарядах предпочитают лекционную работу. Кроме этого, на этажах отсутствуют стенды наглядной агитации.
В заключение хотел бы добавить, что кроме данной, лично мною проделанной работы, каждые каникулы мой сын — курсант военного училища — выступает в школе номер пятнадцать.
Услышав о сыне, полковник, сидевший до этого рассеянно, встрепенулся и тут же удивился сам себе: «А собственно, почему бы и не быть у Мурасеева сыну?» И опять пожал плечами, отгоняя навязчивое ощущение странной рассыпчатости, несомненно, витающей над этим странным человеком.
После военкомата полковник едет в «Океан». Нина Андреевна просила купить свежей рыбки, собиралась в воскресенье испечь пирог. Лучше б всего — палтус, но где сейчас тот палтус! Взял макроруса и, прихватив еще коробку мороженых креветок, домой поехал.
Пили чай с Ниной Андреевной на кухне, и слышно было, как в комнате у раскрытого окна Лариска весело переговаривалась с соседским мальчиком Валериком.
— А знаешь, Валерик, у нас сегодня в школе говорили, что Бухарин все-таки хороший.
— Не Бухарин, а Каменев хороший, он с Лениным в Разливе был, вместе скрывались от царской охранки. А Бухарин плохой, он был за расстрелы и концлагеря.
— Нет, за расстрелы — Жданов.
— И Дзержинский.
— А Жданову памятник уже хотят сносить, всё переименовывают, что с ним связано.
— Значит, будут и Дзержинскому сносить.
— Всем надо снести!
Нина Андреевна, поперхнувшись чаем, закричала:
— Да тише вы, дураки! Разве ж можно так языком-то молоть?!
— Можно, можно, баб Нина, нам в школе сказали, что теперь можно, теперь ведь у нас гласность, правда, Валерик?
— Конечно… гласность… и демократия. Мы начинаем строить это… ну, правовое государство…
— И как это вы раньше, бабуля, жили — ничего вам говорить было нельзя? Забитые, бесправные… б-р-р… жуть, правда, Валерик?
— Ага…
— Слышали? Нет, вы слышали, Павел Константинович? — сказала Нина Андреевна. — Нет, последнее время просто понять не могу, почему мне ежедневно по радио, по телевизору, в газетах, а теперь вот и внучка родная — все внушают, что я, простая женщина, прожила плохую, угнетенную жизнь, позорную даже… Что я была просто-напросто несчастная, то есть раба какая-то… Но я-то, Павел Константинович, оглядываюсь сейчас на свою жизнь прожитую и не вижу в ней ничего позорного. Мне нечего в ней стыдиться, нечего каяться. — Нина Андреевна пододвинула полковнику розетку с клубничным вареньем. — Пусть каются те, кому есть в чем. Я же всю жизнь честно работала… как и весь народ. Строили, воевали, детей растили… и-и, неужели ж мы так все поголовно и были несчастными?! Да никогда не поверю! Счастливыми были — это вот помню. Самым форменным образом. А как Чкалова встречали, помните? А как выше всех в мире наши стратостаты взлетели! А как наш Гагарин! Да что говорить! И как же обо всем этом можно сейчас позабыть? А как мы в тридцать втором за одиннадцать месяцев пустили первый в мире завод искусственного каучука? А техника какая — тачка да лопата. Да, деревня, может, и разорялась… это да… согнали нас с деревень, но ведь промышленность-то действительно вперед шагала гигантскими шагами — за одиннадцать месяцев такой гигант отгрохали! Я себе два года приписала, со взрослыми наравне работала, разве ж это у нас отнимешь! Да я, можно сказать, горжусь! У меня и медаль, Павел Константинович, есть за это. Да, я откровенно вам заявляю — горжусь. И буду гордиться! Потому что наш каучук потом в войну много пользы принес.
— Я знаю, — серьезно сказал полковник, — хороший был каучук, намного лучше, чем у немцев.
— Ну так как же после этого можно внушать, что мы несчастная, забитая страна! Да есть ли у них совесть! А потом — зачем? Зачем, Павел Константинович, внушать, что мы жизнь свою прожили плохо?
— А это затем, уважаемая Нина Андреевна, что если случится через некоторое время заметное ухудшение жизни и вы это ухудшение почувствуете, так чтоб вы не возмущались и но протестовали, потому что вам уже до этого успели вбить в голову, что жизнь вы прожили несчастную, бессмысленную, рабскую. А это ухудшение, которое вы заметили вокруг, ничего не значит в сравнении с той рабской жизнью, которой вы раньше жили. Следовательно, нечего вам теперь и возмущаться.
— Понятно, знай, сверчок, свой шесток! Но только как же мне не возмущаться, Павел Константинович! Я уже сейчас вовсю возмущаюсь…
— Ну, хватит тебе, бабуля, глупости свои высказывать! — И Лариска решительно мимо них прошла в туалет.
— Вот так, Павел Константинович! Глупости! И что же вы на это скажете?
— Ничего не скажу, Нина Андреевна. Пойду в свою берлогу военные мемуарчики дочитывать.
* * *
Полковник читает в основном мемуары наших авторов, но есть у него с десяток мемуаров зарубежных, многословно разбирающих прошедшую войну, и Россию в частности. В основном вранье, конечно, считает он. Но и среди зарубежных встречает нечто любопытное, не лишенное смысла, поэтому читает все мемуары о прошедшей войне. Хотя глаза слабеют все больше и больше, очков уже не хватает, лупу купил. Сегодня читает «Семь походов на Москву», где речь идет о Гитлере, Наполеоне и прочих — помельче. Автор книги («недобитый враг») говорит о некоей причине, по которой, по его мнению, все семь походов на Москву кончались поражением для тех, кто пытался покорить Россию, одураченный ее вроде бы сонным, отсталым видом, пьянством, невежеством и так далее.
«Все это внешне, — пишет наученный горьким опытом вражеский генерал, — но стоит только напасть на эту непонятную страну, как она словно бы тут же проснется, заработает на полную мощь и в считанные недели (даже не месяцы и годы) раскрутит такую пружину, что разгромит, вышвырнет любого врага!»
Вот бы почитать эту полезную книжицу сегодняшним нашим нытикам и пессимистам, не разбирающимся в собственной стране. Какие-то глубоко возвышенные мысли возникают в нем по этому поводу, впрочем, никак не мешая заниматься конкретным делом, назначенным на сегодня. А именно: в связи с ухудшением состояния здоровья, а в карточке болезней количество их перевалило за пятнадцать (курить совсем пришлось бросить, и в парилку уж почти не ездит), предстояло перейти на другую диету питания, более соответствующую ухудшению. Этим он и занялся.
Раскрыл толстый том «Лечебного питания» и углубился в него. До сих пор, а это значит год с лишним, у него была диета № 2, назначаемая, как известно, при катарах, колитах, сопровождаемых пониженной кислотностью. Полковник очень привык к диете № 2, да и Нина Андреевна удовлетворительно справлялась с особенностями данной диеты, полковнику жаль было расставаться со вторым номером, но что поделаешь.
Самой подходящей для восстановления нарушившейся в последнее время деятельности печени и желчного пузыря была диета № 5. Но, во-первых, были в ней продукты весьма и весьма нежелательные для полковника, вернее, для расстроенного его кишечника. А во-вторых, в диете № 5 был с детства нелюбимый молочный кисель. Были там и крупяные супы с овощами — тоже удовольствие из средних, тем более что к ним не рекомендовалось добавлять обжаренные коренья, как в диете № 2. Ну да шут с ними, с супами-то, супы он еще бы съел, хотя пользы от безвкусной пищи никакой, но вот кисель молочный — это уж невозможно! Кисель молочный уж как-то буквально связывался с сегодняшней полковничьей жизнью — нет-нет, это надо заменить! И он стал выписывать на отдельную бумажку из других диет продукты, которые бы как минимум отвечали двум условиям: во-первых, были бы не вредны нарушенной сильно деятельности печени и желчного пузыря, и во-вторых, были бы чуть вкуснее молочного киселя. Из диеты № 11 выписал сырное масло и селедочное масло, из диеты № 7 — суп с вываренным, а потом слегка обжаренным луком. Тоже, разумеется, не бог весть что, но ведь вкус-то хоть какой у лука должен сохраниться!
Кое-как удалось все же создать некую комплексную диету, и полковник перешел к составлению меню на неделю. Во-первых, оно должно быть разнообразным, калорийным, а главное — учитывать, что не всегда можно все достать в магазинах. Сельдь, например. Или тыкву.
«Понедельник», — написал и задумался ненадолго полковник. Шницель мелкорубленый, жаренный с яичницей-глазуньей и с разной полувязкой кашей из диеты № 2 уплывал навсегда… Но что же делать, вздохнул полковник и четко написал против понедельника: «Лапшевник запеченный со сметаной, или можно зразы мясные с картофелем и тыквенным пюре, соус овощной».
После того как меню на первую неделю было составлено полностью, полковник сделал сначала список тех продуктов, которые он, как обычно, будет закупать оптом: чай, сахар, сухое молоко, оливковое или подсолнечное масло, фрукты, овощи, нежирную (очень рекомендованную для его теперешнего состояния) говядину, крупяные и макаронные изделия и (особенно рекомендованную) тыкву. «Да есть ли они еще в магазинах?» — подумалось, ведь раньше он не обращал на тыкву внимание. В другой список он выписал ежедневные продукты: ржаной хлеб вечерней выпечки, молоко, свежая сметана, творог.
Составив списки, посидел немного просто так, ни о чем не думая. Порядок намного облегчал жизнь. «Ну-с, неплохо. — И он вздохнул и сделал на откидном календаре пометку для Нины Андреевны. — Во-первых, соусы теперь, пожалуйста, без обжаривания муки! Во-вторых, лук в бульон сначала отварить обязательно и лишь потом немного («немного» — подчеркнуто) обжарить!»
Да, какое-то время и ему и ей придется привыкать к новой диете.
* * *
Стали привыкать. Ко всему привыкает человек. Прессу полковник уже давно не читает, а чего читать, когда все и так ясно. Кооперативы растут как грибы. Вывески о платных туалетах все крупнее, ярче, все красивее разгораются. На каждом углу торгуют гвоздикой упитанные молодые люди. Проститутки дают интервью вроде известных артисток. Выступления молодежных ансамблей по телевизору то и дело сопровождаются откровенным глумлением над вчерашними святынями. Ко всему привыкает…
И еще с полгода или год прошел. «Все-таки быстро летит время», — спохватился вдруг полковник. Да-да, намного быстрее, чем раньше. А почему? Вот когда подпаском в деревне был он, как же это долго-долго день тянулся, а сегодня, например, пролетел день — и не заметил. С утра заседание в группе содействия в военкомате было. Долго беседовал с призывниками, ой беда! — многим трудновато в армии придется — и телом некрепки, и духом. Главное — духом! Потом наметили план выступлений в школах района (полковнику досталась восьмая школа, он уже в ней выступал как-то). После обеда продукты закупал, потом прогулка была небольшая по набережной, сделал десять снимков, наверное, часть будет из них удачной, но главное — проверил новую рамочку, которую сам сконструировал, и вставил в камеру. Теперь с этой рамочкой у него будут получаться кадры 18×24 мм, то есть в два раза меньше самых маленьких! Интересно, как же они будут выглядеть в альбоме? Вот так и день прошел, сидят пьют чай вечером с Ниной Андреевной.
— У меня подруга есть, — рассказывает Нина Андреевна, прихлебывая чай, — со своим мучилась лет пятнадцать, я его знаю — наш, совхозный, росточка сам такого небольшого…
Полковник больше молчит, улыбнется, может быть, лишь слегка, движение бровями сделает. А то и встанет, отставит стакан, пройдется, прогнется немного спиной. Нина Андреевна рассказывает, полковник по комнате похаживает, из стакана прихлебывает, улыбнется ей порой поощрительно, движение бровями сделает и опять похаживает, спиной прогибается. И вдруг словно выпадает из его глубин каких-то:
— Давайте… чай… пить…
Нина Андреевна прямо вся ошарашена, даже забормочет невпопад:
— Что… чего, может, Павел Константинович, чего-нибудь я не так? А? Может, мне пойти домой, а?
— Да нет же, — с досадой станет уверять полковник, — да нет же для этого причины никакой, уверяю вас, Нина Андреевна, ну абсолютно никакой, а просто… просто в горле что-то в последнее время… першит, что ли… вот и придет на ум про чай, вот и скажешь… эдак невпопад… и… ничего страшного, тем более обидного для вас, вы же знаете, как я вас уважаю… да… да… я благодарен… да-да, не возражайте, не возражайте, Нина Андреевна, вам очень нелегко с этими моими диетами, не возражайте, ведь и не все достать сейчас можно из сельхозпродуктов, ведь так же? Ведь правда?
— Ну, правда-то правда, — немного успокоившись, отвечает Нина Андреевна, — но… все-таки, право, как-то… я, знаете, даже испугалась чего-то, Павел Константинович, какой-то вы в последнее время… право же…
А полковник, пользуясь тем, что Нина Андреевна успокоилась, начала говорить, думает невесело: «Вот так-то, чего уж там». Да, все чаще и чаще замечает он это. Замечает, как что-то покидает его, не спрашивая разрешения, мысли уходят так далеко, что он теряет их совсем, слова какие-то выпадают из него, как из холодной машины… Да, побежали все как крысы с тонущего корабля, да куда вы бежите, хочется ему порой воскликнуть, куда же вы без меня-то?! Без этой латаной-перелатаной, больной, дырявой оболочки? Тут краем сознания он догадывается, что Нина Андреевна перестала говорить, насторожилась опять. И сам начинает что-то говорить:
— Н-да… так вот… это, о сельхозпродуктах, значит, тут ведь, уважаемая Нина Андреевна, вот какое дело — любовь к земле отбить легко, привить же подрастающему поколению эту самую любовь очень и очень трудно, тут, понимаете, уже психология… Да-да, заметьте, психология — великое дело! Вы обращали когда-нибудь внимание, что, когда, скажем, одна конная лава бойцов несется на другую конную лаву, очень редко они сшибаются в рукопашной схватке, в рубке. Это чаще всего лишь в фильмах бывает, в реальной же действительности чаще всего одна сторона, не выдержав, заворачивает, и вторая без кровопролития выходит победителем. В этом, как видите… м-да… есть, знаете ли, какой-то смысл… да… смысл, если разобраться гуманный: сохранение человека. Все-таки… убить человека очень трудно… да-да, что б там ни говорили, вот так палкой, скажем, или саблей, да, очень… А современные методы, позволяющие убивать, не видя самой смерти, весьма и весьма облегчают эту задачу… н-да… Вот в чем штука-то, уважаемая Нина Андреевна…
— Вы, Павел Константинович, начали о сельском хозяйстве…
— Ну да… ну да, конечно же… и это все связано… любовь к человеку конкретному, она же очень похожа, Нина Андреевна, на любовь к конкретному куску земли-родительницы. Чувство радости собственного, так сказать, рождения через собственный, только твой урожай, на твоем куске земли — это самое главное в психологии крестьянина. А вот это как-то и забыли. Да-с, к сожалению. Нет, ты дай сначала человеку вырастить собственное яблоко, собственного теленка — дай ему порадоваться, дай! Чего уж там.
— Так вы тоже за кооператоров, Павел Константинович?
— Я? Кто вам сказал?
— Но ведь вы только что так хорошо говорили — дай, дай человеку вырастить собственное яблоко, собственного теленочка, дай ему порадоваться…
— Конечно! Дай вырастить, дай порадоваться. А потом уж и забирай в общий котел. Котел у нас должен быть общим, общим, разумеется, но… Но не обезличенным, уважаемая Нина Андреевна! Не безрадостным должен быть общий котел, нет-нет. Вот тут-то и надо всем нам подумать, как потом забирать в этот общий котел. Но, с другой стороны, уважаемая Нина Андреевна, опять же психология — ибо отдавать все это, с трудом выращенное, выпестованное, в общий котел, уверяю вас, неменьшая радость. Психология! А так что ж, все эти меры по химизации, по укреплению кадрами, да и сегодняшние экономические реформы… в принципе все это правильно и своевременно… по мелиорации… Дай только, чтоб человек радость испытал. А то ведь показывали по телевизору вчера одного кооператора — страх берет, до чего ж человек невесел, задавлен…
— Вот и Колька говорит…
— Какой Колька?
— Да Колька наш, ну, совхозный, муж подруги-то, о которой я начала.
— А-а-а… так что он? Колька-то… — Полковник усаживается за стол, берет стакан остывшего чая.
Журчит тихонько речь Нины Андреевны. Как тихо летящий снег: и даль не разглядишь, и близь слишком уж близка… Ну, вывали сейчас на стол все эти разговоры вокруг, все книги, газеты, телепередачи и всю прочую и прочую информацию, которая, согласно своему назначению, должна якобы давать представление о нашей жизни — ведь легко можно будет ошибиться, разглядывая все так близко под носом. Легко споткнется глаз о штрих, мазок случайный, однако ж донельзя искажающий всю суть. Оттого и сидит так под тихо льющуюся речь полковник, дышит ровно, чай прихлебывает. Порой заденет что-то слух его, слово или фраза: «Кипяточек — парень бравый, но без сахара — дурак!» — и опять все льется ровно, усыпляюще… Впрочем, вот ведь совсем недавно, лет пять или семь тому назад в санатории, знакомый слесарь-водопроводчик Ваня Гуров как-то остановил полковника по случаю процесса о шпионах, широко освещаемого в то время в газетах. Остановил, зубами скрежетнул, дохнул многолетним перегаром: «Слыхали про шпионов? Вот ведь суки! Да я за Родину — вот, — и Ваня сжал кулак, — у меня вот, вот, — он быстро закатал, почти сорвал рукав, — рука покалечена, семьдесят два часа нас учили и в бой… мы по шоссе, а он бомбить… семьдесят два часа… ничего не знаем… надо бы, понимаешь, разбежаться, а мы в кучу, как бараны, от страха, а он на нас бомбу, из пулемета… а-а-ах…»
Но это все было в порыве как бы неразговорных каких-то начал. Так что потом обоим было даже при встрече и неудобно чего-то, словно они нарушили запрет какой-то, проговорились про то, что должно лишь угадываться, существовать как некая интимность бытия — лишь между своими по крови. Неизвестно, куда направился Гуров после этого, полковник же — в библиотеку с высоким камином, снял томик Гоголя с полки, нашел строчки, которые знал наизусть:
«…знаю, подло завелось теперь на земле нашей, думают только чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие басурманские обычаи, гнушаются языком своим, свой со своим не хочет говорить, свой своего продает, как продают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чоботом бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского человека. И проснется она когда-нибудь, и ударится он горемычный об полы руками, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же знают они, что такое в Русской земле товарищество! Уж если на то пошло, чтобы умирать, так никому ж из них не доведется так умирать!.. Никому! никому!.. Не хватит у них на то мышиной натуры их!»
— Дядя Паша, здравствуйте! — ворвалась в их стариковское чаепитие Лариска, только что с улицы, краснощекая, радостная. — Бабуль, а у нас историю в школе отменили!
— Как историю? — удивляется полковник. — Всю, что ли? И Петра Первого, и Ивана Грозного?
— Да нет же, нет! Только Сталина.
— Почему?
— Да не нужен он больше, дядя Паша.
— Да-а… — покачал головой полковник.
— А вот во вчерашней «Литературке», соседка показывала, пишут, — сказала Нина Андреевна, губы поджав, — что, если бы он сейчас был у власти, того, что на Кавказе творится, никогда б не было, ведь убивают, насилуют!
— Ну-у… опять ты, баба Нина?! А чем лучше, если б он для этого спокойствия тоже кого-то убивал? Ведь что в лоб, что по лбу! Правда, дядя Паша?
— Да, ты права, Лариса, и то зло, и это… — Он хотел было добавить, что из двух зол надо бы выбрать меньшее, но кто скажет, где оно меньшее, — но Лариска воскликнула:
— Баб Нин, ты что — забыла-а? Тебе ж на родительское собрание!
— О-о-о! — Нина Андреевна перевернула чашку. — На родительское бежать, стирки навалом, дел, дел сколько!
— Давайте я схожу, — предложил полковник.
— Ой, спасибо, Павел Константинович, и всегда-то вы меня выручаете, дай бог вам здоровья!
Когда полковник вернулся с собрания, на кухне в пальто и шапке сидел за столом Сашка. Поздоровавшись с полковником за руку, Сашка снял шапку и немного поклонился:
— Павел Константинович, суббота, банный день, выручайте человека!
— Бесстыдник ты, Сашка, — сказала Нина Андреевна.
— Сколько тебе? — спросил полковник.
— Пятерик, — обрадовался Сашка.
— Совести у тебя нет совсем, — сказала Нина Андреевна.
— Я ведь все-таки, мать, работаю, уже четвертый год на одном месте… рабочий человек…
— Знаю я твою работу, ох…
— А что? Чем моя работа твоей хуже, а? И начальник знаешь у нас какой, а? Во-о мужик! Отставник, вроде вот Павла Константиновича, порядок крепко знает…
— Мурасеев? — сказал полковник.
— Мурасеев, — чуть удивившись, ответил Сашка, помедлив, — а что?
— Всегда с портфелем, на портфеле два замка, золотая монограмма.
— То-очно, — удивился Сашка, — откуда, Павел Константинович?
— Старый разведчик, — засмеялась Нина Андреевна.
— Держи, Саша, — сказал полковник, протягивая десятку.
— Червончик, — ласково произнес тот. — Или разменять? Так я мигом.
— Да бери, бери… отдашь, ты же рабочий человек.
— Спасибо!
— Чего там, иди, иди, а то закроется.
— Что вы? До восьми ведь!
— Бесстыдник ты, Сашка!
— И это верно, мать, Жить-то надо, пошел я, ну всего, а то и правда закроется, пошел, спасибо…
— Вот шалопут, — засмеялась вслед Нина Андреевна, — я сейчас Лариску быстренько покормлю, сосисок отварю, потом чай пить сядем, хорошо? Что там на собрании-то было?
— Да не собрание, а базар! Чистый базар, Нина Андреевна. Не поймешь о чем и говорили. Об отмене истории говорили. Это, все говорят, слава богу — потому что никто не знает, что говорить сейчас детям. Об «Интердевочке» говорили — это книжка такая, Нина Андреевна, сейчас написана, ходит по школе, до дыр зачитали. О «Детях Арбата», о СПИДе…
— Да-а, беда…
8. НА ПЛАТНОЙ СТОЯНКЕ ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Уже узнает Сашка некоторых автовладельцев. Вон летчик идет со сто пятнадцатого места.
— Куда летим сегодня? — спрашивает, подавая карточку через окошечко.
— В Вену, — отвечает летчик со сто пятнадцатого, — потом Париж, Милан, Венеция…
За эти годы Сашка на автостоянке вполне освоился. Историю отечественного автомобилестроения трудами товарища Мурасеева изучил досконально.
А вот и Витя Козлов появился с сорок шестого места. Сашка заранее достает его карточку, где написано, что Вите дозволено ездить на машине по доверенности старшего брата, пока брат отбывает срок в местах, знакомых и Сашке.
— Ну как, Витек? — спрашивает он Витю Козлова, — Что брат пишет?
— Да что пишет, — расписывается старательно Витя на карточке, — лесоповал, Александр Иванович, и есть лесоповал, сами небось знаете! Еще полгода, и выйдет… Хочу, Александр Иванович, на автотолчок съездить, маслопровод югославский достать, а то этот — барахло. Да вот собрался, а сам думаю: «Зачем мне, машина-то брата, через полгода выйдет, заберет». Нам родители сказали: «Выбирайте: кому кооперативная квартира, а кому — машина». Ну, брат холостой — ему машина, а нам с Валькой — квартира. Самому копить на машину — я сто двадцать, Валька сто — это нам девять лет копить, да это еще пока без ребенка, а если ребенок, тогда совсем завал. А без машины, Александр Иванович, совсем плохо. Я только сейчас и почувствовал, как это хорошо, когда и квартира, и машина. Ну ладно — поеду все же.
И опять сидит Сашка, дремлет, время зимнее, редко кто побеспокоит. «Закрыть ворота, что ли, собак покормить да спустить?» Сашка поглядывает на будильник, что стоит к нему задней стенкой, циферблатом к автовладельцам, расписываясь в карточке, они обязаны поставить точное время, чтобы в случае недоразумения можно было бы все точно установить. Преодолевая лень, Сашка тянется к будильнику, поворачивает — без четверти восемь. Согласно новому распоряжению товарища Мурасеева сторожа теперь через каждый час включают радиотрансляцию стоянки и читают в микрофон следующие фразы:
— Товарищ дежурный, пройдитесь с собакой вдоль периметра ограждения!
— Товарищ начальник дружинников, расставьте людей по квадратам согласно распорядку!
— Товарищи руководители групп содействия, не скапливайте людей, пройдите вдоль сигнализации!
Брезентовые каркасы, в которые упрятаны машины, затрудняют работу сторожей. Пригрозив автовладельцам, что снесет каркасы, товарищ Мурасеев добился своего, и теперь в помощь сторожам по вечерам приходят общественные помощники по списку, составленному советом стоянки. Правда, товарищ Мурасеев хотел, чтобы общественники помогали часов до двенадцати ночи, а еще лучше — до часу. Но совет стоянки, учитывая нерегулярную работу общественного транспорта, на это не пошел. Совет хотел ограничиться помощью часов до десяти, но тут уж товарищ Мурасеев пригрозил, что снесет все каркасы, затрудняющие обзор. Снесет без всяких дураков. И сошлись на одиннадцати часах. И вот точно в восемь появляется очередной дежурящий владелец. Владелец расписывается первым делом в книге дежурств и начинает рассказывать все ту же грустную историю. Начало истории бывает разным, сегодняшний, например, сел, расписавшись, вздохнул и начал так:
— У меня аккумулятор товарищ Мурасеев поставил на подзарядку, а я электролит принес, там маловато — надо подлить. — И он достал из кармана пальто бутылку — ноль восемь — из-под «румынского». Сашка в душе облизнулся, вспомнив терпкий вкус, крепость и относительную дешевизну «румынского» — и куда это все исчезло в последнее время?! Бутылочка аккуратно обмотана голубой изолентой, все такое чистое, свежее.
— Да вы оставьте электролит, — говорит Сашка, — Мурасеев завтра зальет.
— Да неудобно, все же начальник, я, если можно, с утречка забегу перед работой, а?
— Ну, забежи.
И какое-то время они сидят молча, Сашка вполоборота к помощнику-общественнику.
— Рано в этом году зима, — говорит общественник.
— Угу, — говорит Сашка.
— Два года тому назад тоже была ранняя.
— Н-да, — говорит Сашка.
— Я почему знаю, я — рыбак. Замерзло все тогда рано, вот и сейчас можно съездить еще разок, решил аккумулятор подзарядить, я уже шестой год здесь стою — хо-ро-шо! Спокойно, — автовладелец со вздохом облегчения расстегивает пальто, снимает шапку, — гаража нет и не предвидится… пять тысяч…
— Да ну?
— А как же! Предлагали раз за четыре с половиной по улице Ломоносова… а сейчас наверняка пять. Вы знаете, хотели ведь еще одну платную стоянку организовать, возле нарсуда, участок отвели, заасфальтировали… и… все.
— Чего ж так?
— Жильцы какую-то жалобу там написали, вот и прикрыли, воздух, что ли, им будет портить стоянка. Под боком завод химический и воздух не портит, а тут… а-а-а… что тут говорить!.. Вообще, — оглянувшись по сторонам инстинктивно, сказал автовладелец, — у нас не очень поощряется частное автовладение. У нас в НИИ доклад был, так вот на эту пятилетку или нет, вру — на следующую пятилетку только у нас в среднем на семью запланировано иметь один велосипед. В других странах на семью — мотоцикл, а в ГДР, например, уже на четыре семьи запланировано иметь одну машину. Ну, ГДР — понятно: им нельзя жить много хуже, чем ФРГ, а у нас пока еще только велосипед. И то в следующей пятилетке. Так что автовладельцу у нас тяжело, очень тяжело. Станцию техобслуживания обещали открыть — нет до сих пор. Вот аккумулятор подзарядить — и то неделю угробишь. Еще хорошо, что в новых домах предусмотрены асфальтовые площадки, куда машину поставить можно. А у нас дом еще старый, так и вообще машину бросай на проезжей части!.. На этой стоянке хоть каркасы разрешено держать, считай: какой никакой, а гаражик, а я вот ездил на «Мичуринскую» — там стоят под открытым небом, там брезентиком только можно прикрыть — и все. А здесь еще по-божески, по-божески. В «Литературке» я прочитал недавно, что есть проект подземных гаражей, но цена! Пять восемьсот!! Хотя тогда эти гаражи будут с отоплением, там же иначе сырость будет. Нет-нет, горсовет неохотно идет навстречу автовладельцам — и насчет стоянок, и насчет станций техобслуживания. Вот за границей на каждой бензозаправке есть станция техобслуживания, а у нас сервис отстает. И как это люди не понимают, что все это надо. Ведь еще Ленин учил: «Бери у капиталиста все самое лучшее». Да там и нет этой проблемы, там при каждом коттедже в подвале есть гараж, там, знаете ли, сейчас предпочитают жить в коттеджах, так вот, при каждом коттедже в подвальном помещении — гаражик…
И такая тоска была в этом человеке по той жизни, где нет и не может быть такого вопиющего противоречия: есть машина — нет гаража в подвальном помещении собственного коттеджа! — что Сашка даже взглянул на него повнимательнее… по-человечески что-то шевельнулось в нем впервые к автовладельцу. И в конце концов в Сашкином восприятии автовладельца как такового совокупилось от всех этих похожих разговоров нечто — малопонятное, половинчатое. Например, сам машину ставит на автостоянку — жена мерзнет за воротами. Или — сюда доехал, машину поставил — теперь с бутылкой идет к автобусу, чтобы дома выпить, — это жизнь?! Сашка вяло думает, поглядывая на помощника: «Ну зачем люди машину покупают? Да этих же денег на всю жизнь тебе хватит на такси разъезжать!» Тем более если по стране на семью пока лишь один велосипед положен… Тут Сашке вспомнился свой собственный первый велосипед. Уж неизвестно, на какие шиши купил отец ему в то голодноватое послевоенное время велосипед… Да, оказывается, Сашка помнит еще, помнит то время, когда быть богатым считалось неприличным. Помнит, как отец купил велосипед. Точно такой же, как у Альки Панкова — сына начальника цеха, в котором отец работал слесарем пятого разряда.
В то время самым обычным средством передвижения у них — у пацанов военного времени — был самокат. Конечно, и самокат самокату рознь. Были просто прекрасные — трехподшипниковые, хорошо смазанные, бесшумные, с фонариком, сигналом и даже ножным тормозом в виде резиновой нашлепки, снятой со старой лыжи, которую стоило лишь слегка нажать пяткой, и самокат твой встанет как вкопанный. И понятно, что владелец такого самоката несколько снисходительно поглядывал на того, у кого самокат состоял из двух досок и двух подшипников всего-то. Но ведь и те и другие были самоделками. В конце концов ведь и владелец самого простого самоката при желании мог сходить на свалку военной техники, которая начиналась сразу за городом, и разыскать там все необходимое для самого прекрасного самоката. Велосипед же был, как тут ни крути, транспортом уже совсем другого порядка. Пересесть на него с самоката было то же самое, что годы и годы спустя с велосипеда на мотоцикл, а потом и на сегодняшнюю легковую машину.
Так вот, когда новенький велосипедик появился в его руках, владеть им, как ни странно, оказалось довольно затруднительно. В принципе-то для Сашки возможным было уже тогда наше сегодняшнее личное владение, когда «эта вещь моя, и только моя!». Потому что уже и тогда семьи три-четыре или пять жили в их стоквартирном доме побогаче и могли позволить своим детям владеть как бы избыточной (по тем временам) собственностью.
И вот еще какая странность вспоминается ему сейчас. Ведь, если разобраться, любой владелец самоката был самым настоящим владельцем, со всеми узурпаторскими последствиями. И это никогда не вызывало неприязни, даже уважалось. Уважалось, скорее всего, потому, что данная собственность досталась оному владельцу честным путем, исключительно лишь за счет его собственной инициативы, немалых, порою опасных трудов. А конкретнее — путем многодневных хождений на свалку военной техники. Что само по себе в то время было не так уж и безопасно, потому что на той свалке за городом частенько попадались неразорвавшиеся мины и снаряды, гранаты и патроны и немало все-таки происходило трагедий. Так что понятно, почему самый превосходный самокат не воспринимался тогда как нечто не наше, антинашенское. Не воспринимался как какое-то несоответствие. И Сашка — десятилетний пацан тогдашний — очень хорошо понимал, что если уж очень крепко держаться за свой драгоценный, пахнущий резиной, смазкой и прочими восхитительными запахами велосипедик, запросто можно оказаться за той роковой чертой, из-за которой нет уже возврата. Да просто будешь вычеркнут из жизни двора, ведь ты же будешь не соответствовать чему-то очень серьезному, общепринятому среди всех пацанов. Тебя не позовут больше играть в казаков-разбойников, не будут ждать, чтобы идти купаться на речку. Тебя, словно ты не пацан, а девчонка, перестанут учитывать как боевую единицу в тех нелегких войнах с соседними дворами, какие велись тогда постоянно. Но тебя не просто перестанут замечать, тебя конечно же при этом припечатают какой-нибудь обидной кличкой: Чмырь, Сопля, Вонючка. А то и похлеще что-нибудь придумают, будут, улюлюкая, хором кричать вослед тебе эту кличку, которая отныне на веки вечные закрепится за тобою.
Разумеется, Сашка тогда не был в состоянии понять, что все дело в происхождении твоей личной собственности. И одно дело, когда ты неделями скитался по свалке, откручивая детали, сбивая в кровь руки, сторонкой обходя неразорвавшиеся снаряды и мины. И другое дело, когда вещь подарил тебе добрый папа. Потом, со временем, конечно, краем уха он что-то такое услышит о принципиальном отличии личной собственности от частной, потом и в школе, и в лагере будут время от времени впихивать в него различные премудрости скучноватой науки — политэкономии. Но тогда, десятилетним, он все это ощутил собственной шкурой, холодком, пробежавшим по лопаткам. Когда вывел в первый раз из подъезда во двор свой великолепный, пускающий солнечные зайчики велосипед и тут же увидел настороженные лица товарищей, верных соратников по играм, купаниям, удираниям с уроков в кино на великолепный фильм о мужественном Тарзане. Еще вчера все они были как одна семья, еще вчера он был уверен, что его никто и нигде во всем городе никогда не тронет, потому что за него весь двор его, весь дом его стоквартирный. А теперь вокруг эти незнакомые настороженные лица, эти непонятные глаза. А он-то вышел, вернее, выбежал из подъезда на яркий солнечный свет с распирающей радостью. А вокруг тополя шумят, на тополях клейкие теплые листочки, они бодрят, они горчат, уже подсохли апрельские лужи и можно сколько хочешь гонять на велосипеде — новенькие шины будут чистыми и педали с изумрудными стеклышками останутся такими же легко вертящимися, такими же новенькими. Он сжимал крепко гофрированные ручки руля, под боком поскрипывало пахнущее кожей коричневое новенькое седло. А они, его вчерашние товарищи, побросав свои самокаты, настороженно поглядывали на Сашку с велосипедом. Весь двор уже знал, что у него теперь велосипед! Такой же, как у Пантеры. Так звали Альку Панкова — сына начальника цеха.
Да, понятно, что и в то время уже в их стоквартирном доме семей пять-шесть жило побогаче. И, разумеется, дети в тех семьях имели недоступные для остальных пацанов вещи: велосипеды, баяны, фотоаппараты и даже пианино. Во дворе к владельцам этих недоступных, как бы из другого мира вещей отношение было в целом отрицательное. Но и тут не без исключений. И если одних прозвали обидными кличками Чмырь, Жмот и так далее, то у Альки Панкова и кличка была вполне приличная, даже благородная — Пантера. И к самому Альке отношение двора было самое благожелательное: сын начальника как бы вполне естественно в глазах двора в будущем и сам становился начальником. И на весь их огромный дом это вполне как бы допускалось, как бы всегда подразумевалось, что «мы — это мы, а они — начальники, без которых, как ни верти, в жизни не обойтись». Поэтому и отношение к Альке было неплохим, а кличка так даже и вполне хорошая. Она, помнится, Альке даже нравилась, он иногда почему-то начинал говорить о себе в третьем лице и тогда называл себя Пантер-рой — именно так, через два «р», получалось как-то мужественнее, благороднее, что ли. Ну а остальные, из пяти-шести-семи семей в их доме, к начальникам не относились, хотя и жили, как и Панковы, явно богаче всех прочих. То были семьи бухгалтера, пекаря из хлебопекарни, заведующего детсадом, еще кого-то помельче. Всё это были не начальники, однако ж как-то исхитряющиеся покупать своим детям все, что имел и Пантера — сын законного начальника.
Да, и еще Сашка с удивлением припоминает, все эти семьи почему-то жили в первом подъезде, где и Панковы. У них в доме было десять подъездов, квартиры были трехкомнатные, в каждой комнате, естественно, отдельная семья. Одни Панковы на весь огромный дом занимали две комнаты в трехкомнатной квартире, это им уже много позднее целиком выделили квартиру. Но дело не в этом, а в том, что все эти пять или шесть семей почему-то оказались в первом подъезде. А он выходил как раз на бульвар. Говорили, что это самый холодный подъезд. Но, поскольку он выходил на бульвар, у него были маленькие балкончики. Совсем малюсенькие, в общем-то не для дела, а для красоты. В праздники по бульвару шли демонстрации, и с каждого балкончика тогда свисал красный флаг, вот для чего были те балкончики. А так-то подъезд был похуже других подъездов, холодновато было в нем. Да, тогда все они еще жили в одном стоквартирном доме, все вместе. Это уж потом у богатых появятся свои отдельные дома, свои санатории, больницы, дачи. А тогда они еще не делились на бедных и богатых. Но уже и тогда, в пределах той общности, что создалась после войны, богатенькие как-то невольно уже начали выделяться. Хотя бы отдельным подъездом, хотя бы крошечным балкончиком, на котором в праздник можно повесить красный флаг.
И чего это Сашке в столь поздний час вспомнилось то легендарное уже послевоенное время, когда богатым быть считалось неприличным? Работа ли на этой странной платной автостоянке, жизнь ли вокруг — причина Сашкиных воспоминаний? Так вот — приходит он к выводу такому — богатство богатству рознь. Заслуженное, для очень немногих, для Альки Панкова, скажем, — это одно, а незаслуженное — это совсем другое. Тогдашний их двор, понятно, не вникая в сегодняшние Сашкины нюансы, однако же очень четко определял и последовательно проводил это в жизнь. Порою довольно жестковато проводил, но, по-видимому, так надо было. Так, Пантеру выделяли ведь не только кличкой, но и отношение к нему было по сути братским. Его не только брали во все игры, но и часто добровольно поручали роль командира. А ведь он выделялся среди них не только избыточными вещами, но и посещал музыкальную школу, что по тем послевоенным временам считалось чуть ли не буржуйством. И все же в глазах детей рабочих сын начальника по закону владел всем этим, избыточным, и к нему у них не было абсолютно никаких претензий. Другое дело те остальные пять-шесть семей, что всякими путями перебрались в панковский подъезд: завхоз, бухгалтер, булочник, еще кто-то… Ведь они, пацаны, уже тогда догадывались, каким путем пришло богатство всем этим людям из первого подъезда. Отсюда и клички: Жмот, Сопля, Вонючка, Хапуга. Отсюда и улюлюканье им вслед, и свист, а то и комок грязи, пущенный вдогонку. Но те-то, богатенькие, вспоминает Сашка, уже тогда держались все вместе, играли только у своего подъезда. Их игры заключались в том, что они на время менялись своими вещичками: один другому, скажем, даст пофотографировать настоящим фотоаппаратом «Фотокор», а тот взамен ему даст поиграть на трофейном аккордеоне. Один Пантера был на равных и среди тех, и среди этих. Он мог играть у своего подъезда среди избранных, а мог запросто и ко всем остальным прийти. Во дворе было негласное разрешение ему на это. А вот что теперь Сашка представлял с этим новеньким велосипедом, который невесть как свалился на него?!
Ну, в принципе-то и он мог бы теперь сразу присоединиться к компании из первого подъезда. А что? Запросто. Давал бы им покататься на своем велосипеде, а они бы ему за это — кто поиграть на губной гармошке, кто одним глазком поглядеть в настоящую подзорную трубу. С одной стороны в трубу ту глянешь — всё как на ладони, каждый камушек, каждая букашка. А только переверни ее другим концом, и весь мир от тебя словно отскочит, прямо-таки шарахнется на бесконечное расстояние. Снова перевернешь, и снова он тут как тут. Смотри сколько хочешь, пока на твоем велосипеде катаются. Да, Сашка таким образом смог бы сразу завладеть (пусть и на время!) многими недоступными ему до этого вещами. Вообще, если задуматься, какая невероятная жизнь открывалась перед ним в связи с этим драгоценным велосипедом, который крепко сжимал он вспотевшими слегка руками! Какие перспективы открывались захватывающие! Ведь в обмен на велосипед он мог не только на губной гармошке попиликать, но получить в руки самый настоящий аккордеон, усесться поудобнее, тяжелые развернуть мехи, по блестящим клавишам нажимать пальцами… заиграть что-нибудь хорошее, например, «Наверх вы, товарищи… все по местам…».
Понятно, что все эти прекрасные мечты вмиг рухнули, как только вывел он свой велосипед в то сияющее апрельское утро, как только увидел настороженные лица вчерашних своих товарищей, как только озноб почувствовал, пробежавший по выпирающим лопаткам. И ту политэкономию, что в теоретической, так сказать, ее части не смогли в него вбить ни лекции, ни учебники, он практически в два счета усвоил, только появившись с велосипедом в своем дворе. Как глянул в эти глаза и лица, так и усвоил, раз и навсегда.
Теперь с утра он ежедневно выводил велосипед, а у подъезда уже ждала очередь желающих кататься. И первый из этой очереди прямо-таки вырывал велосипед из его рук — заждался! С раннего же утра первым занял, понимать надо. Нет, Сашка мог бы вполне прокатиться безо всякой очереди, сделать ровно круг вокруг их стоквартирного дома, как и другие. Велосипед-то все-таки его! И этого никто не забывал. И вся очередь терпеливо бы ждала. Но сделать, скажем, не круг, а три-четыре круга, тем более уехать на тихую, зеленую улицу Чайковского — единственную асфальтированную в то время — он, разумеется, не мог. Или при этом надо было менять весь порядок езды, то есть все бы тогда разъезжали по Чайковского и что бы тогда осталось от велосипеда! И поэтому, сделав круг вокруг дома, впрочем, почему-то без всякого удовольствия; Сашка зачем-то еще раз проверял тормоза, звенел звоночком и, вздохнув, отдавал велосипед… теперь уже до вечера. До того часа, когда надо идти домой. И весь день велосипед переходил из рук в руки, очередь не кончалась, ибо только что прокатившийся тут же занимал ее снова. И опять же, Сашка в любой момент мог взять и прокатиться, его всегда бы пустили без очереди. Пожалуйста — вокруг дома. Или ровно столько, сколько устанавливала очередь на этот день. Вот, собственно, и все его права, справедливо определенные двором. Правда, вспоминает он сейчас не без удовлетворения, изредка возникали все же споры в той велосипедной очереди: кто-то недоехал, кто-то лишнее проехал. И тогда обязательно разыскивали Сашку. И где бы ни был он в этот момент: играл ли в лапту, в «чижика» или в «стеночку» на деньги или расставлял по трамвайным рельсам автоматные патроны, чтоб под колесами трамвая получилась самая настоящая трамвайная очередь, — его всегда находили и приводили к дому для разрешения спора. И, вникнув в суть, он тут же спор решал окончательно и бесповоротно. После чего очередь успокаивалась и действовала дальше бесперебойно.
Только поздним вечером получал он свой велик — ободранный и грязный, с «восьмерками» на переднем и заднем колесах, но уже душа не лежала как-то приводить его в порядок, как-то улучшать. Да и интерес к нему как-то пропал. Ведь Сашка не мог дать прокатиться лишний круг даже Гальке Григорьевой, которая ему очень нравилась. Попробуй дай! Попало бы и ему, и Гальке! И что оставалось делать? Да только когда выносил он во двор пирог в какой-нибудь из праздников, когда пекли их дома, и тут же ломал на части, чтобы всем досталось (то же самое, кстати, делали и все остальные, когда изредка случались пироги в их коммуналках), так вот, тогда он Гальке Григорьевой отламывал кусок побольше, совал незаметно… Или это уж вокруг старались не замечать, что он отломил ей побольше? Как ни странно, люди в то непростое время были не только воинственно-непримиримыми, но вообще-то по-своему и скромными, и даже деликатными… А тут, совсем недавно как-то, включил он телевизор, а симпатичная дикторша с упоением говорит о бесплатной медицинской помощи калекам-афганцам. Подчеркивает — ах, какая же она бесплатная! И неужели это никого не оскорбляет?! Нет, будь Сашка афганцем — лично его бы, Сашку, это до смерти бы оскорбило…
— Товарищ дежурный! Пройдитесь вдоль периметра ограждений! Товарищ начальник дружинников! Расставьте людей по квадратам, согласно распоряжению!
Прокричав это в микрофон, он переводит звон будильника на следующий час, бросает ватник на стол и ложится спать, положив руку на телефонную трубку. Часа в два-три ночи обязательно раздастся звонок, а трубочка-то уже в руках у Сашки!
— Стоянка! — бодрым голосом говорит Сашка.
— Мурасеев Ве Ге, — приветствует его начальник. — Ну как? Все ли в порядке, Александр Иванович?
— Так точно!
— Ну-ну… Так на чем мы в прошлый раз остановились?
— На английской «пирс-аррау», — читает Сашка по бумажке, еще с вечера приколотой булавкой к раме, — которая была национализирована у последнего русского царя.
— Точно, — удовлетворенно говорит товарищ Мурасеев, — ну-с… итак, продолжим, а что там было дальше?..
— Да, кстати, что там было дальше? — не выпуская трубку, Сашка ходит по бытовке, делает какие-то свои дела. — Я так думаю, Владимир Георгиевич, прогресс остановить нельзя.
— Ни в коем случае, Александр Иванович! Ни в коем случае… и уже весною тридцатого мы закупаем в США у фирмы «Форд» сразу двести легковых автомобилей. Идет жестокая конкуренция с извозчиком. В дореволюционной Москве, как вы знаете, Александр Иванович, было восемнадцать тысяч легковых извозчиков. В двадцать девятом их оставалось еще более четырех тысяч. Но еще до полного вымирания нашего отечественного извозчика было далеко, еще не раз блестящая от лака пролетка на дутых шинах оставляла далеко-далеко позади капризную технику тех лет. Но, как вы правильно тут выразились, научно-технический прогресс остановить нельзя. И в тридцать третьем в Москве, за Крестьянской заставой, открыт наконец-то наш собственный завод, которому присвоено имя Коммунистического интернационала молодежи. В настоящее время, как вы знаете, — завод малолитражек. Ну а тогда на нем шла лишь сборка автомашин иностранных марок. А вот в Горьком, знаете, на Нижней Волге, закончилось строительство завода, выпускающего уже первые отечественные автомобили, марки «ГАЗ». И чтоб испытать их, в июле тридцать третьего дан был старт большого, нашумевшего, кстати, на весь мир автопробега Москва — Каракумы — Москва. По дорогам Чувашии, Татарии, Средней Азии, по пустыням и бездорожью Казахстана, по верблюжьим тропам и барханным пескам Каракумов обычные серийные машины советского производства прошли почти десять тысяч километров, из которых лишь семьсот представляли собою шоссейные дороги. И представьте себе, ни одна не сошла с пробега! Ни одна! Вот вам и отсталая Россия!
Ну а в тысяча девятьсот тридцать пятом году, запомните эту дату, пожалуйста…
— Хорошо, Владимир Георгиевич, запомню.
— Так вот — произошло в тридцать пятом радостное событие, ибо появилась первая легковая модель «ГАЗ-А». Она представляла собою вполне элегантную модель с откидывающимся верхом… правда, колеса были еще со спицами, как у велосипедов, а так вполне… Да, история бережно донесла до нас имя первого таксиста на первом отечественном газике — Михаил Николаев. К сожалению, погиб от рук бандитов. Как видим, товарищи, нелегко, в жестокой борьбе со старым рождается все новое, прогрессивное… Ну а скоро и московский завод начал выпускать легковые автомобили марки «ЗИС». Мягкие, просторные, современные. Ну а горьковчане к тому времени освоили новую марку автомобиля — «ЭМ», это та самая знаменитая наша «эмка», главным испытанием для которой стала Великая Отечественная война. Итак, Александр Иванович, мы с вами на «эмке» остановились. «Эмка» — это уже вполне современная машина, не правда ли?
— Понятно, что не самокат! — хмыкнул в трубку Сашка.
— Какой еще самокат? — удивился товарищ Мурасеев.
— Самокат? Да мне тут, Владимир Георгиевич, вспомнился наш послевоенный двор — у пацанов тогда ведь в основном самокаты были, редко-редко у кого велосипед-то…
— Да, тогда у нас действительно были в основном самокаты… Послушайте, Александр Иванович, а вам, собственно, сколько?
— Сорок восемь.
— Сорок восемь? Так мы с вами, можно сказать, одно поколение… послевоенное. Хорошо помним самокаты, помним фильм «Девушка моей мечты», а?
— Я про Тарзана больше вспоминаю…
— Ну как же, как же… Тарзан, Джейн, зловещие крики в джунглях… да-а… а вы случайно, Александр Иванович, в те добрые старые времена не любили меняться?
— Как меняться? В каком смысле?
— Ну как, как — вещами, конечно, я тебе — ножичек, допустим, а ты мне — фонарик… или наоборот…
— Не-е… что-то не припомню.
— Не припомните?
— Нет… точно нет.
— Н-ну что ж… тогда паша беседа на сегодня подошла к концу, желаю вам спокойного дежурства, а вам пора уже как будто сделать очередную передачу по трансляции, не так ли?
— Товарищ дежурный! Пройдитесь с собакой по периметру ограждений! — выкрикивает Сашка, потом зевая подводит будильник, вино допивает и ложится.
Поспать не удалось: ГАИ пригнало арестованную «Волгу». Расписываясь в специально только для арестованных машин журнале, инспектор ГАИ сказал: «Несколько сберкнижек обнаружили у автовладельца, несколько водительских прав на разные фамилии, ключей зажигания с десяток и два охотничьих ножа. Незарегистрированных. За неделю уже третий случай. Да-а… поперла сволота, всплывает…»
Когда они уехали, Сашка уже не смог уснуть, вышел и обошел несколько раз арестованную машину. Ярко-черная, вся в заграничных наклейках, всё заграничные ансамбли — БОНИ-ЭМ, АББА — белокурые шведы, синеватые негры… какой-то развращенной выглядела машина, он вспомнил свою Людку и сплюнул. Сашка решил обойти стоянку. Снег искрился в ярком освещении фонарей, что на двенадцати столбах окружали стоянку по всему периметру. Идет Сашка, снежок похрустывает, за ним из сумрака каркасов подглядывают машины разных марок. То там, то здесь сверкнет зрачком фары или полоской никеля. Смутно поблескивает в глубине какая-то неуверенная поверхность черного лака…
Пятого числа был день зарплаты. Общее собрание стоянки: четыре сторожа-приемщика, дворник Егорыч и начальник — товарищ Мурасеев. Полный состав.
— Я прошу вас, — говорил товарищ Мурасеев, — обратить серьезное внимание на собачек. Не подпускайте к ним никого, даже прежних владельцев, которые приходят их кормить. Чтобы они знали только вас. Второе: обязательно быть на работе опрятными, выбритыми и чтоб — ни грамма! Контингент у нас особый, вы знаете: кандидаты наук, доктора, ученые и так далее. А то вчера, Александр Иванович, признайтесь, ведь пропустили рюмочку на работе, а?
— Нет, — грубовато отвечал Сашка.
— Пропустил, пропустил, я ничего не хочу сказать, Александр Иванович у нас рабочий класс, надежный в этом плане человек… возможно, он сам и не принесет, а нальют ему, он и… так ведь? Какие еще будут вопросы?
— Как спецодеждой будете обеспечивать?
— Это больной вопрос, — всколыхнулся, вздыхая шумно, товарищ Мурасеев, — вы знаете, что была профсоюзная конференция, ставили этот вопрос, но в ВЦСПС нет такой должности, как ваша — сторожа-приемщика, — поэтому и ничем и не могут помочь вам даже в ВЦСПС. А так на складах все есть, и полушубки, и валенки, но-но-но… и еще раз — но. Мы же добровольное общество автовладельцев, куда ни придешь, везде тебе отказывают. Говорят, вы принадлежите автовладельцам, вот и спрашивайте с них.
— Но у нас ведь все же не частная лавочка!
— Правильно, не частная лавочка! — подхватил товарищ Мурасеев. — Но и не то, заметьте — типичное не то, что было у нас до сих пор везде! Абсолютно не то! Вот говорят — перестройка, перестройка, переход на хозрасчет, самофинансирование. Все теперь заговорили, а когда мы в одиночестве начинали — почему тогда никто не говорил?
— Время застоя было, — вспомнил Сашка газету.
— Правильно!
— Но инициативные люди были во все времена. Это мы, мы — инициативные люди — подгоняем обычно время, проториваем первые пути! Ведь если разобраться, все, что мы имеем, эти самые деньги автовладельцев, — это ведь не мифические какие-то там деньги, а самые настоящие, кровные, человеческие, так сказать. И очень по-умному надо ими распоряжаться. Тут вам семь раз отмерь — один отрежь! А то владелец вправе сказать: «Я плачу — будь добр, чтоб на сто процентов пошли они на разумное дело, а не на шаляй-валяй, как у нас принято!» И он будет прав, тысячу раз прав! Пора, давно пора кончать с расхлябанностью, с разгильдяйством, чтоб ни одна народная копейка — а автовладелец тоже народ, — так вот чтоб ни одна народная копейка не пропала, не исчезла, как сплошь и рядом мы видим. В повсеместном равнодушии б не исчезла, в этом — «моя хата с краю». Нет-нет, надо с этим кончать. Наша стоянка еще в годы застоя, как вы тут правильно заметили, была первым ростком, первой ячейкой нового экономического порядка. За нашей стоянкой, товарищи, потянулись, образовались еще семнадцать. Ну а сейчас, понятно, речь идет о создании комбината гаражно-технического обслуживания, который бы объединил все семнадцать платных стоянок нашей области. Вот так, товарищи.
Зарплату раздав и поблагодарив каждого за хорошую работу, еще долго сидел товарищ Мурасеев, писал, считал, чертил. Звонил телефон, Сашка вздрагивал, тряс сонной головой, Мурасеев брал трубку.
— Это овощная база?
— Нет, — грубо говорил Мурасеев, узнавая голос жены, — это вытрезвитель.
И опять считал, писал, чертил, опять звонил телефон, Сашка вздрагивал.
— Это клуб медиков?
— Вам же сказано русским языком — вы-трез-ви-тель! — и швырял трубку.
— Охо-хо-хо! — вздыхает товарищ Мурасеев, снимает очки, трет уставшие глаза и набирает номер. — Скворцов? Мурасеев Ве Ге, приветствую вас! Места у меня нет, но мы тут помозговали немного — временно могли бы поставить твой «Запорожец», но… нужна фотоэлектронная сигнализация. Я понимаю, что не можешь, у тебя ведь только лаборатория в подчинении… что? Нет? Ты — зам всего-то! Ну, нет так нет, на нет и суда нет… Что? Если будет тебе постоянное место, подумаешь? А в принципе-то смог бы? Смог. Несмотря на то что ты зам всего-то, да? Ну вот и давай, а? Да нам тут один обещал и, конечно, подвел. Что? А за времянку? А? Нет? За постоянку? Ну, черт с тобой! Будет, будет тебе постоянка, грабь, режь Мурасеева Ве Ге. А что ж ты со мной делаешь, разбойник!
Товарищ Мурасеев бросил трубку и, облокотившись, схватился за голову. Нет, за что ни возьмись — все с таким трудом достается, с невероятным! Как, что, за какие шиши — никого ведь это не интересует. Как ворота сделал товарищ Мурасеев, как ограждение, как вышку смотровую — все ведь досталось с таким невероятным трудом! Только вот собачки достались попроще. Сейчас, кровь из носу, валенки сторожам надо подшить. А то ведь ни по каким спискам им валенки не положены. Да и должности такой пока нигде не зафиксировано, ВЦСПС и не знает про такую должность. И опять товарищу Мурасееву приходится все пробивать, все доставать. Хорошо хоть, через военкомат он что-то, с кем-то, как-то… всё ж два генерала и десять полковников входят в инициативную группу. Да и сам военком в его положение входит…
— С этого мужика, — говорил он Сашке, домой собираясь, — не бери за эстакаду, он нам то краски, то замазки принесет, то еще что-нибудь, — в дверях обернулся, — если недолго будет занимать… а если долго, возьми все же… копеек пятьдесят… Итак, если не возражаете, Александр Иванович, я покидаю вас!
— Не возражаю…
Работа все больше нравилась Сашке. Хотя и была немного странноватой. В чем эта странноватость, Сашка вникать особенно-то не собирался. Тепло, спокойно, ночь идет, деньги идут, скоро товарищ Мурасеев Ве Ге еще раз позвонит, расскажет, как развивался в дальнейшем наш легковой транспорт, потом обязательно пожелает спокойного дежурства и можно будет заводить будильник. Вот только через каждый час давать объявления — морока. Хотя, вероятно, они все же как-то отпугивают возможных нарушителей.
Однажды Сашка пожаловался на это Вите Козлову. Они подружились уже, и Витя частенько, машину поставив, заходил к Сашке. Допивали сперва Сашкино вино, чаще всего «вермут» в больших бутылках, а потом и Витя доставал что-нибудь из сумки. За рулем нельзя, а домой Витя брал все чаще и чаще, да почти что регулярно. Только до дому никогда не довозил — с Сашкой распивали. Опытным взглядом Сашка видел, что даже за то время, что он на этой стоянке, Витя Козлов стал попивать, помаргивать стал глазом, стал уже привычно в слове «вермут» делать ударение на втором слоге, все больше недовольным выглядел. «Ну, — спросит его Сашка по-дружески, — братан-то скоро выйдет?» — «Три месяца!» — буркнет Витя и нахмурится, тяжело так задышит, жарко…
И вот сидят они в бытовке, Витек уже привычно на судьбу жалуется, на то, что вот сейчас-то еще ничего, хоть и тяжело, но жить можно — и машина, и квартира. Конечно, гаража нет, но платная стоянка — великое дело: спокойно спать можно, так что жить можно, можно. А вот как брат-то выйдет, все ведь рухнет.
— Как все же незаметно, Александр Иванович, три года пролетели! Я даже и опомниться не успел — и вот я опять уже без машины! А разве человек может без машины?! — И Витя горько головою поник.
— Да не печалься, Витя! — говорит Сашка, утешая. — Давай, брат, еще по одной… у меня вот тоже — все бы ничего бы, морока через каждый час призывы по радио передавать. Всю ночь сон не в сон. Одна нервотрепка.
— Тю-у-у! — говорит Витя Козлов, переставая горевать. — Да я, Александр Иванович, сделаю вам реле времени, на маг ваши призывы запишу, заведем пружинку на будильнике, и спите! Оно само включится, когда надо, и все само передаст в эфир. А вы спите себе, спите…
— А получится?
— Тю-у-у… у нас же фирма, Александр Иванович, целый отраслевой НИИ по этому самому делу.
— Ну-у… век буду помнить, Витек.
— Сделаю! — Витя Козлов бьет себя в грудь. — Чтоб я для вас, Александр Иванович, и не сделал! Э-эх… жизнь-копейка!..
— И я… и я, Витек… я тоже к тебе… со всей душой, чем-то ты мне понравился, бесхитростный ты какой-то… вот что на душе у тебя… ну, насчет братовой машины, то и…
— Ах, чтоб ей, стервочке, ни дна ни покрышки! — горестно клонит голову опять Витек и тут же вскакивает. — Извелся! Верите ли, Александр Иванович, извелся! В пух и прах!
— Верю, верю… друг мой ситный…
— Извелся весь, до ос-но-ва-ния… всю ночь ведь не сплю, все думаю, думаю, думаю, — стучал Витя кулаком себя по лбу, — все думаю, ну как же я теперь без машины-то буду, верите ли, вот только напьюсь до отключения, то и отдохну.
— Верю, верю, друг ты мой сердечный… тебе сколько лет?
— Двадцать первый.
— Во-во, а мне полтинник скоро. Тебе, Витек, лишь двадцать первый, а мне уже даже и не сорок первый, а круглый полтинник.
— Бы-ы-ыло, — Витек стал икать.
— Что было, Витек?
— Ки-и-но… бы-ыло та-кое… «Сорок первый»…
— А-а-а… да я не к тому, а к этому… сын у меня вполне мог быть таким, как ты… на двадцать один-то год… а то Лариска… ей тринадцать только, поздно женился, как это говорится: «Пять по ногам да пять по рогам…» — да-а… Людка, падло, дочку бросила, живет дочка у бабки, у матушки, значит, моей… у меня мать, знаешь, во-о!
— И у меня, и у меня, Александр Иванович, — во-о!
— А у нее еще сосед-полковник — душа человек! Зайдешь с похмелья, всегда выручит. Слушай, Витек, давай за него по последней, а? Всегда выручит! Законный мужик!
9. ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ
В обед с аванса первым делом — к полковнику, отдать червонец. Потом можно забежать и к бабке-лифтерше, у нее Сашка тоже брал семь рублей. Но сначала к полковнику. Момент возвращения долга — одна из редких минут в жизни, когда Сашка уважает себя. Со временем в этом довольно регулярном цикле — взять у полковника до пятого или до двадцать пятого десятку-другую и вовремя потом отдать — самым привлекательным стало именно это: долг вовремя отдать. Человек тебе поверил, выручил, но и ты его не подвел, возвращаешь вовремя. Хорошо, что есть на свете люди, которые верят еще в тебя, и хорошо, что ты при этом их никогда не подведешь! А это уже совсем не мало. Во всяком случае, на это вполне можно опереться в самую тяжкую минуту. И вот, дыхание утишив перед дверью, он звонит.
— Здравствуйте.
— Добрый день.
— Не помешал? — Это у них как ритуал уже и тоже очень нравится Сашке, значительно как-то выглядит, как-то на равных.
— Проходи, Александр.
— Должок вот принес. Спасибо.
— А-а… десятка… ну проходи, проходи…
— Я, знаете, если обещал…
— То железно… знаю, знаю, да проходи ты, чего в коридоре!
— Мать говорила, зайди посмотри, вроде полку хотите на стену, да?
— Полку, полку… да надо бы… но это потом, не к спеху, проходи.
— А-а-а… у вас, я вижу, гости… так я уж как-нибудь…
— Да какие гости — свои всё, брат с… с Ниной… вот Максимовной… из Трускавца едут, ну и заехали, знакомься.
— Петр Константинович, — сказал коренастый мужчина, отдаленно напоминающий полковника.
— Сашка.
— Нина, — сказала молоденькая женщина и засмеялась.
— А мать была недавно, — сказал полковник, — с Ларисой.
— Прелестная девочка, — сказала Нина Максимовна и опять слегка хохотнула.
— Нинок, — сказал Петр Константинович, — чайку бы свеженького, а? — И он посмотрел на брата.
— Нет вопроса, — сказал полковник, пожавши слегка плечами.
— Да я… — сказал Сашка, уловив некоторую нервность, витающую где-то совсем рядом.
— А я мигом, мигом, — Нина Максимовна вскочила, умчалась.
Помолчали. Петр Константинович барабанил пальцами но столу.
— А вы, собственно, где хотите полку, — спросил Сашка, — там, у окна?
— Потом, потом, не горит… да ты бери, Александр, вот хлеб намазывай, сыр бери, может, яичницу сварганить?
— Да сыт я, ей-богу!
— Ну и как там, Александр, стоянка твоя поживает? — улыбнулся полковник. — Как там товарищ Мурасеев? Достал вам валенки?
— До-остал, — удивился Сашка, — а откуда вы…
— Телепатия! — засмеялся Петр Константинович. — Брат у нас такой! А-а, Нинок! Давай, давай наливай Александру покрепче, идет?
— Идет! — удовлетворенно произнес Сашка и потер руки при виде дегтярной ароматной струи, льющейся ему в чашку. — Нет, Павел Константинович, откуда вы про Мурасеева-то знаете?
— Да как же не знать, коль мы с ним в одной инициативной группе при горвоенкомате.
— А-а…
— Деловой мужик? — поинтересовался Петр Константинович.
— Жох! — с убеждением сказал Сашка.
— Жох? — Петр Константинович посмотрел на брата.
— Да-а… — усмехнулся полковник, — есть что-то… в общем, из тех отставников, на ком не то что воду — камни возить еще можно.
— А мы тут недавно принимали соцобязательства, — сказал зачем-то Сашка.
— И вы?! — Петр Константинович даже привскочил слегка.
— А чего?
— Ну я там не знаю, — и Петр Константинович приподнял слегка плечи и развел руки в стороны, — как бы это выразиться, ведь у вас, э-э… не совсем социалистическое производство… или я ошибаюсь, — Петр Константинович глянул на брата, — Павел, а?
— Да у них там черт ногу сломит, — отвечал полковник, раздумавшись о Мурасееве, — да-да — сам черт не разберет. Как, Саш?
— Платят, и ладно, — сказал Сашка.
— Вот так-то, брат! — захохотал Петр Константинович. — А то — народ, народ! «Платят, и ладно!» Вот так-то, дорогой!
— Ну, я пойду, — допив стакан, хмуро сказал Сашка, — а то у нас нынче строго.
— Иди, иди, — с ласковой рассеянностью отвечал ему полковник. А когда ушел Сашка, вздохнув, сказал брату: — Хороший парень, только пьет… вроде Ваньки нашего…
— Да… Иван… — заглядывая в чашку, произнес Петр Константинович. — Жить бы и жить еще… нет, мотался… по всей стране, по всем стройкам… великим… Я иногда, Паш, думаю: великие стройки — что это такое? Вообще нужны ли? Прочитал тут недавно — в Череповце отгрохали домну, естественно, самую высокую в мире. Имя красивое дали — «Северянка». А в мире-то уже никто домн и не строит, все на электрометаллургию давно перешли. Так спрашивается, на кой ляд нам эта «Северянка»? Да еще самая высокая в мире?! Денег некуда девать? Или по-прежнему суть наша не в здравом смысле, а в том лишь, чтобы — «выше всех, быстрее всех…» — да? А Ваньки-то нет, а?
— Да, братана жаль. Ты прав, кого-то эти великие стройки убили, кого-то в герои вывели. Ну а если конкретную искать пользу, прикладную, так сказать, то что ж… часть из них, да тот же БАМ, наверняка ее имеют. Да ту же оборонную хотя бы. Ну а часть строек, понятно, пользы никакой не имеет. И порою даже строим наверняка во вред себе.
— Вот-вот, — слыхал, в Армении уже принято решение: демонтировать АЭС, а миллионы, если не миллиарды, вбухали. Богатая страна, ничего не жаль! А Чернобыль? Это же все так очевидно!
— Ты прав, брат, как всегда. Но ведь только для того, чтобы это стало очевидностью, надо было все-таки построить!
— Скажешь, что и взрыв надо было еще пережить!
— А что — может, и взрыв! На себе испытать… чтобы другим глаза открыть…
— Да что ж мы, Паша, за страна такая?! Что за народ?! Что все самое ужасное сперва на себе испытать должны! И плотины, убившие наши прекрасные реки! И Чернобыль! И…
— И революцию!
— А коллективизацию, коллективизацию забыл?
— А индустриализацию!
— А репрессии!
— А победоносную Великую войну?!
— А застой?!
— А первый человек в космосе?! Во времена того же застоя! Нет, брат, одним словом, одним явлением Россию не определить! И не пытайся. Это тоже очевидно.
— Опять, значит, по кругу… опять наш спор по кругу…
— И никуда, брат, от этого не денешься, потому что многогранна Россия-матушка и… и уж если определять ее единым словом, то это просто — стимул. Россия — просто стимул.
— Ну что еще за стимул? Зачем? Для кого?
— Я думаю, не будь России, земное сообщество было бы, несомненно, другим.
— Да уж… наверняка более спокойным, более благоденственным.
— Ты так считаешь? А вспомни, когда на Севере выбили всех волков, тоже думали, что вот теперь-то без них заживем спокойно! А что воцарилось в оленьих стадах? Воцарились ожирение, мор, болезни. Общее ухудшение качества жизни воцарилось.
— И что ты этим хочешь сказать?
— Только то, что всему миру давно известно: что путь у нас свой, особый.
— Значит, опять вернулись к Марксу! А вдруг он ошибался? Ну что это за общинность такая особая? С чем ее едят? Кто видел ее вообще-то?! Нет, я думаю — ошибался великий Маркс, ошибался…
— А вдруг не ошибался, все ж таки Маркс…
— Не люблю я, Паш, всего неясного, темного… иррационального… прямо душа не принимает…
На самом деле Петр Константинович просто побаивался всего этого, неясного, ибо в нем самом порою пробуждалось это неясное желание: то ли рукой взмахнуть как-то отчаянно хотелось, то ли крикнуть что-то… дикое… даже снилось что-то такое… ну, когда вдруг рукой-то взмахнешь да во все горло и гаркнешь…
* * *
Когда Петр Константинович домой вернулся, все пошло по-старому. К обеду ехал в институт, где чувствовал себя как рыба в воде. А если уж точнее, то рыбу в воде могут ожидать неприятности, Петр же Константинович, кроме близкого уже членкорства, ничего не ожидал. Ветер перемен, разумеется, коснулся и их института. Вернее, институт так славно вписался в эти перемены, словно всю жизнь их только и ждал. Теперь и штаты и оклады выросли ровно в два раза. И все это вследствие того, что эффективность работы института за последний год вверх рванула ровно на порядок. Шутники острили по курилкам, что это машинистка, сводный отчет перепечатывая, лишний ноль приписала: сто тысяч было, стало ровно миллион, то есть фикция сплошная. Но фикция фикцией, а реальность, вот она, дважды в месяц, — успевай только у кассы расписываться. Ну наконец-то — зажили! Синенькие, красненькие и зелененькие! Дважды в месяц перекочевывают из кассы в твой глубокий карман. Тут сразу же все проснулись, задвигались, записали. Тут и мертвый очнется, ржавым пером заскрипит: «Хозрасчет, хозрасчет… само-самофинансирование…» Все сразу стали заниматься хозрасчетом. Вот и Петр Константинович ежедневно ехал в институт хозрасчетом заниматься.
Ну а Ниночка занималась домашним хозяйством. Вернее, так было принято считать. А чем на самом деле занимается молодая жена в отсутствие старого мужа, одной ей известно. Конечно, поговаривали разное. Но только Петр Константинович взял за правило — ни на какие разговоры внимания не обращать. Здоровье, а главное — нервы, это прежде всего. Он поэтому и привычек своих не меняет уже много лет. По-прежнему болеет за «Спартак». Хотя понятно, что перемены, приобретая все больше лавиноопасный характер, не пощадили и «Спартак» — лучшие футболисты давно по заграницам проданы. И все же, когда «Спартак» играет, он Ниночке всегда звонит, предупреждает, что ночевать на дачу не приедет, будет в городской квартире болеть за «Спартак» по телевизору.
Итак, играет «Спартак». Петр Константинович за час до начала уже был в квартире. Он принял холодный душ и в одних трусах и майке готовил на кухне какао. Ему-то, конечно, хотелось кофе, но только он помнил об одышке и ограничился какао. Прекрасны ожидания футбольного матча в пустой квартире, в прохладе, полумраке, в одиночестве — после душа. Сейчас он опустится с дымящейся чашкой какао в кресло, вытянет гудящие после долгого июльского дня ноги. Приятна шероховатость финского паласа коже ног, отвыкших от земли, травы и речных камушков. Неправдоподобен после холодного душа первый глоток крепкого какао, снимающий сразу боль над левой бровью, расправляющий сразу грудь для глубокого вздоха, приносящий мощное ощущение и прохлады, и вечернего одиночества, и успокаивающей сумеречности полузадернутых штор. Тут позвонили. Петр Константинович пожал плечами. Никто не мог звонить — все были на даче. Знакомых каких-либо в этой многоэтажной башне у Петра Константиновича, естественно, не было. Он и соседей-то по лестничной площадке не знал. В «глазок» рассмотреть никого не удалось. Он открыл дверь на цепочке. Маленькая девочка тоненьким голоском спросила:
— Проявление милосердия к каждой божьей твари — долг христианина?
— Да, — сказал опешивший несколько Петр Константинович.
— Тогда возьмите.
И Петр Константинович, придерживая, несмотря на цепочку, дверь одной рукою, другую просунул навстречу и получил в нее маленькую желторотую птаху с тремя торчащими перышками на хохолке и черными глазками. Он тут же как ужаленный сбросил цепочку, выбежал на лестничную площадку и закричал:
— Зачем? Постой!
Но лифт перед ним захлопнулся и с адским шумом умчался куда-то вверх.
— Черт знает что! — воскликнул Петр Константинович, озирая лестничную площадку.
Непроизвольно рука его дернулась, словно бы поискав местечко поудобнее, уже собиралась выбросить то, что было в ней. Но уже в следующее мгновение он прижал птенца к животу и вернулся в квартиру. Приоткрыв ладонь, он увидел, что птаха открывает беззвучно маленький клюв. Петр Константинович пошел на кухню и открыл холодильник. «Чем бы тебя покормить, — подумал, — чтобы футбол спокойно посмотреть? — Он увидел колбасу твердого копчения, яйца, сыр рокфор, жирный творог. Яйцо варить ему не хотелось, а все остальное для пичуги с желтым по краям клювиком показалось Петру Константиновичу твердоватым, разве что лишь творог, пожалуй, будет в самый раз. И он зачерпнул ложкой творога, поднес к клюву. Но птенец был так мал, что сам еще есть не умел. Стал Петр Константинович ломать творог на кусочки и ждать, когда птенец откроет клюв, чтобы пихнуть творог туда. А клюв теперь, как назло, не открывался. Петр Константинович разомкнул тогда ногтем мизинца этот миниатюрный клюв и в образовавшуюся щелку сунул небольшой кусок творога. Но творог застрял. Петр Константинович все ж кое-как изловчился. Не выпуская из рук птенца и не давая ему мотаньем головы от творога освободиться, спичкой, тут же подвернувшейся, осторожно просунул творог дальше в рот, а там уж птенец и сам, видно догадавшись, раз — и проглотил. — Порядок! — сам себе сказал Петр Константинович и таким же ловким макаром отправил по назначению еще кусок творога, побольше, а за ним — еще и еще. Так и пихал энергично минут десять. Птаха даже быстро-быстро вдруг завертела головою, и Петр Константинович сообразил, что, наверное, он все же немного перекормил. Тогда он налил в ложку воды и вылил в торчащий из клюва последний не пролезший до конца кусок творога целую столовую ложку воды. Кусок кое-как пролез. — Ну, сытая теперь, — сказал Петр Константинович, усаживаясь в кресло перед телевизором, — завтра отвезу Ниночке в подарок».
Он стал разглядывать птаху, которая ему все больше нравилась. Вокруг головы у нее перья были желтые, а на плечах — вроде накидки — темно-изумрудные. Торчащие на макушке три пера были похожи на три пушинки — уж до того нежны! Когда же она расправила крыло, оно оказалось снизу отороченным мелкими серебристыми перышками, похожими на изящный узор. Разглядев с такого близкого расстояния все так подробно впервые, Петр Константинович подивился: до чего ж мала, до чего ж совершенна! Он поплотнее вдавил себя в кресло, до упора — хотя бы таким, чисто физическим сопротивлением предмету приводя в соответствие свой собственный смысл с теми смутными силами, что ощущал он где-то там, вдали, продолжая разглядывать птаху. Тут начался матч, а минут через пятнадцать что-то странное стало твориться с птицей. Стала она подергиваться, заводить назад и вбок головку, распускать в стороны свои изумрудные крылья и валиться на бок. «Заворот кишок! — сразу догадался Петр Константинович, вспомнив клейкий, застревающий в клюве творог. Он вскочил и, прижимая птицу к животу, побежал на кухню, налил в ложку воды и вылил ей в рот половину, а половину на голову — так уж получилось у него. Птаха от этого вся встрепенулась, глянула на Петра Константиновича безумными глазами, и тут же бледной пленкой стали снизу, по-птичьи, заволакиваться ее глаза. «Фу-фу-фу!» — стал изо всех сил дуть он на птаху, стал подбрасывать и ловить ее, трясти стал в кулаке — ничего не помогало. Он снова побежал на кухню, оглядывая быстро все, схватил кофейник и вылил немного какао в часто открывающийся клюв. Тут птаха затрепетала, повалилась на бок и ноги у нее стали вытягиваться, сводиться судорогой. Петр Константинович схватил столовую большую ложку, наполнил водой из-под крана и поскорее вылил ей в рот. Но только облил всю пичугу с ног до головы, потому что в рот ей ничего не попало. Голова ее, мокрая и бессильная, все падала за спину, ноги мелко колотились, а на туловище от воды, от какао все перья сбились, и от этого под крыльями и спереди, по зобу, вдруг открылась синяя и тонкая, как папиросная бумага, кожа. И через ту кожу дымчато виднелись двигающиеся толчками внутренности. — В которых заворот кишок! — мелькнуло у Петра Константиновича. Ужас охватил его. Он бросился в коридор, нашел коробку из-под ботинок и сунул ни на что не похожего уродца туда. Отбежав несколько назад, Петр Константинович глядел теперь, как тот, пятясь, уперся в угол коробки, тряс быстро лапками, закрывал и открывал клюв и бессмысленно таращил глаза. Что там могло измениться в этих двух черненьких точках, из которых теперь составлялись глаза, неизвестно, — но теперь Петр Константинович мог голову дать отрезать, что уж теперь-то они таращились совершенно бессмысленно. И вот голова повалилась вправо, дернулась — повалилась влево, мельчайшая дрожь как паутина окутала все мокрое костлявое тельце, повело, погнуло его книзу. Петр Константинович почувствовал облегчение. Но нет — голова с трудом, но выпрямилась… чтобы тут же покатиться назад, за спину. Крылья потряслись и опали, разъехались по картону, перья разошлись. Петр Константинович почувствовал облегчение. И тут же шея стала вытягиваться, змеиться, клюв плугом стал волочиться по коробке, не в силах оторваться, но тут же и оторвался, быстро-быстро заоткрывался, стал воздух ловить. Петр Константинович бросился на кухню, принес ложку воды, по дороге сильно надеясь, что не успеет и все кончится. Нет же, успел — влил, и птаха рванулась, ничего не видя, вперед, через голову перевернулась, подрыгала в воздухе лапками и затихла. Петр Константинович почувствовал облегчение. Но вот со спины повернулась она на бок, дотянулась лапкой до края коробки, зацепилась, изо всех сил пытаясь повернуться нормально. Петр Константинович протянул неуверенно руку, помог. Потом схватил ее крепко, чтоб не тряслась она так, и, чувствуя омерзение, сунул за майку, прижал рукою к животу. После этого он решительно уселся в кресло и сказал сам себе, что будет смотреть футбол. А птаха подергалась-подергалась под крепкой его рукой и затихла. — Ну и слава богу! — подумал Петр Константинович, — сейчас утихать будет, холодеть… — Хотя от воды она и так была вся холодная. — Ну-с, — сказал он бодренько, — футбол посмотрим…»
Первый тайм уже кончался, футболисты бегали по всему полю: то к одним воротам, то к другим. Счет был ноль — ноль. Опять птичка под его рукой забилась внезапно, явив неожиданную силу, Петр Константинович едва не выпустил ее. Побилась и обмякла. Еще забилась, уже слабее, и вновь обмякла. Еще раз — совсем уже слабо. Потом Петр Константинович ощущал лишь слабую дрожь под ладонью, потом почти неуловимые сигналы, неизвестно кому посылаемые… всё реже… всё слабее… А Петр Константинович думал: «Вот, при футбольном матче «Динамо» — «Спартак», при стечении на стадионе до пятидесяти тысяч зрителей, как только что диктор объявил, кто-то живой вот умирает… из чего-то живого уходит жизнь навсегда… Куда? Наверное, никуда — иначе б так не сопротивлялась…»
Он чуть снял ладонь и кожей своей ощутил, через другую тонкую кожицу, ощутил он тоненький пульс. Петру Константиновичу было страшно сейчас заглянуть к себе за пазуху. А там как будто все замерло на одной точке — ни туда и ни сюда. Со всех боков, с головы и ног даже — там все уже похолодело, посинело, а изнутри, неизвестно откуда сочилась тоненькая жизнь, сочилась, виляла, все пряталась по каким-то закоулкам, среди кишок и синеватых жилок от смерти. Петр Константинович загадал: доживет ли до девяти часов. Ровно в девять заглянул — вроде жива. В десять — тоже, только вся слиплась в комок перьев, кожи, сведенных синих лапок, завернутой за спину головы. Так и лег Петр Константинович с птицей на животе в постель, кое-как изловчившись застелить одной рукой. Лежал на спине, придерживая одной рукою птицу сверху. Часов в двенадцать она стала шевелиться, ползти куда-то, обсохла чуть, похожей уже стала на что-то живое. Тогда Петр Константинович встал и, придерживая птаху на животе, пошел в кабинет, отыскал там том БСЭ, где было про птиц, и узнал, что птенцы диких птиц очень привередливы в питании, слабы, капризны и часто гибнут, их трудно выкормить в неволе. Почти невозможно.
Петр Константинович сварил яйцо вкрутую, все так же придерживая птицу у себя на животе под майкой. Набрал желтка в чайную ложку, полил кефиром сверху и решил попробовать покормить по всем правилам. Наклонив ей клюв, он сунул его в чайную ложку. Нет, глаза были крепко закрыты, а клюв плотно сжат. Кое-как Петр Константинович просунул ноготь в клюв, опять поразившись миниатюрности его и всей птахи в целом, и кроху желтка при этом удалось-таки пропихнуть ей в рот. Птичка глотнула, и желток оказался на месте. Петр Константинович обрадовался, таким же образом еще немного пропихнул пищи и, боясь перекормить, лег на спину, согревая птицу на животе. Так он и спал, и не спал, так как уж очень боялся шевелиться. Еще раза три вставал, подкармливал желтком и кефиром, к утру она уже сама стала поклевывать, собралась, видно, с силами. А в пятом часу за окном настоящий птичий концерт начался, поразивший чистотой звуков и разнообразием мелодий Петра Константиновича до глубины души, ибо до этого по ночам он обычно спал и никогда не думал, что в многолюдном городе существует так много прекрасно поющих птиц.
И тут в ответ звонким свободным голосам за окном из-под его руки с живота раздалось вдруг слабое: т-ви-и… т-ви-и… фь-ю-ю-ю… «Ну вот, — счастливо и расслабленно подумалось, — и ночь прошла, теперь не страшно». Он тут же задремал, снилось ему, что будто бы он, устроив птичку на грелку, сам решил сходить в табачный киоск за сигаретами. Он вообще-то не курит, так, лишь иногда в компании, после рюмочки-другой коньячка может закурить сигарету с фильтром — одну, много две за вечер. Отчего наутро всегда бывало во рту довольно гадко, и Петр Константинович слово давал — впредь табаком не баловаться.
Ну а тут он оделся, выключил свет и вышел на улицу. Купив сигарет с фильтром и закурив тут же, у киоска, он в задумчивости пошел вокруг, через парк, который светился ночными фонариками и был полон праздничного людского оживления. Петр Константинович шел по аллее и думал ни о чем. Бывают такие состояния, когда погружен человек в себя, всё внешнее — неопределенно-расплывчатый фон, но мыслей в голове, если тебя спроси, — никаких. Так и Петр Константинович шел, мрачно попыхивая сигаретой среди не мешающего ему оживления. Время от времени он делал слабые усилия поинтересоваться, что делается сегодня в парке. Да, был какой-то праздник. Какой-то — «день». Но что за «день»? Изредка включая слух, Петр Константинович обнаруживал, что людей много, но производят они не так уж много шума. «Шепотом они, что ли, все разговаривают?» — думалось вяло ему. Да, думалось так вяло, что дальше этого интерес его и но шел, и Петр Константинович опять погружался в величайшее бездумие.
Тут привлекло его внимание высокое дерево в центре парка. По дереву на невероятной высоте двигались от ветки к ветке фигурки. Мальчишки, наверное. Петр Константинович испугался, что какой-нибудь сейчас сорвется. А они, как жуки, деловито лезли по стволу, цепляясь за ветки, помогая друг другу — подсаживая, за руку подтягивая. И еще была странность в их движениях, ему непонятная. Петр Константинович подошел ближе и увидел, что лезть им наверх еще тяжело и опасно оттого, что каждый из них в руках имеет какую-нибудь птицу. «Ах вон оно что! — догадался Петр Константинович. — Сегодня же День птиц». И по-видимому, их будут выпускать на волю с этого высокого дерева. И он подошел еще ближе. Все ж лезть на такое высокое дерево, да еще и с птицею в руке, очень опасно. Мелькнули прошедшие далекие годы, когда он лазил вот так же по деревьям мальчишкой, чувство опасности обнаружилось в Петре Константиновиче. Он еще поближе подошел и уже разглядел, как передавали они птиц друг другу, чтобы преодолеть очередной сучок и лезть дальше. Кое-кто держал птиц зубами. Петр Константинович немного удивился, что птицы ведут себя очень спокойно, словно понимают, что не им ведь падать с такой высоты. Тут Петр Константинович разглядел, что к дереву выстроилась целая очередь, и в основном не мальчишек, а людей взрослых, вроде него. Было много женщин, одну он даже узнал. Оксану Федоровну — машинистку, которая лет пять как уволилась из института. Петр Константинович посмотрел на нее — узнает ли? Она взглянула на него спокойно и кивнула, он ответил с удовольствием. В общем, все чинно было в этой очереди, молчали или разговаривали совсем негромко, с чувством достоинства. Петр Константинович увидел, что у основания дерева сделаны два лестничных пролета с оградой, так что приблизительно до второго этажа люди взбирались на дерево, по существу, в обычной домашней обстановке, а вот дальше был уже настоящий ствол, с настоящими сучьями. И там уже никак нельзя взбираться в его лыжных ботинках на кожаной подошве да — вдобавок — на босу ногу, без шнурков. Если б в кедах, в носках, тогда б можно было. Тут еще из очереди кто-то узнал его, приветливо, но и с достоинством окликнул. Что-то похожее на: «И вы, значит, с нами?» — послышалось в оклике. Петр Константинович поспешно кивнул, что, мол, само собой разумеется, раз такое торжество. Только вот досада — хотел он все объяснить про ботинки на коже. Да и про птенца хотел бы все рассказать, почему домой ему срочно надо. Но никто не собирался его слушать. Все были в торжественно-притихшем настроении, все как будто глядели над людскими головами, людскими делами — все уже были как будто там, куда упиралось это огромное дерево.
По лестничным ступенькам, по бокам которых стояли барьерчики, словно у пароходных трапов, люди поднимались спокойно и плотно. Отчего у Петра Константиновича чувство страха перед деревом поутихло. Но он-то прекрасно знал, что безопасная лестница только до второго этажа, а дальше — до десятого, до двадцатого этажа — самый настоящий ствол, ненадежные сучки и все более слабеющие от напряжения руки. А на самой вершине — еще и головокружительное раскачивание, так как там наверняка ветер. Это здесь так все тихо, пристойно, многие даже празднично одеты. У всех в руках драгоценные птицы. Все держали их по-разному. И опять кто-то из знакомых кивнул Петру Константиновичу. Просто странно, что так много знакомых здесь. А вот в доме, где живет, никого. Кивнули тут ему с некоторым недоумением: чего ж, мол, вы без птицы-то? Тут же он увидел и ларек, где почти бесплатно продавали птиц, и объявление говорило, что выручка от продажи птиц идет на то-то и то-то, касающееся опять же птиц. Кивнули с явной уверенностью, что Петр Константинович лезет тоже наверх вместе со всеми. И опять хотел он рассказать про то, что его птица дома, за ней идти надо, или — про ботинки, но все это было долго и не к месту. Он хотел хотя бы показать ботинки издали — видите: без шнурков, а главное — на коже, кто ж в таких рискнет наверх взобраться?! Но тот, кто кивнул ему, и не думал смотреть под ноги, как и у всех, голова у него была высоко-высоко…
Петр Константинович не выспался, разумеется. С утра пил кофе и решал, что же ему делать с птицей. Оставлять на теплой грелке до вечера? Но грелка остынет и птица замерзнет, а все его труды и бессонная ночь пойдут насмарку. Поехать до института, отвезти на дачу, Ниночке объяснить, как спасал всю ночь, как важно сохранить ее дальше, тоже не мог — в одиннадцать Большой ученый совет — никак опаздывать нельзя. Сварив крутое яйцо, надел Петр Константинович шерстяную рубаху (хоть день и обещал опять быть жарким) и сунул птицу за пазуху. Майку он снял, чтоб немного полегче было. Потуже затянул ремень, проверил — хорошо ли заправлена рубаха, чтоб птичка не вывалилась, потом стал осторожно надевать пиджак. Положил яйцо и чайную ложку в карман пиджака и поехал в институт. Там сидел с утра в кабинете в неудобной позе, несколько покосившись корпусом влево, отчего у сотрудников отдела появилась надежда на недомогание шефа, а значит, и на возможность сбежать после обеда с работы. Выдвинув ящик стола, он покормил в нем птицу перед самым ученым советом и пошел в конференц-зал.
На Большом ученом совете Петра Константиновича совсем разморило, сказалась бессонная ночь, крепкий кофе, духота, а главное — монотонность речей, произносимых с трибуны. Монотонность звуков сливалась с монотонностью по сути, ибо все отчитывались за проделанную работу, сами себя критиковали за недостатки, журили руководство в лице директора института, академика Евгения Гавриловича Толстолобикова, сидящего симметрично в самом центре почетного президиума, все брали под конец повышенные обязательства, то есть в соответствии с духом перемен решительно заявляли, что собираются охватить и себя, и своих близких на сто процентов хозрасчетом и самофинансированием. Дремлющий ум уже едва фиксировал, что один оратор произносил — хозрасчет и самофинансирование в том порядке, как пишут официальные газеты, другой же допускал вольность и менял порядок слов, и тогда получалось: самофинансирование и хозрасчет. Но тягомотина все усиливалась и усиливалась, сегодняшняя жвачка речей уж что-то слишком напоминала еще недавнюю, вчерашнюю. И если б не птичка слева на груди, Петр Константинович наверняка бы задремал. А тут у него слева, куда он все больше клонился и клонился, легонечко поцарапывала, беспокоила птица, все собиралась устроиться как-то поудобнее, надолго, уже своим теплом заметно грела человека, мягкость какую-то там, слева, создавала и едва-едва, но явно билась своим пульсом рядом с пульсом Петра Константиновича.
Тут из президиума из-под золотых очков ледяным взглядом дружески кивнул ему директор Евгений Гаврилович, мол, чего ж не выступишь, Петр Константинович, все заведующие ведь выступили уже… И Петр Константинович, не очень понимая, что происходит, весь влево, где птичка, кренясь, осторожно пробрался к трибуне. Осторожно четыре ступеньки перед нею одолел и встал, на нее не облокачиваясь, как обычно. Поодаль как-то встал, как бы даже не желая касаться. И некоторые из тех, что повнимательнее, обратили внимание, насторожились. А как начал Петр Константинович говорить, то и остальные насторожились. О бюрократизме в науке заговорил, о все той же, сковывающей всё живое рутине заговорил, о чуть ли не злонамеренности какой-то всеобщей научной. О чем-то непонятном и страшном заговорил — стал яростно предрекать падение престижа отечественной науки, не устоявшей перед искусом рубля.
— За сколько сребреников продались?! — бросал в зал ужасные слова. — А коль рубль у вас — голова всему, то и погрязли в догматизме, бюрократизме, коррупции!.. Да взять хотя бы недавний случай с нашими уважаемыми геологами — почему их выгнали из Африки?!
— Попросили! — кто-то строго поправил из президиума.
— Выгнали! — стоял Петр Константинович на своем. — А потому и выгнали, что до сих пор стоят на отсталых фиксистских позициях! До сих пор не рисуют на своих картах очевидные для всех разломы! Где разломы?! Где разломы?! Почему эти разломы есть на соседних картах, у тех же немцев, у тех же французов! У одних у нас лишь нету! Почему нет на наших африканских картах?!
— Нет, — ему в лицо грубовато хохотнул кто-то из зала, — потому что мы не видим их в поле!
— Да, — усмехнувшись, покачал головою Петр Константинович, — можно и так ответить. И точка. И можно спорить до опупения — есть или нет разломы. Но ведь, не будем наивны, так можно спорить лишь до тех пор, пока вдруг не появятся на соседних картах у немцев и французов четко связанные именно с этими разломами вполне реальные месторождения нефти и газа! А они-то как раз и появились на соседних картах! Вот и пришлось нашим срочно собирать чемоданы! Обидно… Тем более что группа Каримова на Южном Урале давно уже пытается внедрить мобилизм в нашу геологию, даже лазер пытается использовать для доказательства своих идей. Но только хода нашим мобилистам нет. Да и не будет! Пока останется все по-старому! Нет-нет — надо все срочно менять, менять… В науке должны остаться лишь честные, лишь талантливые люди…
Короче, договорился до того, что стал требовать самым серьезным образом переаттестации не только от докторов наук и членкоров, стал требовать проверить академиков! Академик Толстолобиков хотел было его остановить, но куда там!
— А вам бы, товарищ Толстолобиков, — гремел с трибуны, птичку слева на груди придерживая, — вообще бы помалкивать! Вы своими пестицидами пятого поколения не только отравили всю природу, вы породили этими пестицидами среди людей поколение мутантов! Да-да! Вам бы пора ответить за это преступление перед человечеством! Погодите! Погодите! — грозил пальцем. — Дайте только срок — все эти несчастные матери, рождающие из-за вас сейчас детей-уродов, соберутся же когда-нибудь все вместе и спросят с вас, ой как спросят! Вы еще не знаете, что это такое, когда собираются обезумевшие женщины! Историю! Историю читать надо! Древний Египет… Сирию…
Но тут уж из зала стали раздаваться сплоченные крики:
— Безобразие!.. Прекратить!.. Вывести!..
Петр Константинович прокричал еще что-то про древних фурий, растерзавших в свое время немало негодяев, прокричал что-то про этого лизоблюда академика Епишева, совсем затравившего ребят-мобилистов с Южного Урала, прокричал еще что-то уже совсем неразборчиво в общем шуме и гаме, что нарастал и нарастал вокруг. И остановился. Он как бы опомнился, и осмотрелся, и увидел проснувшиеся, ожесточенные лица, глаза Евгения Гавриловича в золотой оправе увидел. «Ну вот, — спокойно подумалось, — и не быть мне теперь членкором». И тогда, кренясь по-прежнему сильно влево, спустился и под шум и улюлюканье покинул конференц-зал.
Было обеденное время, когда покинул он институт, и поэтому он ехал пустой электричкой. Птенец, совсем оживший и даже слегка подросший за сутки, сидел уютно за пазухой и порою ласково посвистывал. Петр Константинович сошел на своей остановке, свернул к маленькому, чрезвычайно уютному магазинчику по той простой причине, что в нем работал продавец, влюбленный в дело обслуживания людей. Купив продуктов, Петр Константинович шел по тропинке к своей даче. В сетке были кефир — две бутылки, пельмени, сливочное масло, индийский чай, два сладких сырка и полбуханки обдирного хлеба. Петр Константинович шел с сеткой по тропинке, сильно пахло нагретой хвоей, руку приятно оттягивала сетка, издалека напоминая о каких-то не совсем скромных ощущениях. Безмятежностью, близкой к счастью, вдруг охватило Петра Константиновича. Дешевизна такого счастья вдруг остановила Петра Константиновича. Все построенное с таким трудом, в том числе и несостоявшееся теперь уж окончательно членкорство, — все развалилось вмиг, словно карточный домик. А Петр Константинович, постояв над всем этим немного, пошел спокойно дальше, впрочем, еще до конца не осознав, что же все-таки произошло, но уже догадываясь сплошной, залившей его со всех сторон радостью, догадываясь, что произошло что-то очень важное.
Он уже подходил к забору своей дачи, оставалось завернуть за угол. Тут за углом через листву увидел он прыщеватого юношу с велосипедом. Юноша, не слезая с велосипеда, протягивал руку через штакетник, а с той стороны, из сада, по этой далеко вытянутой руке Ниночка ударяла розой. И оба смеялись. Сквозь трепещущую листву Петр Константинович разглядел лицо Ниночки, оно было пунцовым, под стать розе. Он спокойно повернул и пошел к дому с другой стороны забора. Минут на десять — пятнадцать ему дальше идти — всего-то…
10. ТУТ ВНЕСЛИ ЗНАМЯ
— Ну и как там Лариска в школе? — спрашивал полковник, пододвигая стакан с чаем.
— Ничего, — отвечала Нина Андреевна, — вчера выступала в концерте художественной самодеятельности… стихи говорила, может, артисткой станет.
— Ну-у… молодец какая!
— Только вчера опять сильно расстроилась: кошку дохлую или убитую за сараем обнаружила… жалеет она их очень. Не знаю, что из нее в жизни выйдет… жалостливая, вся в Сашку, тот ведь тоже последнюю рубашку за товарища отдаст… о-ох…
Полковник крякнул, прищурился, ложечкою побренчал в стакане. Нина Андреевна рассказывала о том о сем, он ее почти не слышал, мрачнел все больше, чай допил и ушел. Он сходил в сарай, взял лопату, сходил и закопал очередную кошку, которую сожгли заживо развлекающиеся подростки. Круг выгоревшей земли… запах бензина, три окурка… один из них — сигарета с фильтром. Он нагнулся, показалось — на одном следы помады. За сараями вдоль глухого забора уже несколько таких кругов выгоревшей земли. Некоторые стерлись от времени, другие еще светились живой болью. Полковник так сжимал лопату, что рука занемела. Да, конечно, он старый, больной, но уж лучше этим подонкам не попадаться ему под горячую руку…
Часы над политической картой мира пробили десять раз. Полковник стоял посреди комнаты. Форточка была открыта, вода из крана не капала, стол с сегодняшней почтой ждал его. Письма от дочери он уже не ждал. Блокнот, карандаш, авторучка с золотым пером — все уже на столе. Он сходил еще раз на кухню, принес стакан с водопроводной водой и определил его на столе, подстелив бумажную салфетку, на левом дальнем углу, за пачкой «Беломора». Опускаясь в кресло, взглянул на часы — десять ноль пять — и достал первую папиросу. Постукивая мундштуком о пепельницу, катал легонько между пальцами, чувствуя, как под тонкой бумагой табак приобретает приятную округлость. Другой рукой уже привычно разворачивал «Экономическую газету», просматривал заголовки, одни выделяя сразу синим, другие красным карандашом. Прикурил, но отрываясь от чтения. И затянулся сладко с глубоким вздохом настоящего курильщика, ограниченного пятью папиросами в день.
Первый восклицательный знак красным карандашом он поставил у заголовка «Внешняя торговля СССР», взялся за страницу, чтобы, перелистнув ее, идти дальше, но не удержался, стал читать, пощипывая свободными от папиросы пальцами то гладко выбритую щеку, то кончик носа. Он то хмурился, поджимал губы и, откинувшись в кресло, сидел неподвижно, то вновь склонялся над статьей, отчеркивал абзац, другой. Он вскакивал, ходил по комнате, потирая левую руку, которая, если но помнить о ней постоянно, сразу начинает ныть и неметь. Он садился и писал в блокнот:
«К сожалению, важное значение в нашем импорте по-прежнему занимали в истекшем году машины, оборудование и транспортные средства… Но еще более печально, что по-прежнему вывозим мы в основном сырье и лес… Ну а самое тревожное, что все больше ввоз преобладает над нашим вывозом, внешний долг катастрофически растет, мы все больше скатываемся в долговую яму… Последствия такой недальновидной политики скажутся уже в ближайшие годы…»
Сегодняшнее занятие с газетами пришлось сократить, в обед у него свидание с директором технологического техникума. Военком просил лично полковника взять шефство над этим техникумом. И добрых двадцать часов из отпущенных военкомом двадцати четырех провел он в размышлениях нелегких. «И почему это так получается, — думал он, — Рая так и не пишет, да и вряд ли действительно возможна какая-то переписка между нами. А я так хочу знать все: песни, которые они поют, книги, что читают, секреты их наивные… наивные, но от этого не менее прекрасные… с кем встречается она, с кем дружит, что любит, ненавидит что… совсем ведь взрослая уже… замужем уже, наверное, а может… а может, уже и дети есть! Но что, что я-то могу! Старый, больной… homo fuge — человек, беги! Беги от всего этого, от посторонних забот, от всякого там шефства над технологическими техникумами… от всего беги, беги! Год лишний проживешь, це-лый год! Посмотри, какая роскошная жизнь! Даже из окна, просто сидеть и радоваться на нее! Посмотри, как солнце качает ветки берез… неужели тебе не жаль расставаться?!
Но нет, — ходил по комнате полковник, и мысль за ним ходила, — нет-нет — для меня единственный путь — это идти к ним, в самую гущу… я буду петь свою песню до конца… это единственный путь — узнать Раю, дочь…» И ощущение дочери — неопределенно-счастливое, единственно возможное — все крепло, крепло, цементировало мир… Обязательно надо было соглашаться, соглашаться с военкомом.
И вот, газеты отложив и выпив положенные лекарства, вырывает он лист из общей тетради, набрасывает тезисы предстоящего разговора с директором техникума:
«1. Ликвидация отсталости военно-технических и военно-прикладных видов спорта. Суть проблемы.
а) Возрастные ограничения — возраст учащихся вверенного мне техникума 14—15 лет, а управление транспортными средствами и летательными аппаратами разрешено лишь с 18 лет, выход в эфир — с 16 лет.
Возможные решения проблемы.
1. Для учащихся вверенного мне техникума заменить автомашину и мотоцикл на мопед и карт.
2. Учащиеся техникума имеют возможность работать на коллективной радиостанции — здесь возраст но помеха.
3. Учить метко стрелять из малокалиберной винтовки».
Итак, набросав тезисы из двадцати пунктов, через час уже был в техникуме, говорил с директором:
— Пустить все на путь лекций и бумаг — значит наверняка загубить важное дело воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Родине.
— Да так-то оно так, — мялся директор, — я все понимаю, товарищ полковник, но сейчас ничем не могу помочь, кредиты, знаете…
— И все же без материальной базы и начинать не стоит…
— Да-да, — вздыхал директор, — и горком давит, и комиссия по делам несовершеннолетних… теперь и вы еще тут…
— А вы сами-то воевали? — спросил полковник напрямик.
— Я? То есть… в общем-то, нет, ведь мне только десять было.
— А-а-а… — сказал полковник, и они помолчали немного, потом полковник осторожно покашлял. — А… эта… как ее… мастерская ведь у вас, кажется, освобождается, так нельзя ли ее… а?
— О-ох!
— А шефы бы помогли, оборудовали там все… ну, решайте!
— О-ох…
— Такую бы работу через полгода развернули! Отбоя бы от ребят не было… в походы бы ходили… есть одно местечко… под Подольском, а? И знаете, я уверен, что и дисциплина, и успеваемость от этого только б выиграли… ну, соглашайтесь… ну… ну…
— О-ох!
— Ну вот и ладно, — полковник, перегнувшись через стол, быстро пожал вялую руку директора, — спасибо! — И, пока тот не передумал, быстро кабинет покинул. В дверях лишь оглянулся: — А план мероприятий на полугодие я вам через недельку представлю.
— Ну хорошо, хорошо, — махнул рукой директор, — хорошо…
* * *
Через неделю полковник, как и обещал, отвез в техникум план работы с подростками, приложил даже карту будущего похода по местам боевой славы — конкретно в Подольск. Осторожно напомнил о мастерской — без материальной базы ведь никуда. И директор, почти вслух чертыхнувшись, стал куда-то названивать, просить и требовать… будет, будет полковнику материальная база…
В хорошем настроении вернувшись домой, полковник выпил лекарства, срок которых подошел, почистил ботинки, взял сумку-коляску и отправился за продуктами: надо было все закупить до пяти часов, до толкучки. Когда вернулся, в квартире вкусно пахло тыквенной кашей, а на кухонном столе лежала записка от Нины Андреевны. Ему вдруг захотелось посмотреть самые первые свои альбомы, где еще крупные фотографии. Поставив стул в кладовке, на стул — скамейку, он взгромоздился на это шаткое сооружение, потянулся к самой верхней полке, где лежали первые альбомы, да что-то при неверном свете красного фонаря смешалось в голове у полковника, потерял он равновесие, грохнулся, ребром ударившись об угол стола. Резкая боль согнула почти вдвое, еле-еле добрался до кровати и лежал в сгущающихся все более сумерках в очень неудобной позе. А стоило пошевелиться — сразу от резкой боли покрывался холодным потом. Так в темноте очень долго он и пролежал, скорее всего, ни о чем не думая, лишь поймав себя на мысли, что уже давно моргает на каждый удар пульса. Как лег, нескладно умостившись поверх одеяла, так и лежит уже несколько часов, карауля боль, и все моргает при этом на каждый удар сердца. Он так долго пролежал в тоскливо-бездумном состоянии, что в конце концов беспомощность постепенно перешла в наивность, в состояние какой-то высшей наивности, по-видимому, лежащей в основе всякого бытия, даже самого сложного и сознательного. Он даже испытал некоторую досаду, когда часу в двенадцатом пришла Нина Андреевна. А он ведь так ждал ее.
Она зажгла свет, поставила жарить картошку, включила последние новости по «Маяку», сменила наволочку и все охала, причитала:
— Ну как же вы, Павел Константинович, взрослый мужчина — полезли на стул, как ребенок! — Нина Андреевна проветрила комнату, укрыв полковника одеялом под самый подбородок, подмела пол и все охала, причитала. — Ох, да ведь как же это больно-то сломать кость в ребре… а потому что все сам да сам… вот и досамкался… а еще военный человек… — слышался уже на кухне ее голос, шипела на электроплитке картошка, булькал чайник, дребезжа крышкой, последние известия были весьма интересны, а Нина Андреевна через все это обволакивала простыми, как простыни, словами: — …Три войны ведь прошли, изранены — живого ведь места нет, от наград мундира не видать, а вот, поди ж ты, полез на стул, кость сломал… о-ох, как же это, боль-то какая! Господи! И воды некому подать, и подушки взбить некому! Палец прибьешь, и то в глазах темно, а тут… Вот вы говорите: деньги, — поставив перед полковником стакан чая, ложечкой помешивая, Нина Андреевна присела напротив и пригорюнилась. — А я разве ради денег? Да я б никогда, — она вздохнула, — жалко мне… кошку и то жалко, собаку какую… птицу вот…
Ночью стало плохо, вызвали неотложку, врач по хронометру зафиксировал остановку сердца. В реанимационном отделении лишь через семь с половиной минут восстановили сердечную деятельность. И поскольку остановка сердца была почти критическая, врачи с большим интересом ждали результата. Полковник, разумеется, ничего этого не мог знать. Но суть того, что с ним произошло, жгучий медицинский интерес к его случаю, обещавшему обогатить науку, — все это застряло в нем странным ощущением какого-то бесполого голоса, в сопровождении которого в труднейших муках пробивалось на свет божий сознание полковника. Голос был ровный, спокойный, как бы даже и попридерживал полковника в темноте… хотя, возможно, голос был и в самом полковнике, по нему как бы, по этому ровному как канат голосу и пытался выбраться полковник, вялыми, безвольными движениями пытался. А голос прочный как канат: «Исконное право всякого государства зиждется на собственном величии и суверенности, ибо существует независимо от всех отдельных индивидуумов. Сверхиндивидуальные связи столь же первичны, как и ты — человек, не понимающий трансцендентной сути государства, которая заключается в том, что социально полезное никогда не совпадает с личной справедливостью, тем более с личным желанием…»
Через месяц выписали в удовлетворительном состоянии. Только вялость все не проходила. Июнь стоял ветреный, пыльный. Июль пришел душный, с грозами, полковник почти не выходил из дома. Приближался юбилей Курской битвы, полковник потихоньку готовился. Инициативной группой было решено организовать вечер в подшефной школе. Нина Андреевна и слушать не хотела ни о каком вечере. Да полковник и сам еще не решил, пойдет ли, все же неважно он чувствовал себя. Сонливость охватывала неожиданная. А то наоборот — сердцебиение, одышка и в пот сразу бросит. Какой-то новый этап начался в его здоровье. Вернее, нездоровье…
А все же пошел на вечер, и, расхаживая по сцене притихшего зала перед красочно выполненными планами и диспозициями Курского сражения, рассказывал он:
— Вот здесь, видите, неподалеку от деревни Самодуровка была огневая позиция капитана Игишева. На нее двигалось до полусотни бронированных вражеских машин, в том числе не менее двадцати «тигров». Батарейцы мужественно встретили гитлеровцев. Жаркий, ни на минуту не прекращающийся бой длился много часов. Перед батареей, не дойдя до нее считанные метры, остались девятнадцать подбитых и сожженных танков с желтыми крестами на бортах. Артиллеристы все до одного погибли, но отстояли рубежи. «Огонь, огонь на меня!» — успел крикнуть в телефонную трубку комбат, назвав собственные координаты. Это были последние слова батареи, подвиг бойцов которой не забудет наш народ. Прежняя деревня Самодуровка отныне и навсегда переименована в Игишево.
Накануне сражения, — воодушевленно рассказывал полковник, — мне довелось побывать на командном пункте фронта, который размещался вот здесь, в местечке Свобода, вот тут, тут, — показывал он указкой, — чуть севернее Курска, в здании бывшего мужского монастыря… теперь тут музей, а вот тогда, в правой части обширнейшего, надо сказать, парка, неподалеку от монастырской глухой стены и находился блиндаж Константина Константиновича Рокоссовского. Блиндаж уходил метра на три в землю. Над ним был сделан козырек из толстых бревен в несколько накатов и высокая земляная насыпь. Константин Константинович советовал нам, командирам: «Обратите внимание на главную силу — нашего солдата! Ему решать успех дела. Он хорошо вооружен, одет, обут, сыт. Это вам не сорок второй год, когда на троих одна винтовка! Геройства же русскому солдату не занимать!»
Перед битвой Рокоссовский как командующий Центральным фронтом побывал на всех оборонительных линиях и требовал: «Копайте окопы глубже. Пока они у вас мелковаты. — И, встав к окопной стенке во весь свой рост, а Константин Константинович, если кто помнит, был роста высокого, приказывал: — Ведь меня видно из окопа, правда? Значит, ройте глубже!» Прошло совсем немного времени, и мы оценили суровый приказ командующего — эти глубокие, вырытые в полный рост окопы сохранили жизнь не одной тысяче солдат… В ночь с четвертого на пятое июля разведчики тринадцатой армии захватили вражеского сапера — Бруно Фермелло (по-видимому, итальянец), который и сообщил, что ровно в три утра начнется немецкое наступление. «Что будем делать? — обратился Рокоссовский к находящемуся в то время на КП представителю Ставки Георгию Константиновичу Жукову. — Промедление может нам дорого стоить!» — «Вы командуете фронтом, — отвечал Рокоссовскому Жуков, — вам и решать, я тоже считаю, что времени терять нельзя!»
Рокоссовский отдал приказ о проведении контрподготовки, а тем временем Жуков связался со Ставкой и доложил Верховному о принятом решении. В два часа двадцать минут ночи артиллерия тринадцатой и сорок восьмой армий открыла ураганный огонь по изготовившемуся к наступлению врагу. Артиллерийский огонь длился полчаса и нанес гитлеровцам серьезный урон. Только в половине пятого вражеские войска немного оправились и над нашими позициями появились их бомбардировщики, еще позже заговорила артиллерия, и лишь около шести часов утра пошли в бой пехота и танки… Да… копни здесь землю, — покачал головою полковник, рассматривая план Курской битвы, — копни и сразу найдешь сотни осколков, гильз… сплющенных комочков свинца — настолько силен был вражеский огонь… И всё же выстояли… Вот здесь, у Змиевки, встретился мне сапер… Толя Овчинников — совсем юный, почти мальчишка… вот вроде вас, вон тех, тех, что у окна… или вот вы — какой класс? Десятый? Ну-ну, вроде вашего возраста. Разминировал под вражеским огнем сто пятьдесят мин за один только час! Дал проход нашим танкам и артиллерии. Тут же, на поле боя, был награжден орденом Красной Звезды. Молодец!.. И пошли в этот проход, разминированный Анатолием Овчинниковым… в другие тоже, конечно, пошли… пошли наши танки, артиллерия, пехота… Уже никого остановить было конечно же нельзя. Да, нельзя… Ведь многие были из этих мест, родные деревни освобождали, хаты… а у многих уже и не было ничего — ни родных деревень, ни хат, ни близких… И уж такой солдат, он, бывало, стиснет зубы, уж такой будет биться до конца… и другой, глядя на него, и третий… через чужое горе, через боль чужую, через кровь многое понимал, потому что русский человек гуманен, милосерден — это все в мире признают, но через это же самое милосердие, через боль за свое ли, а еще сильнее за чужое горе он, русский человек, тогда страшен становится, его тогда уж не остановишь, он с голыми руками тогда на танк пойдет, а-а… да что там говорить…
Он все же чувствовал себя неважно, то и дело дымкой заволакивало взор, и зал, наполненный в основном мальчишками с пятого по десятый класс, начинал зал колыхаться. То вроде отпускало, и полковник, оторвавшись от тезисов, начинал расхаживать по сцене, вспоминал Испанию, финскую кампанию вспоминал, где очень пригодился опыт испанских сражений. Хотя финские леса, озера, снега — мало все похоже на Испанию. Однако же война — везде война.
— Хотя, как вам, вероятно, известно, финны прекрасно владеют ножами, бросают их очень точно. Был случай — броском ножа поразили в самое горло нашего шофера, а поскольку дело происходило ночью и все спали, то, после того как шофер был выведен из строя и машина остановилась, быстро вырезали и всех остальных. Пришлось и нам учиться владеть ножом. Научились. И это очень и очень пригодилось через два с половиной года, когда началась Великая Отечественная война… Вообще, если уж речь зашла о финнах, это очень выносливый, стойкий народ, хорошо подготовленный воин. И на лыжах стоят, и автоматом владеют, а у нас тогда еще автоматов и не было — ползешь, ползешь, к примеру, по снегу, чтобы «кукушку» снять, а в ствол винтовки снег попал, выстрел — и нет твоей винтовки — ствол раздут… да-а… все было…
Полковнику казалось, что все это тесно связано: Испания, финская, Отечественная… Он бы и побольше хотел рассказать, и совсем не для тех, кто сидел сейчас в зале, а словно бы пришло время рассказать. Хотелось рассказать, как спутали похожие желтоватые холмы Сьерра-Невады и три дня плутали без глотка воды… Или хорошо бы рассказать о том, как полз по финским сугробам, чтобы снять «кукушку», которая точным выстрелом в лоб убила лучшего полкового разведчика Колю Зайцева… И главное, ведь только-только наши самолеты прочесали весь лес, и вот на тебе! Ночью пришли разведчики из поиска, отдыхали в сарае, там еще, помнится, сено или солома была — мягко, тепло, выспались на славу. Выходят все вместе, и Коля со всеми, и вот хлоп! — самого лучшего разведчика. Здоровый парень, ясноглазый, добрый. И не то чтобы друг большой, а просто в груди все так и закипело, только-только ведь весь лес самолеты прочесали: «Ах ты, мать честная! — схватил винтовку, пополз. Ползет, тулуп, брюки ватные проклинает — пот градом. Финны уже тогда носили удобные легкие костюмы. Но ползет, старается винтовкой снег не зачерпнуть, подполз — видит: сидит. — Ну, сиди, сиди!» Полежал, поостыл, чтоб ровнее пульс бился, набрал воздуху и на выдохе, плавно и спустил курок — свалилась «кукушечка». И повисла, потому что они привязывались ремнями. Ну а когда ремни обрезали, чтобы оружие забрать, так и ахнули — баба! Да молодая, золотоволосая такая, даже красивая… прямо в лоб Колю Зайцева… ну и ну…
Или можно было рассказать, как контузило под Фастовом, землею засыпало, одни сапоги торчат. Так и лежал много времени и уж богу душу начал потихоньку отдавать, да слышит, разглядел, видно, кто-то, что сапоги еще ничего (носить можно), — снимать начал, а тут уж и полковник, конечно, стал ногу сгибать, не даваться, это чтобы знак какой подать. Ну догадались, конечно, разрыли, в госпиталь, две недели кровь из ушей шла, из носа… А все ж пришел в себя помаленьку — все видит, слышит, понимает, вот только сказать ничего не может, и от этого такой смех его разбирает, что лопнуть можно…
Но пока полковник раздумывал о том, что бы все-таки поинтереснее им рассказать, председательствующий на вечере товарищ Мурасеев как-то очень ловко заполнил возникшую паузу собственной быстрой речью. С улыбкой, вежливо, но энергично, по шажочку, по шажочку полковника со сцены отодвинул, а следующего ветерана уже громогласно объявил, и тому, понятно, ничего другого не оставалось, как выходить и начинать свой рассказ. Ну а полковник очутился на своем месте, в третьем ряду президиума, с краю. Он понуро сидел, ругал себя, что увлекся, что спутал весь регламент вечера, неудобство всем доставил, а главное — видел ясно теперь, как скучно тем, кто в зале, как шушукаются они, переговариваются они, отпускают замечания в адрес ветеранов. Да и то ведь правда, полковник словно впервые разглядел всех сидящих с ним на сцене. Лысые, с животами или, наоборот, как вот полковник, высохшие давно, с одышками, болями в сердце, в печени, в селезенке и еще в сто одном месте, со слезящимися по пустякам глазами, кашлями, кряхтеньем, вздохами — ну что они могут являть сейчас для этих сидящих в полутемном зале: пятнадцатилетних, шестнадцатилетних, семнадцатилетних… упругих, как футбольные мячи, холодных и надежных, как моторы. Сосцами показалися полковнику ветераны — высохшими, синеватыми, сморщенными, не пригодными больше ни на что — вон ведь каких щенят вскормили! Да ведь для них для всех эти схемы боев и маршей — бумага, не более, ватман, на котором разными цветами стрелочки, кружочки… Под одним кружочком Колю Зайцева убил вражеский снайпер, под другим полегли сто девяносто четыре бойца вместе со своим командиром Приходько Михаилом Александровичем… Обелиск есть с надписью… А сколько ж принято землей без всяких обелисков! Двадцать миллионов! Ох-хо-хо… Полковнику кажется, что больше двадцати, много больше… Заволакивается взор паутиной, зал стал совсем неразличим, душновато сегодня, вокруг люстры радужный ореол.
Тут внесли знамя, все встали, ветераны один за другим подходили — целовали. Многие замирали на несколько мгновений у знамени, и полковник тоже, опустившись на колено, замер. Не оттого, что сил не было сразу встать, не оттого… От счастья… Как прижал край знамени к лицу, как прижался губами, глазами, вдохнул всей грудью, всеми последними желаниями, всей сутью уставшей… Это единственное, что нужно сейчас полковнику, — всё. И больше ни-че-го. С этим и поднялся, и пошел на место. Не говоря, не слушая, не глядя — не расплескать, не растерять ни грамма из того, чем сейчас переполнен. И тут нечаянно он в зал взглянул и поразился. Эти застывшие лица мальчиков и девочек, эта выпрямленность, неловкое напряжение, нежелание, чтобы кто-то сейчас увидел их такими, их лица, глаза. Темные, светлые, карие… через которые на минуту выглянуло то, что чище, выше, прекраснее их самих, и от этого им неловко, до того непривычно, что вот и приходится глядеть прямо перед собою. Ну конечно же они ничего не понимали ни в картах, ни в схемах, ни в горячей взволнованности полковника и других ветеранов. И знамя для них, разумеется, совсем не то что для уцелевшего воина, — все так. Но только знал теперь полковник точно, столь напряженно вглядываясь в юные лица, точно знал полковник, что крикни он сейчас, взмахнувши знаменем: «За мной! За Родину!» — ведь разом все сорвутся, бросятся за ним, почтут за счастье умереть всем вместе. Та-акие глаза! — похолодело все в душе полковника от счастья. Синие, карие, зеленые — они молили, они кричали: «Возьми! Знаменем взмахни!» Этим пробитым осколками древком, связанным трофейной проволокой, в выцветших пятнах русской крови. «Да что же это такое! — простонал он. — Что же это все такое?!» И с таким напряжением вглядывался в зал, что уже над каждой юной головкой сиял теперь неистовый ореол, то радужный, то настоящий — золотой. То опять он темным становился, почти черным, то опять сиял чистым золотом.
Конечно же это продолжалось лишь минуту, ну пять от силы. Но это была святая минута. Причастность к этой святой минуте — в этом всё. Всё, всё, всё!
* * *
Всё, всё, всё… с этим и шел из школы по мокрым от дождя тротуарам. Теперь даже дожди торопливы. Словно взмах веера, освежают совсем ненадолго. Но потянуло уже дымком. Может, пожары уже начались за городом?
На углу то и дело открывалась дверь чайной. Полковник зашел. Тут было дымно, шумно, людно. Чего-нибудь выпить ему не хотелось. Он прислонился спиною к стене, хотел постоять просто, никому не мешая. Но уже мужчина в берете остановился напротив и показал один палец, и полковник, не сопротивляясь, спросил:
— Сколько?
Мужчина же, плечами пожав, произнес:
— Трояк.
А его товарищ уже нес от стойки три стакана, энергично стряхивая с них воду, хмуро разглядывая каждый, прежде чем поставить на стол. И потом ставил с такой сосредоточенностью, словно все оттягивал и оттягивал момент самой главной истины. А в глазах его уже было напряжение еще только будущего, наверное, завтрашнего страдания. А так-то, полковник присмотрелся, глаза были добрые, в многочисленных морщинах. Ну а тот, что в берете, деловито достал сырок из бокового кармана пиджака, подул на него, быстро разделил на три части и с облегчением произнес:
— Ну! Вздрогнем!
Уже дома, раздеваясь, думал спокойно, тепло и хорошо, что вот и все, наконец-то все… и уж больше теперь ни-че-го… Все другое будет теперь лишь оскорбительной суетою… Еще бы только Наде сказать… покойно так думалось, когда взялся за ботинок уже… да, еще бы только Наде — первой и единственной — сказать: «Прости!» — и все… Нет, снятым уже ботинком сделав в воздухе запятую, добавил:
— Прости, и… спасибо тебе за все… за Раю… да-да, за Раю — главное, пусть вырастет хорошим человеком… как мы с тобою, пусть жизнь проживет честно — всё!
Он потянулся снять второй ботинок, за дверью на лестничной площадке послышались осторожные шаги, в возбуждении за дверью произнесли несколько тревожных слов. Слов этих полковник почти и не разобрал, но, словно второй стакан водки, ударили в самое сердце. Полковник выскочил на площадку, они заканчивали уже пролет. У последнего, спиной к полковнику, под мышкою была канистра. Первый же, который был полковнику плохо виден, что-то прятал под плащом живое и просящееся на волю, обеими руками прижимал к животу. А тот, что шел между ними, жестикулировал и торопливо говорил:
— Держи, крепче держи ее, суку…
— Эй! — сказал полковник и протянул к ним руку.
Сохраняя порядок, они побежали, не оглядываясь. Четвертый, третий, второй этаж… как в лифте… Весна двадцать первого года в Поволжье, коричневом от страшного голода… кошка, пережившая многих, ползет по двору за солнцем, медленно обходящим их пустой двор… сестра Катюша ловит редких мух, чтоб покормить немного кошку… это вместо детских игр тогда… Полковник медленно догонял. За углом он настиг и вырвал канистру. Кошка вырвалась, убежала. Все шло, несмотря на скорость, как при замедленной съемке, когда видишь, как медленно-медленно переворачивается твой автомобиль, и в то же время скован — не можешь остановить это переворачивание. Так и полковник, словно бы по инерции, вырвав канистру, стукнул его по голове. Что-то вскрикнуло:
— Ой!
Или это что-то навсегда оторвалось в самом полковнике, когда он стукнул подростка по голове и тот, полуобернувшись к нему, стал оседать, превращаясь в маленького мальчика, ломаясь, покорно укладываясь у полковника в ногах. Усики мелькнули, словно бы на память. Понарошку, наверное, потому что сначала горизонтальными они были, потом голова на плечо легла — и усы вертикально встали.
— Дяденька, не надо! — задергался у полковника в руке.
Он тут почувствовал свою. Оторвал взгляд от усатенького, глядит — держит за плащ другого. Когда же это он успел его схватить? А третий, колченогий, приплясывает, вооруженный половинкой кирпича. Теперь и третьего полковник видит — вон он с той стороны клумбы, в безопасности. И еще кричит кому-то:
— Скорей, скорей! Ну скорей же!
Тут набежали, навалились, дали по уху. Кричат, кто — милицию, кто — врача, кто — мальчика убили.
— Гад! — кто-то кричит. — Дай ему еще!
Дали — не больно. Только тоскливо как-то, воздуха не хватает, тяжко… что-то объясняет полковник — не слушают. Еще дали — не больно. Попробовал вырваться — какое! Хоть плачь! Но закипело уже. Чувствует полковник, как меняется весь, всеми фибрами сразу. Уже не он, уже совсем другой. А сверху — весь тут пока, как невидимка, у них в руках еще… Хотел было сдержаться — какое там! Чувствует, разорвет изнутри, если еще хоть мгновение сдержится. Как закричит им что-то такое… про танк… про то, как кто-то там… живьем… как закричит да как рванется — слезы так сами и брызнули… Смотрит — освободился. Сам или отпустили? Смотрит — тот, который пару раз ему по уху заехал, пока другие держали, между прочим так, по-деловому заехал, словно страницу-другую перевернул, — так вот же он — перед полковником. Когда бил, полковник его даже и не заметил. А вот сейчас сразу и узнал. И еще увидел полковник, что он в одних носках, среди всех одетых он один лишь в носках одних. Но все же решительно пошел на обидчика. Тот, разумеется, задом-задом, от полковника. «Ничего, подойду, а там посмотрим».
— Папа! — вдруг взвизгнул откуда-то сбоку усатенький (ага, живой, значит!). — Папа, беги скорей! Это же сумасшедший!
Но папа еще шаг или два, пятясь, сделал, споткнулся и упал в клумбу. Перевернулся и быстро пополз, словно потерял позвоночник, — смешно. Полковник уже и передумал его догонять. Ведь для мальчишки нет никого сильнее и смелее, чем отец, а этот-то — на карачках! Ну а с той стороны клумбы, куда уполз папа, уже и милиционер из цветов выходит, весь в ремнях, весь в пуговицах.
— Пройдемтесь. Это я к вам обращаюсь. К вам, к вам, гражданин в синих носках. Пройдемтесь.
— Пожалуйста, — отвечает полковник.
Вокруг наступила тишина позора.
И тут же между полковником и милиционером в виде белого вихря оказался человек, весь в тополином пуху. Он размахивал руками, нечленораздельно выкрикивал какие-то цифры, глаза его белее пуха. Полковник с трудом узнал сына Нины Андреевны — Сашку. А тот, ничего не видя, уже сбил милиционера, они быстро покатились по дорожке, попеременно оказываясь то внизу, то вверху. Толпа возбужденно закричала и бросилась за ними. Полковник в одиночестве постоял, не зная, что же ему делать дальше, и, сгорбившись больше обычного, побрел домой. «Откуда здесь взялся Сашка? — думалось вяло и неохотно. И почему это Сашка… такой… белый… и что вообще происходит на белом свете… наверное, все ж пора… пора помирать… вон Ванька-то, братан… э-эх…» И полковник смахнул слезу.
11. «Я СПАСУ ТЕБЯ, ТОВАРИЩ ДОРОГОЙ…»
Несколькими часами раньше Сашка спокойно дежурил на своей платной стоянке. С восьми до одиннадцати автовладелец-общественник рассказывал ему все ту же грустную историю, которую все они, автовладельцы-общественники, передают друг другу как эстафету:
— Ну, после того как второй приемник украли, собирали общее собрание, решили модернизировать сигнализацию, фотоэлемент ввести… А двухэтажные гаражи — горе, а не гаражи. Узкие — это во-первых. Во-вторых, низкие. В-третьих, узкая проезжая часть, не развернуться… Как жить дальше…
В одиннадцать ушел общественник, и сразу позвонил Мурасеев.
— Так на чем мы с вами, Александр Иванович, в прошлый раз остановились? — спрашивает ночью товарищ Мурасеев.
— А на «эмке», — ловко зажав плечом и подбородком телефонную трубку, отвечает начальнику Сашка, нарезает сырок и, стараясь не булькать, наливает полный стакан «Кавказского».
— Итак, продолжим?
— Продолжим, — соглашается Сашка, подмигивая «Незнакомке».
— Шла война, «эмка» выдержала строгий экзамен, но когда война кончилась, стал вопрос о новой машине. И ею, как вы, вероятно, знаете, стала «Победа». Рабочие горьковского завода выпустили новую машину — эм двадцать, которую и назвали «Победой» в честь Победы. Это был хороший автомобиль по тем временам. Можно сказать, автомобиль-труженик. Пятьдесят седьмой год стал заметной вехой в истории легкового транспорта — мы же сразу получили две машины: «Москвич» и шикарный «ЗИМ»…
Тут зазвенела сигнализация, и пришлось прервать интересный разговор. Сашка лез вдоль ограды по сугробам тополиного пуха — искал обрыв. Сильный свет прожектора над головой, колючая проволока над самым ухом, все время приходится нагибаться, два тоненьких незаметных проводка сигнализации, которые нельзя задеть, — чем-то эта картина была уже ему знакома…
Только-только потом задремал, прибыл летчик со сто пятнадцатого.
— Откуда?
— Милан — Париж — Венеция — Москва…
— Как там погода? — спросил, зевая, Сашка.
— Да такая же дрянь…
Отправив летчика домой, Сашка хотел было поспать, но уже до очередной передачи оставалось минут двадцать — смысла не было. Он выпил еще стакан и от нечего делать пошел совершать обход. Сотни машин перед ним, все выстроены ровными рядами и со всех сторон окружены двенадцатью высокими столбами с мощными лампами яркого света, который заливал всю стоянку сильным и ровным освещением. Вдоль ограждения носились сторожевые псы: Джек, Мухтар, Тимофеевна и Полкан, облаивали всех, кто попадал в поле видимости. Сашка засмотрелся на две лампы на ближайшем столбе, которые под размеренное покачивание проводов на ветру стали медленно-медленно наполняться желтоватым неоновым светом. Все это напоминало оживающее чье-то дыхание: кач-кач… кач-кач… все поярче… все поярче… Или это раскачивание совпало уж с собственным Сашкиным ритмом дыхания, но только засмотрелся он на это в такт покачиванию разгорание двух лампочек на ближайшем столбе… Они словно бы надувались, разгораясь все больше и больше, а провода под ними всё покачивались, покачивались…
Сашка расхаживал среди сотен машин — дорогих «Запорожцев», очень дорогих «Жигулей» и баснословно дорогих «Волг». Проходил мимо просто прикрытых брезентом, мимо упрятанных в каркас, проходил мимо запертых в легкие гаражики — на трехсотом и двести пятом местах — уже с железными воротцами, уже с замочком.
Он расхаживал среди чужих судеб, вверенных ему на временное хранение. Да так оно и было на самом деле — каждая машина есть судьба. Витька́ вспомнил и вздохнул: «Жаль парня!» Сашка все больше испытывал к нему хорошее, взрослое чувство. Потом Сашка вспомнил хорошим словом начальника лагеря майора по фамилии Козырь. Запоздало догадался, что майор Козырь, прощаясь с Сашкой, испытывал что-то подобное — хорошее, взрослое. А тогда, дурак, думал: «Да не тяни ты, начальник, бодягу, хватит, сыт по горло, и так — «от звоночка до звоночка».
И чем больше ходил вдоль рядов, поблескивающих дорогим блеском, тем интереснее становилось. А в чем тут дело — непонятно. Раньше как было — а так: машины и машины, все похожи. Сами же автовладельцы редко кто с ними на равных, чаще хозяева рядом с машинами — в каком-то подчиненном положении. Машины все такие новенькие в сравнении со своими владельцами, все такие красивые, ухоженные, а главное — все такие ужасно дорогие… За многих же автовладельцев Сашка и пятака бы ломаного не дал, узнал он здесь многих. Он уже и замерз и подустал, и хмель повыветрился, уже и следующий час передачи приближался, а Сашка все ходил. Иногда подходил, глядел в специально прорезанное в брезенте окошечко, вглядывался в черноту, старался определить — есть там что или нет. И ведь что странно: стоило минуту-другую вот так пристально ему вглядеться в темноту, ни о чем не думая при этом, как действительно что-то такое приходило, ощущал что-то. Вроде того же, что вечером ощутил, когда под покачивание проводов на фонари засмотрелся, — какое-то механическое чуждое движение, а вот поди ж ты — одно с другим связалось, увязалось, качалось, разгоралось да наконец и осветило всю стоянку. Оформило ей до утра совсем иную, ночную жизнь. Так вот и тут, когда приникал к каркасу, искал в его черноте, каким-то душевным обострением прощупывал насквозь, и тогда через минуту отзывалось из черноты: «Здесь я!» И действительно, тут же явственно уже и блеснет черным лаком «Волга», или рубиновым пергаментом «Запорожец», или «Жигуль» последней модели отчетливо проявится своей особой параллельностью граней, настолько правильной и четкой, что сердце так и екнет — вспомнит Сашка кристаллы горного хрусталя, которые часто находил на лесоповале… Одни машины кажутся Сашке очень самодовольными, другие вроде бы подемократичнее, попроще, одни задом к нему стоят, передом другие — видно, и тут все как у людей… После того как провел он очередную передачу объявлений, прилег, вздохнул и вместе с неясным ощущением какой-то всеобщей несуразности пришло вдруг на ум такое же несуразное: «Ну а отпуск в этой лавочке мне будет или как? — Сашка даже приподнялся, сел: — Черт-те что! — Он встал, включил приемник, Алла Пугачева пела: «То ли еще будет, ой-ой-ой!» Сашка с остервенением крутанул ручку, не любил он певиц, он стал ходить по комнате. — Вот это здорово! — с остервенелой веселостью думалось ему. — А ведь вполне могут и зажать отпуск… в этой шараге. Точно так же как зажали спецодежду, валенки и прочее, прочее… — Он ходил три шага к окну, три к столу обратно или ходил — два шага к приемнику, два к столу товарища Мурасеева. Нечленораздельно Сашка цыкал, тюкал, сплевывал, бормотал иногда: — Нет, ну даешь! А?! — И опять сплевывал, цыкал, тюкал, ходил. Нет, отпускных денег было не жаль. Хотя конечно же не помешали бы, кто ж спорит. И все же было тут другое. И до того неожиданное… все ходил, сплевывал, затылок чесал — было тут такое же громоздкое, нелепое, как и вся эта платная стоянка, чтоб ей… трам-пара-рам!.. да-да, как вся эта платная стоянка с наросшим над нею, как гриб-паразит, комбинатом… чтоб и ему… трам-пара-рам!.. Сашка давно уже к ним приглядывается, да-да — давно! Сашку не проведешь, он многое повидал, полжизни прожил, на лесоповале кое-что уразумел, он давно уже чует… Чует всем нутром, всей шкурой ощущает неестественность всей этой… «кон-тор-р-ры», — Сашка так презрительно выговаривает это слово, что получается почти «контра», он сплевывает презрительно… Даже должности Сашкиной — сторож-приемщик — нет ни в одном справочнике по труду, нет ни в одном законе! Да и стоянки не должно быть нигде, не отпущено на нее никаких денег, не должна она быть построена! Но вот ведь построена, вот же, вот же — за окном! Каркасики, дорожки размечены… Знает, знает Сашка, как она построена! Одному «времянку» дали — ворота сварганил, другому «постоянку» — забор устроил, третий колючую проволоку над забором натянул. А как эти ловкачи всё устроили — никому и дела нет! Мы тебе — место, ты нам — электронную сигнализацию! А? Идет? Вот и ладушки! «Ладушки-оладушки!» — передразнивает Сашка товарища Мурасеева… Сашка, хоть и молчит, все слышит, все смекает! Вчера один обои принес, чтоб смотровую комнату оклеить. «Темноватые, — сказал товарищ Мурасеев, — неси посветлее… если хочешь постоянное место». И ведь принесет, хоть наизнанку вывернется, а принесет! Что она, стерва, эта стоянка, с людьми делает! Во всем, буквально во всем видит Сашка эту неестественность, эту вывернутость наизнанку. И в запертом туалете, и в собачках, которые вчерашний торт ни за что кушать не станут, и в женах, ждущих мужей на ветру, пока мужья те драгоценную машинку потеплее укрывают, — во всем эта вывернутость наизнанку… Один замазку несет, другой — новенькую цепь для собаки… А где взял? Где взял?!
Да, конечно, от всего этого на первый взгляд веет некоторой новизною, привлекательность даже ощущаешь. Как от всего, что только-только зарождается. Да, еще и график работ не отрегулирован, еще неясно, положено ли на собак по двадцать рублей, дается ли час на обед, — еще многое отладится, отрегулируется со временем. Еще нет единства в работе всех двадцати восьми стоянок области. Но уже взгромоздился над ними комбинат, уже счет есть в банке, уже не просто любительское общество автовладельцев, а уже — нечто… уже затягивает, накрывает их всех… что-то огромное, тяжелое, несуразное… Вчера один вносил очередной взнос за стоянку и сказал с облегчением: «Последний!» — «Что, — спросил Сашка, — никак гараж построил?» — «Нет, все — продаю тачку! К черту, намучился!!»
Все расхаживал, цыкал, плевался Сашка и думал, что экономически эта несуразица вполне объяснима. Видно, где-то наверху не совсем у нас отлажен механизм оплаты за труд. Вот и появились излишки денег у части населения. А если б у всех была зарплата около средней по стране — рублей в сто пятьдесят, в двести, — то попробуй-ка купи «Волгу»! Это ж лет десять надо всю зарплату откладывать, а на что жить тогда? Не-е, тогда «Волгу» не купишь. А вот несовершенство оплаты нашей и приводит к тому, что у многих скапливаются излишки, вполне достаточные для машины. Но ведь дальше этого, конечно, дело не идет: ни дорог, ни станций техобслуживания автовладельцам этим дутым, естественно, никто предоставлять не собирается. Еще чего! Тебе, значит, машину заправляют, чистят, а ты в это время в баре — ноги на стол — пивцо потягиваешь, стриптизиком наслаждаешься! Ну нет — так у нас с тобой, дорогой товарищ, не пойдет! Так у нас была бы совсем уже другая страна! Да, совсем другая… не наша… Да-да — дело тут не в технической отсталости, человеком надо быть… да-да, человеком… А так — кто они?.. Бедолаги, самые настоящие бедолаги… Что за владелец машины безгаражной? Владелец половинчатого счастья, ущербленного какого-то счастья, владелец бесправного какого-то права… права на другую какую-то жизнь, надо полагать по их доходам, на какую-то шикарную жизнь… А права-то и нет! «А права-то как раз вы и не имеете, — с удовлетворением повторяет Сашка, расхаживая по комнате, — нет, нетути, ибо вся страна пока имеет право — сами ж говорили! — на велосипед пока, вот так-то! — Да, конечно, Сашка согласен, что мизерная часть нашего общества, министры, к примеру, или академики заслуженно должны получать больше, чем средние две сотни по стране. И они заслуженно могут иметь личные машины. Даже «Волги». Но ведь такие и не стоят у них на стоянке. Такие и на гараж имеют законное право. Такие друг у друга не будут откручивать подфарники, как у них на стоянке откручивают. Тут все должно соответствовать: и большие деньги, и… большая совесть. Такой рядом с машиной не будет выглядеть плебейски, как вы! Как вот эти, вот эти! Тычет он пальцем в окошко… И чем больше он ругался и плевался, чем больше накачивался, тем яснее и несуразнее вырастало то чуждое, инородное, что запросто могло теперь не дать Сашке заслуженного отпуска. — Да как же так?! — прикрикнул он и стукнул кулаком по столу. — Да не имеете никакого права! Не давать отпуска!»
Он уперся в стол кулаками, перед ним доверчиво мерцал нежный овал «Незнакомки». Сашка снял трубку, набрал «сто», точное время ответило: «Ноль часов, двадцать одна минута…» Это успокоило немного: все ж существует что-то, в чем нельзя сомневаться. Хоть и привычное до того, что и не замечаешь… пока не приспичит… отпуска, к примеру… ах, чтоб ты… трам-пам-пам… вот ведь привязались! Да не в них и дело!.. А… дело во всем, что теперь окружает Сашку, — и отпуска, и точное время, и… и все остальное, среди которого он прожил, не очень-то задумываясь, уже большую часть своей жизни. И было, оказывается, в той жизни все не так уж и плохо… отпуска… вот привязались… трам-пам-пам… Да нет, не в них, конечно, дело, а… а во всей жизни дело. Да, да, если сейчас охватить все единым махом, представить всю ее разом, сразу всю, всю — от военного детства, неуютной юности… всё, всё… если сразу взять в единый взгляд — не так-то и плохо все было, да совсем неплохо, черт!! Конечно, было много и тяжелого, чего там… и холодновато, и голодновато, но все-таки такого своего — понятного, кровного… Даже и тот лесоповал! А что, и там люди! Начальник лагеря майор Козырь — человек! «Теперь все от тебя зависит, Копытов. И еще помни, Копытов: людей хороших больше, чем плохих. Ну а если трудно будет, напиши нам — чем сможем, поможем!» Так что Сашка не в обиде за лесоповал: заработал — получи! Все так. Но вот чтоб так бессовестно зажали отпуск — этого еще не было! Нет, такого еще не было.
«Да не имеете права!» — Сашка так стукнул по столу, что скривился от боли. Вздрогнула и опять уселась на место «Незнакомка»… А черт их знает, может, и имеют — ведь зажали же спецодежду. Это ведь для них, понятно, — дополнительные расходы, они ж нам свои платят, как же-с, кровные! Уж они-то, если есть возможность, урвут. Урвут! — сильно подкатывало что-то непонятное, еще за сорок восемь лет ни разу не испытанное. И накатило, накатило на Сашку всеми клетками, всей душой, кровью до двадцатого поколения предков, такой огромной ненавистью накатило к ним! Что аж зубами заскрипел ознобно. И все ж непонятно было, к кому конкретно. Потому что конечно же не к этим трем сотням бедолаг, что стояли у них на стоянке. Этих-то Сашке жаль было. И особенно почему-то товарища Мурасеева. А ненависть в Сашке извергалась непонятно и к кому… просто к чему-то ужасно нелепому, что где-то там вдали вставало, голову приподнимало над этой, в общем-то, пока безобидной и даже смешной стояночкой. А тут как раз звонок:
— Мурасеев Ве Ге — все гениальное, Александр Иванович, как известно, просто!
— Наверное, — в рассеянности Сашка отвечал, — так оно и есть.
* * *
А надо сказать, что основной пружиной товарища Мурасеева было упрятанное на самом дне души то, что сам он не имеет машины. Не имеет самого главного права принадлежать, входить беспрепятственно в это здание, в этот храм, где отношения между людьми наконец-то настоящими стали! Наконец-то отвечают высоким законам справедливости. А то, что отношения между людьми, какими бы они на сегодня ни были запутанными и многогранными, должны отвечать железной логике, — это для товарища Мурасеева было несомненным. Иначе же вся наша жизнь — алогический сон. Ведь даже шахматная игра уж на что сложна, а все ж подчинена шахматной логике. ЭВМ уже досконально познала эту логику, уже в человеческой ЭВМ стала потихоньку разбираться. Человек, разумеется, богаче всякой машины, но ведь суть-то в принципе: все должно подчиняться логике. А начать разбираться в этом многообразии можно и с простой (пользуясь шахматной терминологией) партии человеческих отношений — например, на базе их платной автостоянки.
Сперва была просто мечта о новом экономическом порядке. Долго выкристаллизовывалась в товарище Мурасееве эта мысль, долго вынашивалась идея. Еще труднее было начать реализовывать, воплощать на конкретном участке земли — пустыре, на котором мальчишки гоняли в футбол. Огородить первичным забором, повесить первый замок… Часами, приходя сюда, Мурасеев сидел на ржавой трубе, следил рассеянно за игрой и думал, думал… Как отделить хотя бы частичку, облагородить ее, вырвать из лап того огромного, грубого, что уже много лет нелепо насмехается над товарищем Мурасеевым. Уже лет десять насмехается, после того как неожиданно, в полном расцвете сил и надежд, сократили его из армии. Конечно, дали неплохую пенсию, но разве ж так можно?! Человека в полном расцвете сил и надежд! Редкая женщина не глянет на огромную ладную фигуру, волевое лицо, решительный нос. Редкая устоит, если подхватит товарищ Мурасеев под локоток, увлечет в свой стремительный, энергичный ход. Жизнь впереди обещала так много! Мускулы сильны, сердце бесшумное, разум не испорчен алкоголем, шагай да шагай! — хо-хо! — покрикивай. Жена, сыновья такие же здоровые — никто не мешает. И на тебе — отставка! Во всей нелепости, во всей несуразности враз вдруг предстала безоблачная доселе жизнь, во всем своем сыром несовершенстве. Как чуждая земля, как сиротство для всякого здорового душой и телом человека. «За что же мне-то расплачиваться?! — возопил тогда Ве Ге впервые. — За чьи грехи, чью путаницу великую, несовершенство чье?!» И затаился, в себя ушел. Вначале, правда, вдрызг напился, впервые в жизни напился. С женой поругался, поплакал… А уж потом все — протрезвел на всю оставшуюся жизнь. Ушел в себя, затаился, стал копить, лелеять свой витамин. Да-да — он так и называет то, что созрело в нем тогда, во время неприкаянного сидения на ржавой трубе на краю бросового пустыря, где мяч гоняли маленькие разбойники, — витамин! Жизни явно не хватает полезных витаминов, животворящих соков, правильно взросших побегов. Владимир Георгиевич крепко задумался тогда о первом таком побеге истинно правильных человеческих отношений. Чтобы впредь никогда не страдали безвинно люди, полные сил и надежд, так нелепо выброшенные за борт этой самой, с позволения сказать, жизнью! Дающей даже какому-нибудь безмозглому недотепе, хлюпику какому-нибудь — всё, всё, всё! А вот товарищу Мурасееву — ничего, ничего, ничего! Нет-нет — так дело не пойдет! Сидел до темноты на ржавой трубе, покусывал горькую былинку, а мальчишки гоняли мяч, потные, грязные, ссорились из-за пеналя, кричали: «Было!» — или: «Не было!» А Владимир Георгиевич рисовал в своем воображении облик прекрасной платной стоянки.
Прошло не так и много времени, и многое сбылось уже. Триста сорок счастливцев благодарят за стоянку. Целый журнал благодарностей: «Вы вселили покой в мою душу, спасибо Вам!» — «Вы вселили надежду в нас с женой…» — «Вы спасли…» — и так далее. А сколько сил, времени и настойчивости потребовалось, чтоб убедить руководство трех самых влиятельных организаций района — КБ, ЦНИИ, Химмаш — взяться строить на паях платную стоянку! Убедил — деньги перевели, а дальше? Где люди, где материалы? Обо всем Мурасеев договаривался, обещал, просил, придумывал что-то. Наконец построил. Но своих-то пайщиков хватило лишь наполовину стоянку заполнить, обещанной отдачи нет, конечно, срочно пришлось брать со стороны. Теперь, с годами, свои уже машины приобрели, а мест-то нет! Попробуй-ка заставь кого-нибудь освободить местечко! В общем, всего хлебнул. Сколько дум, сколько бессонных ночей, нервотрепки сколько! Чего все это стоило товарищу Мурасееву — один господь бог в курсе! Вот и стало сердце от такого нечеловеческого напряжения пошаливать… Зато все яснее предстает, формируется, реальностью обрастает корабль, на борту которого название «Автовладелец». Набирает мощь, раздувает паруса, изяществом очертаний становится все более привлекательным. Этому гордому кораблю не страшны ни беспорядочные волны, ни отсутствие маяков, ни бездонные глубины. Он как «Летучий голландец» пронесется над теми, и другими, и третьими, являя собою пример, прообраз новой жизни, где не будет таких несправедливостей и оскорблений, которые довелось испытать товарищу Мурасееву.
Но все это, так сказать, поэзия, в которой так приятно уноситься, словно сам летишь на том «Летучем», а практически, за что ни возьмись, отношение к кораблю с таким непривычным названием, мягко говоря, было в те годы застойные настороженным. Лучше всего выразил это однажды знакомый милиционер, когда пришлось товарищу Мурасееву иметь дело с милицией. Это, естественно, было еще на заре возникновения платной стоянки, когда ни сигнализации, ни колючей проволоки, всего одна собачка, к тому же — неученая! И конечно же злоумышленники тут же сперли приемник с седьмого места. И правильно сделали! Раз у тебя ни проволоки, ни сигнализации… Ну так вот, милиционер ему прямо тогда и сказал: «Знаешь, Владимир Георгиевич, было б это дело государственное, меня бы заставили, а так, сам понимаешь, дело это частное, охота мне связываться — нет! Если б я с этого еще какой навар имел, а так…» И он прав, конечно… много, ой как много еще и сейчас неотлаженного в механизме платной стоянки. Вот хотя бы взять такую мелочь: на собак надо платить, а не платят! Опять добиваться надо, ходить, просить… Добьется товарищ Мурасеев, устранит еще одну шероховатость, добротнее, качественнее станет стоянка. Но ведь в принципе-то, несмотря на ветер перемен, отношение к ней меняется с трудом. Даже комбинат, наконец-то созданный по подробным разработкам товарища Мурасеева, мало что изменил к лучшему. А ведь почти год бессонных ночей, нервотрепка — вот куда здоровье уходит! Понятно, что теперь в результате всего этого есть мощная надстройка, вроде головы, над всем этим — комбинат. Но зайди туда — и ведь (ей-ей) плюнуть хочется! Маленькая комнатка, четыре стола, тесные проходы между ними, и уже шесть человек с большими портфелями: начальник комбината, зам, главный инженер, главбух, начальник производственного отдела и начальник снабжения. Шесть человек на четыре стола, вот и ждут — один уйдет по делам, второй скорей портфель на стол ставит. И с горечью видит товарищ Мурасеев, что ничего из этой головы не вышло. Наоборот, получилось, что вроде бы и не автостоянка создала, из своих соков выжала, из своих кровных эту надстройку обеспечила, а наоборот — сам комбинат создал стоянку! Такая уж там сразу атмосфера покровительственно-бездеятельная воцарилась, ну хоть стой — хоть падай! Пробираясь меж столами, ворчит товарищ Мурасеев: «Деньги берете, а чем мне стоянку чистить? Завалит снегопад, не выехать, а чем владелец виноват, он платит, а помощи от вас как от козла молока!» Нет, надо было срочно что-то придумывать, чтоб в принципе изменить отношение к платной стоянке людей, привыкших во времена застоя к иному — убого заорганизованному, то есть государственному отношению ко всему вокруг. И товарищ Мурасеев давно бы придумал, но одна заноза в душе мешала. Заноза — это тщательно скрываемое от всех, даже от жены, это неприлично-элементарное — отсутствие собственной машины. А ведь действительно, получается черт знает что! Создатель всего этого благополучия, душа и сердце, так сказать, этой великой справедливости — сам-то не имеет ни души, ни сердца, до сих пор не имеет товарищ Мурасеев собственной машины! Купить? Но как?! Как купить, когда оклад у завстоянкой 98 рублей 80 копеек. Даже с пенсией не так и много. Попользоваться же лично для себя, как, скажем, другие заведующие стоянками, — для товарища Мурасеева исключено! Дело всей жизни может быть лишь тогда высоким, чистым и благородным, когда на тебе самом — создатель! — ни пылинки, ни соринки. Глупая баба, то есть жена, без конца сторожам звонит, якобы передать, что купить ему, когда на обед пойдет. Но он-то отлично понимает: ревниво проверяет, где он, что он, уж не с другой ли? Ей кажется, так много времени можно уделять лишь другой женщине. Тем более за последние три года товарищ Мурасеев не то чтобы поохладел к жене, нет. Здоровье-то с этой стояночкой — тю-тю, чего греха таить. Но не объяснять же это женщине! Это даже и оскорбительно. Просто приказал ей раз и навсегда на платную стоянку номер один не звонить! И… и поэтому взять денег у жены на покупку машины никак нельзя. Свои откладывать, лет пять копить (на «Запорожец» хотя бы) — тоже нельзя. Все ж при всех обстоятельствах надо оставаться мужчиной, добытчиком для семьи, для очага. Вот и нет у него до сих пор машины, да, пожалуй, как ни печально, и не будет никогда. Он даже к этому внутренне как-то притерпелся, словно бы все само собою как-то утрясется, словно кто-то подарит ему машину. Но как это всё может утрястися, кто это такой добрый в наше время найдется?! Чушь собачья! А вот ведь подмывает в душе, особенно в ночное время, скребет: а заслужил или не заслужил он это главное право! Без которого не быть ему никогда в этом прекрасном автомобильном храме! Вот ведь что гложет товарища Мурасеева, вот что мешает думать о коренном изменении окружающего отношения к великой его идее. А думает он об этом день и ночь: как же ему доказать очевидное, как же наделить свое детище всеми правами, как из пасынка превратить в родного ребенка… самому отцом родным детищу стать… Да, собственно, она сама-то, машина, ему и не нужна, товарищ Мурасеев твердо знает: «Пешком ходить — долго жить!» Но ведь машина нужна для идеи, а ради идеи можно не пешком ходить, а на машине ездить… хотя бы и во вред здоровью… И так уж не так много и осталось… лет до семидесяти хотя бы дотянуть ему… И вот надо же — думал, голову ломал, строил логические цепи заключений и доказательств, историю легкового транспорта изучал, в архивах копался, а все лежало так близко! Действительно, — гениальное всё просто! Надо лишь сменить название корабля и вместо «Автовладелец» написать «Автолюбитель»! Мало того, что к кораблю с таким названием другое отношение. Никто не остановит грязными подозрениями, а товарищ Мурасеев — автор и творец идеи — будет иметь на него полное право, в самой лучшей каюте!
— Вот так-то, дорогой Александр Иванович, — все гениальное — просто! Согласны?
— Согласен.
— Ну вот, спокойного вам дежурства.
— Да. Хорошо. Спасибо, я — э-э-э…
— Вы что-то хотели сказать?
— Да я, собственно, насчет отпусков…
— Каких таких отпусков?
— Ну, таких… законных… Положен он мне или нет?
Товарищ Мурасеев только и сказал в сердцах:
— Мне бы ваши заботы, Александр Иванович… ох, Александр Иванович, о-ох… — и бросил трубку, впрочем, тут же и позвонил.
Сашка сказал:
— Стоянка.
— Мурасеев Ве Ге, — ответил Мурасеев. — А вы знаете, Александр Иванович, называясь отныне обществом автолюбителей, то есть как бы возвращаясь из частного в социалистический сектор, мы попутно решим и вашу проблему.
Пожелав Сашке спокойного дежурства, сам товарищ Мурасеев не мог никак успокоиться. И, даже выйдя перед сном на прогулку, все думал, думал… все же в госсектор возвращаться никак не хотелось. Да просто никак невозможно такое, ибо вся суть товарища Мурасеева с самого раннего детства была конкретно вещевая. Он по-настоящему лишь тогда и успокаивался, когда держал в руках какую-нибудь вещь. Вещь в руках — в ней какой-то вес, форма, внутреннее содержание, — все это сразу же наполняло и самого его конкретным смыслом. Он с детства поэтому так страстно любил со всеми обмениваться вещами. Частенько даже в убыток самому себе, но, понимая это, все равно не мог никак остановиться. Да его в детстве так все и звали во дворе — Меняла. И стоило его лишь выпустить на улицу с новеньким ножичком, скажем, подарком дяди Вани (с двумя лезвиями, штопором, шилом и так далее), — так вот, стоило его выпустить хотя бы на пять минут, как он через час возвращался с ангорским кроликом-детенышем. Или еще с чем-нибудь.
Однажды отец купил ему фотоаппарат. Отец считал делом чести, чтоб у его детей было все, что и у других. «Как у других» — это было делом чести человека, прожившего трудную деревенскую жизнь, в которой всего-то было четыре учебных года в сельской школе. Так вот, отец купил ему однажды фотоаппарат «Турист». А что с ним делать дальше — никто не знал. Да и не было в то время ни фотобумаги, ни пластинок. Ясно было одно — вещь дорогая. Не какие-то там соседские оловянные солдатики! И, помнится, в одно прекрасное утро он вынес свой фотоаппарат во двор. Даже вроде был какой-то праздник. Или это ему так тогда показалось из-за аппаратика. Какие необъятные возможности таил он в себе! Помнится, расставив штатив-треногу, привинтил он камеру к нему, открыл и стал смотреть через матовое стекло на разноцветный, радостный какой-то двор… И увидел, как едет к нему (вверх ногами, конечно, как и положено охать погибели), едет Вовка Козлов на своем замечательном самокате. Матово-мягкий, весь цветной, бренчал звоночком и зажигал фару! Это было чудо самокатной техники. А какие подшипники! Даже тормоз был у этого в синюю краску, с настоящим велосипедным рулем самоката.
— Махнемся, — сказал Козлик на всякий случай.
Мурасеев тогда проглотил слюну, но твердо покачал головой: за фотоаппарат с него отец шкуру спустит. Ну а буквально через час уже ехал, конечно, на самом лучшем во дворе, а может, и во всем городе самокате, бренчал звоночком от счастья, фару зажигал.
К обеду накатался по горло и сменял самокат на что-то более важное… теперь уж и не вспомнит товарищ Мурасеев, на что. А потом это важное сменял на что-то еще более важное. И поздно вечером, когда опустел уже двор, медленно-медленно возвращался он домой. На своей площадке, прежде чем постучать, он глянул вниз, заранее принимая вид скорбный, и… плюнул с горя. Он увидел на ботинках всего лишь одну из двух только что купленных галош. Может, гости дома? Или родители ругаются? И тогда удастся избежать очередной порки… Увы, увы — мать и сестра уже пошли искать его, отец сидел один, глаза у него были раскаленные…
И вот юный Мурасеев стоит в одной галоше, в руках у него вместо великолепного фотоаппарата «Турист» — толстая, пахнущая нафталином подшивка журнала «Нива» за 1908 год и чучело неизвестной птицы.
— Ну, что ты теперь скажешь? — говорит его отец.
Сын вздохнул, снимая теперь никому не нужную галошу. Отец вздохнул, ремень снимая. Надо полагать, по разным поводам они тогда вздохнули.
Да и что мог сказать тогда товарищ Мурасеев. Может быть: «Да, папа, я понимаю: фотоаппарат — дорогая вещь, но ведь и этой старинной книге цены нет. Ты только глянь, какие рассказы с «продолжение следует»! Здесь вот написано про кладоискателей, тут про пещеры, про убийства таинственные. А если тебя и это не интересует, то на странице семьдесят два в полезных советах ты сможешь узнать, как мадам Гайворонская увеличила свой бюст на десять дюймов, и еще много всего интересного… Да и птица, не гляди, что облезлая, — может, и она тоже… что-то такое, а?»
Нет, даже сейчас, годы и годы спустя, товарищ Мурасеев не сможет объяснить, почему так его притягивает конкретная вещь. Когда он ее видит, чувствует, руками трогает — ну и сам вроде живой… А поэтому, себя не обманешь, — и в том же «Автолюбителе», в госсекторе, значит, но опять-таки хотя бы без самого задрипанного «Запорожца», он же с тоски усохнет! А про «Автовладельца» он уж и не говорит, туда без собственного владения ему вообще никогда не попасть. Да у него же просто безвыходное положение, хоть в петлю. И тут, словно подслушав его мысли, у фонаря в конце аллейки подошли двое, вежливо поздоровались, стоянкой поинтересовались, о погоде что-то такое сказали. А потом деликатно спросили, а правда ли, что территория автостоянки — неприкосновенна. Или это только слухи?
— Да, — подтвердил товарищ Мурасеев, — я даже милицию туда не пускаю. А в чем, собственно, дело?
И тогда эти двое, переглянувшись, напрямик и выдали:
— Есть идея — вы нам, товарищ Мурасеев, уступаете в западном секторе два спаренных бокса, ну те, что у вас, в самом углу… мы там организуем… м-м… небольшой такой заводик… по копчению белой рыбки… Да не пугайтесь, не пугайтесь — все будет шито-крыто. По всей цепочке заинтересованных людей мы предварительно уже прошлись… каждому что-то кинули на «лапу». Дело только в надежной «крыше». И вот на вашей платной стоянке как раз и будет оптимальный вариант. Ну а за это вам, естественно, «жигуль» последней марки. Хоть завтра. А дело наладится, будет вам и «Волга». Ну а со временем, может быть, и-и… — И тут эти двое переглянулись и, не сговариваясь, и припечатали бедного товарища Мурасеева: — Будет со временем у вас, Владимир Георгиевич, даже «мерседес-бенц»!
* * *
Сашка стал готовить ужин, прислушиваясь краем уха, как магнитофон с точным реле времени ровно в час стал передавать Сашкиным голосом: «Товарищ дежурный, пройдитесь вдоль периметра ограждения! Товарищ начальник дружинников…» И так далее. Сашка достал бутылку, и опрокинул под передачу первый стаканчик, и корочку понюхал — хорошо! А в час сорок, когда он уже достал третью бутылку, приехал Витя Козлов на помятой машине, хотел тут же, не вылезая из нее, что-то рассказать Сашке. Но Сашка сказал, чтобы сначала проезжал на свое сорок шестое место. И потом, когда Витек, возбужденный, размахивающий руками, появился в дежурном домике, Сашка не дал ему рассказать, а сперва налил полный стакан.
— Да я и сам хочу нажраться, — принимая стакан, громко сказал Витек, — нервы немного стравить, понимаешь, еду…
— Не-не-не, — помахал, улыбаясь, Сашка пальцем перед лицом Вити Козлова, — прими сначала.
Витя Козлов, быстро хлюпая горлом, выпил стакан и стал говорить:
— Понимаешь, еду, на повороте понесло под грейдер! Меня несет на повороте, а он — гад — как раз выезжает, вот капот и переднюю панель и погнул. Кто виноват? Я! — хохотнул нервно Витя, машинально принимая то, что протягивал ему улыбающийся Сашка. — В том-то и дело, что — я! Кто в зад бьет, тот и виноват — закон! — Он жадно выпил, рисуя в воздухе свободной рукою поворот, где его понесло под грейдер. — Понимаешь! — вскрикнул, отрываясь от пустого стакана. — Меня несет, а он как раз выезжает из завода, ну, думаю — все! Амба!
— Тогда надо еще! — серьезно сказал Сашка и налил опять до ободка стаканы, и они выпили.
— И вентилятор немного погнул, — восторженно, с ревнивым каким-то чувством рассказывал Витя, чуть ли не радуясь при этом, так что Сашка заподозрил себя в том, что, наверное, уже пьян.
— Д-давай еще, что ли? — сказал он Вите.
— Давай, давай, — охотно согласился тот, — понимаете, Александр Иванович, замерили путь — у меня двадцать метров и еще пять десятых.
— Двадцать и… еще и пять десятых? — серьезно переспросил Сашка, высоко приподнимая при этом левую бровь.
— Вот именно! — вскрикнул Витя. — Двадцать и пять десятых.
— Ну тогда, — сказал серьезно Сашка, — ну тогда, брат, надо выпить, тут уж сам бог велел.
И они выпили.
— Понимаешь, я в поворот вхожу, а тут этот гад за ворота завода как раз выезжает, я по тормозам, меня и понесло, ну, думаю — амба! Нервы — во-о! — И он показал кулак. — Все, сил моих больше нету… брат приезжает… все… Все, все, все… ненавижу… — И он всхлипнул.
— Э-эх… — вздохнул Сашка.
— Да что же это такое происходит, Александр Иванович, а? Родного ведь брата, а?
— Э-эх… — сказал опять Сашка и разлил остаток из последней бутылки.
— Чтобы брата, собственного братана! А?! Родная кровь, так?
— Э-э-эх…
— На железный ящик променять!! Да я за братана!! Кому хошь… горлянку… зубами. — Витя так сам себя схватил тут за горло, захрипел, что Сашка с трудом разжал ему руки. — Ведь жду, — всхлипнул Витя, — что ж это такое — не хочу, чтоб возвращался, ма-а-ашину ведь заберет… как же это, а?!
— Да, да, да, Витек, да…
— Сука я последняя… сука и сволочь, вот кто я! Давайте, Александр Иванович, нажремся, у меня вот — портфель, я взял, заехал, куда надо, нервы — во-о! Надо, да? Не-на-ви-жу-у-у… — Он заплакал и тут же вскочил. — Идемте, — стал хватать Сашку за руки, тащить куда-то, — идемте, идемте…
— Куда, Витя? Ну куда мы — поздно…
— На сорок шестое, я вам покажу, как я ненавижу… а?.. Нет, да чтоб родного брата, а? Да гад я последний, если нет… да я ее сейчас… сейчас… — Он стал быстро озираться по дежурному домику. — Где тут у вас этот… этот… как его… ну, щит!
— Какой еще щит, Витя? Садись, пей лучше.
— Ну, щит, щит… весь красный еще, знаете… топор на нем.
— Пожарный, что ль?
— Пожарный, пожарный, а как же! Я ее сейчас, падлу! Вы ж меня знаете, Александр Иванович, заяц трепаться не любит, так? Я сказал, реле и-и-сделаю, так? Так! И-и-сделал, так?
— Что есть, то есть, — с убедительностью в голосе сказал Сашка, — и вот за это тебе спасибо, век буду помнить, дай обниму.
Они обнялись. Потом выпили еще по стакану за дружбу, и Витя Козлов после этого свалился со стула. Сашка постелил рядом два ватника, передвинул с трудом на них Витька́. Сашка все бормотал:
— Я спасу тебя, спасу, товарищ дорогой! — Мысль была одна, боялся, как бы не потерялась, боялся, что вот-вот и сам грохнется рядом с товарищем, поэтому бормотал: — Спасу, спасу, товарищ дорогой ты мой!
Всё горело в нем от алкоголя и от этой дикой мысли — голова, грудь, душа. Он жадно допил бутылку прямо из горла и выбежал в ночь. Собаки обрадованно неслись за ним, Сашка открывал одни ворота за другими, собаки выбегали в них и пропадали тут же в белом. Смятение было какое-то белое сразу за воротами. И такое же белое в Сашкиной груди. Он ворвался в бытовку:
— Вставай! — закричал он. — Малый, делай! — закричал он еще, но Витек не пошевелился даже, молодой, ослаб. И так жалко стало товарища бедного! Голова у товарища запрокинулась, бледность щек была вопиющая — зеленая, две капли бисерного пота выступили на виске, Сашка охнул, схватил микрофон и закричал что есть мочи: — С пятого по пятьдесят седьмой — через западные ворота! Со сто тридцатого по триста сороковое — через восточные! С пятьдесят седьмого по сто тридцатое — через запасные! Все ос-таль-ные — через центральные!! К чертовой матери!! Согласно инструкции — во-о-он!! — Со стены на Сашку смотрела «Незнакомка», все более превращаясь в майора Козыря, поджимала укоризненно губы, Сашка торопливо орал в микрофон: — Чтоб и духу! За двадцать четыре часа!! Сто первый километр!!!
И тут-то со стены оно — такое незнакомое-знакомое разжало ехидные губы и голосом майора Козыря (сильно измененным, конечно, но Сашка-то узнал!) проскрежетало в самые уши:
— А я-то думал, что мы, Копытов, больше с тобой не увидимся!
Сашка судорожно глянул вниз — слышал ли Витек эти страшные слова, — но там, где только что храпел Витек с сорок шестого места, не было никакого Витька с сорок шестого места. «Как же так?! — ужасно подумалось, — всю ведь жизнь на сорок шестом!» — но тут же и вспомнил, что нет больше никакого сорок шестого места, нет больше никаких таких мест! Кроме отхожего! И машин тоже нет, ничего нет, ни-че-го!!! Он по-молодому захохотал и бросился что есть духу бежать через центральные ворота. Охваченный белыми огневыми струями, Сашка очень легко бежал и совсем не чувствовал усталости, было так весело, что кричалось само по себе, а белые вихри указывали ясно путь…
Потом выросла клумба словно из-под земли с красивыми белыми цветами. Слева от Сашки — полковник. Справа — мент, протягивающий уже руки к полковнику. И лицо у Павла Константиновича такое… такое прекрасное или такое родное, что сердце у Сашки кровью облилось и забилось неизъяснимым восторгом: «Пробил его желанный час!» Он захохотал счастливо, легко сбил милиционера, людей, всех и все, что угрожало полковнику, схватил в объятия, смахнул с лица земли, увлекая за собою в белую яму.
12. В ЛТП У САШКИ
Достукался Сашка. Упекли Сашку на два года в ЛТП. Да и как не упечь — заявление от жены его Людки давно в милиции лежало, все подписи от общественности были собраны, ждали только случая, а он рано или поздно все равно ведь представится.
Нина Андреевна ругала Людку-врушку, Сашку ругала последними словами, говорила, что так ему и надо, обормоту, что в ЛТП она ни ногой. Но прошло время, материнское сердце отходчиво. Тем более что Людке и горя мало: есть мужик, нет его — гуляет. И про Лариску, конечно, не вспомнит. Ну вот — Нина Андреевна гуся зажарила, пирог испекла, то се собрала в сумку. Достала даже из заветного места чекушку, что несколько лет уже ждет своего часа, вздохнула: «Как бы Сашке там с этой чекушечкой не повредить», — и опять в заветное место упрятала.
От автобусной остановки ей на край поля указали — там, на краю заснеженного поля, розовело несколько зданий. Пошла она полем, с каждым шагом приближаясь к этим загадочным, в веселенькую розовую клеточку зданиям, огороженным колючей проволокой. Она нагнала двух женщин, что шли в соседнюю деревню за лесом, те разговаривали об ЛТП, о его обитателях.
— Посмотрела бы ты, что здесь творится по воскресеньям, по субботам — толпами родственники идут, сумками им тащат.
— И кто ж идет-то? — Нина Андреевна присоединилась к разговору.
— Как кто? Жены, матери… те же самые, что больше всего от них, паразитов, и страдают… У тебя кто тут — сын? Муж? Сын? Ну, то-то же…
— Наверное, — сказала Нина Андреевна, вспомнив мысль о чекушке, — и бутылку пытаются им незаметно сунуть еще?
— Да они и так выпивают.
— Как?
— А на работе. Их же возят тут везде, к нам в РСУ привозили, трубу тут варили недавно, подошла глянула — интересно же, как им там, в ЛТП этом. «Мать, а мать, — это они мне, — валенцы не возьмешь? Новые». Глянула — и правда новые. Цена — бутылка. Теперь везде цена такая (женщина вздохнула) — бутылка. Ну, я не взяла, так ведь другая взяла… Работать не работают, а восемь рублей в день на человека им плати! Наш начальник сперва по двадцать человек из ЛТП брал, а теперь только пять берет. Ну их, говорит, — слишком накладно…
В небольшой приемной Нина Андреевна в ожидании дежурного ходила читала развешанные объявления. «Посылки — один раз в два месяца… Свидания — один раз в три месяца…» Тут же был список разрешаемых продуктов для передачи. Было напоминание должностному лицу о том, что за взятку, согласно статье 174, его ждет наказание — от 3 до 8 лет. Здесь было много всяких объявлений, даже тесновато от этого становилось как-то… А еще висел длинный список — «Они позорят нас». Это были нарушители режима, которым добавлялся срок лечения за допущенные нарушения и употребления алкоголя (как хорошо, что она чекушку не взяла, влип бы ее Сашка, как штык влип бы!), и шел длинный список фамилий: Долматов, Широков, Селезнев, Иванов, Петров, Ефимов… Она читала, и странное чувство охватывало все больше ее. Она почему-то вспомнила, как недавно ездила к родственникам в Ярославскую область и там в деревне видела обелиск с фамилиями погибших на войне, где, могла бы поклясться, читала эти же самые фамилии: Петров, Иванов, Широков, Селезнев, Ефимов… Но те геройски прожили жизни свои, а эти…
И вот сидит она в кабинете у замполита ЛТП. Замполит молод, строен, зеленоглаз, полон энергии и, в отличие от дежурного, доброжелателен. Сашку уже пригласили в кабинет на свидание.
Вошел — Нина Андреевна ахнула. Так изменился за это время в ЛТП. Осунулся, скулы заострились. Нина Андреевна как глянула, так и ахнула, слеза покатилась. А главное — у Сашки теперь глаза какие-то бегающие, голос слабый. И это ее никогда не унывающий Сашка! Нина Андреевна все головой качала:
— Ох, Сашка! Ох, Сашка!
А он сидит напротив, берет в руках мнет, никак опомниться не может.
— Ну как живёшь-то? — спрашивает она его, глаза вытирая.
— Да не тянет… — в смущении быстро трет остроконечную какую-то, без волос-то, Макушку. — Пока меня не тянет, мать, — и быстрый взгляд в сторону замполита. — Ну а ты как? Как Лариска?
— Да с Лариской-то все в порядке у меня, а ты-то, ты-то как? Как дальше жить думаешь?
Сашка плечами пожимает. И ясно видит Нина Андреевна, что ее Сашка действительно не знает — как оно все будет потом, когда отсюда выйдет. Впереди еще много времени, еще можно решиться на что-то, а пока он не знает, не хочет даже и думать, он весь какой-то подшибленный, ему стыдно даже глядеть матери в глаза. Не-е, видно, не курорт здесь — понимает Нина Андреевна и, откинув платок на плечи, осматривается. Но не в этом дело, что не курорт здесь, настоящего мужика этим не смутишь, а ее Сашка лесоповал прошел. Унизительно здесь — вот что главное. Эта поспешность, с какой пожал он ее руку, когда вошел. Выхватил нервно из-за спины и с жаром пожал ее руку. А зашел-то, зашел-то — как зэк настоящий — руки за спиною! И бритый! И это с горечью она отметила, с затаенной жалостью сына разглядывая, — такой же вот бритоголовый когда-то в детстве лежал ее Сашка со скарлатиною… еле выжил… А сейчас — не ребенок, мужик вроде, а всякий раз стремительно так вскакивает при появлении в кабинете кого-то из начальства — вышколили уже… а самое главное — эта согнутая поза, тихий голос… какое-то бритоголовое во всем уныние… и всё торопливые, всё невпопад как-то расспросы: «Ну, как там все-то? Как полковник? С автостоянки от Мурасеева никого не было? Ну-ну… я так и знал…»
— Тут, говорят, досрочно выйти можно, — осторожно заметила Нина Андреевна, трогая Сашку за колено.
— Хорошо бы, но… — И быстрый, тоскливый взгляд в сторону замполита.
— У вас в отряде какое место? — строго спросил замполит.
— Только шестое.
— Это почему же только шестое? — сказала Нина Андреевна, несколько обидевшись за Сашкин отряд.
— Да есть тут… некоторые… — И опять быстрый взгляд на замполита: можно ли говорить. — В общем, есть тут такие, из-за которых отстаем.
— Да, — внес ясность замполит, — у них есть небольшая группа, которая всех назад тянет… Но в общем и целом, Нина Андреевна, народ тут сознательный. Например, когда собираем деньги в Фонд мира, обязательно откликнутся все. У нас даже есть тут один, — замполит с удовольствием улыбнулся, — который сам регулярно в Фонд мира пересылает одну и ту же сумму денег. Нам даже официальная бумага пришла из комитета с просьбой как-то отметить данного товарища, наградить. Но мы в дело заглянули, а он — нарушитель… Так что… — И замполит развел руками.
А Нина Андреевна понимающе покачала головою.
— Я ведь до этого был на комсомольской работе, — продолжал замполит, — занимался, можно сказать, тем же — воспитанием. Но только сюда, в ЛТП, перейдя, понял, как много было брака в застойные годы в нашей воспитательной работе! Как много мы делали для «галочки», абы отчитаться, сделать вид, что все хорошо! Ан нет — брак-то всегда выплывет! И за этот наш прошлый брак приходится сейчас расплачиваться. Ведь сейчас даже для женщин мы открываем специальные ЛТП. Женщины вообще спиваются быстрее, страстности, что ли, в них слишком много — два-три года, и спеклась! Ну, это ладно, хоть и ужасно, но ужаснее, Нина Андреевна, что у них ведь дети есть! Если раньше в нашем маленьком городке было две школы для умственно отсталых детей и к нам свозили со всей области, то теперь и для своих не хватает! А это ведь в основном дети родителей-алкоголиков. Ну а они подрастут, сами дадут потомство, а? Ведь уродство генетически закрепится, вот что страшно-то!
Помолчали.
— Да, трудная у вас работа, — сказала Нина Андреевна.
— Вы не поверите! — воскликнул замполит. — Некоторых ведь привозят из такой глуши, что впервые здесь телевизор видят! Черные от грязи, в теплотрассе ночевали, даже вот таких… — Тут замполит неожиданно вскочил, быстро расстегнул китель, скособочился, затрясся, стал натурально похож на человека, выходящего из недельного запоя. Нина Андреевна засмеялась, но глянула на Сашку — лицо его было серьезным и грустным — и свой смех оборвала. Да и замполит уже принял нормальный вид, застегнулся на все пуговицы, сел за стол и продолжал: — В изоляторе такого месяц держим, пока отойдет, а то пошлешь куда-нибудь на работу, а он тебе с крыши свалится. И что интересно — никто не хочет признаться, что он алкоголик. Мы тут недавно ввели в практику записывать на магнитофон выступление родственников, а потом транслируем эти выступления. Кстати, не хотели бы выступить… в назидание… нет? ну-ну… Или вот взять некоторые письма, есть такие, что до слез прошибает… тоже транслируем такие…
— Помогает? — вздохнула Нина Андреевна.
— А как же! Мы все делаем, чтобы пробудить в них какие-то хорошие чувства. И это почти всегда находит благодатный отклик. Мы сделали перед входом в ЛТП детский уголок, видели? Ну так вот, когда приходят жены с детьми, детям есть теперь где поиграть…
Замполит говорил и говорил. О порядках в этом заведении, о городке («небольшой, но история его богатая»), о поле, на котором стоит ЛТП. Поле тоже, оказывается, было историческое. Здесь Дмитрий Донской устраивал смотр войску, перед тем как идти на Куликовскую битву. И это поле, может быть с тех пор еще, называется почему-то Девичье.
— Видно, женщины провожали в бой своих мужчин, — говорил замполит, пожимая узкими плечами, — собралось женщин тогда много, отсюда и название — Девичье, ведь могло же так быть, Нина Андреевна, а? Могло…
Сашке же хотелось поговорить немного с матерью, в каждую паузу он втискивался тихо и торопливо:
— Я, мать, хотел Павлу Константиновичу письмишко накатать, что, значит, как приду отсюда, сразу долг ему отдам.
— Да сиди уж, сиди… отдам без тебя… ты скажи лучше, как ты тут… вообще-то?..
— Да ничего… как все… не тянет, пока не тянет…
— Они тут себя, Нина Андреевна, — хохотнув, продолжал замполит, — считают себя вроде как в армии. Им так легче ждать эти два года. Ведь никто не сознает себя алкоголиком, ведь не сознаешь, а? — спросил он Сашку, и тот отрицательно повертел головой. — Ну вот, — засмеялся замполит, — не считает, большинство полагают, что попали сюда случайно, вот, мол, гад участковый, руки скрутил, сюда доставил. А ведь чтобы сюда доставить, надо и заявление от жены, и от общественности, и от врачей, и от милиции. Есть, конечно, и такие, кто всю жизнь не злоупотреблял, но случилось горе и запил бедняга, ну, месяц пьет, второй, третий… попадает сюда… Процент излечивающихся из таких довольно высок, потому бывает такому достаточно лишь встряхнуться, оглядеться, ужаснуться — да куда же я, братцы вы мои, попал?! Эти и на «спираль» скорее соглашаются.
— Спираль — что это такое? — сказала Нина Андреевна, — а то вокруг говорят, говорят… — И она посмотрела на Сашку.
— А это ампула, Нина Андреевна, внутримышечно вшивается, потом постепенно рассасывается, а в ней специальное вещество, вступающее в реакцию с алкоголем. Летальный исход обеспечен!
Нина Андреевна вдруг обратила внимание, что замполит «летальный исход» произнес если и не с явным удовольствием, то многозначительно как-то. Ему, очевидно, нравилась собственная роль во всем этом, нравились серьезные рассуждения по данной проблеме, нравились ключевые слова этих рассуждений: «борьба», «система», «контингент», а главное, очень нравилось произносить — «летальный исход». И вот, вместо того чтобы с сыном по душам поговорить, приходилось все это выслушивать, делать вид, что интересно.
— Да, — твердо повторил замполит, — летальный исход всем обеспечен. По крайней мере, в первые два года после вшивания этой ампулы, по-французски «эспэраль», поэтому и перекрестили в «спираль».
— А чем же ты в свободное время занимаешься, Сашенька? — спросила Нина Андреевна.
— Ну, чем-чем — в футбол с ребятами можно погонять… у нас же площадка есть своя. Или в библиотеку сходить…
— А вообще-то как тут, а?
— Да, вот хотел бы досрочно попытаться, а с другой стороны, и деньжат бы неплохо скопить… хоть немного… а самое главное, — он как-то испытующе-пронзительно глянул неожиданно в самые ее глаза, у самого ж глаза при этом подозрительно блеснули, — а самое главное, мать, здесь ведь действительно не тянет, нет — без булды! Ну а выйдешь — куда? Опять к магазину…
— Да ведь все от тебя теперь будет зависеть, Саша! — Нина Андреевна болезненно сморщила лицо, понимая, что сейчас говорит с сыном как-то… не очень честно… не до конца честно, а словно бы с позиции строгого замполита или не менее строгой общественности, которая помогла Людке-врушке упрятать мужика на два года за колючую проволоку. Конечно, не совсем то она сейчас говорила, но только эти подозрительно блеснувшие Сашкины глаза наполнили ее душу такой тягостью, что она с неподдельною страстью продолжала: — Да пойми ты, Саша! Теперь все будет зависеть только от тебя, от одного лишь тебя! Вон ты говоришь, что и здесь желающие ухитряются пить. Как же так! Как же так можно-то, господи…
— Ну, как-как… — неохотно стал объяснять Сашка, вяло говорил, уныло. — Привезут нас, скажем, на работу, а там уже ребята соображают, стакан тебе поднесут, ну и готов! Или самому загнать что-то можно: валенки, ватник — вот тебе и еще стакан. Я-то не пью, нет-нет, — торопливым шепотом, словно оправдываясь, говорил он, глядя на замполита, — не тянет, нет, честно, мать, совсем не тянет… без дураков!
…Нина Андреевна слышит, как за спиной захлопываются запоры один за другим. Опять видит Девичье поле перед собою. Женщин с сумками, бредущих к ЛТП. Века сменяются веками, а по Девичьему полю всё женщины, всё женщины скорбные идут, и души у них болят, слезами за своих родных обливаются.
* * *
Возвращается Нина Андреевна из ЛТП. Автобус битком. Сидит она у окошечка, о Сашке своем думает, разговоры слушает.
— …А я тебе говорю — будет хуже! Вот послушай анекдот, оч-чень у нас в ЛТП был популярный, скрашивал, так сказать, безрадостные наши будни в течение двух лет. Будешь слушать?
— Давай… дорога дальняя…
— Так вот, приезжает куда-то там один уполномоченный… ну вот вроде тебя, радеющего о пьянстве…
— О трезвости, не путай.
— А-а… один черт! Так вот, приехал, собрал мужиков и говорит: «Ну всё, братцы, погужевались — а теперь искоренять будем пьянство! Всем миром искоренять!» — «Ну что ж, — один мужик ему говорит, — дело хорошее, но только скажи ты нам, мил человек, неужто ж ничего не будет — ни водки, ни вина?!» — «Ничего не будет, — уполномоченный отвечает, — ни водки, ни вина!» — «Ну, хоть пиво-то человеку оставите?» — мужичок интересуется. «Не оставим! — тот отвечает. — Искоренять так уж искоренять! Ничего вам, пропойцы, не оставим!» — «Ну а скажи ты, к примеру, — мужик тот настырный не отстает, — ежели сын у меня родится? Неужели я рюмки не приму?» — «Лимонаду, — тот отвечает, — хоть ведро. А рюмки — ни-ни!» — «Ну хорошо, а если у меня брат помер или, скажем, кореш, с кем войну прошел, одной шинелью укрывался. Неужто и на помин его души не выпью?!» — «Все равно, — уполномоченный на своем стоит, — закон есть закон, на все случаи жизни — искоренять! Всем миром!» — «Ну так вот что я тебе скажу, мил человек, ни хрена у тебя не получится! Как пили, так и пить будем! Не будет в ваших магазинах — сами гнать будем! Да я первый, — бьет себя в грудь, — гнать буду!» — «А мы тебя выловим тогда и упрячем, — говорит уполномоченный, — в ЛТП на два года упрячем», — «Меня упрячете — сын будет гнать!» — «А мы и сына выловим! Выловим и упрячем! На два года!» — «Сына упрячете, — мужик не сдается, такой уж настырный, — сына упрячете, нас внук наш заменит, внук гнать будет, и все равно не искорените!» — «А мы и внука, и внука, — уполномоченный тоже настырный попался, — цап-царап! И в ЛТП, на два года. Что — съел?!» А тот мужик спокойненько так и отвечает: «А ведь все равно у вас ничего не получится». — «Это почему же, — злорадно уполномоченный ухмыляется, — когда мы и внука — цоп! — и в ЛТП». — «А потому, — мужик отвечает, — что к тому времени уже я освобожусь и выйду!» Вот такой анекдот. Чего смеешься? Я, грит, к тому времени выйду, и все равно не искоренишь, а? Во-о анекдот!
— Да, хороший анекдот. Ну, бывай, мне выходить.
— Бывай, бывай… Сказка ложь, брат, да в ней намек, а?.. Уп-пал-намоченный… намоченный…
13. ПОЛКОВНИК СЛЕГ
Полковник переживал за Сашку. Ослаб. Сначала думал полежать, отдохнуть от всех волнений, а потом и дальше жить как-то. Он и правда через неделю себя пересилил, встал-таки, собрался, вышел на улицу и даже до сквера дошел. Только хотел было присесть на лавочку, дыхание успокоить — товарищ Мурасеев с обеда идет. Полковника увидел, портфелем взмахнул:
— Здравия желаю, товарищ полковник!
— Как жизнь? — спросил полковник.
— Жизнь бьет ключом, — заверил товарищ Мурасеев.
Они не спеша шли вдоль ограды, окружающей автостоянку, товарищ Мурасеев с удовлетворением обозревал ее. Тут он увидел чей-то «Москвич» у смотровой ямы и закричал:
— Ну кто ж так разворачивается! — и даже помахал кулаком, после чего владелец «Москвича», чтоб не дразнить начальство, быстро укатил. — Э-эх, — вслед ему вздохнул товарищ Мурасеев, — учить и учить вас надо… деревня олимпийская!
— Ну а вообще — как оно, все это? — кивнул полковник на стоянку.
— Дела идут. Дела идут, Павел Константинович. Слышали, наша районная хозрасчетная больница взяла обязательство — лечить бесплатно раненых афганцев. Мы на общем собрании работников платной стоянки номер один также приняли решение — выделяем десять процентов мест для афганцев… без всякой очереди. Мы ведь у них, Павел Константинович, в неоплатном долгу. И поэтому все мы должны разделить вину по-братски.
— Я их туда не посылал.
— Нет-нет, мы все за это отвечаем.
— Ну нет, я отвечаю лишь за своих, кого лично я на смерть посылал… сорок с лишним лет тому назад, вот за них готов ответить, если спросят. А с этими, сегодняшними, пусть отвечает тот, кто посылал. За чужую спину прятаться нечего.
— Да я-то, Павел Константинович, их тоже не посылал, у меня вот — стояночка, лично мною созданная, в невероятное время застоя, прообраз, так сказать, сегодняшней нормальной жизни.
— Нормальной?
— Н-ну… почти… есть, конечно, кой-какие шероховатости…
— А все-таки…
— Да так… мелочевка… ну, взялись, скажем, мы стояночку к празднику украсить… лозунгом, как раньше, и… споткнулись — что писать? Придем к победе коммунистического труда?
— Только вам, частникам, о коммунизме и заикаться!
— Вот-вот, «Придем к победе социалистического труда»? — тоже как-то… не того… «кооперативного»? — и того хуже.
— Да-а… тяжелое положение…
— Но ведь правда же, Павел Константинович, раньше — куда ни глянь — нас к светлому будущему призывали. А теперь этих лозунгов днем с огнем не сыщешь! И правильно — светлое будущее… ха-ха… А между тем целые народы в то светлое будущее со своих земель изгонялись… немцы, крымские татары… геноцид… ну что, что, Павел Константинович, хуже геноцида в отношении отдельных народов?
— Что хуже геноцида в отношении отдельных народов?
— Ну да, ну да.
— Хуже геноцид в отношении всей страны… что сейчас и происходит.
— Это вы экологию, что ли, в виду имеете?
— Да — экоцид! С помощью химии, физики, радиации планомерно и вполне научно уничтожается сам генотип нашего человека, военком недавно выступал, да вы же сами слышали, с каждым годом все труднее набрать в армию полноценное поколение — вырождается! Буквально вырождается! Фи-зи-чес-ки! Не говорю уже обо всем остальном… преступность молодежи в два раза подпрыгнула, а-а… что там говорить!
— Но ведь репрессии были, Павел Константинович, и от этого…
— Да. Были. И от этого никуда не деться. Но ведь репрессии были и в Китае. Не уступающие нашим. И все же мудрая страна — Китай! На высшем партийном кворуме определила соотношение позитивных дел и ошибок как семьдесят к тридцати… в пользу Мао! Не пора ли и нам определиться все же со Сталиным?
— Я-то с вами согласен, Павел Константинович, я ему не могу лишь простить «светлого будущего», помните — повсюду были вывески, «светлое будущее», «светлое будущее» — ха-ха-ха… нету их больше!
— Да, теперь повсюду вывески о платных туалетах…
— А чем плохо, чем плохо, дорогой Павел Константинович! Зайдешь — шик, блеск, чистота… и, все за какие-то копейки, тут тебе и одеколончик, тут тебе и бумажка… пустяк, а приятно…
— Послушайте, неужели платные туалеты действительно стоят того, чтоб о них с таким воодушевлением, с такой страстью… ведь вы же русский человек, товарищ Мурасеев! Воевали. Вы где воевали?
— Видите ли, Павел Константинович, я, собственно… э-э-э…
— Понятно… ну тогда действительно вот оно… ваше кровное. — И, презрительно махнув на стоянку, полковник зашагал дальше.
Мурасеев, невольно проследив, куда махнул полковник, а взмах пришелся в сторону западного сектора, задрожал: ведь третий месяц там, под спаренными боксами, исправно работал небольшой заводик по копчению дефицитной рыбки.
Полковника встреча с Мурасеевым почему-то так расстроила, что, едва домой добравшись, слег он и уже не вставал. Правда, про себя считал, что всегда сможет встать… если захочет… А пока лежал, грел руки о трубу парового отопления. Нина Андреевна забегала утром перед работой, в обед заглядывала, а потом уж надолго вечером приходила. А полковник почти все время лежал. Изредка, за трубу подтянувшись, сядет, в окно посмотрит. Еще реже — встанет, пойдет куда-нибудь, в туалет, на кухню или в ванную. За стеной целыми днями магнитофон играл. Когда замолкал, были слышны звуки за окном, особенно резкие, когда проникали в это тепло-дряблое, что обволакивало теперь полковника со всех сторон, — одеяла, грелки, подушки. «Все это оттого, — вяло думалось ему, — что я никак не настроюсь на их мир молодежный, у них и мечта другая, и песни другие…» Он выныривал из-под одеяла и тут же слышал завывание из-за стены: «В Париж пустите нашу Дуньку — в Париж, в Париж, в Париж…» — «Тьфу!» — плевался и опять нырял под одеяло, в душе корячилось, корчилось что-то безобразное, и опять перед внутренним взором вставали акселераты, моющиеся в бане, со знанием дела вскидывающие длинные волосы, укладывающие их вполне по-женски на полненькой спине. И вообще со стороны спины, со стороны зада, узких плеч, густых женских волос — все это уже не раз им ощущалось какой-то тревожной бесполостью. И в одетых в них это было, было, когда не сразу разберешь, кто ж перед тобой: мужик или баба. Ну а в бане особенно удручало. Вздрогнет, бывало, полковник, узрев в забывчивости перед собою длинные женские волосы и откормленный зад. «Тьфу-ты!» — содрогнется гадливо… Сейчас же, из-под одеяла, вся жизнь за окном чем-то вроде этого видится. Новое качество — бесполость, где все возможно, все объяснимо, допустимо все — любой разврат и непотребство. И во что же выльется этот осатанелый разврат! Не хочется полковнику и вставать, не хочется и глаз открывать. Но и с закрытыми глазами видит он бесконечные белые стены кооперативных гаражей, исписанных непонятно: «Да здравствует СПИД!», «Мафия — я тебя люблю!», «Голые — обслуживаются вне очереди!» А собственно, чего же хочет он сейчас, больной и старый, чего же он хочет сейчас больше всего? Вскочил, одеяло сбросил, моргает в белесых сумерках глазами, вглядывается в себя, перебирает там в себе сурово все и не находит в конце концов ничего, кроме: «Хочу, чтобы про Раю сказали — у нее отец не сдался до конца!» Где-то там, вдали, на сером сумеречном фоне словно бы кто-то перед ним назойливо размахивал флажком, на котором написано «банально», но полковник грозно сдвинул брови, ибо знал теперь наверняка о присутствии в круге малом обязательно круга большого, пусть и незаметного. Так в земной орбите есть обязательное движение Солнца своим большим и солнечным путем.
На журнальном столике последний диагноз, уже настолько безнадежный, что уже и смысла в нем нет никакого. Сегодняшняя почта: газеты, журналы, письма никакого нет. За окном сумерки, пылевидный дождь, мокрые голуби на балконе. И вставал тогда полковник, тяжело опираясь на палку, шел, за предметы придерживаясь, на кухню, садился на табуретку, в окно глядел. Но глаза скоро слезились, взор туманился, все убегало, сливалось со влагою в глазах… Все тихо разбегалось по своим делам. Голова никла, плечи опускались, дышалось все незаметнее. С трудом догонял мысль, с которой шел на кухню: «Замерз, надо газ включить». Рука долго хлопала по подоконнику, приоткрывшийся глаз плохо помогал, но коробок сам попадался, тарахтел, жестко, приятно мялся, покалывал озябшую ладонь. Спичкой чиркал долго. Самому казалось, что мог бы и почетче чиркнуть, поточнее, но думал — и так сойдет. Газ загорелся или нет — не видно, руку жжет — значит, горит. Другую горелку зажжет и стоит между плитой и табуреткой. Чайник, что ли, поставить? Чтоб зря не горело. Пить не хочется. Кипятку разве что… А какой раньше крепкий чай пил! Или кофе! А вот теперь организм лишь чистую воду принимает. Всё — отслужил вчистую.
Нигде особо и не болело. Отболело все, истончилось, силы ушли: ни на чай, ни на боль не осталось… Потрогал языком зуб — шатается, а боли нет. Посильнее покачал — так, издали густо погудела, как ночной паровоз из-за леса, и опять все тихо… Тихо, сумерки, дождь по крыше… сеновал, теплый запах сена, овчины… как хорошо тогда повернуться на другой бок, закутаться в полушубок и спать: сладко-сладко, крепко-крепко… а спички в войну совсем не такие были, на тонкой фанере, отщипнешь одну, чиркнешь — так ярко горит… Никак задремал?.. С трудом поднял полковник голову с рук, лежащих на подоконнике, вытер рот и осторожно откашлялся. Так же осторожно, с остановками, с отдыхом, можно одеться, спуститься на лифте, через двор перебраться и очутиться там, где ждут его давно, рады будут, где его место, — раз уж все так сложилось, раз уж все к тому идет… Уютно в квартире Нины Андреевны, даже чайник закипает там мягко, мелодично, ходики тикают с кукушкой, занавески с цветочками, половички чистые, теплые, герань на подоконнике, низкий абажур над круглым столом, расписная скатерть… И речи Нины Андреевны — как раскачивающееся на дереве гнездо в непогоду, тепло, уютно… И руки у нее мягкие, добрые… «Я похож на пловца, — думал, грея руки над газом, — на пловца, который плывет, не видя земли, иногда лишь чувствуя отмель посреди моря, — думал он так, и вставало все четче лицо Нины Андреевны. — Но отмель для жизни не годится…» Ну а дальний берег, где, может быть, все ждет его верная Надя… Да, так ведь и не вышла замуж… ох-хо-хо… Все это непросто… и потом… Потом… что-то изменилось ведь и в самой Нине Андреевне за последнее время… Или это уж так кажется полковнику? Недавно ворвалась — плакала, обнимала, целовала… н-да… прощалась уже или… прощения просила… за что? — непонятно. Что-то у нее с глазами произошло? Нет, глаза как будто те же. С щеками? С губами? Ртом, может быть? Хотя как рот может быть другим? Полковник со вздохом пожал плечами, зажег свет и, увидев на подоконнике книжку Нины Андреевны, взял ее. С год тому назад уже как принесла, просила прочитать. Все еще напряженно определяя, что же все-таки произошло с Ниной Андреевной, открыл наугад, загадав: — Ну-ка, ну-ка…» — и тут же, испугавшись, отбросил. Сразу засосало внизу живота, в груди похолодело, пришлось лечь в постель. Но книжку взял опять, нашел страницу и решительно далее прочел:
«Но теряя этот мир внешности и проявления, мы видим себя стоящими перед чем-то иным, что, как находим мы, должно лежать в основе всех этих изменчивых форм и явлений. Это нечто мы называем истинной реальностью, ибо лишь оно реально и постоянно. Высший разум человека, так же как и самая глубокая его интуиция, всегда говорили ему, что эта реальность, или лежащее в основе всего Существо должно быть Едино и что вся природа и человек тоже представляют из себя лишь различные формы проявлений, эманации или выражений этого единого начала. Конечно, нет имени, которое могло бы описать Единого…»
«Описать Единого…» — с улыбкой повторил полковник, тихо складывая книгу на груди. Полковник улыбался, порозовел, потеплел.
Если б не лицо, с годами все более похожее на лицо Тютчева, можно было бы сказать, что полковник улыбался, как мальчик девяти лет… Где-то среди угнетающих разногласий, проверок и перепроверок, душевных спазмов и невнятиц вдруг посетило полковника одно из немногих сохранившихся в нем видений. Пришла очередь и этому… Такое умиротворенное ощущение было в полковнике, когда с улыбкой переворачивался на спину, тихо складывал руки на груди, — пришла очередь. Сеновал, полумрак, льющийся через все щели июльский свет. К кому, зачем приезжала в деревню эта девочка, сейчас, конечно, не вспомнить. Также не знает он ни имени ее, ни фамилии. По-видимому, это подруга сестры, иначе чем объяснить, что они втроем на сеновале. Лет шесть-семь ей. Совершенно стерлись черты, наверное, смугла была, глаза блестящие. Сейчас ему кажется, что, дотронься тогда до нее, кожу бы почувствовал более горячую, чем у сестры, — вот на чем держится это ощущение, что смугла, черноглаза она. Но это все неважно, а важно то, что смешлива ужасно. На каждое его слово заливается, в хохоте заходится до слез, откидывается на спину, совсем обессилев от смеха. И однажды вдруг увидел, что голубые ее трусики стали мокрыми, вот до чего досмеялась. Самой вдруг стало от этого не по себе, смеяться даже перестала. Правда, ненадолго — возраст. Теперь уж задачей стало смешить ее всякий раз до тех пор, пока не дрогнет что-то на лице, стушуется, смешается, спохватится, сомкнет колени, юбку натянет на них… Прямо наизнанку выворачивался, помнится. Чтоб еще и еще раз испытать… предвосхищение чего-то — этого «без пяти минут до чего-то».
Почему же сейчас старый, дряхлый и больной, все испытавший, улыбается тихо полковник… Нет, это, взяв книгу уже, читает он дальше с той же тихой улыбкой:
«Конечно, нет имени, которое могло описать Единого. Мы будем употреблять термин «Абсолют»… но читатель может заменить его другими словами, если найдет другое слово более подходящим…»
«Праздник? — подумалось ему, вспомнившему вдруг Елену Николаевну. — Можно и так — праздник». На праздники Нина Андреевна помогает ему побриться, надеть свежую рубаху, уже с утра печет его любимый пирог с капустой, они усаживаются за стол, проигрыватель играет… «Вот, — говорит Нина Андреевна, — слава Богу, и Октябрьские прошли, а там, не успеешь оглянуться, тут тебе и Новый год… а там и Восьмое марта…» — «А День Красной Армии?» — «Ой! — всплеснет руками Нина Андреевна. — Как же я так опростоволосилась…» Теперь полковник живет ожиданием праздников, ему почему-то кажется, что в праздник не умирают.
Но то календарные праздники — придут и уйдут в свое время. А этот, с сеновалом, с жарким июльским полднем, со сладостью незавершенности, во власти которой весь еще полковник, — откуда этот-то праздник нечаянный?! Кто это, и живущий в полковнике, и не подчиняющийся ему, подбрасывает щедрою рукою праздники такие? Жена Надя вспомнилась опять, кожа, запах волос, дыхание, совсем не слышное на вздохе… Дочь Рая предстала… но почему-то совсем раздетая, от жены в отличие, жена — знал — старая уже, за шестьдесят давно. Полковник поразился, что дочь такая взрослая. Правда, дочь, как всегда, прекрасная, но все же… такая вся взрослая. Постепенно удивление уступило место отцовской гордости. Какая дочь! Наверное, давно уже и сын родился, внук его…
* * *
Рая вела из школы сына. Они шли, взявшись за руки, засунув их, соединенные, в карман ее драпового пальто. Рая несла портфель. Игорек — сатиновый мешок со сменной обувью. Они шли по дорожке парка.
— А-а-а! Ворона! Какая красивая, правда?!
— Да.
— А правда, изредка встречаются отметки шестерки и семерки?
— Да ты что!
— Правда, правда! Одному мальчику у нас в школе… в шестом классе поставили… семерку.
— Ну-у!
— Мухтарчик, Мухтарчик, бедненький… — Вырвал руку, подбежал, гладит, пес от удовольствия лег на спину, подставил темно-розовый в крапинку живот.
— А раньше ты собак боялся.
— Игорек! — кричит девочка из соседнего дома, за которой идет сибирский кот.
— Игорек! Игорек! — сразу двое тут подбежали.
— Что? — спрашивает их Рая. — А?
Пожали плечами и дальше пошли своею дорогой. О полузабытых приятностях собственного детства вспоминает Рая, но надо спешить — ведь им с Игорьком через час в музыкальную школу.
— Мама! — кричит она уже с порога. — Покорми Игорька, пока я ноты отыщу.
— Вон пап Коля — пусть покормит!
Баба Вера, шаркая по полу старыми валенками, появилась из маленькой комнаты, ставит на газ чайник, котлеты разогревает…
— Верховой в окно стукнул, — журчит ее речь, как тихая речка, — чтоб к одиннадцати часам… на Павелецкий вокзал… Вот тебе и белье. Петя с работы пришел: «Мать, — говорит, — собери-ка белье». Я: «Да ты никак в баню!» Так недавно ж вроде был… Года четыре с фронта не было… — загибает пальцы. — Да, четыре…
Игорек, покачивая ножками, слушает, потом кричит:
— Баб Вера, а котлеты-то!
— Горят никак! — Баба Вера выключает газ, накрывает котлеты, прислушивается, принюхивается — не дошла ли гарь до большой комнаты, слава богу, вроде нет. — …Потом открытку прислал… ранен, значит. Приезжаю на Третью Мещанскую, там госпиталь… Кормили их там неплохо… у нас голод начался, крапиву ели…
— Ну-у… — недовольно морщится Игорек. — Опять эти противные котлеты!
И тут же звонок, дочь Оля пришла из школы.
— Пятерка по биологии! — и с грохотом на пол летит дипломат. — Есть хочу! Что у нас сегодня?
— Жареное мясо… нет, кажется, котлеты… — говорит папа и силится вспомнить, выключил ли он газ, когда подогревал чайник. — Да, котлеты… и вермишель. Сама накладывай. Суп будешь?
— Не-а… кролик не подох?
Дочь заглядывает в ванную комнату, где в ящике кролик, вернее, черно-бурая крольчиха. Что-то в последнее время приболела в сарае, и Ольга перетащила ее в квартиру. В связи с морозами таким же образом в ванной комнате на днях оказались японские петушок и курочка, в коридоре в ящике — второй кролик, который чувствует себя прекрасно, но Ольга и его на всякий случай перетащила из сарая. Два постоянных члена семьи: кошка Мурка и неопределенной породы собака Дина потеснились, а вообще-то вполне доброжелательно встретили пришельцев из сарая. Черно-бурая крольчиха сперва пластом лежала, потом стала вздрагивать, то есть реагировать, потом есть стала, на лапы вставать, стала крепнуть не по дням, а по часам. И японский петушок дня через два уже пришел в себя после морозов в сарае, где гребень у него обморозился, — сперва хрипловато и неуверенно стал напевать по утрам, а теперь поет все лучше и лучше. Будит на работу, ведь будильник барахлит, а в починку отдать его никак не соберутся. Баба Вера рада живности, целый день разговаривает — есть ей теперь с кем. Ну а Надежда Алексеевна рукой махнула. Она ведь уже думала о квартире, которую ей обещали дать.
Пообедав, Ольга украшает комнату к Новому году. До Нового года еще далеко, но ей-то уже не терпится. Развесила гирлянды, фонарики, дождь. Теперь ей хочется разрисовать окна белой зубной пастой, как в прошлом году. Но вот беда — рисует она не очень!
— Пап, — вкрадчивым голоском просит она, — пап, я же пятерочку по биологии получила.
— Ну, — настораживается папа.
— Нарисуй мне за пятерочку хотя бы одну маленькую бабку-ежку.
Папа возмущен, у него и так много разных дел! А главное, с этим замерзшим зверьем теперь не квартира, а зверинец! В ванную не войдешь! От кроликов вонь! И лестницу мыть пришла их очередь! Да и вообще…
Но в конце концов, прихрамывая на примороженные пятки, идет он со скептической миной на лице в комнату детей. И видит, что там одно окно проморожено сильнее других, и вспоминает, что выбито одно стекло и вот вставить бы давно пора, да руки не доходят. Он шумно вздыхает, но дочь уже сует в руки кисточку:
— Одну ма-а-ленькую-премаленькую бабку-ежку!
И папа, взлохматив остатки волос, рисует в профиль Бабу Ягу, летящую в ступе с метлой. Смеется у него за спиной счастливая Ольга. Потом он рисует месяц и на нем чертенка, правда, больше похожего на поросенка, который зачем-то поднял руку вверх, словно приветствуя пролетающую над ним Бабу Ягу.
— Давай нарисуем в руках у него плакатик — ограбим Деда Мороза! — предлагает Ольга.
И папа рисует плакат и надпись: «Ограбим деда!» Дальше не вошло, но и так ведь понятно, какого такого деда. Тут как раз входит мама.
— Убрать, убрать! — машет руками. — И чтобы никаких мне в новогоднюю ночь чертей!
— Ну хотя бы кикимору! — просит Ольга. — Я ж по биологии пять получила.
В конце концов на кикимору мама соглашается. Как приложение к кикиморе Ольга выпрашивает болото и камыши. Потом садятся ужинать, пить чай, бросать сладкие кусочки многочисленному зверью, что их окружает.
Взрослые уже все в сборе. Чай пьют на кухне и, конечно, говорят о хозрасчете, гласности, сокращении армии и Продовольственной программе, землетрясениях, авариях, конкурсах красоты, росте преступности.
В смутной тревоге идущих, видимо, а тем более грядущих перемен Надежда Алексеевна раздраженно бросает:
— И Павел давно не пишет что-то. Совсем перестал писать.
— Живой ли? — вздыхает баба Вера.
— Был бы живой, — подхватывается Надежда Алексеевна неожиданной мыслью, — был бы живой — написал бы.
— Может, болеет еще.
— Нет, мама, — твердо говорит Надежда Алексеевна, укрепляясь в жесткой мысли, — Был бы живой — написал бы.
Рая странно поглядела на мать. В душе ее на секунду-другую что-то оборвалось, улетело. Рая и рассмотреть не успела. Тем более Надежда Алексеевна уже резко поворачивает разговор на другое.
— Я заметила, — говорит она, — как проведем испытания, так через два дня землетрясение.
— Да не в этом, мама, дело… — Рае хочется с матерью спорить.
— А тебе лишь бы с матерью спорить. Сколько тебе говорила — учебу не бросай! Сейчас бы с дипломом работала… А то стишки все пишешь. Гору написала, а кому они нужны? Место только занимают.
Рая промолчала и опять странно на мать глянула.
Продолжается разговор. Четыре поколения за столом, у каждого свое мнение. Надежда Алексеевна то и дело вскрикивает грозно:
— Цыц, Ольга! Язык прикуси о таких вещах рассуждать!
Или:
— А ты вообще, Игорек, от горшка два вершка, а туда же! Спать давно пора… Ну, приговорили, ну, расстреляли за наркотики, так это чтоб другим неповадно было. И у нас так надо! Чтоб сохранить большое — малым надо жертвовать всегда.
В конце концов она соглашается со всеми в том, что время неспокойное и неизвестно еще, чем все это кончится, и идет на лестничную площадку курить.
— Ну а ты, баба Вера, чего же ты все молчишь? — спрашивает Рая.
— Дай бог здоровья Михаилу… Дай-то бог. Только… жалко мне его… и все боязно как-то.
— А чего за него бояться — у него охраны знаешь сколько!
— Да и сама не пойму, а только гляну, как он выступает по телевизору, и чего-то боязно за него на душе сделается. Осунулся, похудел, трудно ему, ой трудно… Вот и Павел Константинович не пишет…
К полуночи разошлись все по своим местам.
Рая, детей уложив, сидит у ночника — пишет стихотворение. Оставим ее на время. И потом подойдем и посмотрим, что же у нее получилось. Вот оно, на серой бумаге, переписанное уже начисто:
От дерева упало далеко На землю семя — и росло, вставало. А дерево во снах своих видало, Как в юных снах летается легко. Как долго шло моление твое По звуками забитому эфиру! О, если бы к тебе лететь на крыльях, Поняв то одиночество твое. Как шум волны от моря вдалеке. Волна ушла, она уже пропала. И что-то так пронзительно сказала, Но только нет ни знака на песке. Отец! Как будто толстое стекло, Прозрачно время. Не достать рукою. И ты за ним со всей своей бедою Встречаешь солнца первое тепло. И я за ним — тем стынущим стеклом — Топчу тропинки длинные, лесные. А сердце, исключая все входные, Шлет собственные позывные в мир кругом.Баба Вера еще сидела на кухне, клевала носом. И вдруг вспомнила — завтра же праздник большой, в церковь пойдет. Она бегом прошмурыгала в коридор к книжной полке, взяла там два листочка бумаги и карандаш, вернулась на кухню и стала писать печатными буквами. На одном: «За упокой. Воина Николая, воина Петра, воина Алексея, Ефросинью, девицу Параскеву и всех сродников». На другом: «За здравие. Надежду, Раису, отроковицу Ольгу, отрока Игоря, воина Павла и всех сродников». Сложила листочки, сунула под клеенку и отправилась в свою комнату. Перекрестившись на икону, легла и глаза закрыла. Но только не спалось, ворочалась, вздыхала, думала о том, что же будет теперь. Думала о том, как жилось раньше. И вспомнила она тот день, когда умер Сталин.
У них в бараке тогда поминки устроили. Настя-вдова, Володя-кривой, Ксюша, баба Фрося собрались в большой комнате. У кого? Ах да… как сейчас помнит, собрались в пристройке, которую как раз тогда закончил Володя-кривой. Огромная комната, стены еще не оклеены, не обжита, сумрачна, холодна. Но почему-то сразу все почувствовали, что именно здесь и надо справлять поминки. И народ войдет весь, и вообще… надо, чтобы вот так тут и было — строго, казенно, чисто, сумрачно. Мужики сходили в магазин за вином, женщины стали сносить со всего барака у кого что есть. Три стола сдвинули в один, уселись. «Ну, — сказали, — пусть земля ему будет пухом!» Выпили не чокаясь. И как-то задумались: вот ведь какой великий человек, а ведь умер, как и все. «Ну, — сказали еще раз, — пусть земля ему будет пухом!» Выпили не чокаясь. Вытерли слезы те, у кого всегда они близко. Хорошо закусили. И выпили еще… Потом кто-то грустную песню затянул, поддержали. Потом кто-то запел не очень грустную, поддержали и этого. Потом веселую запели. А через час или два опомнились: «Да что же это такое — веселимся и поем, пляшем и смеемся, чай, поминки все-таки у нас… вообще если узнают, то и посадить могут». «Ну, — тогда серьезно сказали, — пусть земля ему будет пухом! Отмучился…» И выпили еще. И многие, многие, да почти что все за этим длинным столом вытирали глаза, вспомнив своих рано так умерших…
И все же было по-настоящему жаль его тогда. Как и любого только что умершего человека. Отмучился.
Конечно, нельзя сказать, что баба Вера тогда не знала ничего того, о чем будут так много говорить сегодня. Говорили уже и тогда, понятно, что не так открыто, громко, а больше шепотком, на ухо, и то самым близким, самым верным: «Взяли… десять лет без права переписки… к расстрелу!..» И поскольку все, что ни происходило тогда в стране — хорошего-плохого, — так или иначе в ее сознании связывалось с этим главным именем, то последующие разоблачения мало что изменили в бабе Вере. Она отдавала ему право и казнить, и миловать, ведь не обижаются же люди на природу, несущую им не только солнышко и зеленую травку, но и мор, и чуму, и землетрясения… И когда умер, жалела, как и всякого человека.
Она встала с кровати и отправилась опять на кухню. Достала из-под клеенки листочки свои и в том, что «за упокой», дописала крупными буквами Иосифа, а в том, что «за здравие», — Михаила. И, успокоившись, пошла спать.
* * *
Опять он вчитывается с пристальностью в книгу. Пристальность оборачивается рассеянностью. Близко ходит умная книга, а все вокруг да около. «Куда же я-то денусь? — с тоскою думал, глядя на руку, выпустившую книгу, на муху глядя, ползущую по занавеске, — гроб, если дубовый, да грунт песчаный — лет двадцать выдержит… Вспомнилось, как давно, еще в деревне, копали могилу и наткнулись на старый гроб, истлел весь, а вот цветы восковые, сверху лежали, — свежие, словно вчера положили. Стянув рукав, смотрит на кожу, вены, сухожилия, выцветшие пятна пигментации. Полулежит, опираясь на локоть, голова заметно трясется. — Прах, — бормочет, — прах, прах, вот именно, прах…» И в желтоватое лицо его добавляется сверкание желтых коронок, блеск натянувшихся губ. Слезящийся взор бродит где-то за окном, за пеленой дождя, сумерек, времени, которое отделилось наконец от пространства — стало видимым, как выжженное сухое поле, все в черных дырках. Сколько невидящих глаз теперь его хватало — столько черных дыр на этом поле. Р-раз! — сестра Катюша. Два! — Ванька-братишка. Три! — дружок закадычный… Отец, мать, дед… товарищи военных лет — Васька Панков, Степка Мотыль… на полшага обогнал, принял чужую пулю… И каждый, как и полковник, чем-то от других отличался. Кто голос имел хороший, кто на баяне играл, тот рубахой-парнем был, этот с хитрецой, силач один, другой вынослив. Серегин Коля тоже сделал что-то важное для полковника, мог бы вспомнить, если б захотел… Сейчас каждый жил перед прищуром полковничьего взора: пел, играл на баяне, любил… Еще дымились те воронки, запах гари ощущался, стук капающих капель, дальний стон… Усталостью, отрицанием сегодняшнего дня в одном полковнике доживают те черные дыры. Как собственные его шрамы, раны, которые кончат болеть теперь лишь вместе с ним.
Такой отточенной сложнейшей системой сейчас являлся каждый перед полковником! С собственными принципами и с общими законами бытия, с причинно-следственной связью, с пересечением многочисленных орбит: войны, любви, отцовства, гражданства, — да мало ли еще каких орбит, физиологии, скажем, или вдохновения. Был в каждом мир озарений, нелепостей, счастья, отчаяния, падений, взлетов, мир автономный, как планета или как звезда, — и вот черная дыра… Как последнее открытие астрофизиков — вся вселенная в черных дырах. И дыры те молчат, и никак не удается объяснить их неуютность, неприкаянность в этой домашней, в общем-то, по-своему вселенной. Что-то со Временем как будто происходит в этих дырах, кажется, оно в них и вовсе-то отсутствует. Так странно… «Может быть, и я, — думалось странно, — и я какое-то лишь время буду ничего не чувствовать, не думать, не осознавать — будет на моем месте черная дыра. А потом, через миллион или миллиард лет (да неважно — можно и через десять миллиардов!), я вновь засуществую… Как и Катюша, может быть… Только-только ведь жить начинала… Как Васька Панков… а Степа Мотыль, еще ведь и Васьки моложе — лет девятнадцати… Все, все имеют право в жизнь вернуться. Должны, иначе ж несправедливо…»
Тут мысли вольные, славные понесли его. Безудержные мысли о себе, а значит, о близких, о друзьях-товарищах, о братстве военном, о стране великой… Что ж — смерть не менее непонятна, чем родная дочь, чем нация, народ или конкретный вождь этого народа. Все это великие надчеловеческие понятия. Несмотря на многочисленные рассуждения всяких там умников. Все это есть, было и будет. Ну а за смыслом не гонись — слабо тебе, самодовлеющее сознание, самодовольное мышление. А надо просто однажды перестать думать обо всем этом, и… тебя понесет, понесет… как в половодье на льдине, дух захватывает… И вот уже сам он как бы на ноги встает, опять с указкой перед макетом в академии, опять конкретен, логичен, насмешливо-педантичен… «Ну, десять миллиардов — это уж слишком, — поправляет он логикой себя, — Земля из раскаленной магмы, если верить уважаемому Отто Юльевичу Шмидту, — до гомо сапиенс добралась. Ну а я… гм… хм… через прах, хе-хе-с… — И кромешной желточной улыбкой воспалилось его лицо. — Через прах, значит! — фистулой вырвалось из него неожиданно, и он зажал рукою рот. — Ну, ну, ну. — За газовой плитой на кухне началось опять слабое прерывистое гудение, похожее на вздохи — где-то, по-видимому, вентиляция не отрегулирована как надо. — Через перегной, траву, деревья, животных… возможно, через рыб сначала… ах нет, сперва через инертный газ, неон, аргон… потом уж через рыб, животных… И все же… и все же не в пример быстрее, чем через десять миллиардов лет… сюда, сюда (руки царапали подоконник, полковник тяжело дышал), сюда, сюда… я должен обязательно вернуться. Эдак, скорей всего, миллиарда через полтора, через два, пожалуй! Да, через два, чтоб быть уже уверенным наверняка. Вот так, а не через десять! Через два. Не в пример быстрее. «Не в пример», как, помнится, говорил деревенский цыган, ворованная лошадь дешевле покупной окажется! Ага! Ага! — обрадовался он непонятно чему, то ли тому, что два миллиарда это не десять, или тому, что ясно вспомнил про цыгана. Карпо — цыгана звали. И это обрадованно вспомнилось… — И все же, — говорит он, успокоившись, спустя минуту, — что тебе, полковник, мешает сделать свой последний шаг?
Наверное, — отвечает, потомив себя на задержке дыхания, — наверное, то, что никак не могу я понять чего-то, а без этого понимания так тосклив, так невозможен мой последний шаг. — Ему кажется, что опустись он еще чуть глубже, и все поймется само собой. Но, напрягаясь, попадал уже в такой застой мысли, что чувствовал лишь собственную височную кость по линии переносицы — висок. И вокруг этой линии курится что-то вроде витания, дымок перегоревшей мысли. Потом сквозь спазм протискивается к нему: «За бога, царя и отечество! Ура!» Нет-нет, разумеется, цементировало их братство: «За Родину! За Сталина!» — но ведь это же одно и то же, просто с небольшой поправкой на время. — Много, говорите, во всем этом «белых пятен». Согласен. Но вот только зачем все их обязательно в «черные-то» превращать? — А в глазах чернеет, полковник втягивает голову, мигает, платком протирает глаза — озирает свое малогабаритное отечество. Предметы в полумраке бестелесны, лишь аквариум один, поймав заоконный свет, объемен, светится, живет. Проплывают меж растений сновиденчески разноцветные рыбки, через них и над ними висит светящийся огнями заоконный сквер, реклама. И все это не мешает рыбьему миру, ибо и сквер и реклама — все перевернуто, сфероидально растянуто. Аквариум, стоящий на этажерке, его хрустально сверкающая темнота и глубина сейчас словно шар, плывущий в сумраке малогабаритного полковничьего отечества. Притягивает взор надолго. Легко проникающие один в другой миры помогают полковнику, и он простирает свой взор через окна, стены в даль далекую, с легкостью оставляет изъеденную болезнями оболочку, охватывает, облетает в считанные минуты север, юг, восток и запад. Туркестан, Заполярье, Монголию, Испанию и многие другие страны, где побывал он за долгую жизнь. И, потолкавшись в крайностях рас и наречий, температур и душевных задач, слышит теперь он многомиллионный прочный гул мыслей и чаяний… Да все какие-то мелочные мысли на ум идут, все какие-то копеечные чаяния: о дачах, квартальных премиях, очередях на новые машины, о мафии, СПИДе, кооперации-спекуляции и прочее, прочее — что как червь разъедает мир какой-то всеобщей акселерацией плоти, обещающей уже в ближайшее время обернуться роковой бесполостью-беспомощностью. И вдруг, некстати: — А травы-то, травы-то нынче какие! Крапива в рост человека, лопух как ребячий шалаш. Под такой акселерацией плоти как тут выдержит душа!.. И как тут Раю остановить… чтоб во всем этом не заблудилась…» Ох, бедная, заблудится! Все «белые» пятна в «черные» превращаются. Да это бы еще не так и страшно. Горько? Да. Унизительно? Да. Но не страшно. Страшно другое — почему же так радуются при этом люди, так ратующие за изменение цвета наших исторических пятен?! Им не горько, не унизительно, как сейчас полковнику, — им радостно! Вот ведь что невероятно. Голова вместить такого не может, раскалывается. А потом осеняет: да ведь им истина и не нужна, им нужна темная, а лучше черная водичка, чтобы спокойно обстряпывать свои делишки. Он звонит брату тогда, кому же еще-то:
— И как ты это все понимаешь, Петр?
— А я, Паша, так понимаю, что за эти тридцать лет власть у нас потихоньку опять богатенькие захватили. Произошел всего-навсего тихий бескровный переворотец. Ну а сейчас они, те, что все черной краской мажут, и пытаются легализовать как-то сей переворот. Гляди, как миллионы открыто в кооперацию потащили. А ведь теперь никто не мешает ворованные миллионы пускать в собственное дело.
— Но ведь действительно, Петр, экономика дошла до ручки и даже эти, пусть и наворованные у народа миллионы хоть какую-то пользу принесут. Народ получше заживет, а?
— Заживет. Процентов на десять, на двадцать, сами же миллионеры на все сто процентов заживут!
— Плюрализм.
— Эх, Паша, какой плюрализм?! Мы же не Франция. В стране, в которой одна половина и выговорить-то правильно этого слова не может, а другая половина и смысла понять его не в состоянии, — какой плюрализм!
— А богатые-то уже есть у нас. И бедные, и богатые опять.
— В том-то и дело, что, Паша, опять! И это страшно. Кровью пахнет, Паша, большой кровью… Тебе не страшно, брат?
Да нет, полковнику не страшно, он ведь себя от народа не отделяет. Народ мудр, как он решит, так и правильно. Да, народ пьет, работает спустя рукава, быть богатым, несмотря на все призывы, никак не хочет. Но уж если он узнает всю правду о тихом переворотце, нет, не завидует полковник богатеньким. Ему за Раю только страшно, заблудиться во всем этом сегодняшнем вполне можно. Ей-то наверняка кажется, что это обновление-перестройка, с ее молодостью совпавшее, явление исключительное, как и ее собственная исключительная молодость. Года и года пройдут, пока уяснит она главное — все повторяется. Застой — обновление — опять застой… Если бы она видела, как в Индии в свое время встречали Хрущева, засыпали белыми цветами! Если бы она знала, какие надежды все связывали с приходом мужественного генерала Брежнева… Если б она знала, как вдохновляло солдат на фронте в тяжелую минуту, что Сталин с ними, что Сталин Москву не покинул… Или взять тот невероятный факт, что отказался обменять сына Якова на их генерала.
…Полковник шел тогда окопами на НП, сам слышал, как какой-то щупленький, на Гурова похожий солдатик, из тех, еще не обстрелянных, переживающих, рассказывал таким же необстрелянным: «Братцы! Так и рубанул им — гадам! Я, мол, простого солдата на вашего генерала никогда не променяю! Вот что для него простой солдат!» Ну так мог ли после этого не воевать простой солдат! Мог ли не приветствовать страшного приказа за номером двести двадцать семь! А кто мог отдать такой страшный приказ? Кто имел на это страшное право? Да только он — человек, пожертвовавший собственным сыном!
Ну а Рае еще долго, долго расти до этого кровного понимания, еще собственного сына или дочку воспитать надо… еще время и время пройдет, пока поймет, как оно слезами, сердце, обливается за свое родное-кровное.
Непонятно, чего хотелось полковнику напоследок. И уж, конечно, не речей хотелось. Их скажут… в свое время. Торжественности тоже не хотелось. Или уж если торжественности, то особой. Ибо само состояние перехода из чего-то (что представляет сейчас собой полковник, пусть и больной, и дряхлый, а все же) — в ничто было до того поражающим воображение, что цепенеет полковник с головы до ног, пронзенный этой метафизикой. Страха нет, он же солдат. Просто все цепенеет в нем среди бела дня или черной ночи. И будто видит он тогда сквозь цепенеющую вместе с ним природу, как гигантские ножницы быстро-быстро стригут вроде бумагу. А на той бумаге слова: «Рая, Рая, Рая…» Исподволь, осторожно, как пескарь дотрагивался, когда опускал в детстве ноги в прозрачные воды речки Каменки, подходила и отходила тихонько мысль: «Почему не погиб я геройски, как первый командир Петр Семенович под Попельней, или как начальник штаба Приходько, как Степа Мотыль, сделавший последний свой шаг пошире полковничьего, или как многие, многие другие, с кем породнился, о ком болело сердце, места душа не находила, когда погибали». Сколько раз мог и сам погибнуть полковник, а вот уцелел, живет. Зачем? Маятник в часах над политической картой мира и тот живее полковника. Можно еще потянуть с этим… Встать, одеться, с бесконечными остановками, стонами, кряхтением спуститься на лифте, перейти через двор… Грелки, компрессы, примочки, а главное — доброта Нины Андреевны… можно, можно еще потянуть… Вероятно, придется сделать тогда какие-то распоряжения у нотариуса, что-то написать, заверить, как-то отблагодарить… ох-хо-хо, как это все утомительно… Тут опять подумалось о явной перемене в Нине Андреевне, что-то произошло наверняка. Должно быть, почти с полной потерей ощущения собственной плоти полковник обострился весь, всеми клетками чует — произошло. Что-то важное, непонятное — произошло.
14. ХРУСТАЛЬНАЯ ВАЗА МЕЧТЫ
Нина Андреевна любила переписываться с людьми. Специально для этого купила портативную машинку «Москва». Сначала напишет черновик от руки — потом перепечатает на машинке.
Узнав о трудной, но счастливой судьбе человека из какого-нибудь очерка в газете «Труд» или «Известия», Нина Андреевна говорила себе: «Я его поздравлю с Днем Советской Армии или Днем Восьмого марта, мне это нетрудно, а человеку будет приятно». И поздравляла. Иногда человек отвечал, благодарил. Порой завязывалась переписка, которая длилась год, два и даже больше. Потом постепенно затихала, чтобы возобновиться уже с другим человеком, о котором она узнавала по радио или телевидению.
Сын Сашка, когда еще жили вместе, сначала посмеивался, потом уже и сам знал по имени-отчеству очередного корреспондента матери. Порой интересовался даже, если от кого-то долго не было вестей — не заболел ли Иван Степанович Красько (знатный животновод Молдавии) или как там Анастасия Петровна из-под Воронежа: не поменяла ли свой холодильник на другой, не шумящий.
Бывало, задолго до праздника у Нины Андреевны начинались приятные заботы. Она покупала кипу открыток, конвертов, ярких марок. В киоске, недалеко от проходной комбината, где она работала диспетчером автобазы, киоскерша уже знала ее, и когда Нина Андреевна идет с работы, всегда махнет рукой, если есть интересные открытки или новые марки. И Нина Андреевна рассылает неторопливо поздравления по далеким городам, поселкам, районным центрам с таким чувством, как будто на простор выпускает стаю голубей, только не почтово-белых, а празднично-разноцветных.
Были среди корреспондентов Нины Андреевны люди все чем-то примечательные: знаменитый охотник, чабан, ткачиха-многостаночница, лауреат международного конкурса певцов эстрады и так далее. Как-то, отдыхая в профилактории комбината, она взяла в библиотеке книгу довольно известного столичного поэта. Стихи произвели на нее сильное впечатление, кроме того, поэта у нее еще не было, и Нина Андреевна тут же, в профилактории, написала письмо в издательство с просьбой передать поэту ее письмо. Месяцев через восемь пришел ответ — длинный и вдохновенный. Перепиской этой Нина Андреевна особенно дорожила. Поэт писал неровно: то небрежно, то, наоборот, лирически-восторженно, вообще не отвечал месяцами — то есть вел себя, по мнению Нины Андреевны, как и подобает настоящему поэту. Но уж если приходило письмо — легкое, почти неуловимое волнение охватывало Нину Андреевну, приумножались ее душевные силы, все удавалось ей тогда.
С появлением в ее одинокой жизни полковника Нина Андреевна к переписке поостыла, почувствовала разницу, да и надежда как-никак, а поселилась в ее сердце. Но годы шли, а все чего-то не хватало для исполнения этой надежды. И вот однажды, года два, два с половиною тому назад, когда полковник находился в санатории, прежняя уютная вдовья тоска охватила Нину Андреевну. Был субботний вечер, переделав все несложные свои дела, огляделась она вокруг и включила телевизор. Пел молодой певец в белых туфлях на высоких каблуках. Пел по-современному, то есть раскованно, расхаживая по сцене, то далеко отпуская от себя микрофон, то почти кусая его и помогая голосу и руками, и телодвижением, так что порою напоминал то ли акробата, то ли жонглера. Нина Андреевна смотрела и слушала певца привычно безучастно, рассеянно, только на переносице легли две-три морщинки. Тут лицо певца показали крупным планом. Петь он перестал уже, то есть была пауза, в которой он улыбался всеми тридцатью двумя зубами. И зачем-то, по-видимому, совсем непроизвольно в эту паузу, под дробь кастаньет, не удержался вдруг и несколько раз быстро подвигал крепкими челюстями, пощелкал зубами. И прошедший подавно очередной день рождения, и распавшаяся Сашкина семья, и полковник, с которым никак не сбывались надежды, — все это вдруг связалось самым непостижимым образом со страшненьким щелканьем зубов певца при одновременной благопристойной улыбке, ошарашило как-то Нину Андреевну, она охнула, выключила телевизор. Наступила тишина. Нина Андреевна торопливо достала с полки вчерашнюю газету «Труд», в которой сообщалось, что в Армении в небольшой деревушке в горах Зангезура (сообщался подробный адрес) живет столетняя женщина Шахбаз Арутюнян.
Нина Андреевна поздравила бабушку со славным юбилеем столетия, пожелала ей еще много лет жизни, здоровья и счастья. После этого пожелала счастья, здоровья и успехов в личной жизни всем ее многочисленным детям, внукам, правнукам и праправнукам, о которых сообщала газета. Собственно, на этом и кончалось письмо. Посидев минут десять, Нина Андреевна написала еще, что у нее в городе сейчас стоит зима, холодно… Тут уже можно было и добавить: «А в квартире тепло, ярко горит лампа дневного света…» — и вообще все хорошо. И, легко вздохнув, она набросила шубку, сбегала опустила письмо в почтовый ящик, а потом легла и крепко заснула.
Ответ пришел скоро, через три недели. Адрес на конверте был написан старательным детским почерком. Фамилия, имя и отчество Нины Андреевны подчеркнуты двойной волнистой линией. Чернильная клякса возле марки, ее пытались, видно, промокнуть промокашкой, но только сильнее размазали. Распечатав конверт поскорее, Нина Андреевна достала листок и… поморгала, глаза протерла — все сливалось в стремительном водовороте завитушек и росчерков. Ни одной знакомой буквы! И в досаде вздохнувшей Нине Андреевне осталось лишь снова рассматривать конверт, двойной волнистой линией подчеркнутую собственную фамилию, кляксу. Но, чтоб не обидеть хороших людей, так скоро ответивших ей, Нина Андреевна тут же уселась за письмо в Армению. Так, мол, и так, она писала, письмо ваше получила, спасибо. Живу хорошо, не болею, на работе все в порядке. За первый квартал получила премию. Снова выбрали в товарищеский суд. Да еще в самодеятельности участвую, так что — вот…
Недели через две пришло еще одно письмо, и опять на армянском! На двух листочках в клеточку из школьной тетради с полями, заполненное мелким почерком. Нина Андреевна отвечала тоже подробно, на двух листочках. Писала, что и второе письмо благополучно получила, спасибо, что добрые люди ее не забывают. Поздравила с приближающимися новогодними праздниками, в преддверии которых ее родной город особенно красив…
Как раз на старый Новый год пришло третье письмо. Нина Андреевна все три разложила на столе. Все три, хоть и написанные разными почерками, начинались строчкой в одно слово, издали похожее на «киршандр». И кончались все письма одинаковыми словами. По тому, как плотно было написано второе письмо и особенно третье, не уместившееся на трех листах бумаги — дописывали на внутренней стороне конверта, — Нина Андреевна догадалась, что это не просто вежливая отписка, а обстоятельный рассказ о жизни. И сама в ответ писала о себе, о сыне, о том, что взрослый уже, а ума нет, ведь известно, что малые дети — малые заботы, а большие дети — и заботы большие. Лишь о полковнике ничего не написала почему-то.
Письма все приходили, и по всему Нина Андреевна видела, что пишут ей несколько человек. Когда приближались Первомайские праздники и Нина Андреевна уже закупала поздравительные открытки, пришло письмо на русском языке от младшего сержанта Гикора Мартиросяна, и почему-то из города Калинина. Младший сержант объяснял, что был в командировке полтора месяца и поэтому задержался с ответом к Нине Андреевне, хотя родственники и просили его не задерживаться с ответом к тете Нине. Гикор передавал сердечный привет тети Нининому сыну Александру и предлагал ехать в Армению не в июле, как советует тете Нине его двоюродный дядя Корюн из Баку, а весною, когда и он, Гикор, демобилизуется уже и сама Армения особенно красива.
Нет, письма надо было срочно переводить. Она посоветовалась с полковником, и он подсказал ей сходить в Дом быта — в сапожной мастерской там, кажется, работает один армянин. Она сходила, но человек, хоть и был похож на армянина, оказался азербайджанцем. На ее счастье, в пятый цех комбината приехала после техникума целая бригада молодых ребят. Нина Андреевна уже видела их в обед в столовой. Они держались все вместе, выглядели скромно, чем выгодно, на ее взгляд, отличались от местных. Оказалось, когда Нину Андреевну знакомили с ними, что звать руководителя Рафик. Нина Андреевна едва не прыснула при этом, ведь «рафиком» шоферы ее автобазы всегда называли микроавтобус. Но Рафик армянский с удовольствием взялся переводить письма.
И Нина Андреевна собрала скрепкой все письма в том порядке, в каком они приходили, а через неделю, когда зашла к Рафику в общежитие, получила в полной сохранности обратно, вместе с тетрадкой, в которой разборчивым почерком были переводы на русский. Она не знала, как и благодарить Рафика. А он просил не стесняться, приносить еще. По какой-то смутной ассоциации, глядя на широкое улыбающееся лицо, черные глаза и чуть вьющиеся густые волосы, она спросила, не играет ли Рафик на гитаре. «Извините, — отвечал Рафик улыбаясь, — нет». — «Может, поете тогда?» — поощряла она доброжелательной улыбкою молодого человека: им в самодеятельности как раз не хватает певца-мужчины. Нет, извинялся, улыбаясь, Рафик, и не поет. И просил не стесняться, приносить письма: ему ведь ничего не стоит, даже приятно.
Теперь Нина Андреевна могла прочесть:
«Привет из Геташена незнакомому городу, моей сестре Нине! Нина-джан, мы живем хорошо, вам тоже желаем всего хорошего, здоровья, успехов во всем. Сестра-джан, я очень хочу, чтобы Вы приехали обязательно. У нас дивное место — все есть: зелень, фрукты, горы, красивый лес, холодная ключевая вода, одним словом, очень красиво. Погода хорошая…»
«…Привет из Геташена моей сестре Нине! Нина-джан, получили Ваше золотыми буквами написанное письмо и очень обрадовались. Бабушка беспокоилась, долго не было писем. Наконец-то получили. Сестра-джан, все, кто вам пишет, это наши родственники. Моей маме пятьдесят четыре года, работает на ферме. Я работаю в районе на табачной фабрике… Нина-джан, напиши — у вас весна? Расцвели ли Ваши любимые цветы? У нас замечательно! Все в цвету! Мы очень хотим, чтобы ты хоть раз увидела все это, погостила у нас. Бабушка только и ждет тебя. Приезжай с сыном, мы поведем вас в горы. Сестра, почему же ты не пишешь нам имя своего мужа? Напишите. Приезжайте все. Очень ждем. Привет незнакомому Вашему сыну Саше и Вашему мужу, а моему названому брату…»
Теперь, перечитывая армянские письма, Нина Андреевна у себя в диспетчерской нет-нет да и глянет на политическую карту, где она там — Армения-то?
«…Сестра-джан, чтобы доехать до нас, надо лететь самолетом или ехать поездом до Еревана или Тбилиси. Оттуда автобусом или на такси. Приезжайте! А потом с Вами поеду я к Вам. Обязательно приезжайте, сестра. Что еще написать? Жду письма. Уважающая вас Айастан Арутюнян».
Теперь Нина Андреевна подробно отвечает на очередное письмо. Отвечает, что крышки для консервирования фруктов уже выслала дяде Вахтангу, что сепаратора ручного пока найти нигде не может: у кого ни спрашивала, все смеются, говорят, давно на электрический перешли. Но обязательно найдет — пусть Ануш не волнуется. Отвечала, что сыну Александру передала привет от Гевеник.
Почти в каждом письме из Армении был привет мужу, но поскольку мужа не было, а отношения с полковником были, как говорится, ни то ни се, единственное, что оставляла без внимания Нина Андреевна, так вот эти приветы мужу. Но приходило письмо, которое начиналось: «Привет из Геташена, моя незнакомая сестра Нина! Тебе и твоему мужу, который нас почему-то не уважает и не напишет нам ни одного письма…» Еще приходило письмо, которое кончалось: «Привет переводчику наших писем — вашему мужу! Почему он нам ни разу не напишет? Кто он? Почему скрывать так надо?» Волей-неволей приходилось писать, что был, дескать, муж, да сплыл. Ищи ветра в поле. Или отвечала, что ей и без мужа хорошо — спокойнее. И спрашивала о здоровье бабушки, просила подробнее написать о бабушке, кто за ней ухаживает. Отвечали, не волнуйся, Нина-джан, бабушка чувствует себя хорошо, мы все за ней ухаживаем: дети, внуки, правнуки, праправнуки. У нее ведь очень много родных, считай — вся деревня. И опять интересовались мужем.
Видя серьезное отношение к вопросу этому почти во всех письмах из далекой армянской деревни, а писало ей без малого человек двадцать уже, Нина Андреевна тоже серьезно и обстоятельно отвечала, что муж был давным-давно, но оказалось — не тот, за кого себя выдавал, и вот пришлось расстаться с ним. Было тяжело, конечно, но второй раз замуж не выходила, заботясь о сыне, — ведь неизвестно, какой еще попадется, времена-то нынче какие: насмотрелась, наслушалась в товарищеском суде, секретарем которого ее выбирают шестой год подряд… Конечно, если б встретился в жизни хороший человек, писала, думая о полковнике… А тут скоро пришло письмо на русском языке:
«Здравствуйте, незнакомая Нина! Пишет вам переводчица ваших писем. Я давно собиралась писать. Но наконец решила написать сегодня. Айастан — мой родственник. У Айастана был отец — Арам, любимый сын бабушки. Арам — двоюродный дядя моей мамы. Во время войны Арам оказался в числе пропавших без вести. До сих пор нет о нем слуха. Я вас очень и очень прошу, мы все здесь в деревне очень сомневаемся, в жизни все бывает: может быть, Вы встретились с Арамом после войны? Вышли замуж за него? Если так — напишите искренне, подробно, мы будем очень и очень рады, особенно бабушка. Она ведь столько лет ждет сына Арама. Он ей недавно приснился вместе с вами, сестра-джан. Простите меня, если все не так, то будьте тогда просто нашей хорошей знакомой, продолжайте переписку, обязательно приезжайте к нам, мы очень гостеприимны, приедете — убедитесь. Ах, если отец Айастана жив! У них ведь еще есть дети: один брат и две сестры, они тогда будут все держать связь с Вашим сыном. Пишите нам правду. И не бойтесь, никто Вашего счастья не отобьет. Наоборот, Ваш сын будет тесно связан со своими армянскими братьями и сестрами. Я работаю в школе. Мои письма мне передают лично. Примите горячий привет от всех нас. С нетерпением жду ответа. Астриг».
Тут же Нина Андреевна отвечала:
«Здравствуйте, дорогая Астриг и вся Ваша семья! Простите меня, что я отнимаю Вашу надежду. Всегда лучше ждать и верить в надежду, чем никого не ждать и ни на что не надеяться. Это только я так думаю. Простите, если это все не совсем так. Несмотря на то что я очень и очень много пережила, душа моя не огрубела. Наоборот. Когда я сейчас смотрю кино о войне, я всегда плачу… Дорогая Астриг! Я Арама, к сожалению, не знаю, никогда с ним не встречалась. Я была бы счастлива с ним встретиться. Вы правы, в жизни все может быть. Надо поискать, сходить в военкомат. Узнайте, где ищут пропавших без вести. Не может быть, чтоб совсем бесследно исчез. Узнайте, в какой части он служил, какой род войск, жив ли командир. Напишите в газету «Труд» (может быть, кто-нибудь с ним служил), чтобы откликнулись однополчане. Я Вам всегда пишу теплые, сердечные письма. Просто иначе не умею. Просто что в человеке есть, тем он и выражает свои действия. Я бы была вместе с Вами очень счастлива, если бы вдруг пришло какое-нибудь известие о любимом всеми Араме. Поскольку Вы теперь знаете всю правду, надеюсь, Вы не порвете наше знакомство. Я бы была счастлива и в будущем получать от Вас письма».
И письма продолжали приходить. Об Араме не было больше ни слова. Только в одном письме, и то не из деревни, а из Баку, от некоего Радика Ваганяна — еще одного корреспондента Армении — было: «…сердечный привет, Нина-джан, вашему мужу Араму — моему названому брату…» Но это уж было совсем какое-то недоразумение, которое и объяснила Нина Андреевна в своем ответе Радику Ваганяну.
После этого уж никто не вспоминал ей об Араме, только звали настойчиво в гости.
«Вас ждет бабушка, — Айастан писал, — она всегда смотрит, как я пишу и просит приехать. Она не умеет читать и писать, она только говорит — пиши, внучек, пиши и скажи, пока я живу, пусть приедут всей семьей, чтобы я увидела своими глазами. Привет Вам ото всех людей деревни, которые знают Вас по Вашим письмам. Снова просим приехать…»
А Нина Андреевна ехать не решалась. И полковнику она отчего-то не стала рассказывать всего. То есть о переписке рассказывала, о всяких новостях рассказывала, а об Араме — нет.
Чаще других ей теперь писал Айастан — сын Арама.
«Ты пишешь, сестра-джан, что боишься приехать. Пойми, у нас нет плохих людей. Мы встретим тебя, только сообщи о дне приезда. Сестра-джан, скажи честно: ты хочешь к нам приехать?»
А Нина Андреевна окончательно передумала ехать. В самом начале переписки думала: «А почему бы и не съездить?» Потом заколебалась, потом эта путаница с Арамом получилась, теперь же думалось почти неприязненно: «С чего бы такая настойчивость в приглашениях?» Ее еще никто так не приглашал. Тем более надо было обождать — может, потихоньку вся эта история и уляжется. В общем, ей бы хотелось ответить: «Извините… извините, на мне сейчас лежит забота об очень хорошем, но очень больном человеке…» Но и так ответить вроде бы тоже невозможно. И Нина Андреевна стала затягивать с ответами, писала все короче и короче, и все как будто бы и улеглось…
И вот под праздники, когда Нина Андреевна и писем-то от них не ждала, прибыли трое, Айастан с женою и Григор — их родственник. Ужинать отказались — устали с дороги. Да, по правде говоря, и холодильник был пуст, разморожен даже, Нина Андреевна собиралась на праздники в профилакторий. Но Нина Андреевна виду не подала, постелила гостям в большой комнате, мужчинам на софе, женщине на раскладушке. А утром у нее уже все было приготовлено — и суп с фрикадельками, и жареная рыба с картошкой. Фирменное блюдо — Нина Андреевна его очень хорошо всегда делала, тем более повезло: рыба досталась живая.
Выспавшись всласть, гости поднимались, умывались, одевались. Потом распаковали свои чемоданы, сумки раскрыли, узлы развязали, стали доставать, ставить на стол всевозможные кушанья. Григор, постарше который, с густыми усами, знал по-русски.
— Это, — говорил он, передавая Нине Андреевне нечто мясное, наперченное, вкусно пахнущее, — это, сестра-джан, бастурма. По-вашему — шашлык маринованный… А это, держи, сестра-джан, — дыня, мята, корица, кинза… а это соленые виноградные листья, здесь зелень базилика, петрушка, укроп — сама знаешь… А это, — с улыбкой принял от Агуник, жены Айастана, — здесь, сестра-джан, цыплята с черносливом… м-м-м!
— Ой, да что вы! — говорила Нина Андреевна, принимая большой промасленный пакет с цыплятами. — Зачем же, все же есть…
— А это — масуха с овощами, тут курага, компот зимой варить будешь, держи, держи, сестра-джан, это масло топленое… держи…
— Ой, да что вы! Зачем! Все же есть, — говорила Нина Андреевна, — рыба жареная есть, суп с фрикадельками… В такую даль… как будто здесь лука своего нет… ведь все же есть, ну все…
А гости неторопливо делали свое дело, доставали еще мясо, завернутое в чистый холст, перевязанное аккуратно веревочками, доставали бутылки, банки и баночки, переложенные со всех сторон, чтоб не разбились, зеленью, фруктами, передавали Григору, а тот с радушной улыбкою вручал все это Нине Андреевне.
— Пей, сестра-джан, по три столовые ложки, опять молодой станешь — сок граната! М-м-м… А это мед — бабушка велела, сама знаешь — сто болезней лечит!
Нина Андреевна была окружена яствами со всех сторон. На столе не уместилось — на подоконниках, на стульях лежало, стояло, громоздилось что-то свеже-резкое, вкусно-ароматное, сочное, знойное, как сама Армения. Гости глядели, как Нина Андреевна сердится понарошку, и улыбались. И вот на самом дне обнаружился сверток, сняли махровое полотенце, целлофановый пакет, стали разворачивать бумагу (Нина Андреевна уже догадалась) — в руках Григора появились две бутылки армянского коньяка. Григор осторожно поставил их к батарее. Пояснил:
— Коньяк надо пить теплым.
И сели за стол. Мужчины по бокам от Нины Андреевны, Агуник — напротив. Нина Андреевна, приглядевшись, быстро сообразила, что надо поливать гранатовым соком, а что сладким перцем заедать и где зеленью посыпать, а где горчицей смазать. Когда ж насытились и вздохнули, Григор взял подогретый коньяк, разлил по рюмкам, торжественно сказал:
— Коньяк надо пить теплым и закусывать фруктами или сладким.
Нина Андреевна кивнула согласно, как будто всю жизнь знала об этом. Ей легко, хорошо было, стали пить не спеша коньяк.
— Может, еще хоть ночку переночуете, — спрашивала Нина Андреевна, отхлебывая очередной глоточек и заедая сладкой сушеной дыней, — а, хоть ночку?
— Нет, — Григор ей отвечал, — ехать надо, сестра-джан, дорога наша длинна.
— Город бы посмотрели, — после молчания говорила Нина Андреевна, — на площади у нас новое кафе открыли… молодежное.
— К сожалению, никак не можем, сестра-джан, — отвечал Григор, — к сожалению, сестра-джан, нас ждут.
За окном начинался длинный вечер, за столом тепло, покойно, уютно, и на душе ее спокойно, уютно, а коньяк действительно надо пить подогретым, больше ощущаешь вкус и аромат, только так и пьют настоящий коньяк, теперь она будет знать. В обед к полковнику сбегала, сменила воду в грелках, нажарила гренков, да у него с утра еще и яичница и молоко нетронуты стоят… да-а… чего уж… «Может, телевизор включить, — подумалось, — а то все молчим, молчим…» Но гости молчали странно, похоже, нисколько не тяготясь этим. Даже по-своему, по-армянски, разговаривать не испытывали потребность. Каким-то общим было их молчание. Хотя сидели они как будто и каждый наедине с самим собой. Григор, прямо сидящий, годами подсушенный, подсеребренный, все куда-то в пространство топорщился усами. Был похож на обиженного ежика и сидел так, словно сохранял равновесие в морскую качку. Напротив — Айастан, свободно откинувшись на стуле, руку забросил на спинку стула. Агуник в красном шелковом платье, по которому разбросаны большие черные розы, слегка повернулась к окну, каждым элементом своей позы являя взору Нины Андреевны что-то недоступное, гордое. Внутренний жар ее пробивал матовость лица, проглядывало нечто лениво-страстное. Впрочем, это могло уже и казаться слегка опьяневшей Нине Андреевне, взгрустнувшей даже тут слегка.
Зачем-то направившись на кухню, она подпевала себе. И вот на кухне, у плиты, узнав свой суп с фрикадельками и жареную рыбу на второе, она уставилась в недоумении на рыбью голову, выглянувшую из-под тарелки. И вдруг поразило ее совсем другое — путь, проделанный этими людьми, что молча сидят сейчас у нее в комнате. Тщательные сборы представились всей деревней, затерянной где-то в горах Зангезура. Деревней, пославшей своих гонцов в далекий край, где, они надеялись, живет их Арам.
Вернувшись в комнату, Нина Андреевна сказала:
— Вы писали… я отвечала. Вы писали, — сказала она построже, я же должна была вам отвечать… Вот я и отвечала… — Она заплакала.
И тут пришло ей на ум, как колебалась она вчера вечером, что же постелить гостям — бывшие в употреблении, хотя и совсем чистые, разумеется, простыни и пододеяльники, или уж достать новое, недавно купленное белье. И она разрыдалась еще сильнее — так неудержимо, что пришлось выпить валерьянки…
Экспресс в аэропорт ходил каждые три часа, поэтому в пять стали собираться. Впрочем, собираться теперь им было недолго. Нина Андреевна спустилась с ними вниз по лестнице. На крыльце Агуник обняла ее.
— Да-а, — вздохнул Григор, — что же мы скажем бабушке?
Нина Андреевна заплакала.
— Ну-ну-ну… не надо, Нина-джан. Десять лет ждали… двадцать лет ждали… тридцать лет ждали… сорок лет ждали! Не дадим разбиться хрустальной вазе ее мечты!
После этого ушли, ни разу не оглянувшись на Нину Андреевну.
Они шли, словно выдерживали какую-то одним им ведомую линию: мужчины впереди, плечом к плечу, женщина с опущенной головою сбоку и чуть позади, как будто прикрывала их.
«Зачем, — думала Нина Андреевна, глядя вслед людям, — зачем было ехать так далеко, тратиться, сутки в аэропорту сидеть — ведь все же напрасно, я ж писала…»
Те, что уходили от нее, не задавали себе вопроса: «Зачем?» Так же как и не заметили тяжести проделанного пути. Велика и благодатна была сила, заставившая с радостью взяться за это нелегкое предприятие. То была сила памяти и любви их деревни к своему сыну — Араму. Вечнозеленое как мир древо надежды. Что корнями уходит глубоко в родную землю, а молодыми побегами — внуками, правнуками, праправнуками бабушки Шахбаз — тянется к солнцу, к зеленому холмистому приволью вокруг деревни, к сверкающему вечно над прекрасной Арменией белоснежному Арарату.
А Нина Андреевна в Армении никогда не была и Арарата не видела. Вздохнув, когда приезжие скрылись совсем, она вернулась к себе домой.
Потом ей чего-то тревожно вдруг стало, она к полковнику быстренько собралась. Хотела поскорее рассказать все, а то в обед-то второпях ничего толком и не успела. Теперь хотела во всех подробностях рассказать, как серьезно думали, что у нее их Арам, все прислушивались, принюхивались, чуть ли не под кровать заглядывали. «Как это они на прощанье сказали? — вспоминала Нина Андреевна, чтобы дословно, все как есть передать полковнику, отвлечь его от мыслей, чтобы вместе с ним… ну, просто вместе с ним развести в недоумении руками: это надо же, в такую даль притащились, да такие серьезные, торжественные, словно на праздник… а впрочем, сегодня и так праздник по календарю. Но это уж так случайно совпало — просто у людей на праздники выдалось несколько свободных дней, вот и приехали… — Да, а как же они сказали-то на прощанье? — Нина Андреевна, подкрашивая перед зеркалом бровь, повела глазами от своего изображения вверх и вбок и вспомнила: — Не будем разбивать хрустальную вазу нашей мечты… ждали десять лет, ждали двадцать, тридцать ждали, даже сорок… будем и дальше, значит, ждать…» Тут Нина Андреевна присела на краешек стула, огляделась и так ей чего-то дико стало, когда оглядела она свое житье-шитье, вышивки на подушечках, половички и занавесочки. Да как заплачет она, как заголосит. Нет у нее хрустальной вазы мечты! Нет, да и никогда не было! Ни с того ни с сего проклинать себя стала, что не постелила гостям новые простыни, хоть и чистые постелила, а не новые — пожалела новые-то! Проклинать стала за то, что не уговорила их погостить хотя б с недельку, хотя бы три дня. Уговаривать-то уговаривала, да, знать, не очень. И вот уехали. Навсегда. И что-то увезли… Теперь ей, плачущей, казалось, что словно бы сначала дали ей что-то такое дорогое и единственное, а потом забрали, увезли, и все потому, что она их не задержала, простыни новые не постелила. И, прорыдав так горько часа с два, вдруг спохватилась: как же там ее полковник-то, один-одинешенек! Водички в лицо плеснула и бегом к нему. А как увидела, так что-то вздрогнуло в ней, в груди засосало — последний ведь листочек с дерева не так слетает-падает, как остальные. Почти робко приблизилась. И все, что было у нее в душе по отношению к полковнику такого разного (чего уж тут скрывать!), — все вмиг отлетело, на грудь к нему упала, обнимала, плакала, по лицу гладила, бессвязно про дорогих гостей рассказывала, про то, как она их не лицом, а боком встретила, про хрустальную вазу какую-то лепетала… так и не смог понять полковник, разбили или не разбили ту вазу…
* * *
Когда Нина Андреевна рассказывала, обнимая полковника, скорее всего, он не слушал, вернее, схватив лишь суть, погрузился в некое подобие получувств-полумыслей — все перебивали, все заглушали тогда полузабыто обнимающие женские руки. Но на другой, на третий день, в долгие одинокие часы его надолго входила затерянная где-то в горах Зангезура деревушка, где живет нерушимая память односельчан о храбром своем Араме. Размышлял ли он об этом или просто ему было хорошо оттого, что где-то есть такая память, живет, существует на белом свете, но только на долгие часы его одинокого лежания возвращалось в душу утреннее, росистое чувство, с которым много лет тому назад, попав в Закавказье, увидел впервые Арарат. На своде голубого неба синела гора с двумя снежными вершинами. Вершины были облиты мягким светом, они блестели, не отражая солнца. Сама гора, сотканная из равновесия света и густого воздуха, росла не так, как другие — в тесноте. Нет, эта гора вырастала прямо из просторной долины и как-то напрямую связывалась с разгорающимся утром, с новым днем, идущим в мир к людям. Бело-голубая вершина, не спеша плывущая в потоке мыслей и чувств, которыми сейчас охвачен полковник, была похожа на айсберг. Прекрасный и устойчиво-тяжелый. В той тяжести была и тяжелая капля крови храброго Арама, пропавшего без вести где-то в тяжелых боях за Белоруссию, была там кровь и Васи Панкова, и Степы Мотыля, и Серегина Коли, и еще двадцати миллионов товарищей… Да, тяжел и для многих невидим своей главной частью тот белоснежный айсберг! А потому не просто тяжел, но и устойчив!
Правда, порою мельтешили, слегка размывали эту тяжесть великого, кровью политого братства совсем недавние междоусобные события, спровоцированные жалкой кучкой отщепенцев. Но что это в сравнении с белоснежной громадой Арарата! так — спазмы, не более. В конце концов многочасовое видение Арарата собралось в полковнике твердой уверенностью, что мир может раскачиваться подобно ваньке-встаньке как ему угодно — упасть же ему никогда не суждено. Только вот губы у Нины Андреевны… только вот рот и глаза, когда нагибалась поближе… как-то все это неохотно в душе полковника связывалось с этой вечной выпрямленностью мира. Что-то обидное порою даже мерещилось полковнику… легковесное, сытое?.. Да нет — она же славная, добрая… Сколько же лет она ждет полковника? Пять? Семь? Десять? Приревновала даже к поздравительной открытке Елены Николаевны, вот глупая… Да ведь Елена Николаевна — это, это… человек, так много в жизни испытавший, так много… нет, Нина Андреевна, конечно, очень хороший человек, но все же Елена Николаевна это уже другое… это уже сама Революция… И Надя — другое. Это уже — Великая Отечественная. Да, Надя, как и Елена Николаевна, — это айсберг, это надежно. В сущности, то, что она так и не вышла замуж после полковника, это ведь, как ни странно, всю жизнь как-то поддерживало его. Непонятно как, но поддерживало, теперь он точно мог бы сказать, и сильно поддерживало! Ведь, в сущности, все эти годы там было место, куда всегда вернуться мог полковник. В сущности, вся вторая половина жизни, все духовно-интеллектуальное его развитие и стало возможным лишь потому, что постоянно жило в нем ощущение своего родного места, куда вернуться мог всегда. И даже, наверное, сейчас, когда так холодно в квартире, дует, отопление еще не включено, лежал и думал: «Да, величие человеческого духа — это несомненно, но кто ж подаст кружку воды? Кто нальет грелку горячей водою?»
Вечером Нина Андреевна ахала, хлопотала вокруг:
— Какая холодина! А я Коле дала трояк, все окна замазал замазкой — те-е-пло! Может, переедете? А? Хоть на недельку, отогреетесь хоть, да и мне полегче: туда-сюда не бегать.
— Завтра, завтра, — мягко улыбался полковник, наблюдая, как за оханьем, за аханьем, разговорами, неслышным хождением по квартире Нина Андреевна за каких-то полчаса и чай согрела, и грелку положила, и простыню перестелила, и многое уже успела.
— Сколько уж было этих «завтра», — она присела с чашкой напротив, — а? Павел Константинович.
— Гестерн, гестерн, — запел дребезжащим баритоном уже обогревшийся полковник, — нур нихт хойте, спасибо вам, Нина Андреевна, голубушка, намучились вы со мной, да?
— Ах, Павел Константинович, вот вы все шутите… а ведь вы знаете…
— Все знаю… все… завтра… до завтра, а?
Еще год, полтора тому назад был уверен полковник в Нине Андреевне, а сейчас ему мерещится что-то похожее на незаинтересованность уж больше в нем. Да и то правда, с какой стати — развалина он, кому нужен. С другой стороны, действительно, ведь не вчера же он развалиной стал, давно и постепенно дело шло к тому, видела же Нина Андреевна: что и к чему. Что же это было, что с удивлением разглядел он вдруг недавно? Удовлетворение? Сытость? Но откуда взяться удовлетворению, ведь не переехал же он к ней?! А может быть, именно поэтому, что не переехал? Ничего не понять. А может быть, кто-то другой у нее появился? Навряд ли! Опять рассказ ее бессвязный вспомнился, непонятный приступ нежности, похожий на укор, на упрек самой себе. За что? Да, что-то было в ней, наверняка было… что-то наподобие глубоководной рыбины, что выплыла глотнуть настоящего воздуха… И опять над всей этой сумятицей и тоской стариковской вырастала, словно айсберг, память человечья… Надя, Степка Мотыль, Елена Николаевна… Рая… внук…
Плывущий по морям, по океанам тяжелый айсберг… Нет, удивительная страна, удивительный народ! Полковнику теперь не то что мысли, но даже удивление от них приносит усталость. Он вздыхает, перестает думать и просто ищет ногами грелку, час тому назад оставленную Ниной Андреевной. И уже ни о чем не думает в тепле, укрывшись одеялом, он просто грезит — так намного легче. Легко, приятно так порхается ему над теплой мягкой грелкой, словно над свинцовым грузом жизни, который, как ни старайся, не охватить, не объяснить, и остается только удивляться, только тяжесть чувствовать. Легко, приятно в нем сейчас порхают даже и не мысли, а словно бы легкие заставочки к ним. То поле увидит у себя в деревне на взгорье и издали еще определит: это вот уже засеяно, а то — еще пустое. То осенний разлив, водополье опять раскинется пред ним — и опять он точно знает, где пройти можно. И все это он знает без каких-то там признаков, ориентиров, а лишь настроением, лишь радостью угадывания своего родства со всем этим… А то вдруг ни с того ни с сего вспорхнет вдруг над ним купол уютной церквушки на деревенском кладбище. Купол в ярко-синее небо расписан, летят по небу белокрылые ангелы-архангелы-херувимы… какими-то сдобными, пушистыми они кажутся снизу… наверное, и Рая давно уже замужем, может, и ребенок есть, дочь или сын… сверкают звезды, луна и солнце… все под тем небом, на котором одновременно есть и луна, и звезды, и солнце, помнится, выглядело совсем по-другому. Даже гроб, когда его вносили в церквушку. И Нина Андреевна теперь порою кажется ему попавшей вдруг под это аляповато-странное, радостное небо, где есть уже всё: и луна, и солнце, и звезды. И то, что не перебрался к ней, хотя и нравилась она ему и должен, просто по всем правилам обязательно должен был перебраться, — и это под тем странным небом выглядело сейчас совсем по-другому. А ведь действительно ничто не связывает ни его, ни ее, тянутся друг к другу, привыкли, да и одиночество ведь это не сон, напускаемый на человека темнотой, нет: одиночество — это роковая ошибка… Смешно, конечно, сейчас вспоминать, но было время — однажды почти решил в семью вернуться… что-то помешало: письмо ли не пришло или еще что, сейчас уже и не вспомнить… Да, а человек, рождаясь, сразу попадает в заботливые руки, покидать мир надо также в чьих-то заботливых руках… И все же в семью не вернулся и к Нине Андреевне не переехал. Есть вещи необъяснимые. Необъяснима же радость от засеянного поля, необъяснима высота чувств вступившего в храм под купол неба, на котором есть все, что надо человеку. Не объяснить, почему не переехал и полковник, а лучше всего все это непонятное обозначить тем сладостным пределом, коего дозволено достать полковнику, как всякому человеку на краю жизни, да и покончить на этом.
15. ТАК НАДО!
Многообразными прорастаниями своих семян цепляется жизнь за каждый взгляд, за всякую мысль, и за слабенькое чувство, и даже за еле слышимый вздох, что издает порой полковник, закутанный наглухо в одеяла, забившийся в грелки и подушки. Нет, уж коль не совсем искра в тебе угасла — светит, греет, тлеет, — тянет, тянет из-под одеяла дрожащую руку полковник, берет в отсутствие Нины Андреевны книгу ее, открывает на закладке…
«Слово — принцип — нам не нравится, потому что оно заключает в себе представление о чем-то холодном, нечувствующем, абстрактном, тогда как мы понимаем Абсолют как живую, горячую, живительную, действующую, чувствующую реальность… О действительной природе Абсолюта мы, конечно, на самом деле ничего знать не можем, ибо она превосходит всякий человеческий опыт, и у человека нет мерила, которым он мог бы измерить природу Абсолюта…»
Все сходится! Охватила полковника дрожь, все сходится, и в то же время это, как блестящие рельсы, убегающие за горизонт, на самом деле никогда сойтись до конца не сможет! И чтоб не сдвинулось в нем непоправимо что-то главное, скорей ударил он книгою о стол, смахнул с него все, так что на чистой темной полировке глубоко и бледно осталось лишь мерцать одно пятно неизвестного происхождения. Торопливо, не глянув даже вверх — не от лампочки ли пятно-то, — тяжело дыша и весь дрожа, поднялся полковник, сходил за веником и вымел все в коридор, в самый угол. Потом взял чистый лист, стал брату писать: «Здравствуй, Петр! Прошу тебя…»
Но, строчку написав, сидел, облокотившись, посапывая, и усмехался. Лесами, горами и морями вставало непреодолимое, и в конце концов, листочек отодвинул, грузно поднялся, подошел к книжным полкам, где стояли классики марксизма-ленинизма. Да, вздохнул он и провел пальцем по темно-красным корешкам тридцатитомного собрания сочинений Ленина, провел пальцем по таким же темно-красным томам Сталина и опять остановился на последнем ленинском томе. Не раскрывая, покачал его в руке и опустился в кресло. «Ее отец не сдался до конца!» Я хочу, чтобы так потом сказали. А что тебе еще хотеть?! На все другое — поздно. Нет, все в порядке, я жизнь прожил как надо, ничего не поздно. Доведись еще раз прожить, прожил опять бы так же. Жить я знаю как. Умирать — не знаю. Вот беда-то. Горько! Но за этим «горько» щелкнуло, словно выключатель щелкнуло как приказ: «Так надо!» Чтоб и «горько» и чтоб «не знал». И стало выпрямлять полковника, сидящего в кресле, это «так надо!» Несгибаемый стержень, на котором держался вместе с миллионами других, его жизнь и его смерть на чем держится… «Ну, смерть — это еще успеется…» — криво усмехнулся и уже позабыл о ней, ибо откуда-то сверху уже катилось, передавалось, как эхо: «Так надо! так надо! так на-а-а…» — как эстафета со ступеньки на ступеньку, всё выстраивая в огромную сверкающую пирамиду законченности. Где-то в этой сверкающей пирамиде и сам полковник, первым выскакивающий из окопа: «За мной! За Родину! За Сталина!» И слыша и не слыша себя при этом, и слыша и не слыша всех остальных, за ним выскакивающих из окопа, испытывающих, как и полковник, одно смертельное упоение: «Так надо!» И в той же пирамиде, ступенечкою лишь повыше, опять полковник, но уже приказ отдающий, на смерть посылающий с безопасного расстояния, терзающийся страшно, с мольбою о собственной боли как благословении небес, как разрешении на это «так надо!», которым посылает он на смерть других. И ждет потом, когда доложат, вернулся кто, а кто уж не вернется никогда, и вот ходит, ходит все вокруг стола в этом жестоком ожидании и бьет по привычке кулаком правой руки в левую ладонь, словно она виновата, что… «так надо… так надо… так…».
Всесокрушающая, страшная, слепая сила — «так надо!» — высоким током отозвалась сейчас в полковнике, сидящем скорбно в кресле. Внезапное волнение охватило полковника, одышка, дрожь. И прежде всего он решил вырвать зуб, который давно уже шатался. Водки после компрессов на больное ухо оставалось еще с полбутылки, можно прополоскать и рот, и плоскозубцы. В ванной комнате перед зеркалом будет удобнее всего. Он зажег свет, наклонился, из зеркала навстречу ему выглянул чужой старик. Полковник сморщился, охваченный жалостью к постороннему старику. Эти выпирающие скулы, запавшие глазницы, клочкастая седина в неожиданных местах, худая и мягкая шея, а самое главное — рассеянность-растерянность, которую выбили, отчеканили полукружьем морщины над левым глазом. Нелепое чувство смущения охватило полковника, нелепое, ибо причиною было впечатление сырости, исходящее от лица, той первичной земляной сырости, о которой раньше думал, что она лишь красивый символ.
Прополаскивая рот, после того как вырвал зуб, он не выплюнул водку, но проглотил. Обожгло и разжало губы, он улыбнулся в зеркало уже не так страшно. И, уже совсем успокоившись, попривыкнув несколько к своему лицу, посмеивался: как это он так вначале-то сплоховал, испугался даже. Усаживаясь в кресло, чувствовал благодатное тепло, разливающееся по всему телу. Он раскрыл книгу, где многое помнил почти наизусть:
«Конечно, не всем указаниям массы мы подчинимся, ибо масса тоже поддается иногда… настроениям нисколько не передовым».
Перелистнул страницы:
«Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей. Никто не может судить об этом лучше и видеть нагляднее, чем я…»
И это так откровенно и бесстрашно о собственных ошибках писал сам Ленин… Тогда почему же нынешний лидер, с неземными признаками на умном печальном лице, все-таки слегка лукавит, когда говорит, что у нас в стране якобы нет никаких партийных привилегий? Ах, да не лови ты блох, полковник! — тут же перебил себя — и отдай ему должное по справедливости. Ты же сам видел своими глазами, как впервые в истории нашего века уничтожались смертоносные ракеты! И тебе ли, военному человеку, не понять величия этого момента! И опять это великое начало исходит из России! Тут гордиться надо лидером… Ну а как же тогда быть с этой неизбывной тоскою в его грустных глазах? Словно бы глаза его не летопись, а лжетопись читают и от этого так грустны. Да ведь понятно, что про все хорошее его позабудут, а все плохое на свет божий вытащат… будущие правдоискатели. Вот даже ты, полковник, не удержался — лукавством его малым попрекнул. Ах, люди, люди… возьмут и отменят историю. Как будто вправе кто-то историю отменить. Да история сама вправе вас всех отменить! Потому что сказал же кто-то умный — история пишется царями… Да не царями, конечно, а тем, что за ними стоит, — провидением, высшей мудростью… Ну а есть ли высшая мудрость за нынешним? Понимает ли он, что все преобразовательные революции, как правило, заканчивались диктатурой сильной личности: Кромвель, Наполеон, Робеспьер… Если же брать Россию, то тут еще очевиднее: Иван Грозный, Петр Великий… Ленин, Сталин… В чем смысл нынешнего лидера, а если уж по-русски, то вождя, — покажет время. Но только каждый из них входит в историю своим, вполне определенным смыслом. И теперь навеки с именем одного связана консолидация Русского государства. С другим — «окно в Европу». С третьим — Октябрьская революция. С четвертым — спасение мира от «коричневой чумы». Ну а нынешний, возможно, спасет мир от новой чумы, от какого-нибудь социального, национального, экологического или религиозного безумия… А может быть, со временем вообще придется спасать не белого медведя, а белого человека, доля которого в мировом сообществе продолжает катастрофически падать. Наверняка следующий век поставит небывалые еще проблемы, и вот их-то разрешение и будет, возможно, его личным смыслом в истории. Ну, а вся эта сегодняшняя шелуха — кооперативы, мафия, проституция, национальные брожения — все это в конце концов как-то уляжется, как и всегда было со второстепенным перед лицом главного, грядущего… Скорее всего Горбачев прав — нынешнее сближение с Америкой неизбежно. Американцы — народ ясный и верный, полковник знает их по войне. Но только кажется ему сейчас, что это объединение двух сверхдержав все-таки должно произойти на равной основе. В этот общий союз Америка должна внести свою несомненную материальную мощь. Ну а Россия, как всегда, — мощь духовную. Объединение же на любой другой основе — унизительно… Ну а насчет лукавства или ошибок — так это не страшно, главное, чтобы конечная цель была великой и достойной великой страны и великого ее народа.
Уже сейчас для многих очевидно, что вспышки национальной агрессивности или эпидемии самоубийств связаны не столько с экономическими, социальными и политическими причинами, что еще недавно считалось аксиомой, а все эти процессы напрямую связаны, как и землетрясения, кстати, и с резким усилением солнечной активности. То есть вполне возможно, что великое объединение землян, у истоков которого встал Горбачев с его идеей сближения двух сверхдержав, произойдет на основе понимания, что во многих земных бедах виноваты не только мы, человеки, но еще и силы небесные. Придется то ли бросить вызов космосу, то ли на пару с ним решать какие-то общие задачи. Так или иначе, мир вступает в новое качество. И надо быть готовым к ошибкам и неизбежным просчетам на этом небывалом пути. И побольше мужества, побольше уверенности, что тебя в конце концов поймут.
«Несомненно, что мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей…» — перечитывает полковник строчки, которым более полувека. Важно, что в них сохранилось мужество человека, писавшего их незадолго до смерти, вера пророка, любовь к людям, и возвышение его над всеми, и единение со всеми, — все то сохранилось в этих строчках горячих, и над этим время не властно. Да-да, права Елена Николаевна — это счастье! Это просто счастье — наше великое братство неравных! Братство неравных! В этом-то весь наш смысл.
Полковник встал, открыл гардероб, стал облачаться в мундир. Все важное и наиважнейшее в его жизни можно было б вспомнить, выделить по отдельности, все это мельтешило совсем рядом, перед внутренним взором полковника, облачающегося в парадный мундир. Но все это существовало в виде отдельных частей, ветвей без дерева, без ствола… Короче, что-то такое на ум приходило…
Приходила на ум лишь какая-то избитая банальность, что-то вроде затасканных донельзя слов: свобода, равенство и братство. Но если хоть раз в жизни дать труд себе задуматься, то ведь что получится? А получится, что для русского народа всегда важна была лишь крайняя составляющая этой триады — братство. И стоит лишь это уяснить (как-то окрыленно думается полковнику), как многое, очень многое становится понятным в нашей непредсказуемой истории. И смутные века княжеской раздробленности, и загадочная, прямо-таки флегматическая многотерпность во времена татаро-монгольского ига, и довольно унизительная, с точки зрения европейца, открытость России ко всякого рода варягам, византийцам, немцам. Это ж так легко и понятно выводится сейчас для полковника, зачем-то облачающегося в парадный костюм. Это ж так понятно выводится из этого нашего русского несколько отрешенного, полумистического: «Все люди братья!»
Идею братства, далее размышляет он, не надо смешивать с конкретно христианскими идеями, поскольку происхождение ее наверняка дохристианское, а может быть, еще и доязыческое, нечто географически-планетарное, что лишь позднее и оформилось в языческое братание человека с человеком, человека со зверем, с растением, с камнем, вообще всего и со всем!
Понятно, что эта основная наша идея — братство неравных как-то трансформировалась в веках: смешавшись с христианством, родила особо русскую соборность, главной характеристикой которой была покладистость. В атеизм, в революцию ударившись, изначальная наша надыдея оформилась в утопический общинный социализм. Ну а когда несбыточность нашего социализма стала очевидностью — сегодняшнее время! — начались бурные поиски ответов всё на тот же проклятый вопрос — о братстве. Полковник убежден, что, по существу, до сих пор до конца никем не понятый планетарный призыв Горбачева к новому мышлению — ведь это все о том же, о том же — о братстве неравных! То есть опять-таки о нашей русской основополагающей надыдее.
Ну а из нее уже, понятно, вытекают и все остальные, такие присущие нам во все времена идеи, как-то: идея номер один — непримиримая (естественно, неосознанная, на уровне рефлексов) вражда народа ко всякого рода индивидуальностям как антиподу братства. И особенно к этим коллективным индивидуальностям, то есть ко всякого рода сословиям. Ведь как ни верти, а народ не принял кооператоров! И это для перестройщиков очень неприятная неожиданность.
Вторая идея, с неизбежностью вытекающая из надыдеи братства неравных, это, конечно, идея вождя, царя, личности, хозяина (дело, конечно, не в названии, а в сути), вообще — отца родного для народа. Народ и вождь — это два полюса одного единого магнита. И только силовые линии подобного могучего магнита одни в состоянии удержать, как многомиллионноградусную плазму, это неудержимое наше братство неравных.
Как глупы все эти сегодняшние споры, думает полковник, начиная застегивать пуговицы, как глупы эти споры по поводу того, случайна или не случайна была революция в России. Дело-то все в том, что на смену одной личности — царя, — полностью опошлившейся в глазах народа, история решительно выдвинула новую личность — Ленина! У которого были, разумеется, и свои идеи, но в них ли дело? Ведь в конце концов идеи могут и меняться — то: «Вся власть Советам!» — то: «Недоверие Советам!», то военный коммунизм, то нэп. И если б народ пристально следил за всеми ленинскими идеями, давно б с ума свихнулся. Нет, здесь надо было просто по-детски верить. И народ верил Ленину. «И эту главную нашу черту — детскость — будем иметь в виду», — добавляет он вслух.
Застегнувшись, он отряхивает невидимые соринки, пылинки, мундир тяжел от наград. Но это именно та тяжесть, под которой дышится легко, а мысли одновременно такие простые и мудрые. Да-да, получается, что всем крупным личностям нашей истории в отношении своего народа как-то неожиданно везло — Иван Грозный, Петр Великий, Ленин, Сталин… В целом народ никогда не осуждал их. И не случайно. Каждый из них вел борьбу не на жизнь, а на смерть не с собственным народом, ибо метафорически это выглядело бы как борьба головы с собственным телом. И поэтому, как ни верти, каждый вел борьбу все же с сословностью, с ней лишь одною — боярской, помещичье-дворянской, военной, интеллигентской. Ну а поскольку эта борьба с сословностью всегда и отвечала народным инстинктам, в душе народа она и не могла не одобряться. Тем еще более укрепляла положение данных царей-вождей.
А вообще-то (перед зеркалом в странной позе, с указательным пальцем у виска, замер полковник), а вообще-то, понимали или нет они свою роль, роль вождей? Как какой-то мифической, однако ж и реально существующей головы огромного, многомиллионного тела! Слышали или нет эти миллионы пульсиков, собирали или нет в себя эти миллионы разрозненных мыслей в одну главную? Несомненно! Иначе ж никогда тебе не быть русским вождем. «Братья и сестры! — откашлявшись, произносит он торжественно… Да-да, именно так и должен был он в смутную свою минуту обратиться к своему народу. — Пусть осенит вас крестное знамя ваших великих предков — Александра Невского, Дмитрия Донского…» Он осторожно поправляет орден Александра Невского, зазубренными его краями словно бы проверяя чувствительность все более немеющих пальцев, он шепчет что-то неразборчивое, ему становится горько и обидно… комок застрял в горле, он пытается еще раз повторить: «Братья и сестры!» Но лишь сипит, горлом хлюпает, ему до слез обидно… Но, собственно, разве ж народ убрал из Музея Революции все, что напоминало бы нам сейчас о Сталине? В последний раз там побывав, полковник с горечью констатировал: висит там куртка Свердлова, висит фуражка Дзержинского, висит тельняшка матроса — участника революции. А вот человеку, который более полувека принимал активное участие в российском революционном движении, места — увы! — не нашлось. А ведь Сталин не только участник всех трех русских революций, он после Ленина почти тридцать лет стоял во главе партии и народа! И это в исключительно ответственные периоды русской истории. И такому человеку, горько качает полковник головою, не нашлось места в Музее Революции! Не нашлось места для его трубки, рублевой пачки «Герцеговины Флор»! Сунув рассерженно руку в карман, полковник обнаружил почти нетронутую пачку «Беломора» и не раздумывая закурил.
Да, возможно, как человек Сталин наделал много непростительных ошибок… процентов на тридцать, как и у Мао Цзэдуна, жизнь его состоит из ошибок. По-видимому, как и у каждого смертного. Но осложняя, а то и создавая экстремальные ситуации, именно в этих ситуациях действовал как истинный вождь, с беспощадной решительностью всегда достигая того, чего хотел, — будь то коллективизация, индустриализация, будь то победа над Гитлером.
А что сейчас? Сейчас катастрофически теряем свое национальное достоинство. Видно, кому-то сильно это надо. Да, к сожалению, готовы молиться на все, что идет из-за границы, начиная от товарного устройства жизни до конкурсов красоты. Готовы исповедоваться во всех мыслимых и немыслимых прегрешениях, во всем-де виноваты одни мы! Современные радетели-правдоискатели готовы маятник народного самосознания затолкать на самые задворки истории — знай свой шесток! Но этот маятник тяжел! Ой как тяжел (полковник-то знает наверняка), и если этот маятник в другую сторону качнется!.. Полковнику заранее жаль этих радетелей-правдолюбцев.
Им, радетелям за историческую справедливость, очень бы хотелось выставить Сталина кем-то вроде Пиночета или папаши Дювалье, потерзавших вволю свои народы. Понятно, так им, радетелям, удобнее вершить свои мелкие делишки. Но только Сталин-то был совсем другим. По крайней мере, если не в сознании радетелей, то в сознании народа. Иначе бы не бросались с его именем под танки, не шли бы с его именем гордо на казнь. Когда выскакивающий из окопа с пистолетом полковник орал: «За Родину-у-у!», «За Сталина!» — тут же подхватывали за спиною окопы, горячо дышало в спину, упоительно несло вперед среди своих. И все это сливалось в то единое, что лишь и могло победить в той страшной войне не на жизнь, а на смерть. И это факт, от которого никуда не деться.
Факт и репрессии, и культ, и ошибки. Но и то, что в полковнике много лет так слитно существует, пережило и времена развенчивания, и времена застоя, — все это тоже факт. В основе нашей истинной жизни всегда лежало братство неравных. Взять революцию, взять энтузиазм первых пятилеток, патриотизм Великой Отечественной войны или радость послевоенного созидания, везде увидим мы именно это — братство неравных. Сейчас доброхоты, из тех, что всегда на подхвате, из этого слитного понятия выхватывают как горящие угольки то одну, то другую его составляющую. Греют нечистоплотные ручки. Сводят это высокодуховное понятие к примитивно экономическому — уравниловке, чтобы вместе с грязной водичкой выбросить незаметно и самого ребенка. Их задача — начисто вытравить в сознании народа это основополагающее наше понятие. Собственно, ради чего и революцию народ затевал и в Великую Отечественную бился не на жизнь, а на смерть. Ну а если же думать лишь о колбасе и шмотках (о чем все речи сегодняшние!), то и революции никакой не надо, конечно, ибо самый подходящий для этого строй — капитализм.
И тогда действительно стоило ли творить революцию? Чтобы теперь опять уговаривать людей на частнособственническую идеологию? К чему все так целенаправленно идет! А разве ж нет?! Да стоит лишь глянуть на эти высоченные заборы, которыми отгораживается современное сословие богатеньких! От кого отгораживаетесь? От собственного народа, как всегда! От которого столько в революцию натерпелись! Которого и сейчас и боятся, и презирают, и тихо ненавидят. Гляньте на этих волкодавов, оберегающих за высокими заборами сословное добро! Гляньте на эти лица, что на аукционах искажены азартом и страстью — не продешевить, урвать! Гляньте на интердевочек, что подмигивают нам с кооператорских календарей. Опять из человеческих душ выплывает на свет божий все низменное, материальное, убивая все чистое, духовное, на что так надеялись и Ленин, и Сталин. На что надеялась Революция.
И еще — хочется полковнику все додумать до конца, чтоб потом уж не мучиться, — а был ли Сталин счастлив? Как человек? Разглядывая фотографии разных периодов его жизни, полковник убежден, что наверняка был. Во время революции, во времена первых пятилеток, первых съездов, во время победы над Гитлером. А потом? К старости? Вряд ли. Потом понимал, наверное, что за страх заставлять человека и жить, и работать и трудно, и аморально. А за совесть? Увы — утопия. К капиталистическому рублю опять вернуться, как сегодня, революционная гордость не позволяла. К христианству — партийность. Что-то главное надо было додумать. Не успел. Да и возможно ли это? Успеть додумать… Да вот хотя бы и он, полковник, сидящий сейчас в кресле с папиросой… прожил жизнь, а что это такое — не знает. Да, не знает — иначе, наверное, не было б так не по себе, одиноко так. Может, надо было жить по-другому? Да нет, все равно — жизнь прожита так, как надо. Выпитая водка еще действовала, никотин благодатно лег на расслабляющее чувство опьянения, и все это вместе делало полковника все более невесомым. Совсем невесомым прошелся он по комнате и уселся в другое кресло, перед трюмо. При всех регалиях, в парадном мундире, с блестящим взором и небрежной папиросой он выглядел в зеркале внушительно, надежно, импозантно даже.
Солдатские награды отражались в зеркале, затуманившемся несколько от дыма папиросы, горьковатым и сильным, как полынь, чувством солдатского братства, потерями товарищей, каждый из которых, если б и не вспомнил всех сейчас по имени, — каждый каплей был теперь горячей в нем самом. Награды за Испанию позванивали мелодично, сладко, с юношеским нетерпением, горячечным от испанского зноя. Награды за Финляндию похолоднее выглядели, возвышеннее и печальнее, как и печаль Калевалы. А как много наград Великой войны он видит в зеркале — вся грудь от них, словно под броней. На некоторых драгоценные камни сверкают — личным вручением сверкают, кремлевской верой сверкает золото и рубин. Особняком колодка ранений — непосредственного соприкосновения металла с его живым телом: госпитали, лазареты, контузии, небытие… порою жизнь заново — учился заново ходить, говорить, понимать. Считай, не раз возвращался с того света. И какими же крепкими были объятия друзей при встрече! А может, и сегодня кто-то вспомнит и позвонит? Полковник шарит по столу, тянет трубку к уху… но все глухо… засыпает жизнь косо летящий снег забвения. А засыпать нелегко, нет-нет, не так-то просто. Какая, в сущности, огромная жизнь! С поворотами, взлетами, падениями, атаками и отступлениями… и вновь атаками. Какая, в сущности, прекрасная жизнь! Другому бы на две вполне хватило… А сколько друзей у него незабвенных! Степа Мотыль… Вася Панков… опять рука сама к телефону тянется. «Помнишь ли, дружище, этот страшный бой под Подольском?» Как сверкающий гвоздь — редкий звонок друга… Глухо. Да ведь не в этом и дело — верные друзья его теперь навеки с полковником, навеки в этой, в сущности, такой прекрасной, жизни! Немножко побольше б в ней женской любви и ласки, детей бы побольше, сына или внука б еще… Чтоб все богатство, отчего так тяжко полковнику сейчас, внуку передать. Как когда-то ему самому отец передал, а отцу — дед, а деду — прадед… Тут слеза, непрошеная гостья, как одна из брызг, одна из волн полноводной полковничьей жизни, выкатилась из глаза, по морщине побежала, затерялась среди серебристой седины. Затуманился усталый взор, осела в кресле могучая фигура, даже тяжесть наград непосильна к концу пути. Отвыкший от алкоголя, папирос, совсем расслабился полковник, головою поник… А телефон опять звонит. И так четко вдруг он слышит:
— Полковник! Отечество в опасности!
— Что — опять? Как в сорок первом?
— Да, опять!
— Но что я могу сейчас-то? — А сам уже распрямился, плечи разводит и голову приподнимает, позабытыми колокольчиками звенят награды на груди. — Что я могу — больной и старый, — дрожа всем телом, радостно вопрошал он, — у меня же ничего не осталось, друзья.
— А честь? Честь русского человека!
— Да, да, да, — повторял, захлебываясь, — это сейчас единственное, что еще во мне осталось.
— Ну а это главное, что нас всех сегодня и объединяет. Согласен ли ты, полковник, помочь нам в таком славном деле, как спасение Отечества?
— Да… Да! Если вас действительно интересуют не колбаса и не шмотки — я с вами, други! Берите все, что у меня еще осталось, — честь, славу… всё, всё, всё!
— Спасибо, полковник! Иного ответа от тебя и не ждали…
Тут папиросный дымок туманцем как бы все окутал — зеркальный вид перед ним. И из тумана пригрезилась Рая. Идет будто бы, по колено скрытая туманом, словно бы мокрыми лугами, цветами идет и за руку ведет к нему белобрысого мальчишку. «Внук!» — так и ахнул полковник, явственно разглядев свои черты, черты отца и даже деда своего. Да ведь и как же иначе-то! А Рая повзрослела, исчезла полнота («А я что говорил!»), но то же платье на ней, любимое полковником, в цветах. Потом он видит, как уходит внук, затылок видит, поступь. «Правой! — командует полковник. — Р-раз, два, р-раз, два!» А сам словно бы все выше, выше поднимается… чтоб было подальше видно, как внук упрямо, без оглядки уходит. И еще раз невероятною тоскою сжалось полковничье сердце, последний раз. И вот уже с этой тоской стоит он вроде на балкончике знакомого ему здания военной комендатуры и делает шаг вперед: «Но я же разобьюсь!» Однако, о мостовую ударившись ногами, вдруг пошел полковник упругим, четким шагом и зорко видит: куда, зачем он шел. Перед ним — Абсолют.
Абсолют стоял, как обычно, небрежно-прямо, одна рука засунута за отворот полувоенного френча, в другой — трубка, в трубке табак «Герцеговина Флор». Взгляд прищурен, желтоват.
— Дочь без отца растет, — докладывал полковник четко, — жалко.
— Да, детей всегда жалко. — Абсолют усмехнулся, и лицо слегка исказилось болью, похожей на человечью.
— Но вы-то, по крайней мере, могли спасти своего сына! — воскликнул полковник, на миг ослепленный собственным отцовским чувством, признаки которого разглядел на лице собеседника.
— А-а… вон ты о чем, полковник. — Собеседник горько покусал прокуренный ус и добавил: — Сына тоже жалко… как и всех остальных. — Лицо его стало окутываться дымком из трубки, стало быстро удаляться, превращаться в сверкание, в ослепительную вершину.
— Но своего-то, родного-то, по крайней мере, — закричал вослед полковник, — почему не спасли?!
— Так надо! Так надо! Так надо-о-о…
Гулкое эхо катилось, нарастало…
— Нина Андреевна! — крикнул.
— Петр! — крикнул еще. — Держись, братишка!
— Рая, Рая… Ра… — Тут глаза его закрылись и все погасло.
16. ЭПИЛОГ
У Петра Константиновича уже был один инфаркт, это еще тогда, после несостоявшегося членкорства. Второй инфаркт случился после смерти брата. Многочисленные родственники думали, что Петр Константинович уже не поднимется. Но он поднялся, на удивление всем. Каждое утро появляется на балконе дачи с массивной сучковатой палкой в руке. Петр Константинович производит при этом много шума, грозно стучит палкой, хрипит, кашляет и отплевывается. На нем большая соломенная шляпа, по-украински бриль, подарок брата. На шляпе сидит все та же пташечка и три ее перышка — красное, синее и зеленое — вздрагивают и развеваются, когда кашляет Петр Константинович. Ниночка давно сбежала со своим юным велосипедистом. Велосипедист за эти годы, впрочем, как и Ниночка, перестал быть юным. Он отслужил срочную, сменил велосипед на «Яву-300». На мотоцикле они и укатили под покровом темноты.
Недели две или три тому назад Петр Константинович почувствовал неудобство в нижней челюсти, разбухла, резь началась, пришлось нижний протез совсем снять. Пошел в поликлинику, а там ему: «У вас зубы растут!» — «Полноте, — говорит Петр Константинович, — какие зубы, помирать пора!» — «При чем тут помирать, — ему отвечают, — русским же языком вам говорят, — зубы, самые настоящие зубы!» И выписали ему диетический творог, который положен при появлении новых зубов.
Из поликлиники вернулся с ощущением тоски и непонимания каких-то фундаментальных глубин происходящего вокруг. Включил телевизор и какое-то время бесчувственно смотрел на выступление молодежной рок-группы, название которой в русле модной ныне тематики — «Презерватив». На фоне кинохроники с эпизодами революции, гражданской войны, энтузиазма первых пятилеток — нечто полуголое, бритоголовое, хвостатое и с рожками, то и дело извергая синеватый дымок, содрогалось, и хрипло вопило, и сладострастно топтало пятиконечные звезды и флаги. Дрожь омерзения исказила лицо Петра Константиновича. О, как бы дорого он дал сейчас за то, чтобы это сатанинство исчезло повсеместно, провалилось бы туда, где ему и место, — в преисподнюю. Он озирается затравленно и дышит тяжело. В комнате совсем тесно из-за братова архива. По всем полкам выстроились многочисленные папки, много лет собираемые полковником. Первая мировая война, Великая Отечественная… Английская революция… Нидерландская революция, Великая Французская… наша… наших целых три. А если иметь в виду, что наша раскатилась по всему миру от Кубы до Китая… Ленин на это не рассчитывал. Он и о своей-то думал, что она провалилась. Да, как привела тут «Литературка» недавно его слова, сказанные незадолго до смерти, Ленин говорил, что теперь уже окончательно ясно: наша революция провалилась, народное сознание так быстро не переделать, и теперь осталось два пути — или признаться в этом, или ввергнуть страну в кровавую мясорубку. «Что, кстати, и было сделано, — бормочет Петр Константинович, бумаги со вздохом перекладывая, — да, неплохое наследство оставлял после себя… и надо было найти еще человека, который, понимая всё это, взвалил бы этот груз на себя». Тут далеко не всякий решится. Киров, к примеру, когда представилась возможность такой судьбы, предпочел остаться чистым. За что и уважают его все. И Калинина уважают. Ну а взвалил все на себя, а проще сказать, прикрыл Ленина от его признания на весь мир в своем провале Сталин. Видно, уж ему на роду было написано — прикрывать. Он ведь, и в Разлив вождя сопровождая, буквально прикрывал его, шел сзади с револьвером. Ленин доверил ему это прикрытие. И он прикрывал его до конца. Даже когда Ленин усомнился в самом главном смысле всей своей жизни, решительно подхватил революционное знамя, выпадающее из обессилевшей уже руки… Ошибался или не ошибался Ленин в том, что революция провалилась, это уже другой вопрос. Это покажет нам время, одно лишь время. А пока можно гадать на кофейной гуще. Да вот же, вот у Петра Константиновича на столе совсем свежие газеты. Китай решительно приговорил к расстрелу зачинщиков контрреволюционного мятежа. На Кубе приведен в исполнение приговор о расстреле четырех предателей революции. Куба не позволит запятнать знамя революции! Смерть ее предателям! Но пасаран! К стенке! Трах! — и нет человека. Нет, этого земной логикой не объяснишь… как, впрочем, не объяснишь и того беснования, которое только что было по телевизору. Остервенелое, чадящее, с рожками, хвостатое, в упоении топчущее для кого-то святые символы. Нет, это все тоже неземное. И то и другое — отражение наверняка каких-то космических борений.
Вот и остается констатировать, что идея революции по-прежнему довлеет над отдельным человеком. И даже над многими отдельными. Ибо что ж отдельный — он слаб, он хил и безволен, в массе-то своей, он подвержен всем тем вечным соблазнам, которыми дьявол так настойчиво соблазнял Христа в пустыне. Но то ведь был Христос, а вокруг-то просто люди. И не будь в душе у человека очистительной какой-то идеи, он давно бы перешагнул грань вседозволенности, погряз бы, как эти четверо с Кубы, в наркотиках, взятках, коррупции и прочих развращающих душу делишках. И все-таки, все-таки неужели нельзя стать хорошим… без всего этого… трах! — и нет человека? Поташнивало. Петр Константинович отшвырнул газеты с сообщениями о расстрелах. Ему захотелось в чем-то повиниться, склонить голову перед чем-то… Она сама на грудь упала.
Наркомания, взятки, разврат, предательство — все это так отвратительно! Падение человеческой природы, к сожалению, продолжается. Стоит чуть-чуть отпустить вожжи, и преступность тут же подпрыгнула в два раза. Человеческая природа, словно камень, поднятый над землею, уже изначально имеет потенцию к самопадению. И как остановить ее от этого ужасного самопадения! Только ли тем, чтоб призывать-упрашивать: «Друзья, не будем кушать мясо, перейдем на рисовые котлетки!» Абсурд! Последние события национальной вакханалии, прокатившейся по регионам, — что это?! Средневековье! Просто дикое средневековье! Да, это отрезвляюще щелкнуло по носу тех, кто призывает к рисовым котлеткам. Нет-нет — слова и призывы никого еще не убедили. Значит, остаются все-таки дела. Значит, человека удержать от самопадения можно лишь тогда, когда под ним будут штыки, — на них больно падать. И вот тогда-то волей-неволей призадуматься придется: а падать ли, а предавать ли… революцию, Родину, отца с матерью, брата, жену, ребенка… а прежде всего — самого себя. Господи! Но почему же нельзя быть хорошим без штыков! Почему же изначально ты не создал человека хорошим! Зачем же ему такое страшное испытание штыками! Какой смысл во всем этом?
Смысла Петр Константинович не видит, но инстинктивно догадывается, что вся жизнь только и держится на сверхсмысловом своем начале, на всеприсутствующей изначально потенции. И все тут. Именно это оживляет и одухотворяет ее целость. Он что-то бодренькое бормочет, кряхтит, на стуле ерзает, он похож в этот миг на жучка-древоточца. И при этом языком все щупает десну слева, там у него все явственнее пробивается такой же молодой зуб, как и справа.
«Нет, а что ни говорите, удивительна все же жизнь! — думает Петр Константинович. — Много загадок таит в себе, и чем дальше, тем загадочнее, загадочнее».
Сашка, выйдя из ЛТП, тоже не узнал окружающей жизни. За два года все вокруг неузнаваемо переменилось. А главное — стали пить такую дрянь, что в страшном сне не приснится. Особенно теперь почему-то была в почете морилка по девяносто копеек за штуку, это где на флаконе картинка из трех насекомых: муха, клоп и таракан. Ее так и зовут все: «Три богатыря». Поначалу Сашка испытывал отвращение к происшедшим переменам, даже ЛТП несколько раз вспомнил с добрым чувством. Потом попривык, втянулся и однажды взял штук десять «Трех богатырей» в ближайших промтоварах, выпил в одиночестве и к утру скончался.
Нина Андреевна после его смерти вместе с Лариской переехала жить в Армению.
О товарище Мурасееве было недавно сообщение в местной прессе. Органами ОБХСС раскрыт подпольный заводик по заготовке копченой рыбы на территории платной стоянки № 1, в западном секторе под спаренными боксами. Теперь судить будут товарища Мурасеева. Жена его срочно продает «Жигули» последней марки, потому что могут дать срок с конфискацией.
В квартире полковника поселилась молодая семья. Он — перспективный тренер по парусному спорту. Она — детский врач. Современные, доброжелательные люди. Не скрывают, что им повезло: квартира очень удобная и район самый зеленый в городе. Когда за вещами приехал брат полковника, охотно помогли перенести вещи к машине, очень много было книг, бумаг, папок. Посочувствовали чужому горю. Сделали ремонт. Оклеили кухню моющимися обоями.
А совсем недавно их посетила молодая женщина Рая с восьмилетним сыном. Ну что они могли ей сказать? Лично они полковника не знали. Но уверены, что человек он был хороший. Одних книг и бумаг полмашины набралось. Просили не стесняться, располагаться, вообще, если есть время, погостить, посетить городские музеи. Рая, продолжая держать сына за руку, немного походила по квартире, разглядывая пол, потолок, стены. Зачем-то дверь кладовки приоткрыла. На кухне кран отвернула, поглядела, как полилась вода. Постояла на балконе, обозревая городскую панораму, загорающиеся к вечеру огни, густеющие по краям сумерки… И вдруг засобиралась в обратный путь неблизкий. Даже от чая, что предлагали ей гостеприимные хозяева, отказалась. Поезд уходил поздно ночью, и можно было по горсправке разыскать адрес брата отца — Петра Константиновича, но, поколебавшись, она отказалась от этого намерения.
1979—1989













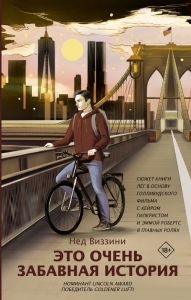
Комментарии к книге «Полковник», Юрий Александрович Тёшкин
Всего 0 комментариев