Дэвид Арнольд Детки в порядке
Моим братьям, Джереми и Эй-Джею, изначальным РСА
А также памяти моих дедушек, пары настоящих Супер-скаковых лошадей
© 2016 by David Arnold
© Денисова П. В., перевод на русский язык, 2019
© Издание на русском языке, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019
Ребята с аппетитом, или Они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо
Список персонажей
Ребята с Аппетитом
БРУНО ВИКТОР БЕНУЧЧИ III, 16 (ВИК): Нынешняя Глава. Опера. Матисс, Мэд. Суперскаковая лошадь.
МЭДЕЛИН ФАЛКО, 17 (МЭД): Новогодняя лапушка. Панковская прическа, Эллиот Смит, диаграммы Венна, реальность.
МБЕМБА БАХИЗИР КАБОНГО, 27 (БАЗ): Собиратель историй и татуировок. Противник хлеба. Восславим Господа.
НЗАЗИ КАБОНГО, 20 (ЗАЗ): Младший братишка База. Джига, «Journey» и щелчки пальцами. Говорит другими способами.
КОКО БЛАЙТ, 11: Автор песен. Рыжая. Мороженое и Квинс, и почти матерщина. Пипец какой!
Полиция Хакенсака
СЕРЖАНТ С. МЕНДЕС: Кофемания. Романтика против ее воли. Усталая умница. Главного глазами не увидишь.
ДЕТЕКТИВ Г. БАНДЛ: Атомный взрыв. Бумаги и формуляры. Гордый представитель продуктивной буржуазии.
ДЕТЕКТИВ РОНАЛЬД: Двойник Уизли. Романтик по своей воле. Навыки сидения. Потерянный пудель.
Семья и другие
ДОРИС ДЖЕКОБИ БЕНУЧЧИ: Мама Вика. Вдова. Выпечка, семья, надо двигаться дальше. Делает что может.
БРУНО ВИКТОР БЕНУЧЧИ-МЛАДШИЙ: Отец Вика. Мыслитель сердцем. Фанат «Метс». Носитель треников. Скончался.
АВТОПОРТРЕТ (ДЯДЯ ЛЕСТЕР): Дядя Мэд. Виски, вопли и плач. Владелец ружей.
ДЖЕММА: Бабушка Мэд. Страдает деменцией. Тапочки, пижама и кока-кола в обеих руках.
БОЙФРЕНД ФРЭНК: Юрист. Вдовец. Поедатель зеленой фасоли и салага в литературе. Носитель костюмов.
КЛИНТ И КОРИ: Сыновья Фрэнка. Эмо-наряды и Бэтмен. «Оркестр потерянных душшш». Ребята без Аппетита.
ОТЕЦ РЕЙНС: Священник, мудрец, творитель добра. Обвенчал родителей Вика. Суперфанат «Iron Maiden».
РЕЙЧЕЛ ГРАЙМС: Нынешняя подружка База. Отважная медсестра. Грозы, бега и блинчики.
Ранние Главы
КРИСТОФЕР (ТОФЕР): Мастер тату. Сериалы и трезвость, и находчивость. Лысый.
МАРГО БОНАПАРТ: Официантка, контрабандистка, кокетка. Картошка с сыром. Ром. Bonjour, mes petits gourmands!
НОРМ: Русский мясник. Не понят обществом. Мясо. Кровавые свиньи. Не КГБ. Нет.
ГЮНТЕР МЕЙВУД: Отшельник. Арендодатель. Владелец Садов Мейвуд.
Золотая рыбка
Гарри Конник Младший-Младший: Пловец. Выживатель. Любитель холодной погоды. Никогда не сдается. А что?
Как же странно, что закат, который она видела со своего двора, и тот, на который смотрел я с заднего крыльца, был одним и тем же закатом. Может, разные миры, где мы живем, не такие уж и разные. Закат ведь у нас общий.
С. Э. Хинтон, «Изгои»
Один Значительные множества, или Подпоясайтесь, глупцы и бездельники
Комната для допросов № 3
Бруно Виктор Бенуччи III и сержант С. Мендес декабря // 15:12
Подумайте вот о чем: в мире миллиарды людей, и у каждого миллиарды разных «я». Я сам – тихий наблюдатель, аутсайдер со стажем. Я любитель искусства, бейсбольной команды «Метс», люблю вспоминать папу. Я представляю примерно одну семимиллиардную часть населения; таковы мои значительные множества, и это лишь начало.
– Все началось с моих друзей.
– Что началось?
– Моя история, – говорю я.
Хотя это не совсем правда. Мне надо вернуться еще дальше в прошлое, до того, как мы стали друзьями, когда было всего лишь…
…
Ладно, тут все ясно.
– Я влюблялся около тысячи раз.
Мендес слегка улыбается и пододвигает ближе цифровой диктофон.
– Прости… ты сказал, ты влюблялся?
– Тысячу раз, – говорю я, пробегая пальцами по волосам.
Раньше я думал, что любовь связана числами: первый поцелуй, второй танец, бесконечно разбивающиеся сердца. Я думал, что числа живут дольше, чем сама любовь; выживают в темных закоулках разрушенного сердца. Мне казалось, что любовь трудна и тяжела.
Теперь я так не думаю.
– Я – суперскаковая лошадь.
– Что? – спрашивает Мендес. Взгляд ее одновременно суров и печален.
– Ничего. А где ваша форма?
На ней твидовая юбка, приталенный жакет и летящая блузка. Я молча замечаю ее карие глаза – очень напряженные. Если бы не одутловатые мешки под глазами и морщинки в уголках, напоминающие лицевые кавычки, глаза были бы вполне привлекательными. Я молча замечаю едва заметные бороздки у нее на шее и руках. Они указывают на преждевременное старение. Я молча замечаю отсутствие обручального кольца. Я молча замечаю ее темные волосы до плеч с едва заметным намеком на стрижку и укладку.
Мимолетность, намек, отсутствие, томление… Похоже, значительные множества Мендес таятся в примечаниях шепотом.
– Технически я не при исполнении, – говорит она. – Кроме того, я сержант, поэтому мне необязательно постоянно носить форму.
– Так вы тут главная?
– Я отчитываюсь перед лейтенантом Беллом, но это дело поручено мне. Если я правильно поняла твой вопрос.
Я протягиваю руку под кресло, достаю из переднего кармана рюкзака флакон «визина» и быстро закапываю оба глаза.
– Виктор, тебя искали восемь дней. А сегодня утром вы с… – Она листает бумаги, пока, наконец, не находит нужный документ. – Вы с Мэдлин Фолко заходите сюда, чуть ли не за ручку с Мбемба Бахизир Кабонго по прозвищу Баз, главным подозреваемым по делу об убийстве.
– Я не шел с Базом за ручку. И он не убийца.
– Ты так полагаешь?
– Я это знаю.
Мендес улыбается мне с жалостью. Хмурая такая улыбка.
– Он только что во всем признался, Вик. А еще на орудии убийства нашли его ДНК. У нас достаточно доказательств, чтобы засадить Кабонго за решетку, и надолго. Что мне хотелось бы прояснить, так это почему восемь дней назад ты сбежал из собственного дома и пришел сюда этим утром. Ты сказал, что у тебя есть история. Так расскажи ее.
Сегодняшнее утро еще свежо в моей памяти. Голос База звучит у меня в мозгу, как живой. Отвлекающий маневр, Вик. Им будет нужно время. И мы должны дать им время.
– Каждая девочка, которая красит глаза, – говорю я.
…
…
Сержант Мендес прищуривается:
– Что?
– Каждая девочка, которая играет на музыкальном инструменте… за исключением, может, фагота.
– Прости, я не понимаю…
– Каждая девочка, которая носит старые кроссовки «Найк». Каждая девочка, которая рисует на своих кроссовках. Каждая девочка, которая пожимает плечами. Или печет печенье. Или читает.
Расскажи им про всех девочек. Про всех, в кого, как тебе казалось, ты был влюблен. Про всех из прошлого. Я улыбаюсь в душе – только так я и могу сейчас улыбнуться.
– Каждая девочка, которая катается на велосипеде.
Я достаю носовой платок и протираю угол рта, откуда стекает слюна. Папа называл меня дырявым кувшином. Тогда меня это бесило. Теперь мне этого не хватает.
Иногда… Да, похоже, я больше всего скучаю по тому, что раньше ненавидел.
Мендес откидывается на спинку стула:
– Твоя мама почти сразу сообщила о том, что ты пропал. Я была в твоей комнате, Вик. Уолт Уитмен, Сэлинджер, Матисс. Ты же умный мальчик. Я бы даже сказала, ботаник.
– К чему вы это?
– Я это к тому, что ты не крутой. Зачем ты притворяешься? Я под столом тереблю ткань своего браслета KOA. Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей.
Мендес подхватывает:
– Я отдаю все свои силы лишь тем, кто поблизости, я жду тебя у порога. Кто завершил дневную работу? Кто покончил с ужином раньше других? Кто хочет пойти прогуляться со мною?
. .
Я стараюсь не выказать потрясения, но не уверен, получилось ли: может, меня выдали глаза.
– Уитмен помогал не свихнуться после пар по уголовному праву, – объясняет Мендес. – Ты ведь знаешь следующие строки, так?
Нет, я не знаю. Поэтому молчу.
– Успеешь ли ты высказаться перед нашей разлукой? – тихо говорит она. – Или окажется, что ты запоздал?
. .
– При всем уважении, мисс Мендес, вы меня не знаете. Она опускает взгляд на папку.
– Бруно Виктор Бенуччи III, шестнадцать лет, сын Дорис Джекоби Бенуччи и покойного Бруно Бенуччи-младшего, умершего два года назад. Единственный ребенок. Рост 168 см. Темные волосы. Страдает от редкого синдрома Мёбиуса. Одержим абстрактным искусством…
– Вы хоть знаете, что это?
– Ох, поверь, среди мошенников полно фанатов Пикассо. Так себе радость с ними работать.
– Я не об этом.
– Я знаю, о чем ты. – Мендес захлопывает папку. – И да, я изучила вопрос. Синдром Мёбиуса – редкая неврологическая аномалия с парализацией шестого и седьмого черепных нервов. Врожденное заболевание, вызывающее лицевой паралич. Я понимаю, что тебе приходится нелегко.
В голос Мендес закрадывается самодовольная нотка. Словно она только и ждала, когда я спрошу, что ей известно о моей болезни. У меня был синдром Мёбиуса, сколько себя помню, и это научило меня одному: если у кого хватает наглости утверждать, что они понимают, то вот именно они-то как раз ничего и не поймут. Кто понимает, предпочитает помалкивать.
– Вы изучили вопрос, – тихо, почти шепотом, повторяю я.
– Да, немного.
– Значит, вы знаете, каково это – когда под веки швыряют песок.
…
– Что?
– Ну вот такие ощущения. Из-за того, что не можешь моргать. «Сухость глаз»… Да это даже близко не объясняет, на что это похоже. «Пустыня в глазах» – вот это уже ближе к правде.
– Вик…
– А в ваших источниках было что-нибудь о том, как страшно бывает ночью, когда спишь с полуоткрытыми глазами? И что пить из чашки – все равно что пытаться заарканить луну? Лучшее, на что я могу надеяться, – это что одноклассники оставят меня в покое? А знаете, что некоторые учителя говорят со мной медленно-медленно, потому что считают тупым?
Мендес поерзала на стуле.
– Не поймите меня неправильно, – продолжил я. – Я не жалуюсь. Это у меня еще легкая форма. Раньше мне хотелось быть кем-то другим, но потом…
Потом папа познакомил меня с Анри Матиссом. Художником, который верил, что у каждого лица есть свой собственный ритм. Матисс стремился в своих портретах выразить, как он говорил, «особую асимметрию». Мне это понравилось. Мне было интересно, что за ритм у моего лица, какова его особая асимметрия. Однажды я рассказал об этом папе. Папа сказал, что в моей асимметрии есть красота. Мне стало легче. Не то чтобы я перестал чувствовать одиночество, но оно как-то меньше давило. Теперь я по крайней мере разделял его с искусством.
– Но потом? – спрашивает Мендес.
А я-то уже почти забыл, что начал предложение.
– Ничего.
– Вик, я знаю, что тебе приходилось нелегко.
Я тычу обоими указательными пальцами себе в лицо:
– Вы имеете в виду мой… «недуг»?
– Я не называла это недугом.
– Ах да. «Страдает от», сказали вы. Как гуманно.
Я чувствую, как под браслетом расходятся в никуда крохотные тропинки. Мои пальцы всегда были силой, с которой нельзя не считаться. Вечно они царапают, скребут, щиплют. Браслет напоминает мне об их проделках, но пальцы сильнее. Их маленькие пальцемозги решительно настроены проверить, какой у меня болевой порог.
Я спрашиваю:
– Вы когда-нибудь слышали, что нужно пройти через огонь, чтобы стать тем, кем должен?
– Конечно, – кивает Мендес, прихлебывая кофе.
– Я всегда хотел быть сильным, мисс Мендес. Но огня как-то, по-моему, многовато.
…
– Виктор, – раздается еле слышный шепот. Мендес склоняется ко мне, и все ее существо словно переходит из защиты в нападение: – Вик, посмотри на меня.
Я не могу.
– Посмотри на меня, – повторяет она.
Я смотрю.
– Это Баз Кабонго объяснил? – Она медленно кивает. – Не бойся. Ты можешь мне сказать. Это он, да?
Я молчу.
– Давай я расскажу тебе, что, как мне кажется, произошло на самом деле, – предлагает она. – Кабонго занервничал, когда увидел свои портреты расклеенными по всему городу. Решил, что хватит прятаться. Он уговаривает вас с твоей девушкой солгать нам. Рассказать, что вы были там, где вас не было… в то время, когда вы были где-то еще… с людьми, которых вы не видели. Он знает, что алиби – его последняя надежда. Алиби, или свидетель, который переложит вину на кого-то другого. А кто подойдет для этого лучше, чем двое невинных детей? Ну что, я близка к истине?
Я ничего не отвечаю. Я кого угодно перемолчу. Каждая минута – это уже победа, пусть даже и очень маленькая.
– Я хорошо делаю свою работу, – продолжает она. – И хотя мне пока не известно, где ты был вечером семнадцатого декабря, я знаю точно, где тебя не было. Тебя не было в том доме. Ты не видел ту лужу крови. Ты не видел, как гаснет взгляд того человека, Виктор. Знаешь, почему я в этом уверена? Если бы ты все это видел, то не сидел бы сейчас в этом кресле и не тратил бы мое время на какую-то херню. Ты бы обоссался от страха, вот что.
…
…
Эти пальцемозги – жестокие создания. Они отгрызают от моих множеств целые куски.
– Кабонго полагается на твою ложь, Вик. Но знаешь, о чем он забыл? Он забыл про Матисса. Забыл про Уитмена. Забыл про искусство. А ты ведь знаешь, что общего у всех достойных произведений, да? Честность. Та часть тебя, которая знает, что к чему. И именно эта часть расскажет мне правду.
Я молча считаю до десяти под звуки Базова голоса, который все звучит и звучит у меня в голове, как заезженная пластинка. Пусть думают, что хотят. Но ты им не лги.
– Мы защитим тебя, – говорит Мендес. – Тебе нечего бояться. Просто расскажи мне, что случилось.
Отвлекающий маневр, Вик. Им будет нужно время. И мы должны дать им время.
…
…
Я склоняюсь ближе к диктофону и прокашливаюсь.
– Каждая девочка, которая пьет чай.
Мендес спокойно захлопывает папку:
– Ладно. Думаю, мы закончили.
– Каждая девочка, которая ест малиновое печенье.
Она выдвигает стул из-под стола, встает с видом человека, завершившего дело, и говорит громко и четко:
– Опрос Бруно Виктора Бенуччи III завершен сержантом Сарой Мендес в три часа двадцать восемь минут пополудни. – Она нажимает кнопку, хватает со стола кофе и папку и идет к двери. – Скоро за тобой заедет мама. А пока можешь выпить кофе – там, дальше по коридору. – Она качает головой, открывает дверь, и бормочет: – Сраное малиновое печенье.
Полицейское управление Хакенсака и комната для допросов № 3 растворяются, превращаясь в Сады Мейвуд, Парник номер одиннадцать. Я представляю себе: Баз Ка-бонго, с его спорными родительскими инстинктами и рукавом из татуировок; бесстрашная Коко, преданная до самого конца; Заз Кабонго – щелкает пальцами, пританцовывает на месте… А еще я представляю Мэд. Я помню этот момент; мой момент надрывающей сердце ясности, когда облака расступились, и я увидел все так, как не видел никогда раньше. Дело в том, что я не знал, что такое любовь, пока не увидел, как она сидит в парнике, разворачиваясь передо мной, как карта, и открывая множество неисследованных земель.
Сержант Мендес открывает дверь, чтобы уйти, а я вытаскиваю руку из-под стола и поднимаю ее. Браслет оказывается на уровне глаз. Я восхищенно разглядываю большие белые буквы на черном фоне: РСА Уолт Уитмен был прав: мы правда вмещаем в себя множества. По большей части трудные и тяжкие, и тогда это сплошные беспокойства. Но другие – о, какие же дивные!
Вроде вот этого.
Я – один из Ребят с Аппетитом.
– Я был в том доме, мисс Мендес. – Я фокусирую взгляд на белоснежных Р, С и А. Расплывчатые очертания Мендес застывают в дверном проеме. Она не оборачивается. – Я был там, – говорю я. – Я видел, как погас его взгляд.
(ВОСЕМЬ дней назад)
ВИК
«Цветочный дуэт» завершился.
«Цветочный дуэт» начался опять.
Волшебство повтора.
Я скучал по папе. Следовательно, я стоял на краю пирса.
Именно этим я занимаюсь, когда сильно скучаю по папе.
Стоять на краю пирса приходилось часто.
Я засунул руки в карманы и поднял воротник куртки, чтобы защититься от холода Джерси (он похож на злобного дракона с длинными ледяными зубами). Волосы развеваются на ветру. Ну и что, если спутаются. Мне-то какая разница.
Волосы не имеют никакого значения.
Две вещи имеют значение:
1. Эта ария, «Цветочный дуэт». Раньше она была папиной любимой. Теперь она моя любимая.
2. Подводная лодка в спячке. USS-Ling.
Когда-то великое судно, достойное морских волн, она уже давно покоится в водах реки Хакенсак; гораздо дольше, чем я живу. Лодка напомнила мне вот о чем: скаковых лошадей на пенсии отправляют на фермы для секса, где они только и делают, что размножаются с другими скаковыми лошадьми. Заводчики надеются, что лучшие лошадиные гены победят и на свет появится Суперскаковая Лошадь. (Однажды папа отвел меня на экскурсию на такую ферму; когда гид завел разговор о меринах и различных методах искусственного оплодотворения, я решил, что лучше подожду в машине.) К сожалению, в реке не водится других подводных лодок, с которыми Ling мог бы размножиться.
Следовательно, никакого подводнолодочного секса.
Следовательно, никакой Суперподводной.
Эту часть берега определили под официальный морской музей с экскурсиями и всем прочим. Музей открывался только по выходным, а значит, во все остальные дни я мог находиться тут, никем не потревоженный. Чаще всего я забредал сюда после школы. Интересно, думал я, на что похожа подлодка по ночам. Не знаю, почему меня так к ней тянуло. Возможно, потому, что ее настоящая жизнь уже завершилась, но лодка все еще была здесь, с нами. Я чувствовал с ней какое-то родство.
У меня в кармане завибрировал телефон. Я вытащил его наружу и нажал на экран, чтобы прочесть эсэмэс от мамы.
«Слушай, можешь забежать к бабушке за прошутто? Пжлст?:):)»
Эти сокращения – просто ужас какой-то. Мама все еще пользуется древним телефоном-раскладушкой, на котором, чтобы добраться до нужной буквы, надо нажать кнопку раз десять. Я не раз пытался продемонстрировать маме удобство нормальной клавиатуры, но она так и не поняла.
Я напечатал в ответ:
«С превеликой радостью и благодарностью, о благая мать, выполню я ваше желание откушать венецианского мяса, приправленного солью, этим дивным вечером. Вернусь незамедлительно и с большою поспешностью.
Навеки ваш любящий сын, Виктор. :) :) :)»
Через секунду она ответила:
«Спс, детка».
…
Спс, детка.
Я убрал телефон обратно в карман и посмотрел вдаль на Ling. Совсем недавно мама бы подыграла мне. Ответила бы так же витиевато.
Но теперь все иначе.
…
…
«Цветочный дуэт» подошел к душераздирающему припеву. Ветер все так же терзал мне волосы. Я не то чтобы особо любил оперу; я любил эту конкретную. Представлял, как эти две женщины с их головокружительными сопрано заслуживают такой же головокружительный успех. Они не пели; они летали. Однажды папа сказал, что люди не любят оперу, потому что слушают мозгами, а не сердцем. Он сказал, что у многих мозги туповаты, но сердца, как лазер, прорезают любую толщу лапши на ушах. Думай сердцем, В, говорил он мне. Именно там живет музыка. Папа постоянно разговаривал в таком стиле, потому что он был парнем, который живет настоящим моментом. Думает сердцем. Теперь таких, как мы, осталось совсем мало.
Я пнул ближайший камень, целясь в артиллерийскую установку, и позорно промахнулся. Я вслух говорил с отцом, отлично понимая, что он меня не слышит. И я себя тоже не слышал (в наушниках на полную громкость взмывали ввысь сопрано), но это было даже приятно. Говорить, не слыша себя. Я пнул еще один камень. Точно в яблочко. Камень звякнул о ствол пушки и, отскочив, плюхнулся в темные речные воды. Я улыбнулся про себя, представляя, как он погружается на самое дно, где останется навсегда. И никто не будет знать, что он там в спячке.
Совсем как Ling. Как мой голос в пустом воздухе.
Как я сам.
Отвернувшись от пирса, я перешел через Ривер-стрит, левой-правой, левой-правой, наслаждаясь одиночеством этой прогулки до «Бабушкиных деликатесов». На улице было холодно. Знаете, такой холод, который видно: дохни́ – и перед лицом поплывет, распускаясь, цветок лотоса. Такой холод, когда не знаешь: то ли небо затянуло облаками, то ли само небо цвета облаков. Холод говорил с нами целыми предложениями, и вот что он сказал: Снег уже в пути, ребята. Собирайтесь со своим мелочным, никчемным духом.
«Цветочный дуэт» подошел к концу.
«Цветочный дуэт» начался вновь.
О, эта магия повторов.
Боже, как же я скучал по папе.
Я склонился над стеклянной витриной, пытаясь вспомнить, в чем разница между панчеттой и прошутто. Не то чтобы это было важно; для лазаньи Бенуччи подходило исключительно прошутто. На меньшее она не соглашалась.
– Ты мальчик малый, так?
Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, к кому обращается мясник. Помимо меня в магазине был только грузный подросток, полностью облаченный в одежду с символикой «Нью-Йорк Джетс»: шапка, шарф, варежки, куртка. Он сидел за столиком в углу, зажав в руках сэндвич и банку колы и осматривая меня с видом любопытства, отвращения и абсолютной растерянности. Мне был хорошо знаком этот взгляд.
– Ты. – Мясник ткнул в меня могучим пальцем из-за прилавка. – Ты мальчик малый. Так?
– Ну… наверно. Я несколько маловат для своего возраста.
– Чего? Громче говори.
Фанат «Джетс» за моей спиной фыркнул. Я заправил волосы за уши и попробовал ответить покороче:
– Да. Я малый мальчик.
Я малый мальчик.
Мясник (его, если верить бейджику, звали Норм) повернулся к куску мяса на колоде:
– Ну ладненько тогда. Малым мальчикам нужно мясо. Крепит кости! Вырастешь большой, сильный. – Он улыбнулся, поигрывая бицепсом. – Как я! Ха!
Я никогда не знал, что ответить этому парню. Наполовину лев, а наполовину – почти наверняка – русский, он был покрыт неприглядно густыми волосами, которые росли из самых неприглядных мест. Да, он был тучен, но дело не только в этом. Сама его тучность – крепкая, бугристая, мясистая – выдавала человека, который не прочь отведать товара, который продает. Согласно моей теории, Норм был бывшим агентом КГБ и теперь прятался в северном Джерси, дожидаясь победы нового советского режима.
…
Прозвонил колокольчик над дверью, и вошли они. Все четверо. Как всегда, вместе.
Я встречал этих ребят в городе уже раз десять. Жизнь в Хакенсаке не то чтобы бьет ключом; куда ни пойдешь, скоро начнешь наталкиваться на знакомых незнакомцев. Обычно это происходило по чистой случайности; скорее dйjа vu, чем рука судьбы.
– Привет, Норм, – сказал старший.
Я слышал, как другие называют его Базом. Ему было лет двадцать пять или около того. Мускулистый, высокий – метр восемьдесят, не меньше. На его рубашке не хватало рукавов; от левого плеча вниз по руке бежали татуировки. Своим внешним видом он бросал вызов не только обществу, но и самой погоде. Говорил Баз с легким акцентом, который я не мог распознать, и неизменно носил бейсболку с логотипом «Трентон Тандерс».
– Да, мистер Баз. – Норм вытер окровавленные лапы о фартук, и глаза его сияли. – Я как раз думал, что, может, увижу вас сегодня. Погодите минутку. Я сейчас вернусь. – Норм исчез в подсобке.
Я стоял в углу, заправляя волосы за уши и чувствуя себя малым, очень малым мальчиком.
По не совсем понятным причинам Норм в присутствии этих ребят превращался в Суперскаковую лошадь. Даже фанат «Джетс», минуту назад буравивший меня взглядом, продолжал жевать кусок бутерброда, который откусил, когда группа только зашла. Из них сочился какой-то безрассудный энтузиазм, словно в любой момент они могли бросить все и убежать. Нипочему, просто смеха ради.
– На что уставился, пацан?
Самая крохотная в компании, эта девочка лет десяти-одиннадцати с кудрявыми рыжими волосами и вся в веснушках, носила свитер на вырост и варежки из разных пар. Она не выпускала ладонь База из своих рук.
– Коко, – сказал Баз, – не груби.
Он одарил меня быстрой улыбкой, а потом повернулся и шепнул что-то третьему в компании. Тот выслушал, энергично кивнул и дважды щелкнул пальцами. Ему было лет девятнадцать или двадцать, и кофта с логотипом «Journey» была ему сильно мала: рукава едва прикрывали локти.
Последней в группе была сероглазая девушка в облегающей сине-зеленой куртке с радужными полосками и желтой вязаной шапке; волосы у нее были такие длинные и золотистые, что не сразу разберешь, где начинается шапка и заканчиваются пряди. Желтый, радужный, серый… взрыв палитры, сошедший с ума Матисс. Она стояла в тени остальных, уткнувшись в книгу, словно книги для того и придуманы, чтобы читать их в мясницкой лавке. Ледяная, стоически прекрасная.
Я часто видел этих ребят, но очарование этой девочки поражало меня всякий раз с новой силой. Панчетта, прошутто, сраный ветчинный рулет – какая разница? Присутствие этой компании порождало во мне первобытное волнение, смесь восхищения и страха.
– Ну ладно. Знаешь что? – заявила маленькая рыжинка, выпуская ладонь База и складывая руки на груди. – Ты ужасно много пялишься. Тебе уже кто-то говорил? И кстати, это мы должны пялиться на тебя.
– Коко! – вступился Баз.
Я закрыл лицо волосами и снова повернулся к витрине с соленой свининой. К таким комментариям, особенно от детей, я уже давно привык. Но привыкнуть – не значит перестать страдать.
Норм вернулся из подсобки с объемным бумажным пакетом и швырнул его через прилавок Базу в руки. Тот улыбнулся, поблагодарил его, потом развернулся и вывел ребят из магазина. И вот они исчезли.
– Ладушки. – Норм снова повернулся ко мне. – Чего изволишь, малый мальчик?
Сквозь окно магазина я наблюдал, как ребята переходят дорогу. Они двигались как один человек… Может, мир совсем не такой, как я его себе представлял?
– Панчетта, – пробормотал я, слишком увлеченный зрелищем за окном, чтобы подумать о том, что говорю.
– Ладушки. Сколько?
Я смотрел, как они сходят с Центральной улицы, поворачивают на Банта, и скрываются за углом.
… …
– Эй, малый мальчик? Что-то не так?
Я не ответил.
Вместо этого я рванул из «Бабушкиных деликатесов» без прошутто, без панчетты, чуть не сбив колокольчик над дверью, и побежал через дорогу в каком-то помешательстве. По центральной улице – и дальше, за угол Банта. Мой маломальчиковый мозг все еще обрабатывал информацию, но сердце прорывалось через горы бессмыслицы, как настоящий рысак.
МЭД
Я перелистнула страницу «Изгоев» и в который раз пожалела, что не могу нырнуть в книгу. Нырнуть в выдумку – о, если бы случилось это «о, если бы».
– У Хааген-Даз есть хороший со вкусом кофе, – сказала Коко. – Печеньки со сливками, шоколад с зефиром, итальянское карамельное тира… Мэд, как это называется?
Я подняла взгляд: Коко стояла, прижавшись носом к холодной стеклянной витрине, и вокруг ее всклокоченной шевелюры тысяча ведерок с мороженым крутились, словно вокруг рыжего солнца.
– Тирамису, – сказала я. – Это похоже на такой мягкий пирог. Только вроде это не настоящий пирог. Но в нем есть кофе и ром.
– Да ты чё! – ахнула Коко. – Ром? Как пьют пираты? Из какой дыры я вылезла, что не знаю про тирамису? Ой, посмотри, есть со вкусом песочного теста! Это ведь твое любимое, да, Заз?
Заз уставился на витрину с мороженым, словно глядел куда-то далеко-далеко, и щелкнул пальцами. Громкий звук эхом пронесся по магазину.
«Фудвиль» на улице Банта жил неторопливо и очень, очень скучно, как раз нам по вкусу. Сотрудники снова и снова расставляли и переставляли безликие коробки с хлопьями, солеными огурцами и лапшой быстрого приготовления. Они протирали чистые полы и приклеивали этикетки на товары, где уже были этикетки, и притопывали в такт немощному ритму радио; они возводили пирамиды из консервов и трудились в дальних углах, рядом с натертым сыром, где мерцали флуоресцентные лампы.
А в самом центре «Фудвиля» стоял наш собственный маленький городок: одиннадцатый ряд, замороженные молочные десерты. Мы таращились на мороженое, словно ожидая, что это оно выберет нас.
Баз появился из-за угла, толкая перед собой полупустую тележку и устало свисая через ее край, как изможденная мать четверых детей.
В каждой семье есть нормальный член, только в некоторых, похоже, эта нормальность более нормальная.
– Ну наконец. – Коко пожирала мороженое глазами. – Мэд говорит, что тирамису – это такой мягкий пирог с настоящим ромом, как пираты пьют. Это правда? Скажи, это правда?
– Я не знаю. – Баз снял кепку и пробежал пальцами по волосам. Я уже видела этот жест раньше и знала, что он значит. Пора готовиться к урагану ярости, который обрушит недовольная Коко.
– Ну тогда мы точно должны попробовать. – Она открыла дверь морозилки. – Но давай возьмем еще какое-нибудь, а то вдруг это будет пипец отстойным.
– Прости, Кокосик, – сказал Баз. – В другой раз.
Она вздохнула:
– Ну ладно, раз только одно, тогда…
– Нет. Я имею в виду, вообще без мороженого. Как-нибудь потом, ладно?
Взъерошенные волосы Коко взлетели вверх, она резко развернулась:
– А ну-ка повтори.
– Мне заплатят только завтра. Поэтому сегодня вот. Завтра нам все равно возвращаться за вещами Гюнтера, может, тогда и возьмем мороженое. Да и это… посмотри какая на улице холодина.
– А в животе у меня не холодина. – Коко повернулась обратно к морозилке. Она протянула руку к дверце, и голос ее зазвучал выше, зазвенел серебряным колокольчиком добродетели: – Оно влезет мне под куртку, Баз. Никто и не заметит, что оно пропало.
Я не могла не восхититься: такая крошка, а способна на такие крупные гадости. Коко, она такая. Не только кожа да кости, но еще и дикая воля к жизни, боевой дух и яростная преданность, которую больше нигде и не встретишь. Когда она говорила своим тоненьким голоском, вы все равно слышали заглушенный рев за каждым ее словом.
– Мы заметим, Коко, – ответил Баз. – Ты знаешь мои правила.
За спиной раздался оглушительный грохот.
Там, в конце ряда, стоял мальчишка. Вокруг него валялись консервные банки, когда-то расставленные идеальной пирамидой, а теперь разбросанные в беспорядке, как осколки после взрыва.
– Это он, – прошептала Коко. – Тот чувак от «Бабушки». Который таращился.
Коко была права: до сегодняшнего дня мы пару раз встречали этого паренька. Длинные жирные космы, острый взгляд синих глаз… Но определяло его не это. Он носил рюкзак, синие джинсы, ботинки на шнуровке. Но определяло его не это. У него было незабываемое лицо. Во-первых, оно совершенно не двигалось. Не улыбалось, не хмурилось, не передавало никаких эмоций. Все лицо, за исключением глаз. Глаза у него были живые и яркие, но я не уверена, что заметила бы это, если бы сейчас он не смотрел на меня в упор.
Подошла юная девушка в сетке для волос. Она оглядела сцену разрушения.
– Ну что за дела! Я только закончила расставл… – Она посмотрела на мальчика и, проглотив слова, издала слабый удивленный вздох.
На секунду наступила тишина. Затем сотрудница в сетке для волос склонилась и стала подбирать банки:
– Не переживай, приятель. Всякое случается.
Парнишка вцепился в рюкзак, одарил меня прощальным взглядом, развернулся и убежал.
Я же говорила… – Коко уже успела отвернуться и продолжила изучать солнечную систему ведерок с мороженым. – Пипец он странный, этот чувак.
Заз щелкнул пальцами.
Баз подошел, чтобы помочь девушке собрать банки, а я вернулась к своей книге, притворяясь, что читаю. Притворяясь, что синева этих глаз не пронзила меня насквозь, притворяясь, что мне неинтересно, что бы сотрудница «Фудвиля» сказала этому пареньку, если бы его лицо не выглядело так, как оно выглядит.
ВИК
Я стряхнул снег с ботинок и поставил их у двери сушиться. В прихожей с важной вальяжностью расположились два гитарных чехла с нашивками: «The Cure» и знак Бэтмена.
У нас в гостях были Клинт и Кори. Сыновья Бойфренда Фрэнка.
Я совсем недавно разрушил консервную пирамиду на глазах, возможно, у самой красивой девушки на свете (а если и не самой красивой, то уж точно самой поразительной, такой, от которой прошибает пот). Присутствие Бойфренда Фрэнка – и его отпрысков, живущих в собственном мультфильме Тима Бертона, – было последним, чего бы мне сейчас хотелось.
Они выжимали из меня силы. И еще с какой вальяжностью.
Клинт и Кори не были близнецами, но вы бы их отличить не смогли. Они носили одинаковые готические наряды, и зубы их были слишком велики для черепов. Я представлял, как корни зубов у них прорастают в глубь головы и крепятся там, где полагается быть мозгу. Как и я, Клинт и Кори потеряли одного из родителей из-за рака. Но, в отличие от меня, они использовали свою трагедию, чтобы измазаться черной подводкой для глаз и основать группу под названием «Оркестр потерянных душшш». Я-то вместо этого занимался куда более разумными вещами. Например, проводил эксперимент: как сильно нужно вдавить кредитную карточку ребром в руку, чтобы пошла кровь? Мама пригласила их репетировать у нас в подвале, и вот они уже стали завсегдатаями резиденции Бенуччи.
Как я уже сказал, это все очень, очень вальяжно.
Я услышал маму; она сидела на кухне с Фрэнком, Клинтом и Кори. Дружная, счастливая семья. Их счастливые дружные голоса звенели счастливыми дружными колокольчиками из нашей счастливой дружной кухни.
Дзынь-дзынь-как-твой-дзынь-день?
Я поставил рюкзак рядом с гитарными чехлами, повесил куртку и прошел по коридору. Мама, твердо решившая не пропускать больше ни праздника, с самого Дня благодарения начала готовиться к Рождеству. Украшает дом, печет пироги, тарталетки, хлеба, торты, пудинги… «Все во славу Рождества», как она сказала уже сотню раз. Интересно, может, в этом году мы можем назвать этот праздник как-то иначе?
Впрочем, ладно.
Я ее не виню.
В прошлом году Рождество получилось так себе.
Это была первая годовщина с папиной смерти. Никаких гирлянд. Никаких пирогов. Даже елки не было. Так что, если ей теперь хотелось обвешать огоньками каждый угол и закуток в доме и разукрасить коридоры, как обезумевшей Снегурочке, я не против. Однако был в доме один предмет, не затронутый маминым безудержным энтузиазмом. Журнальный столик в прихожей.
В нем самом не было ничего особенного.
Но на столешнице стояло нечто настолько величественное, настолько огромное, что у меня дрожали колени всякий раз, как я проходил мимо.
Я безвольно наблюдал, как мои ноги в носках, обретя собственную волю, медленно пододвигаются к столику. Я стоял так близко, что мог дотронуться до него. Так близко, что мог протянуть руку и потрогать урну с папиным прахом.
У меня завибрировал телефон. Я вынул его и увидел еще одно сообщение от мамы.
«Ты где?»
Из кухни звенели счастливые дружные голоса. Дзынь-дзынь-как-прошел-дзынь-дзынь-день? Я положил телефон на столик и потянулся к папиной урне. Пальцы замерли в паре сантиметров.
Когда твои веки не двигаются, это прилично усложняет жизнь. Особенно нелегко приходится со сном и морганием. Но есть еще кое-что, о чем многие не задумываются: воображение. Представьте, как вы воображаете себе что-то, какое-то место или предмет. Вы ведь закроете глаза хоть на секунду? Такое вот долгое моргание.
Для меня это было настоящей проблемой, пока папа не научил меня уходить в Страну Ничего. Он сказал, что люди закрывают глаза, воображая что-то, потому что им нужно пустое пространство, с которого можно было бы начать. Он объяснил, что видит, когда закрывает глаза. Что это не чернота или темнота… а просто пустота. И найти что-то можно только погрузившись в ничто, Вик.
А теперь он сам был воплощенным Ничем.
Теперь он был в банке.
Я отправился в свою Страну Ничего и представил, как папа заглядывал ко мне перед сном.
Эй, Вик. Нужно что-нибудь?
Нет, пап.
Все хорошо?
Да, пап.
Ну тогда хорошо. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, пап.
Мне тогда казалось, что он ужасно мне надоедает. И вот, стоя в носках в забытьи темного коридора, вытянув руку вперед, я застрял между чем-то и ничем, недоумевая, как эта обычная, ничем не примечательная урна способна источать жар тысячи пустынь.
Папа умер два года назад. И я до сих пор не мог дотронуться до урны.
– Обед просто бомбический, Дорис. – Фрэнк перевел взгляд на сыновей. – Скажите, мальчики, еда просто шик!
Клинт прокашлялся:
– Да, пап, точно.
Кори хмыкнул и кивнул.
– И как у тебя получается, что эти… – Фрэнк ткнул в картофелину, подыскивая слова. – Хрустящие кусочки… и пряности… как ты делаешь их такими…
– Хрустящими и пряными? – спросила мама.
Фрэнк рассмеялся, склонился к ней и чмокнул в щеку. Его рука под столом дернулась в ее направлении. Я поперхнулся, каким-то чудом не скончавшись прямо на месте.
– Честное слово, с картошкой я ничего не делала. Но я с радостью передам твои восторги повару с фабрики замороженной картошки. Я собиралась сделать свою знаменитую лазанью, но кое-кто забыл купить прошутто.
Она устремила взгляд на меня.
– Ага, – сказал я, прочистив горло. – Прощения прошу. Я вообразил лицо Стоической Красавицы и твердо знал, что никакого прощения я не прошу, совсем, ни капельки.
– Я мог бы купить прошутто по пути из суда, солнышко. – Фрэнк нагреб себе на тарелку стручковой фасоли.
Фрэнк любил говорить про суд. Суд то, суд это. Разговоры о суде делали бойфренда Фрэнка в собственных глазах Фрэнком-Суперскаковой-Лошадью.
Но на самом деле он был больше похож на французского пуделя.
– На самом деле я даже позвонил узнать, не нужно ли тебе чего, но ты не ответила. Я бы оставил сообщение, но…
– Знаю, знаю.
– Кое-кто по совершенно необъяснимой причине отказывается чистить голосовую почту.
– Знаю, – ответила мама, широко улыбаясь. – Вот сегодня этим и займусь. Хорошо?
Фрэнк склонился к ней и зашептал:
– Сегодня ты точно этим займешься.
– Фу, пап, – сказал Клинт.
Кори поперхнулся и потряс головой.
Я глотнул газировки, размышляя, а что случится, если я сейчас перегнусь через стол и влеплю бойфренду Фрэнку пощечину.
Фрэнк был полной противоположностью папе: элегантный, успешный, с пышной шевелюрой. Совершенно неспособный на тонкость чувств. Он был громогласным, пожирающим стручковую фасоль юристом и неизменно ходил в костюме. Я ни разу не видел его в чем-либо еще. Наверно, он просто влюблен в костюмы. И наверно, в этом нет ничего особо значительного, но мне это было важно. Папа часто ходил в магазин в пижамных штанах.
Да и я тоже из таких.
– Ну, ребята, – сказала мама, – как поживает ваша группа?
– Хм… – Клинт быстро кинул взгляд на отца. – Ну это. Хорошо, миссис Бенуччи. Правда, хм, хорошо. Так, Кори? – Он пихнул брата локтем под ребра. Кори тут же перестал жевать и сосредоточился на хмыканье и кивках.
Фрэнк положил на тарелку третью порцию фасоли.
Мда уж. В фасоль он, видимо, тоже влюблен.
– Вот и отлично, – сказала мама. – Может, вскоре мы услышим что-нибудь из вашего? Ну, вроде концерта. Ты согласен, а, Вик?
Я поднял свой тонкостенный стакан в ироническом тосте, опустошил его до дна и поднялся.
– Ты куда? – спросила мама.
– Возьму еще газировки.
Клинт кинул вилку на тарелку, встал и схватил мой пустой стакан.
– Я налью. – И он скрылся на кухне, оставив нас недоумевать, что же, черт возьми, только что произошло.
Клинт редко вызывался кому-то помогать, а уж особенно мне.
– Как мило с его стороны, – засияла мама.
– Он очень милый пацан, – сказал Фрэнк с набитым ртом. Я мысленно прошелся по списку неопределяемых ядов, которые можно найти у нас на кухне. Чего-то такого, что Клинт сможет подбросить мне в напиток. Он вернулся через минуту, поставил передо мной бокал и сел на свое место, не говоря ни слова. Мама продолжила говорить. Что-то насчет того, как она счастлива, что мы все хорошо ладим. Я не особо прислушивался. Меня больше занимал тот факт, что Клинт заменил мой стакан папиным любимым пивным бокалом с логотипом «Метс». Бокал был из толстого стекла, а значит, я почти наверняка пролью на себя газировку, пока буду пить.
– У Клинта и Кори особые отношения, – сказал Фрэнк. – Особенно если вспомнить, что они погодки. Даже одеждой меняются.
Я обхватил бокал, но поднимать не стал.
– Что-то случилось? – с едва заметной улыбкой спросил Клинт.
Кори хмыкнул, кивнул, прожевал кусок.
Клинт с Кори предпочитали гадить исподтишка. Они не смеялись над моим лицом, как обычные дети. Они понимали: чтобы боль длилась дольше, нужно докопаться до ее оснований.
– В смысле генетики, – гудел Фрэнк. – У братьев ДНК так же похожи, как и у детей с родителями. – Он запихнул в рот фасоли, словно ставил точку в конце предложения.
– Ты просто кладезь знаний, Фрэнк, – сказала мама, не замечая папиного бокала. Либо предпочитая не замечать.
С тех пор как отношения мамы с Фрэнком стали серьезными, наши с ней сократились до минимума: минимум слов, прикосновений, чувств. Ее красота поувяла в Темные Дни, но и оставшейся хватало с избытком. Волосы у нее, как и улыбка, были яркими и юными; морщины у глаз стали заметней, но разве можно было ожидать иного? С самого диагноза до похорон она не отходила от папы ни на минуту. Было всего три причины, по которым она соглашалась покидать дом в Темные Дни:
1. Продукты.
2. Лекарства.
3. Процедуры.
После диагноза папа прожил еще полтора года. Доктора говорили, что это редкий случай. Говорили, что он – боец. Говорили, что ему повезло.
А я сказал, что если они считают, что папе повезло, то пусть проверят голову. По крайней мере, у него была мама, которая ухаживала за ним. Полтора года она жертвовала всем, чтобы папе под конец жизни было удобнее. Разве не должен я теперь за нее радоваться? Разве она этого не заслужила? Разве не должен я встречать бойфренда Фрэнка с распростертыми объятиями? Конечно да. На все три вопроса. Но в глубине души я думал о жертвах, на которые она пошла, и сравнивал их с тем, что она получила взамен.
– Это и в литературе есть, – как по команде, снова заговорил Фрэнк.
Он снова отправил в рот порцию стручковой фасоли, и я с трудом удержался, чтобы не спросить, не нужна ли ему вторая вилка. Ну, чтобы по одной в каждую руку.
– Помните, в этом русском романе про четырех братьев, – продолжил он. – Как их там… Ох, никогда не могу запомнить название.
Я посмотрел на маму. Решится ли она посмотреть на меня. Хоть раз за вечер посмотреть мне в глаза. Хоть раз забыть о нашей азбуке Морзе и заговорить, как в старые времена.
– Ну вот, теперь не успокоюсь, пока не вспомню. – Фрэнк даже перестал пихать в рот фасоль. – Братья какие-то там. Толстой… известный же такой роман…
– Карамазовы, – тихо сказал я, не отводя взгляда от мамы.
Улыбка на ее лице растворилась. Медленно, медленно она перевела на меня глаза. Наконец-то. На пару секунд стол тоже растворился. Фрэнк, Клинт, Кори… Все исчезли. Остались только мы вдвоем. В грустном доме, полном счастливых воспоминаний. Мы смотрели друг на друга, пока она не отвернулась в сторону. И тогда я понял, что потерял ее.
Я отодвинул тарелку, заткнул волосы за уши и поерзал на сиденье.
– Фрэнк, вы тупой кретин.
– Виктор! – закричала мама.
Фрэнк, на секунду оглушенный, повернулся помочь Клинту, который внезапно поперхнулся хрустящей картофельной корочкой. Кори жевал, хмыкал, кивал.
Мама грозно поднялась из-за стола:
– На кухню! Сейчас же.
Я, не торопясь, встал, с силой отодвинув стул от стола и последовал за ней на кухню. Гирлянда рождественских огней валялась у холодильника: так гравитация за три недели победила скотч. Столешница была заляпана мукой, сахаром и яйцами: следы недавнего маминого романа с выпечкой.
– Давай объясняй, – она сложила руки на груди.
– Что объяснять?
– Это было чудовищно грубо.
– А что я мог поделать? Твой бойфренд типа так хорошо разбирается в хромосомном наборе родственников, но при этом думает, что Толстой написал «Братьев Карамазовых». И я почти уверен, что он прекрасно помнил название, но боялся, что произнесет его неправильно.
– Солнышко… – начала она.
– Может, если он на время оторвется от бесконечных биографий Черчилля, то сможет посвятить время…
– Виктор.
– Что?
– Говори, в чем дело.
…
…
– В литературном мастерстве Федора Достоевского.
Мама не засмеялась. Даже не хмыкнула.
– У всех разные вкусы, Вик. В отношениях нельзя руководствоваться литературными предпочтениями.
Я почувствовал, что пытаюсь улыбнуться. Такое иногда случалось. Удивительное дело: у меня ни разу не получилось, ни разу за всю жизнь, но желание никуда не уходило. Мама раньше говорила, что по глазам замечает, что я смеюсь. Говорила, что они как-то меняются. Что радости в них хватает на все мое лицо.
– И что тут смешного? – спросила мама.
Предательские глаза.
– Ничего смешного. – Я тоже сложил на груди руки. – Разве что-то вообще бывает смешное?
На секунду воцарилась тишина. Мама положила мне на плечо руку:
– Я знаю, что все это тяжело. Это… Ничто не дается нам легко. Но помнишь, о чем мы говорили? Что надо двигаться дальше?
Я сглотнул комок в горле, когда она притянула меня к себе. Конечно, я помнил. Как я могу забыть?
В последнее время она постоянно распространяется об исцелении, о том, как важно позволить себе окунуться в океан горя, а потом осознать, что настал момент выбраться и высушиться.
Видимо, мама уже давно стала суховатой.
А я камнем шел на дно.
– С Фрэнком я счастлива, солнышко. Во всяком случае, мне не грустно. И мне бы хотелось чувствовать это почаще, понимаешь? И еще мне бы хотелось, чтобы ты тоже так себя чувствовал. Может, не с Фрэнком, но хоть с кем-то. Или с чем-то.
Я вообразил стук в дверь. Войдите, скажу я. Бойфренд Фрэнк приоткроет дверь и засунет в проем волосатую голову. Эй, Вик. Тебе что-нибудь нужно? Я кивну. Иди прыгни с моста, Фрэнк.
Мама обняла меня.
И я почувствовал, что это наш последний обед вместе. Спс, детка.
Я попытался обнять ее в ответ, но руки безвольно свесились вдоль моего тела: нелепые ветки, слишком длинные, слишком слабые.
– Он дал мне папин бокал, – сказал я тихо.
– Что?
– Клинт. Когда он пошел мне за колой. – Внезапно в объятиях появляется какая-то сдержанность, нерешительность, которой не было секунду назад. – Он поменял мой стакан и дал мне папин. Они ужасные, мам. Они меня ненавидят.
… …
– Они тебя не ненавидят. Они просто пока тебя не знают. Пока.
Такое коротенькое слово, а переворачивает все предложение с головы на задницу.
– Я поговорю с Фрэнком, – сказала она. – Кстати, о Фрэнке. Ты должен перед ним извиниться.
Я кивнул, и мама выпустила меня из объятий, шагнула к двери, потом в столовую, навстречу своей новой семье, прочь от меня.
– Но вообще-то это неправда, – сказал я, глядя на упавшую струну гирлянды.
– Что неправда?
Когда я решил, что надо это сказать, слова выпрыгнули сами.
– Вам с папой нравились одни и те же книги.
Наблюдая за тем, как слезы набежали ей на глаза, я ощутил странное чувство облегчения. Он все еще был ей важен. То, что было у нас, было важно. Мама могла сколько угодно флиртовать, улыбаться и печь миллиард пирогов, но ее глаза тоже умели предавать. Они рассказали мне все, что я хотел узнать. Что бы там ни было между ней и Фрэнком, не шло в сравнение с тем, что было у них с папой. И она сама это знала.
Мама сморгнула слезы, натянуто улыбнулась и открыла дверь в столовую:
– После тебя, золотце.
Я стоял, примерзнув к полу.
Я стоял, уставившись внутрь.
До чего вальяжно.
– Вик? – Мама повернулась и заглянула в дверь. – Что…
В столовой Клинт с Кори стояли на стульях, повесив гитары через плечо.
– И раз! И два! И три! – взвопил Клинт хрипло – хрипло больше обычного.
«Оркестр потеряных душшш» вгрызся в песню с тем особым энтузиазмом, который ведом только людям, не подозревающим, что они не умеют петь. До чего неловко. Я весь вспотел. Всем, всем неловко. Фрэнк сидел на своем стуле и, не отрываясь, таращился на маму с каким-то напряженным видом. Когда песня подошла к концу, он сказал:
– Я понимаю, что время сейчас… ну, не совсем подходящее. – Он перевел взгляд на меня. – Вик, я надеюсь, ты воспримешь это как доказательство моей любви и преданности. И тебе, и твоей маме.
Не успел я спросить, что это значит, Фрэнк прокашлялся и поднялся с кресла. Я все ждал, когда он встанет, но этого не случилось.
Бойфренд Фрэнк опустился на одно колено.
Бойфренд Фрэнк засунул руку в карман.
Бойфренд Фрэнк достал кольцо.
Бойфренд Фрэнк хотел стать Мужем Фрэнком.
Новым Папой Фрэнком.
Мама закрыла рот обеими руками, а я беспомощно наблюдал, как перед моими глазами разворачивается эта сцена.
– Дорис Джекоби… – сказал Фрэнк.
Как интересно, подумал я. Он нарочно опустил фамилию Бенуччи.
– …сделай меня самым счастливым мужчиной на свете. Я тихо наблюдал за матерью. Странно. Она все еще не выбежала, вопя, из дома, не понеслась по улице, вырывая на бегу клоки волос, разрывая на себе одежды и восклицая в ужасе и тоске… Она даже не рассмеялась, не выхватила папину урну из коридорной темноты и не швырнула ее Фрэнку в лицо со словами: «Я уже занята, сучонок!»
Пока что она ничего такого не сделала.
Как странно.
– Выходи за меня.
Кто-то закричал.
Все посмотрели на меня.
Крик – по моей оценке, самая разумная вещь из всех, что случились за последние пару минут, – вырывался из моего собственного рта. Или из чрева. Или изо рта. На самом деле, из всех их вместе.
Я закричал снова. Казалось, это правильный поступок.
И снова.
Да, кричать во всю глотку – это самое уместное, что можно было сделать.
Без слов. Животные крики сотрясали мое тело.
Откуда-то сверху, с потолка, я увидел, как Вик бежит из кухни. В коридоре он преодолел свою неспособность прикоснуться к папиной урне и просто схватил ее в руки. Он ощутил тяжесть урны. Какая тяжелая. Мне не стоило удивляться, подумал он. Я держу в руках всего отца, того самого лысого мыслителя сердцем, который научил меня находить красоту в асимметрии, привел меня в Страну Ничего, подарил мне парящие сопрано. Его прах должен быть еще тяжелее. Вик засунул урну в рюкзак, скользнул ногами в ботинки, натянул куртку и рванул на улицу. Ему надо было унести папу из этого места, от этих возмутительных «дзынь-дзынь-как-прошел-твой-дзынь-дзынь-день», от счастливых дружных голосов. Он должен был найти место, где его отец, последняя и величайшая в мире Суперскаковая Лошадь, мог бы упокоиться с миром.
И он знал, куда понесет папу.
МЭД
Родиться 31 декабря – значит наблюдать, как целый мир празднует в твой день рождения что-то другое. Но мама видела это иначе. Она называла меня своим подарочком на Новый год, говорила, это значит, что я особенная, предназначенная для великих свершений. Я была немного младше всех в классе – мама сказала, что в этом была моя изюминка. Я раньше закончу школу, раньше узнаю мир и, может, найду то самое великое свершение, для которого предназначена.
Я зажгла сигарету, от души жалея, что мамы нет рядом. Затянуться. Выдохнуть.
Успокоиться.
Снег все падал и падал, ветер все дул и дул с реки, а я смотрела на подводную лодку, размышляя о превратностях своего прошлого и пытаясь предугадать, что ждет меня в будущем. Через три недели, на Новый год, будет мой новый день рождения, и свобода восемнадцати обрушится на меня всеми почестями и привилегиями совершеннолетия. Во-первых, я официально смогу спасти нас с Джеммой от железной хватки дяди Леса. Я и сейчас могла спокойно исчезать на сколько захочу; он то ли не замечал, то ли не возражал. Но пока что мне приходилось возвращаться. Джемма меня почти не узнавала, но я все равно возвращалась, всегда. В последнее время я много думаю о любви и о том, как она не зависит от того, кто ее получает. Только от того, кто дает. Неважно, узнает ли меня бабушка. Я слишком ее любила, чтобы оставлять прикованной к дяде Лесу.
Приди же, восемнадцатилетие, со всеми своими дурацкими почестями и привилегиями.
Проблема была в том, что, совершеннолетняя или нет, я понятия не имела, куда нам идти и как туда попасть. Я бы не стала выбирать место слишком далеко отсюда; мысль о том, чтобы расстаться с Базом, Зазом и Коко, была почти так же невыносима, как и перспектива потерять Джемму.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
Я часто представляю себе различные ситуации в виде диаграмм Венна. В данном случае диаграмма получалась чрезвычайно тупой, где A = {Человек, Который Знает, Что Делать}, B = {Человек, Который Понятия Не Имеет, Как Сделать То, Что Нужно} и их пересечение = {Мэд}.
Я затушила последнюю сигарету, надвинула вязаную шапку на уши и подула теплым воздухом на пальцы. Почему-то сидение у Ling по ночам помогало мне думать. Словно душа и сердце подводной лодки составляли мне компанию. Черная зимняя вода шла рябью, и тысячи снежинок друг за другом растворялись, едва прикоснувшись к реке Хакенсак. Интересно, днем тут так же красиво?
И как раз когда я собиралась встать и уйти, я услышала за спиной шаги.
Музей уже был закрыт, и хотя раньше у меня никаких проблем не случалось, я не была уверена, можно ли мне находиться тут после закрытия.
Там, метрах в двадцати вниз по реке, кто-то шел мне навстречу. Я замерла, наблюдая, как фигура подходит к забору, отделяющему землю от воды, и просунула руку сквозь металлическую сетку. Через секунду он огляделся, и в снежном свете луны я увидела знакомое незабываемое лицо: паренек из «Бабушки» и «Фудвиля».
Послушайте, я не то чтобы верю в разумную Вселенную или высший порядок. У меня нет никаких доказательств, что судьба вмешивается в наши жизни, как полубог из трагедии, и играет людьми, словно шахматными фигурами. Так что, может, это волшебство подлодки вынудило меня заговорить с этим парнишкой, ну или просто тот факт, что я видела его до сегодняшнего дня от силы раза три… И три раза за один сегодняшний день. Или ладно, черт с ним, может, полубог из трагедии и правда передвинул меня, как пешку на шахматной доске. Как бы там ни было, я внезапно поняла, что иду ему навстречу.
Манифест Мэд гласит: когда вселенский разум расставляет фигуры на доске, вставай на место ферзя.
Между нами оставалось полметра. Я видела, как белые провода наушников вьются ему в уши. Он встал на колени и достал что-то из рюкзака… Какой-то кувшин, что ли, или кастрюлю… Склонился к горлышку.
– Надеюсь, ты был прав, – прошептал он. – Надеюсь, в моей асимметрии есть красота.
Э-э-э, ладненько.
– Ты не надоедал, – продолжал он, и слова росли и становились громче в холодной заснеженной тишине. – Ты был Северным Танцором, племенным скакуном, самым суперским из всех скаковых коней.
Вне всяких сомнений, это был один из самых странных монологов, которые мне приходилось слышать. А ведь я живу с Коко, учтите!
Я наблюдала, как он сорвал липкую ленту и отвернул крышку кувшина. Его тело сдулось, словно до этого момента все было наполнено воздухом, энергией, ожиданием, а теперь… а теперь нет. Я развернулась – быстро, тихо. Почувствовала, что меня здесь быть не должно. И тогда…
– Эй!
Застигнута с поличным.
Я повернулась.
– Эй!
Парнишка неловко поднялся со снега.
– Что ты тут делаешь?
Какой удивительный первый вопрос. «Что ты тут делаешь?» предполагало, что вопрошавший тебя знает. Другое дело: «Кто ты?»
– Мне нравится приходить сюда по ночам, – ответила я.
Совсем не похоже на ответ серийного маньяка, что вы. Он издал короткое «а», словно я сказала что-то нормальное, а потом склонился, завернул крышку и пихнул кувшин обратно в сумку.
– А ты что тут делаешь?
Он достал носовой платок и вытер рот:
– Мне сейчас нельзя домой.
Мне тоже. Я кивнула, откинула волосы с лица и подумала о том, что он сказал, пока не знал, что я слушаю. Надеюсь, в моей асимметрии есть красота. Может, в этом и дело: легкая асимметрия в сочетании с полной неподвижностью черт. Его лицо не было отталкивающим. Совсем, совсем нет. Оно было совершенно уникальным. И я была невольно заинтригована.
Я достала пачку сигарет, протянула ему одну, но он отказался. Я закурила.
Затянуться. Выдохнуть.
Согреться.
– То есть это… Я не знаю, куда мне идти, – сказал он. – Но домой мне нельзя.
– Ага.
– Долгая история.
– У меня тоже некороткая.
Затянуться. Выдохнуть.
Согреться.
Я наблюдала, как дымок поднимается в холодное ночное небо.
– Но, может, смогу помочь тебе с жильем.
* * *
Я должна была умереть.
Эта фраза постоянно крутилась у меня на кончике языка. Особенно когда я говорила с незнакомцами. Оно и понятно: нам наплевать на их чувства, не то что с членами семьи или близкими друзьями. Может, поэтому многие бросают супругов ради незнакомцев, которых встретили в Интернете. Ничего не стоит рассказать незнакомцу всю свою жизнь.
– Как насчет такого плана, – сказала я, сворачивая на Мерсер-стрит. – Я не буду спрашивать, как тебя зовут, и не буду спрашивать, почему ты не можешь пойти домой. Я даже не спрошу, что у тебя в этой вазе.
– Ладно.
– Но я спрошу тебя про Северного Танцора и про сверхскакового коня, и все вот это.
– Супер, – сказал он.
– Ну и отлично.
– Что-что?
– А что?
– Нет, я имел в виду… – Он покачал головой, опять достал платок и вытер рот. – Я имел в виду, не сверхскаковая лошадь. А Суперскаковая.
– Ладненько.
– Папа называл себя энтузиастом конного спорта. Был помешан на скачках. Он даже ставок не делал, просто любил смотреть. И в какой-то момент заинтересовался самими конями, их родословными и все такое. Мог рассказать все о самых быстрых скакунах, их М и О.
– М и О?
– Матерях и отцах. Так их обозначают в родословных. Однажды мы поехали на ферму, туда где-то час дороги. Они там забирают лошадей, которые слишком старые для скачек, или получили травму, и увозят их на эту ферму. Надеются, что их потомки станут еще лучшими скакунами. Или еще это… иногда собирают, эм… семя коня и, хм… впрыскивают в кобылу.
– Мерзость какая.
Он кивнул и на ходу перевесил рюкзак на другое плечо.
– Папа иногда, когда починит кран, выиграет в настолку или угадает ответ в «Поле чудес»… Он иногда называл себя Суперскаковой лошадью. Ну так вот, отвечая на твой вопрос, Северный Танцор стал отцом нескольких самых быстрых лошадей в мире.
Мы свернули на Стейт-стрит, прошли полицейский участок, и я заметила, что он говорит об отце в прошедшем времени. Я промолчала. А то вдруг еще спросит о моих прошедших временах.
– А как насчет такого, – сказал он. – Я не буду спрашивать, как тебя зовут, и не буду спрашивать, что ты делала одна ночью на реке. И про ребят, с которыми я тебя видел, не спрошу. А вот про твоих О и М спрошу.
– У меня их нет.
– Я имел в виду твоих родителей.
– Я знаю, что ты имел в виду.
Вот тебе и не собиралась говорить о прошедшем времени.
– Так эти ребята, с которыми ты гуляешь…
– Те самые, о которых ты не собирался спрашивать? – Я искоса улыбнулась ему. – Да все в порядке, чувак. Они мне как семья. Мы никому не нужны, поэтому мы нужны друг другу.
Нам оставалось идти минуты две-три, и я могла бы на этом и закончить. Но я не закончила. Я подула на руки, чтобы согреться, и сказала:
– Ладно, ты рассказал мне про своего папу, а я расскажу тебе про мою маму. У нее был такой плакат в рамке. С кучей многозначительных цитат. Она заказала его на каком-то многозначительном сайте и повесила в коридоре. И сделала из него своего рода личный манифест. Начни делать то, что любишь. Все эмоции прекрасны. Когда ешь, наслаждайся каждым кусочком. Такая вот фигня. Я приходила домой из школы, а мама стояла одна-одинешенька в коридоре и читала вслух свой плакат. – Мы пересекли улицу Банта. До Салема оставался один квартал. – Ну я тоже начала читать их вслух. Так хорошо запомнила, что могла лежать ночью, уставившись в потолок, и декламировать их по очереди. Мне казалось, что раз мама так верит в свой манифест, что-то должно в нем быть особенное. А потом мы как-то возвращались с семьей из магазина, и в нас влетел пьяный водитель. Маму с папой насмерть. Я должна была умереть. – Вот она, эта фраза, во всем великолепии выбралась наружу. – Но у меня осталось только вот это. – Я отодвинула шапку от уха и показала шрам на виске. Я сбривала волосы с той стороны чтобы показать, что я ничего не прячу и не стыжусь, что я не боюсь своего прошлого. Мой шрам был боевым ранением, живым подтверждением моей победы. – В общем, мамин манифест был херней собачьей.
Я замолчала, хотя это был далеко не конец. Я не рассказала ему про свой манифест Мэд, полную противоположность маминому многозначительному плакату. Это было знамя, которое я несла с гордостью. Оно призывало меня к независимости, самостоятельности и бесконечной борьбе за выживание.
Пусть этот мальчишка и был незнакомцем, такими вещами я не собиралась делиться ни с кем.
* * *
Между улицами Банта и Салем я свернула в узкий проулок, известный в городе как Желоб. Тут что ни день случались то облава на наркоторговцев, то грабеж. Желоб соединял Мейн-стрит и Стейт-стрит и назывался так из-за того, что в нем совершенно отсутствовали окна. Словно архитекторы забыли нарисовать их на своих чертежах. А вот дверей было несколько: задние ходы магазинов, в которые сбрасывали мусор и все такое. Все двери запирались изнутри. Отсутствие окон и невидимость для прохожих делали Желоб рассадником всяких преступников.
Я подошла к одной из запертых дверей:
– Вот мы и пришли.
ВИК
– Что? Сюда?
Стоическая Красавица достала из заднего кармана ключ.
– Я тебя умоляю, – сказала она. – Я бы и злейшему врагу не пожелала ночевать в Желобе. Нет, нам внутрь.
На улице было совсем темно; единственным источником света служил фонарь вдали. Его свет отражался в снегу. Я сунул руку в карман, чтобы посветить телефоном, но вспомнил, что оставил его дома. Она возилась с замком, а я притворялся, что наблюдаю за тем, как она возится.
А вот за чем я наблюдал на самом деле.
1. За ее желтыми волосами, жидким солнцем сочившимися из-под шапки, как жидкое солнце.
2. За ее бледными щеками, раскрасневшимися на морозе.
3. За очертаниями ее плеч под курткой.
4. За очертаниями ее талии под курткой.
5. За очертаниями ее задницы под курткой.
6. За ее ногами.
7. За ее разрисованными «Найками».
Какой же я жалкий.
– Тут у нас не «Хилтон», – сказала она, открывая дверь и включая свет. – Но теплее, чем ночевать у реки. Надеюсь, эта мысль скрасит твои впечатления. Должна бы скрасить.
Мы зашли внутрь, и я ощутил вонь комнаты. Неудивительно, что тут стояла такая густая, гнилая и плотная вонью. С потолка свисали свиные туши, шесть штук. На полу крохотными красными лужицами блестели пятна водянистой крови. Как очаровательно. Как мерзко. Я натянул воротник на нос:
– Санэпиднадзор бы это местечко не одобрил.
– Еще бы, – отозвалась Стоическая Красавица, засовывая ключ обратно в карман. – Перед проверками тут все, разумеется, вычищают. А потом все возвращается на круги своя. Сам видишь, какие тут круги. Но, опять же, насмерть тут не замерзнешь. Так что радуйся.
Интерьер из свиных туш дополняли промышленных размеров печь, посудомоечная машина и письменный стол, заваленный документами и бланками заказов.
– Значит, договорились, – сказала она, поворачиваясь к двери. – Мы вернемся утром.
– Мы?
– Не волнуйся. Норм обычно не появляется на работе часов до одиннадцати.
Внезапно у меня в голове начала складываться ясная картина.
– Так это подсобка «Бабушки».
Стоическая Красавица кивнула:
– Хороших снов.
– Подожди секунду.
У меня были важные вопросы. Вопросы, прожигавшие дыру в моем мозгу. Я начал с того, который казался мне самым важным.
– Как тебя зовут?
…
– Это против правил, – сказала она.
– Каких правил? Не было никаких правил.
– Правил касательно вопросов. Мы установили их в ходе нашей предыдущей беседы.
Я не мог понять, шутит она или нет. Если да, то ничего милее я в жизни не видел. Если нет… черт, все равно ничего милее не видел.
– Меня зовут Мэделин. Сокращенно Мэд.
Она достала пачку сигарет из заднего кармана и закурила.
– А я Вик, – ответил я. Пока что все идет отлично. Надо продолжать в том же духе. – То есть меня называют Ви-ком. – Ладно, теперь достаточно. – Это значит, что на самом деле меня зовут Виктор. – Все, чувак, ты покойник. – Но это… При этом Виктором-то меня никто и не зовет… – Всем постам! Срочно отменить операцию! – Ну да, просто Вик.
Как быстро я научился презирать себя от всей души. И тут, о чудо, случилось чудо из чудес: Мэд слегка улыбнулась.
Сердце у меня слегка остановилось.
И она ушла.
* * *
Убитые свиньи устроили газовую атаку не хуже агентов КГБ.
Я не стал снимать куртку и ботинки. Сунул рюкзак под металлический письменный стол и нырнул следом. В мире мясницких подсобок чем дальше ты от истекающих кровью трупов, тем выше цена недвижимости. Уют тут был довольно специфический, напоминавший о сведенных конечностях. Я достал из рюкзака четыре предмета.
1. Капли от сухости в глазах, которые я тут же закапал.
2. Мои наушники, которые я засунул в уши.
3. Мой айпод, который я включил, сделал погромче, и поставил «Цветочный дуэт».
4. Мой папа. В урне.
Я мысленно пнул себя за то, что оставил телефон дома. Хотя кто бы мне стал звонить? И, главное, зачем? Однако в ощущении, что до тебя могут дозвониться, был какой-то комфорт. Особенно если учесть мое текущее местоположение. Однако я покидал дом в спешке: если верить часам на моем айподе, это случилось меньше часа назад – разве такое вообще возможно? Я убежал с одной-единственной мыслью: забрать папу из этого дома. Эта мысль разрослась в шекспировский сюжет: я собрался бросить его останки в реку Хакенсак, где он навеки упокоится с подводной лодкой и не узнает о трагических событиях, которые неизбежно свершатся в тоскливых руинах имения Бенуччи в ближайшие месяцы или даже годы. Но затем на брегах реки под пение парящих сопрано я открыл урну. И увидел то, чего вовсе не ожидал.
Представьте себе: среди миллиардов людей, населяющих землю, есть один, который вам важен. Вы живете с ним и любите его. И вот этот человек умирает и, сгорев, рассыпается на миллиарды микроскопических кусочков. Эти кусочки помещают в некую емкость. Миллиарды к одному, один к миллиардам, миллиарды к одному. Иногда мне кажется, что любовь заключается в цифрах.
И теперь, в сени свисающих свиных туш, я смотрел на папину урну. Я отлепил липкую ленту, поднял крышку и отправился в свою Страну Ничего.
Эй, пап. Тебе что-нибудь нужно?
Нет, Вик, сказал бы пепел моего отца.
Все хорошо?
Да, Вик.
Ну вот и ладно. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, Вик.
Насколько мне известно, в обычных урнах содержится только прах, ничего больше. Тогда получается, что эта урна не была обычной. Потому что в добавление к пеплу в папиной урне содержался пакет на застежке, а в пакете фотография. Старый полароид: мои родители, свежелицые, энергичные, юные. Они стоят где-то очень высоко, на крыше небоскреба, и за их спинами простирается Нью-Йорк. Юная Дорис улыбается в камеру. Юный Бруно улыбается юной Дорис.
Юные родители влюблены.
Это было счастье, которое я едва помнил; оно казалось мне чуждым и далеким, как Сингапур. Я знал, что люди ездят в Сингапур, а некоторые там даже живут. Я видел Сингапур на картах, на глобусе, по телевизору. Исходя из всего этого, я знал, что Сингапур существует на самом деле, хотя я ни разу там не был и понятия не имел, как туда добраться.
Счастье было похоже на Сингапур.
Но урна была особенной не только из-за фотографии. В ней был незапечатанный конверт без адреса, без марок. Я достал из него листок линованной бумаги, развернул и прочел…
Моя Дорис,
мне кажется несправедливым, что записки оставляют только те, кто заканчивает жизнь по собственной воле. Я не выбирал смерть; смерть выбрала меня сама. Поэтому считай это моей Окончательной Запиской.
Я думаю, большинство людей за жизнь способны на один Великий Поступок. С того мгновения, когда мы с тобой, не раздеваясь, прыгнули в тот бассейн (дом Эмили Эдвардс, одиннадцатый класс, ты тогда напилась, но я знаю, что ты помнишь этот эпизод, хотя и притворяешься, что не помнишь), до пяти минут назад, когда ты поцеловала меня в лоб, пообещала привести Вика в субботу, а затем, в своей обычной манере, споткнулась по пути к двери (ты думала, я не вижу, но я очень даже хорошо видел!), и все, все остальное время – все эти несовершенные прекрасные секунды – ты была моим Великим Поступком.
Столько воспоминаний.
Когда ты прочтешь это, станет ли их больше? Улыбаешься ли ты сейчас, думая о чем-то смешном, нелепом или грустном, что случилось между моментом, когда ты споткнулась, выходя из больничной двери, и моей смертью? Надеюсь, что да. Очень надеюсь. Но я чувствую, Дорис. Я чувствую, как она подходит. Я не боюсь. Может, мне бы хотелось прожить дольше, пережить больше, но я ни о чем не жалею. Вы с Виктором – мой север, юг, восток и запад. Вы – мое Повсюду.
Разве могу я потеряться?
Ты знаешь все места в списке. Отнеси меня туда, пожалуйста.
Пока мы не станем старо-новыми.
Подвесь меня в гостиной.
Швырни меня с утесов.
Похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя.
Утопи меня в нашем колодце желаний.
Сбрось меня с вершины нашей скалы.
Мою голову заполнили парящие сопрано. Я знал, что нужно сделать.
И я не вернусь домой, пока не закончу.
Два Маловероятные вещи, или Снотворный эффект запеканки из зеленой фасоли и объятий сбоку
Комната для допросов № 2
Мэделин Фалко и детектив Г. Бандл
19 декабря // 15:53
Детектив Бандл похож на атомное облако. Узкие стопы, лодыжки как веточки, тощие ноги; ремень на поясе, а затем – БАБАХ – живот, похожий на гриб ядерного взрыва, переливается через ремень и закрывает пряжку. Грудь колесом, коренастая шея и потное красное лицо дополняют сравнение.
– Ты оставила его там? – спрашивает он.
– У «Бабушки». Вернее, в подсобке у «Бабушки».
– Ты провела его через… как его там… – Он пролистывает папки, лежащие перед ним на столе. – Желоб.
Я слегка двигаюсь в кресле. Синяки на спине, бедре, левой руке и лице заявляют о себе где-то глубоко внутри, словно татуировки на костях.
– Вы уверены, что с Джеммой все хорошо? – спрашиваю я.
– Мэделин, мы уже это обсудили.
– Я знаю. Но ее легко запутать.
– Прямо сейчас, пока мы разговариваем, о твоей бабушке заботятся лучшие специалисты Бергенской региональной больницы.
– И вы даете мне честное слово, что это не совсем отстойное место?
Бандл поднимает руку, словно произнося клятву:
– Я отвез туда собственную мать, когда у нее был лишай. Ну так вот. Расскажи мне про Желоб.
– Как вообще можно не знать о Желобе?
Детектив Бандл кинул взгляд на диктофон:
– А откуда можно о нем узнать?
– Да я же говорю, все знают про Желоб. Хотя подождите, вы что, недавно переехали сюда?
– Мэделин.
– Что?
– Зачем вообще приходить, если ты не собиралась с нами разговаривать?
Баз, скорее всего, молится в соседней камере, надеясь лишь на то, что мы сможем правдиво рассказать нашу историю. А Заз, Коко и Джемма надеются на то, что мы сможем рассказать нашу историю медленно. Смотрите, в чем тут дело: есть диаграмма Венна, где область А = {Говорить Правду}, область B = {Выиграть Время}, и область их пересечения очень невелика. Но если все пойдет по плану, именно в этой области мы с Виком проведем большую часть дня.
– Вы правы, – я драматично зеваю, изображая стереотипного подозреваемого в резком свете оголенной лампочки. – Ох, боже, как же это тяжело. Ну ладно. Я пришла, чтобы…
Детектив Бандл складывает руки на столе и передвигается на край сиденья; стул протестующе скрипит под нечеловеческим весом.
Я склоняюсь к диктофону:
– Я хотела узнать, не поделитесь ли жвачкой.
Бандл оглушительно вздыхает, и лицо его становится пунцовым, как вишня.
– Мэделин, сегодня днем вы с Виктором пришли сюда с Базом Кобонго, и пахло от вас так, словно вы только-только выбрались из урагана с дерьмом.
– Я же сказала: у нас были свои причины.
– …И вы настаивали, что Кабонго невиновен. Кабонго! Человек, у которого был мотив, возможности совершить преступление, приводы за насилие в прошлом и чье ДНК мы нашли на орудии убийства. Очевидно, вы испытываете к нему некую привязанность, и я уважаю ваши чувства, пусть и ошибочные. Мы знаем, что твой дядя прибегал к рукоприкладству. У тебя ссадины по всему лицу, ты морщишься от боли с той секунды, как села на стул, так что же это было… самозащита? Кабонго пытался помешать твоему дяде, когда тот замахнулся. Они вступили в драку, и Баз его убил. Просто скажи, что это была самозащита, и мы пойдем на сделку с Кабонго, обещаю.
– Но если он защищал меня, это уже меня защита!
Бандл качает головой:
– Знаешь что? Мне наплевать. Моя бы воля, мы бы вас обоих уже давно выпихнули под жопы. Сержант Мендес говорит, что, если верить этому твоему Вику, вы оба были там, в доме, где Кабонго совершил преступление. Если это правда, Мэделин, значит, ты стала свидетельницей самого ужасающего преступления, о котором я слышал, читал или последствия которого видел. И это не считая, что жертвой стал твой собственный дядя.
– Я рада, что он умер. – Слова вырвались у меня изо рта прежде, чем я смогла их остановить.
– Может, и так, – говорит Бандл, – но, если Вик сказал правду, если ты видела, как это произошло, и не говоришь нам, что именно ты видела, тебя ждет не море проблем, Мэделин, тебя ждет целая вселенная из проблем. – Он откидывается назад на стуле, засовывает руки в карманы, достает оттуда какой-то предмет и кидает на стол. – Вот твоя гребаная жвачка.
Я таращусь на упаковку жвачки на столе. Проходит секунд десять. В это время мне приходит в голову, что всего несколько минут назад я была нападающим в интервью, раздавала удары направо и налево, то уклоняясь от слабых тычков противника, то принимая их, едва замечая. Но я его недооценила. Детектив Бандл не был слабаком. Он выжидал подходящего момента, чтобы отправить меня в нокаут.
Я протягиваю руку к жвачке, но вместо этого беру стакан воды, который до сих пор игнорировала. Жидкость освежает разбитую губу чистым холодом. Я опускаю стакан и осторожно прокашливаюсь.
– Сколько сейчас времени?
– Четыре с копейками.
Голос База в моей голове производит тот же эффект, что и вода на моих губах: он очищает и успокаивает. Пусть подумают, что захотят. Но не ври.
Пора рассказать мою историю, и к чертям узкую область на диаграмме Венна.
– Я отвела Вика в «Бабушкины деликатесы», потому что владелец – ранняя Глава.
(СЕМЬ дней назад)
МЭД
Позднее утреннее солнце светило сквозь заднюю дверь «Бабушки», протягивая внутрь щупальца лучей. Однако под стол оно не доставало. Виктор крепко спал, свернувшись клубочком вокруг рюкзака, словно защищая его от приливных волн.
– Он умер? – спросила Коко. Ей даже не надо было нагибаться, чтобы заглянуть под стол. Она скребла по дну ведерка ложкой, в одиночку справившись с половиной килограмма мороженого. Было почти одиннадцать. – А что это за кровь? – спросила она с набитым ртом. Губы обведены колечком шоколада. – На вид он вполне мертвый, да? Ты думаешь, он умер? Если не умер, то режим дня у него так себе. Слушай, а чего это он вообще вернулся?
Коко задавала вопросы с частотой, с которой обычные люди дышат.
– Я же сказала, что встретила его у реки. Он сказал, что ему надо где-то переночевать.
Заз поставил на пол сумку с продуктами, которые мы только что купили в «Фудвиле». Он был жилистый, но сильный; никто не стал спорить, когда он вызвался нести сумку. Я доела клюквенный кекс и, держа обеими руками стаканчик кофе, смотрела, как Баз подходит к Виктору. Он поставил поднос с кофе на стол, склонился и легонько тронул Вика за плечо:
– Проснись и пой, приятель.
Вик резко подскочил, ударившись головой о столешницу.
– Ты чего это в крови, чувак? – спросила Коко. – И не ври мне. Я из Квинс.
Вик, потирая голову, оглядел себя. На штанине джинсов у него было пятно из высохшей крови. И лишь тогда мы заметили: от одной из туш к столу бежал крошечный красный ручеек.
– Ну пипец, – прошептала Коко, швыряя пустое ведерко в мусорку.
– Коко, – одернул ее Баз.
– Эй, ну извини. Но это правда самое мерзкое из всего, что я видела.
Вик выбрался из-под стола, волоча за собой рюкзак. Он обернул наушники вокруг айпода и сунул его в карман.
Я схватила последний кекс из сумки с продуктами и протянула ему:
– Вот, держи. Если хочешь, кофе у нас тоже есть.
В другом конце комнаты открылась дверь, и вошел Норм.
– Не обращайте на меня внимание, – сказал он, швыряя нераспечатанный конверт в стопку на столе. – Аха! Малый мальчик познакомился с моими друзьями, так?
Вик опустил взгляд на ботинки.
Норм хлопнул его по спине:
– Так ты теперь новая Глава?
– Эмм, что?
Норм, показав на Вика большим пальцем, смотрел на нас.
– Он не знает?
Баз приобнял дюжего русского за плечо и повел его обратно к двери:
– Большое спасибо за гостеприимство. Правда. Вы верный друг.
Норм расправил грудь, улыбаясь от уха до уха. Он бросил взгляд обратно на Вика:
– Это хорошие люди, малый мальчик. Очень хорошие. Ты их слушай, так? Они тебе помогут.
Пробормотав «ладненько», Норм исчез. Вик осмотрелся, взял кекс и, когда Баз предложил ему кофе с подноса, взял кружку, пробормотав «спасибо».
– Ребята, – сказала я. – Это Вик. Вик, – махнула я на остальных, – познакомься с Базом… его братом Нзази… и Коко.
Вик покивал, и, когда стало понятно, что он ждет, пока кто-то заговорит первым, Баз взял слово:
– Прошу прощения за спешку, но я уже опаздываю на работу. Не будь этого, я бы с удовольствием расспросил тебя про твою жизненную ситуацию и твои цели, но этому придется подождать. Пока у меня два вопроса, и единственный плохой ответ на них – это ложь. Вопрос первый. Тебе нужна помощь?
Не так давно Баз задал тот же вопрос мне. Когда я переехала к дяде Лесу, то почти сразу полюбила тайком пробираться через заднюю дверь в местный кинотеатр. Там все было по старинке, никакой охраны. Как раз то, что нужно. Убежище. Иногда я делала там домашку, иногда смотрела на экран, но обычно просто засыпала на заднем ряду. И в один из таких разов я услышала слова…
– Тебе нужна помощь? – повторил Баз.
Вик потер голову – то самое место, которым ударился о металл, и медленно кивнул, словно размышляя.
Баз сощурился:
– Мне нужно, чтобы ты сказал это вслух.
– Да, – сказал Вик. – Мне нужна помощь.
Я помню, как жарко было в кинотеатре; я закатывала рукава кофты и каждый раз улыбалась этому. Какая роскошь: закатать рукава и знать, что из-за темноты никто не увидит синяков. Как обычно, я заснула, а когда проснулась, он уже был там: работник кинотеатра со шваброй. Он спрашивал, нужна ли мне помощь. Я все еще не выбралась из ленивого тумана сна, но не думаю, что это сыграло какую-то роль. «Да», – ответила я.
За первым вопросом последовал второй.
– Ты причинил кому-то вред? – спросил Баз.
Вик нервно хлебнул кофе и сказал абсолютно то же, что и я в свое время:
– Что ты имеешь в виду?
Работник кинотеатра неподвижно нависал надо мной со шваброй в руке, и я не знала, надо ли мне испугаться. Честно говоря, не помню, что решила тогда, потому что в итоге стала испытывать к Базу то, что не так уж отличается от страха: я его полюбила. Это была странная любовь, нечто среднее между любовью к брату, отцу, священнику и другу детства.
– Я имею в виду, причинил ли ты кому-либо вред?
Вик сделал еще глоток, держа кружку в обеих руках и словно изо всех сил стараясь не расплескать.
– Нет, – ответил он тихо, но вместе с тем звонко.
Баз кивнул:
– Хорошо. Можешь остаться с нами, если хочешь. Мы живем в саду в Нью-Милфорде. Дорогая неблизкая, знаю, но там тепло, и у нас есть еда. Решать, конечно, тебе, но ответ мне нужен прямо сейчас.
Баз редко кому это предлагал, но если это случалось, то обычно ему отвечали сразу же, и всегда положительно. Большинство новых Глав были в таком отчаянном положении, что убеждать их не приходилось. Вик, однако, немного подумал. Он оглядел нас, дыша шумно и размеренно, и было почти видно, как вращаются шестеренки у него в мозгу.
– Ладно, – сказал он наконец.
– Прекрасно, – отозвался Баз. – Нзази, Мэд, Коко… Можете отвести Вика к парнику? Пусть обустроится и вымоется.
– Ой, я не могу, – ответила я. – Я собиралась… в библиотеку.
На самом деле я планировала навестить Джемму, может, остаться там на пару дней. Баз стоял в дверях и смотрел на меня в упор. Ему даже не пришлось ничего говорить.
– Ладно, – сказала я.
– Спасибо. Я заканчиваю в пять. Можем встретиться у Наполеона, тогда обсудим нашу новую Главу.
А затем он повернулся к Вику:
– Ребята покажут тебе, где что. Пожалуйста, чувствуй себя как дома. – Потом к Зазу: – Не забудь сумку Гюнтера. – И, наконец, к Коко: – Никакой брани. Веди себя хорошо.
И он ушел.
Мы стояли в неловкой тишине; потом Заз дважды щелкнул пальцами, подобрал бумажный пакет и направился к двери.
– Вот именно, Заз, – прокомментировала Коко, выходя вслед за ним. – Полный пипец. Нянчиться с ним теперь целый день.
Я посмотрела на Вика, качая головой:
– Не обращай на них внимания. Они вечно так: новичков не очень жалуют. Но это ненадолго.
Вик перекинул рюкзак на другое плечо:
– Это у нее любимое слово?
– Пипец-то? Ага. Был у нас Глава, который заменял им матерщину. В сериале каком-то так делали, что ли. У Коко были проблемы с нецензурными словами, а Баз у нас немножко пуританин. Так вот, этот Глава предложил Коко заменять ее брань словом «пипец».
– А что такое Глава?
Мне показалось, он уже давно хотел задать этот вопрос и выжидал нужного момента, чтобы явить его миру, как наседка яйцо.
– Пусть лучше тебе Баз объяснит. Знаешь что? До Нью-Милфорда отсюда далеко, давай уже пойдем.
Дикие пустоши подсобки сменились зимней белизной хакенсакских улиц, и я шла, пыталась вспомнить, когда в последний раз так ощутимо чувствовала чужие мысли. Они танцевали, кружились и парили в воздухе, как снежинки.
ВИК
Папины родители умерли от инфаркта в апреле.
В один месяц.
Люди звонили, чтобы сказать нам, что молятся за нашу семью и посылают нам благие мысли. Люди приносили запеканки из зеленой фасоли. Люди сжимали нам плечи и обнимали сбоку. (Ну и говно же такие объятия! Либо вы обнимаете меня, либо нет. Решайтесь уже.) Я не знаю… Наверно, когда люди думают об утешении, им приходят в голову такие вещи. В любом случае, в том апреле наш дом не полнился людьми. Он не полнился любовью, искренними соболезнованиями или благими мыслями. Он полнился запеканками из зеленой фасоли и объятиями сбоку.
Для папы это стало сильным ударом. Сами подумайте: оба родителя умирают в один месяц и от одного и того же. Кто угодно бы от такого загнулся, особенно мыслитель сердцем вроде папы.
Мы часто навещали бабушку с дедушкой; ходить к ним было все равно что оказаться в нескольких любовных историях. Папа боготворил маму, и мы все знаем, от кого он унаследовал свою романтичность. Бабушка с дедушкой отлично бы вписались в компанию старшеклассников: они тоже вечно целовались и обжимались по углам. И это, знаете, кое о чем говорило: выросли-то они в то время, когда супруги спали в разных спальнях и называли друг друга Мать и Отец.
Дедушка и бабушка называли друг друга Джо и Хелен и, бросая вызов этическим нормам эпохи, спали в одной кровати.
Они были настоящими Суперскаковыми лошадями.
Но да, вы правы: смотреть на их милования было не слишком приятно. Во время визитов мне мало что оставалось делать, кроме как:
1. Таращиться на стену с фотографиями, изображавшими отца в возрасте от рождения до тридцати лет. Они располагались в хронологическом порядке, поэтому папа взрослел у меня прямо на глазах. Стена напоминала мне картинки в учебниках, иллюстрирующие эволюцию от обезьяны до человека.
2. Ждать появления кукушки в часах гостиной, которое случалось каждые пятнадцать минут, и наблюдать, как дедушка засыпает в вертикальном положении, откинувшись в своем любимом кресле.
3. Смиряться, пока мне надирают задницу в пул. (В нашей семье все просто гении бильярда. А я тем временем играю как последний обсос.)
4. Считать вазы с ароматической смесью в доме. (Двадцать семь. В доме их было двадцать семь. Двадцать семь ваз. С ароматической смесью.)
5. Наблюдать, как окружающие радостно лапают друг друга (как похотливые подростки перед уроком физики).
Дедушка с бабушкой жили в маленьком городке на окраинах Хакенсака под названием Нью-Милфорд. Я часто подолгу гулял там по улицам, стремясь избежать повышенной сексуальной активности среди пожилого населения. Экскурсии в пригород, как я это называл. Во время таких прогулок я неплохо изучил город. Моим любимым местом стала старая кирпичная стена через дорогу от заброшенного кладбища, красивого дикой, кинематографической красотой. Грузные замшелые деревья тянулись ветвями во все стороны; побеги и листва свисали над хаотично разбросанными надгробиями. Я часто сидел на этой стене и думал: «Ну ладно. Тут ничего так. Я не против, чтобы меня здесь похоронили».
Совсем рядом с кладбищем был сад: акр ухоженных растений, цветов и деревьев, которые смотрелись еще более опрятно на фоне разрухи и замшелости кладбища. Вдоль сада бежал по желобу ручеек; посередине его пересекал деревянный мост, весь увитый плющом. Был и гигантский сарай с вывеской («Магазин сувениров»), и старое двухэтажное строение с дымком из трубы, и ряд парников вдали.
В тот судьбоносный апрель мы похоронили бабушку с дедушкой на кладбище у сада. Бабушка умерла вслед за дедом, и на ее похоронах папа, стоя у общего могильного камня и глядя в сад, поклялся, что будет навещать их каждую неделю. Пару лет он сдерживал свое обещание.
А потом заболел.
А потом умер.
Так закончилась история с посещениями бабушки и дедушки, которые умерли от инфаркта в тот судьбоносный апрель. (Так закончилось много что. На самом деле так закончилось все.)
Очень вероятно, что я зря следую за этими ребятами. Разумеется, я и не планировал положительно отвечать на странный вопрос База, пока…
Мы живем в саду в Нью-Милфорде.
В тот момент – вполне возможно, что ошибочно – я почувствовал, что это не просто возможность воссоединить папу с его мертвыми родителями. Я почувствовал, что это знак. Что это папа направляет меня в нужную сторону.
Я шел по Ривер-стрит, и внезапно мой рюкзак стал легче.
* * *
– Все хорошо?
Я вернулся из Страны Ничего и обнаружил что Мэд, повернув голову, смотрит на меня в упор.
– Что? – спросил я.
Что?
Самое емкое из слов.
– Я спросила, все ли хорошо.
– А. Да, спасибо.
Ребята шли в своем собственном ритме. Нзази вел процессию, выставив сумку с продуктами как баррикаду между своим лицом и колючим снегом; сразу за ним Мэд вела Коко за руку, обводя ее вокруг пешеходов, спешащих по Ривер-стрит в противоположную сторону.
Они напоминали мне стаю гусей, что сворачивают вместе в полете, даже не видя друг друга. Непонятно, как они знают, когда и куда сворачивать, но как-то знают. Вероятно, думаем мы, это просто чудо.
Я замыкал шествие, то и дело вытирая слюнявый рот и пытаясь не выглядеть отбившимся от стаи заморышем с перешибленным крылом.
Светлые волосы Мэд метались под желтой вязаной шапкой и в белом зимнем свете походили на свежий ломтик лимона или бенгальский огонь. Мой несчастный, думающий сердцем мозг пенился мыслями о Мэд. Но не было ни малейшего шанса, что она смотрит на меня так же, как я смотрю на нее. Скорее всего, она смотрит на меня так же, как я смотрю на себя сам.
Я малый мальчик.
Я допил остывший кофе, и вот мы уже сходим с дороги к реке Хакенсак, где нам открылась небольшая пустошь. Табличка гласила, что тут находится историческое место высадки с моста. Много лет назад мы с классом ездили сюда на экскурсию. Это было место какого-то сражения во время Американской революции; то тут, то там были разбросаны старинные дома, охраняемые государством. Я оглянулся на наши следы в снегу и подумал о том, как тут все выглядело тогда, в прошлом, и как странно, что здесь произошла битва.
Вот здесь, куда я только что шагнул.
И здесь.
И тут тоже.
Мы подошли к короткому пешеходному мостику, соединяющему Хакенсак с Нью-Милфордом; с обеих сторон подростки перекидывались снежками. Мы подошли ближе. Один из них поднял руки в воздух и воскликнул: «Перерыв!» Я узнал его: он ходил в мою школу. Роланд, кажется. Хотя все называли его какой-то странной кличкой, которую я сейчас не мог вспомнить. Роланд был обут в разноцветные ботинки, словно одевался в темноте. Он и его друзья принадлежали к особой касте учеников хакенсакской школы, которые просто не могли оставить меня в покое. (Это было главной целью моего существования в школе. Хотя я был не против, что со мной иногда здоровается президент ученического комитета Стефани Дон. Она была слишком милой, чтобы осознавать свою красоту, и слишком красивой, чтобы не карабкаться стремительно по социальной лестнице наверх. Ее приветствие в буквальном смысле позволяло мне пережить неделю поддразниваний.)
Пока мы переходили мост, я старался не поднимать лица и думать о войне, которая пришла на это место несколько столетий назад. От войск, марширующих навстречу кровавой гибели, к Бруно Виктору Бенуччи III, марширующему… а кто, собственно, знает.
Земля – странная штука. В отличие от людей, ей все равно, кто вытирает об нее ноги.
. .
И вот посредине моста оно началось. Даже не слова, а осы, что жалят в уязвимую мягкую плоть. Бззззззз.
Мне в спину ударил снежок.
Потом в ногу. Потом в лицо.
– В яблочко! – завопил один из ребят.
Из рюкзака послышался папин голос: «Думай сердцем, Вик».
Я соскреб с лица снег, глядя вниз, чтобы они не увидели моих глаз. В этом был весь фокус: если они увидят глаза, то поймут, что мне не все равно. Я засунул руку в боковой карман рюкзака, нащупывая наушники: сердце просило парящих сопрано. Щелк, щелк, щелк, прокрутил вниз. Играй. Теперь я могу полностью исчезнуть в другом мире.
В том мире: все школьные клики оставили меня в покое. В том мире: я не был одним из семи миллиардов людей, населяющих землю.
В том мире: я был одним из четырех людей, населяющих землю. Папа, два сопрано и я.
В том мире: мы парили по небу, по облакам, над всем вот этим, беззаботные. Самая волшебная стая журавлей, что ловит души редкостных и прекрасных мыслителей сердцем.
В том мире: мое крыло срослось.
МЭД
Не знаю, что там слушал Вик, но надеюсь, что он включил плеер на полную громкость.
ВИК
– Полный назад! – Коко приподняла край ограждения из проволочной сетки.
Мэд уже проползла внизу и протягивала руку к сумке с продуктами, которую Нзази передавал ей поверху. На той стороне улицы я увидел свой старый насест: каменная стена, смоковница. Я почувствовал присутствие маленького кладбища по другую сторону сада. Интересно, сколько раз папа приходил туда? Останавливался ли у сада?
– Чувак, – сказала Коко. – С тобой все о’кей?
– Что?
Она указала под забор:
– Не хочешь срать, не мучай жопу.
Словарь у этой девочки был на удивление обширным.
– А лет тебе сколько?
– Мне одиннадцать. Но по исчислению Квинс это около двадцати шести.
– А. Ну ладно.
Я передал рюкзак через забор, поморщившись, когда Мэд небрежно бросила его на землю. Проползя под проволокой, я стряхнул снег с колен и груди, быстро заглянул в сумку (к счастью, крышка на урне держалась хорошо) и последовал за остальными по аллее с шипастыми и мертвыми розовыми кустами.
– Что у тебя там? – спросила Мэд. – Пушечное ядро?
Я оставил ее слова звенеть в воздухе.
– Ну ладно, надеюсь, – сказала она, показывая на мои окровавленные джинсы, – что смену одежды ты тоже взял.
Я как раз собирался спросить, кто вообще носит сменную одежду в рюкзаке, как вдруг понял, что у меня там как раз завалялись любимые треники. Зимой в школьном спортзале дули чудовищные сквозняки, и вследствие этого учитель физры разрешил нам носить нашу собственную одежду вместо форменных шорт.
– Да, кстати, взял.
– Круто. Когда войдем, покажу тебе, где можно переодеться и помыться.
Снег горами высился по обеим сторонам тропинки. Туда-сюда сновали неровные желобки: кто-то совсем недавно чистил снег. Странно было идти по саду, которым я раньше лишь восхищался издали. Я поднялся на деревянный мостик с прибитой к нему табличкой: «Канал “У золотой рыбки”». Между прямоугольными брусьями у меня под ногами огромные золотые рыбки лениво плыли по узкому ручью.
Канал «У золотой рыбки» получил свое имя от человека безо всякого воображения.
Перейдя мост, Нзази рванул к единственному зданию на участке: двухэтажному дому в колониальном стиле. Мы подождали на мосту, пока он положил сумку на крыльцо, постучал в дверь и трусцой прибежал обратно.
– Пойдем, – дрожа, сказала Мэд и повела нас к ряду парников.
Во всем этом было что-то от «Волшебника страны Оз»: я словно ступил в портал и перенесся в причудливый мир с необъяснимым сводом правил и сворой безрассудных, диких детей без родителей (получается, это такая страна Оз с привкусом Нетландии). Хотя эти дети были, по сути, бездомными, они вели себя с каким-то достоинством, и я понимал почему. Как и страна Оз, сад был прекрасен и уютен в своей причудливости. Растения почти все стояли голые, но все равно здесь царил дух роскошного ботанического сада, словно внешность сада не могла передать его дух.
Вот что напоминал мне этот сад: старика с юным сердцем.
Мэд остановилась у самого маленького из парников, заткнутого в самый угол, как непрошеная мысль. Он был вдвое у́же своего соседа. Скорее примечание к парнику, чем парник. Не основное блюдо, а объедки с обеда.
Я полюбил его с первой секунды.
– Добро пожаловать домой, – сказала Мэд.
Она открыла дверь, и мне в лицо ударило теплой волной. Ребята побежали внутрь, сбросили куртки, повесили на вешалку и прошли в центральный ряд.
Я был не прав.
Это место было куда причудливее, чем Оз.
Переднюю сторону заполняли типичные парниковые штуки: ряды цветущей растительности на столах до пояса высотой, цветы в горшках, свисающие с прозрачных изогнутых стен… А вот сзади меня ждали декорации постапокалиптического фильма, который я когда-то увидел. В нем семья построила бомбоубежище и прожила в нем лет семь.
Для начала, в парнике были книжные полки – я насчитал пять, – заставленные консервированными фруктами и овощами, пакетами с орехами, чипсами, вяленой говядиной, бутылками воды, стопками книг и виниловых пластинок. Был там и проигрыватель. У задней стены гудел обогреватель; сразу перед ним располагались четыре спальных мешка: аккуратно заправленные, с подушками в головах. В противоположном углу стоял зеленый диван с кофейным столиком (словно это была совершенно обычная гостиная!) На столике – колода карт и лампа. Под калорифером я заметил розетку, от которой тянулись провода к лампе и проигрывателю.
– А хозяин не против? – спросил я. – Ну… Садовник, или кто там? Чувак, который живет в доме.
Мэд протянула руки к обогревателю:
– Гюнтер не возражает. Мы только должны приносить ему продукты и прочую всячину, чтобы ему не пришлось покидать территорию. Судя по всему, он много лет назад выиграл в лотерею и решил, что пора помахать ручкой работе с клиентами. Люди перестали заходить в его сад, а Гюнтер перестал из него выходить.
– А как же школа?
– Гюнтер слишком старый для школы, – расхохоталась Коко. – Ха! Отличная шутка. – Продолжая смеяться, она достала с полки яблочное пюре, запустила туда два пальца и облизнула. – А мы… Мэд уже закончила школу, Баз работает в кинотеатре, копит на службу такси, которую они откроют с Зазом. – Нзази, выбиравший пластинку, щелкнул пальцами. – Остаюсь я. А я сирота.
– И что?
– И то, что сироты не ходят в школу. Чтобы ходить в школу, нужно подписать всякое дерьмище, а для этого нужны родители. Ну и адрес. Мне что, писать, что я живу в Одиннадцатом Парнике Справа, Сад Мейвуд, Нью-Милфорд? Можно сразу добавить «в каморке под лестницей». Это обычная школа, а не Хогвартс. Меня там так засмеют, что я в первый еще день со свистом вылечу.
– А Хогвартс – это тема, кстати, – сказала Мэд.
Коко кивнула:
– Да, еще какая.
– Корнуэльские пирожки, торт с патокой…
– Я даже не в курсе, что это за хренотень такая, корнуэльский пирожок, но все равно хочу его.
Нзази щелкнул пальцами, вытащил пластинку с полки Маловероятных Вещей, поставил ее на проигрыватель и опустил иглу. Та пошипела, заиграла музыка, и Нзази пустился в пляс. Он двигался с поразительной гибкостью: втягивал локти, наклонял голову в сторону, щелкал пальцами в такт. Движения не были синхронизированы, но в них была гармония. Словно каждая часть тела разрешала остальным вместе сойти с ума. Нзази был королем джиги.
– «Don’t Stop Believin’», – прокомментировала Коко, доедая соус. – Его любимая. Эй, Заз, есть не хочешь?
Не прерывая танца, Нзази щелкнул пальцами. Коко схватила с полки пластиковый стаканчик с персиками и швырнула в него. Он поймал его, танцуя, оторвал крышку и опрокинул стакан в рот.
Меня хлебом не корми, дай узнать какой-нибудь миф или легенду. Мне нужна история. Мне нужно знать, как что-то случилось. У меня был дохреналлион вопросов, и я собирался задавать их, пока кто-нибудь меня не заткнет.
– Почему он щелкает пальцами? – спросил я, чтобы начать с чего-то.
Коко ответила:
– Один щелчок значит да, два щелчка значат нет. Зазу всегда есть что сказать; надо просто знать, как слушать. – Она швырнула пластиковый стаканчик в ближайшую мусорку, отклонилась назад и расставила руки в стороны. – Ну, что думаешь, чувак? Неплохо мы тут устроились, а?
Хватит, решил я. Хватит ей называть меня чуваком.
– Меня зовут Вик, – сказал я. – Или Виктор, если тебе так больше нравится.
– Виктор, боа-констриктор. – Коко рассмеялась звучным хрипловатым смехом, разбрызгивая вокруг себя капельки яблочного соуса. – Может, просто назовем тебя Удавом? Как тебе?
Коко продолжила говорить, но я уже не понимал о чем. Мэд только что сняла вязаную шапку, а следовательно, глаза выкатились у меня из орбит.
Она уже приподнимала шапку вчера вечером, чтобы показать мне шрам, и все равно сейчас я стоял, совершенно бестолковый. Словно всю жизнь проходил со сгоревшим предохранителем, и мне его только что заменили. С одной стороны волосы у нее были длинные, волнистые, непослушные. В точности как я представлял. С другой стороны она выбрила висок почти до затылка. Не до лысины, скорее короткий ежик. Прическа у нее была, как у панков с Западного побережья. Волосы вели к глазам, которые вели к губам, которые вели к коже, которая вела к, который вел к…
Мэд была картой.
А я был Магелланом.
Я разрабатывал маршрут, мечтал о неисследованных землях и о триумфах, что ждут в каждой долине, каждом ущелье. Я мечтал о покатой, чувственной высоте и о том, как я на нее взойду.
– Можешь спать вот там, – тихо сказала Коко.
Я – Суперскаковая лошадь.
– Что? – выдохнул я.
– Диван, – она показала в сторону Мэд.
Я стоял, похожий на объятия сбоку. Интересно, а девушка к дивану прилагается?
– Главы спят на диване, – сказала Коко, кидая Мэд упаковку вяленой говядины.
Я сделал глубокий вдох:
– А что это значит – главы?
– Не главы, – поправила Коко, – а Главы. С большой буквы.
– Откуда ты знаешь, что я имел в виду с маленькой?
– Услышала в твоем голосе.
Нзази схватил металлическую лейку, танцуя, пошел вдоль рядов растений, поливая на ходу.
– Ну ладно, хорошо… – Я прокашлялся. – А что такое Глава?
– Терпение, таракашка, – сказала Коко.
– Кузнечик, – сказала Мэд.
Коко приподняла бровь:
– Ты уверена?
– Да, вполне.
Коко пожала плечами:
– Терпение, кузнечик.
…
Эти ребята были не только стаей гусей. Они были деталями головоломки, забитым под завязку багажником, так же маловероятно организованными, как и маловероятные полки в их маловероятном обиталище. Я стоял, вытирая слюнявый рот. Пятое колесо в телеге, чувак, который вечно говорит что-то нелепое, словно объятия сбоку (вроде «о» или «чего»). Не деталь от головоломки, а скорее коробка, в которую они упакованы.
Я расстегнул рюкзак и достал треники с эмблемой «Метс». Папа называл их метсиками, и меня это страшно бесило.
А теперь… эх, черт. Я скучал по этому слову.
– Ты сказала, что покажешь, где переодеться…
– Точно. – Мэд спрыгнула с дивана. – Пойдем. Мне как раз надо покурить.
Зажав метсики в одной руке, я взял рюкзак в другую и собирался последовать за ней, но Коко сказала:
– Ты думаешь, украдем твое барахло? Такие мы жалкие, отвратительные оборванцы?
Я вынул из бокового кармана айпод и глазные капли, положил рюкзак на место и попытался стереть из мыслей образ Коко, запускающей грязные ручонки в папину урну.
– Думаю, ничего не случится.
Коко улыбнулась театральной улыбкой и положила руку на сердце:
– Ваше доверие ужасно много для нас значит. Правда, Удав. Эй, слушай, а телефон у тебя там есть? С играми?
– Прости, – ответил я. – Оставил его дома.
Мэд ждала у входной двери, накинув радужную куртку и засунув руки в карманы. Вязаная шапка тоже вернулась на место. Я внезапно ощутил желание нарисовать ее. Художник из меня был никакой, да и поклонник искусства так себе. Мне хватало знаний ровно настолько, чтобы знать, что я ничего в этом не смыслю.
Мэд достала из кармана сигарету и заткнула за ухо. Обычно я считал, что курение отвратительно. Но теперь вдруг оно казалось мне сексуальным, но не так, как у соблазнительниц с сигаретой. Мама с папой раз в неделю пересматривали «Касабланку» (разумеется, тогда я ненавидел эти сеансы, а теперь скучал по ним, бла-бла-бла), и мысль о курящей Мэд по ощущениям была похожа на этот фильм. Сексуально, как «Касабланка».
Ну, я, в общем, не знаю.
В этот момент я не думал сердцем моего мозга. Я думал палубной оружейной установкой моей USS Ling.
МЭД
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Ну что, Гарри Конник Младший-Младший, доложите обстановку!
Если бы эта раздутая туша не плавала спиной наверх, я бы решила, что он сдох. Я свесила ноги с канала «У золотой рыбки» и ждала, пока Вик закончит мыться и переодеваться. Он был удивлен качеством уборной, и, честно, его можно понять. Хотя, в отличие от парникового жилища, туалетной комнатой мы пользоваться официально не могли. Гюнтер и понятия не имел, что мы научились пробираться в окно магазинчика сувениров, а оттуда в ванную. Хотя если бы он узнал, то с чего бы ему расстраиваться? Не помню, когда в последний раз к нему заходили покупатели.
Небо по-прежнему напоминало холодный свинец, но по крайней мере ненадолго прекратился снег. Я зажгла следующую сигарету, и тут снова появился Гарри Конник Младший-Младший. Теперь он плыл в обратную сторону.
– Срезаешь углы, а, Младший?
– Ты с кем разговариваешь?
– Черт! – Я уронила зажигалку в узкий проем между брусьями моста и услышала, как она плюхнулась в поток. – Чувак.
– Извини, – сказал Вик, присаживаясь рядом и кладя на колени комок окровавленных джинсов. – Зря ты так много куришь. От этого бывает рак.
Я злобно посмотрела на него сквозь дым и затянулась еще раз. Задержать, выдохнуть, продолжать злобно смотреть.
– Рак от чего угодно бывает.
– Верно. Но от некоторых вещей с большей вероятностью.
– А ты-то что об этом знаешь?
Он опустил взгляд на воду, и я заметила, во что он переоделся: синие треники с логотипом «Метс» на правом бедре и резинками вокруг лодыжек. Из-за них ткань над зашнурованными ботинками стягивалась букетом.
– Это мои метсики.
Я рассмеялась, выдохнув облачко дыма:
– Твои что?
– Метсики.
В том, что Вик надел эти штаны, было нечто отчаянно-величественное, словно он оглядел груду оружия, которую собрал против него мир, потом пожал плечами и швырнул еще один арбалет в кучу.
Метсики. С их помощью Вик посылал мир ко всем чертям. Я была в восторге.
И тогда я пожалела, что не пнула тех чуваков на мосту по яйцам.
Он повел глазами вверх-вниз, словно в стороны глаза у него не двигаются. Я уже несколько раз видела, как он это делает, но каждый раз меня это удивляло по-новому.
– А кто такой Младший? – спросил он.
И тут у нас под ногами появился, словно призванный королем золотых рыбок, Гарри Конник Младший-Младший.
– Вот он и есть Младший, – сказала я. – Это наша золотая рыба. Я назвала его Гарри Конник Младший-Младший.
– В честь певца?
– Да. И актера. Этот парень, похоже, не знает, что такое выходные. Звучит из каждого утюга, особенно в праздники. Так вот, этим летом в реке плавала целая куча золотых рыб, а теперь остался он один. Вот посмотри. – Вверх по течению, метрах в десяти от нас, на волнах качался красный предмет, напоминающий перевернутую салатную миску. – Это антиобледенитель. Он подогревает воду, чтобы она не замерзала. Но в этом году Гюнтер поставил только один антиобледенитель. Этого недостаточно. Рыбы начали дохнуть одна за другой, и теперь это скорее не канал «У золотой рыбки», а чума у золотой рыбки. Они просто умирали от холода.
– За исключением Гарри Конника Младшего-Младшего. Я кивнула:
– Рыба, которая не сдается.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Мне нравится ваш парник, – сказал Вик.
– Ага, он странный.
– Не такой уж и странный.
Я недоверчиво посмотрела на него. Он что, шутит?
– Ну ладно, – кивнул Вик. – Странный, странный. Но крутой.
– Но это все равно временное жилье. Пока мы не накопим на что-нибудь получше.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Я раньше подолгу смотрел на это место, – прошептал Вик, показывая куда-то через дорогу. – Сидел на той каменной стене и таращился в сад.
– Правда? А нас ты видел?
Он покачал головой.
– Это было давно. Мои бабушка с дедушкой жили рядом, но они… – Он резко оборвал себя и уставился на воду. – Ну вот. Я подумал, что это странное столкновение.
– Столкновение?
– Совпадение.
Вик достал носовой платок, промокнул уголок губ. Я разглядела у него на запястье болячки: пять или шесть тонких царапин, подернутых корочкой. Они не были похожи на шрам на моей голове. В школе у меня была подруга, которая резала себе руки. Нет, тоже непохоже. Эти казались тусклее;
не такие глубокие, наверно? Он достал из кармана куртки айпод, убрал длинные волосы за уши и воткнул наушники.
Ну что ж, видимо, наш разговор закончен.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Вот, – сказал Вик, протягивая наушник.
– Ты предлагаешь мне свой наушник? – спросила я.
– Ага.
– Я думала, это только в кино люди так делают.
– То есть ты намекаешь, что мы в кино?
– Ох, если бы.
– В каком?
– Что?
– В каком фильме ты бы хотела оказаться?
Я часто видела, как другие – особенно в кофейнях или еще в том уличном кафе на Хенли, его еще закрыли недавно – говорят таким текучим странным слогом, словно разговор был распланирован и заучен еще до того, как участники открыли рты. Я редко принимала участие в таких беседах, да и то только с Коко.
– «Аполлон 13», – сказала я.
– «Аполлон 13».
– Ну а что. Том Хэнкс в космосе. Ты такой крутой, что презираешь фильмы про Тома Хэнкса в космосе?
– Насколько я помню, Тому Хэнксу в космосе приходится очень несладко. Хотя если подумать, на необитаемых островах тоже.
– Au contraire, – возразила я. – Том Хэнкс выживает и там, и там.
– Выживание. На этом твои амбиции заканчиваются.
– Конечно, блин! Ну, в любом случае, космос я люблю.
– В каком смысле?
– В прямом. Черные дыры, планеты-карлики, погасшие звезды, чей свет мы видим сквозь десятилетия. Всякое такое. Прям хлебом не корми.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Это очень распространенное заблуждение, – сказал Вик.
– Какое?
– Что мы видим звезды, которые уже умерли и погасли.
– Нет-нет, это точно правда. Световые годы… Если звезда погасла, мы лет пятьдесят этого не узнаем. Вроде.
Вик молчал, но покачал головой, как человек, которому еще осталось, что сказать – или, еще хуже, как человек, который знает, что он прав, а ты нет.
– Ладно, Удав. Выкладывай.
– Ну просто… большинство звезд живут миллионы лет. А мы живем около восьмидесяти. Невооруженным взглядом можно увидеть тысяч пять звезд. Вероятность того, что одна из них умрет, пока я живу, довольно мала. То есть это возможно. Но маловероятно.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Я пытаюсь понять, ты ботаник, выпендрежник или то и другое сразу.
– Не-а, я просто люблю числа. Ну а ты что думаешь?
– Честно, я уже забыла, о чем мы говорили.
Он опять протянул мне наушник.
– Может, в реальной жизни люди тоже так делают.
Было понятно, что отказа он не примет. Я вздохнула, затушила сигарету и взяла наушник:
– Что слушаем?
– Увидишь.
И он был прав. Я увидела.
Сказать, что песня была прекрасной, – это все равно что сказать, что солнце горячее, рыба мокрая, а миллиард – большое число. Это вроде была опера… дуэт двух женщин. Обе изливали в пении душу, и, хотя слова были на непонятном языке, я чуть не расплакалась: в их голосах было что-то удивительно знакомое, словно они на молекулярном уровне понимали мою собственную, личную печаль.
Я вернула наушник Вику и собиралась спросить, как называется песня. Но тут он сказал:
– Мне кажется, за нами следят.
Метрах в десяти от нас над высоким заснеженным берегом показалась пара пронзительных глаз. Через секунду они появились снова и уставились на Вика.
– Да это же Заз! – Я слегка улыбнулась. Интересно, сколько он пролежал на животе в снегу? – Он так часто делает.
– Что делает?
– Он… Он старается защитить свою семью.
– Значит, Заз защищает тебя от… меня?
– Он шпионит за всеми Главами первую пару дней. И не называй его Зазом.
– Но почему? Вы же называете.
– Во-первых, Баз не называет. То есть ему бы никто не запретил: он заслужил это право. А ты нет. Пока что нет.
Вик неподвижно смотрел вдаль, на берег.
– Ладно. А как я узнаю, что заслужил?
– Ты поймешь.
Снова стало тихо; мы сидели, окруженные эхом песни.
– А с деньгами что? – спросил Вик.
– А что с деньгами?
– Ну, вам же нужны деньги, чтобы жить…
– Меньше, чем они говорят.
– Кто они?
– Ну, они. Типа правительство, СМИ, все дела. Общество потребления и наша склонность вешать на счастье ценник… – Честно говоря, я понятия не имела, что за бред несу, но звучало хорошо. – В любом случае, у нас в городе есть несколько ранних Глав, и они нам помогают. Остальное покрывает работа База в кинотеатре. Он даже откладывать умудряется. Планирует открыть службу такси: «Служба Ренессанс».
– Клево, – проговорил Вик. – А почему служба такси?
Я откинула волосы на сторону. Гарри Конник Младший-Младший лениво плавал у нас под ногами.
– У тебя ужасно много вопросов.
– А у тебя не то чтобы много ответов.
– Пусть Баз тебе расскажет. Это его тема.
– Ладно. А что твоя тема? Коко говорит, ты недавно закончила школу?
Я улыбнулась ему, взяла его окровавленные джинсы, встала и стряхнула с задницы снег:
– Давай я помогу тебе донести вещи. Нам пора назад.
– Мэд…
– Что?
– Что такое Глава?
Я повернулась и посмотрела на ряд парников. Заз сидел рядом в засаде.
– Терпение, таракашка.
* * *
Прошло аж десять минут, пока не вернулся Вик. За это время я успела запихать его штаны на полку рядом с пластинками. Непонятно, зачем я вообще их взяла. Затем я села на диван и постаралась погрузиться в «Изгоев»; обычно это удавалось мне без особых усилий, но сейчас песня Вика заползала в мой мозг, лилась по венам, пульсировала в теле.
Заз поставил «Round about Midnight» Майлса Дэвиса, а Коко, встав на колени рядом с рюкзаком Вика, рылась в его вещах.
– Коко, что ты там делаешь?
Она достала несколько учебников и положила их на столик:
– Проверяю на наличие контрабанды. Мы ведь совсем не знаем его, этого чувака. На вид мирный, но вдруг на самом деле он бывший солдат, которого завербовал Талибан?
– Не глупи. – Я положила книгу на колени. – Вик явно не талиб, и в рюкзаке у него точно не сраная контрабанда. Ты вообще знаешь, что значит это слово?
Она резко повернулась, взмахнув волосами:
– А ты?
Заз дважды щелкнул пальцами. Он терпеть не мог, когда мы ругались.
Коко опять принялась рыться в сумке Вика.
– Слушай, мне правда не нравится, что ты копошишься в вещах Вика. Он может вернуться в любой мом…
– Ага! – сказала она, вытаскивая вазу.
При свете дня стало очевидно, что никакая это не ваза. Коко поставила урну на кофейный столик:
– Контрабанда.
– Извините, – раздался тихий голос. Как я и предвидела: никто из нас не расслышал, как вошел Вик. Он стоял у двери и смотрел на нас в упор. – Наверно, надо топать погромче.
В каком-то тумане он прошагал к кофейному столику и склонился над урной, как хищник, готовый наброситься на добычу.
– Видимо, ты был прав, – сказала Коко. – Я и правда негодная уличная оборванка.
Мы все приблизились к Вику, словно влекомые невидимым магнитом, и, встав вокруг, смотрели на урну.
– Что это? – спросила Коко. – Что там внутри?
Вик достал носовой платок и промокнул рот:
– Мой папа.
Он сказал это вслух, но слова прозвучали как шепот.
Три Наши прошедшие времена, или Неизбежность соответствующих узлов
Комната для допросов № 3
Бруно Виктор Бенуччи III и сержант С. Мендес 19 декабря // 16:21
– Вик, ты меня слушаешь?
Я убрал платок в карман и оглядел комнату в поисках часов. Оказывается, время тянется дольше, если за ним невозможно следить.
– Простите, – сказал я. – Повторите вопрос, пожалуйста.
– Баз когда-нибудь говорил, почему Нзази не разговаривает?
Мендес постукивает ручкой по углу папки. Она почти ничего не записывает. Ну и правда, зачем бы: у нас ведь есть диктофон. Ручка служит ей миниатюрной барабанной палочкой: она стучит ею о стол, блокнот, браслет на левой руке…
Ритмично. Ритмично. Ритм, ритм, ритмично. Ритмично. Ритмично. Ритм, ритм, ритмично.
. .
– Говорил, – отвечаю я.
– И?
На самом деле еще двадцать четыре часа назад я почти ничего не знал о прежней жизни братьев Кабонго. Но с тех пор многое изменилось. И прошлой ночью – или сегодня рано утром, точно не могу сказать когда именно, – я узнал очень, очень много.
– Братья Кабонго родились в Браззавиле, в Республике Конго. Когда Базу было лет десять, их семье пришлось бежать. Заз тогда был совсем маленьким. А еще у них тогда была сестра. Они шли многие месяцы, почти не ели и не пили. Вокруг них умирали люди. Зашли довольно далеко, но потом их отец умер от недоедания.
– Ужасно. Ты сказал, Базу было десять?
Я кивнул.
– А Нзази и Нсимбе сколько было лет, как думаешь?
– Думаю, около трех или…
…
Черт!
…
…
– Вик, что такое?
…
Я смотрю Мендес в глаза и обдумываю каждое ее слово.
– Откуда вы узнали про Нсимбу?
– Что?
– Вот только что… Вы сказали «Нзази и Нсимба».
Мендес зарделась и принялась листать какие-то бумаги в папке.
– Ты сказал, у них была сестра…
– Но по имени ее не называл.
– В Конго это обычная практика – называть близнецов Нзази и Нсимба. Вот я и предположила.
– А я не говорил, что они были близнецами.
Наверно, было не так сложно добыть информацию о том, как жили Кабонго до того, как они переселились в Штаты. Баз упоминал организации вроде Красного Креста и Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев. Наверняка остались записи и документы, описывающие их жизнь. Но теперь мне непонятно, что еще знает Мендес и как тщательно она собирала информацию.
Она прихлебывает кофе и сверяется с наручными часами. – Ладно, в любом случае, ты собирался рассказать, почему Нзази не разговаривает.
Я провожу рукой по волосам:
– Мне как-то не хочется вдаваться в детали. Мальчишка навидался ужасов, когда был совсем крохой, мисс Мендес. Если ему не хочется разговаривать, я его не виню. Честно говоря, учитывая, через что он прошел, я бы сказал, что он хорошо справляется.
Ритмично. Ритмично. Ритм, ритм, ритмично.
…
Мендес из ниоткуда достает манильскую папку и кидает ее на стол. Есть что-то в ней ужасающе простое, как лицо незнакомца на вашем семейном портрете.
В дверь стучат, и входит мужик в костюме и с копной рыжих волос.
– Детектив Рон, – говорит Мендес, – это Вик Бенуччи. Детектив Рон кивает, внимательно вглядываясь мне в лицо. За считаные секунды я вижу: натянутую небрежность, попытки что-то себе объяснить, за которыми следует улыбка «не-на-что-тут-смотреть», и, наконец, медленный взгляд в сторону.
Ох, если бы мне давали по десять центов за каждый медленный взгляд в сторону…
– Как дела? – спрашивает Мендес.
– Неважно, – отвечает детектив Рон, избегая встречаться со мной глазами.
– Рональд, что?
Судя по тону Мендес, я предполагаю, что детектив Рональд – это такой Фрэнк хакенсакской полиции. И правда, есть в нем что-то от французского пуделя.
– Мы пытаемся дозвониться, – говорит Рон. – Она не отвечает.
В дальнем конце коридора сквозь дверное окошко я замечаю желтые волосы Мэд. Такая дичь: если человек правильный, то скучаешь по всему, что ему принадлежит. Мэд – мой правильный человек, следовательно, я скучаю по ее волосам, ее ботинкам и по ее всему, всему.
– Оставьте голосовое сообщение, – предлагает Мендес.
– Пытался. Почтовый ящик заполнен.
Во рту у меня внезапно пересыхает, ухо дергается, а в животе разливается великая вальяжность. Я знал, что они пытаются связаться с мамой, но просто представить ее здесь…
Когда она придет, ей придется подождать. Я не собираюсь останавливаться.
– Ладно, продолжайте. И сообщите мне, как только дозвонитесь.
По пути к двери детектив Рон одаряет Мендес особенной улыбкой. За годы практики я превратился в эксперта по чтению улыбок, словно невозможность улыбаться самому делает меня более чутким к чужим улыбкам.
…
…
– Так это… – говорю я. – Детектив Рональд.
– А что он? – спрашивает Мендес.
– Он же вам жопу лижет, да?
Мендес молча складывает руки на груди.
– Есть вопрос, – продолжаю я. – Ему ведь нравится торчать за дверью, да? А знаете, мне всегда казалось, что это работа как раз для таких, как он. Эй, а знаете, какая работа для вас? Сидеть. В коридоре.
Мендес раскрывает папку и достает несколько листов бумаги. Она переворачивает их лицом вниз и складывает руки поверх:
– Вик, ты когда-нибудь слышал про тач-ДНК-метод?
– Нет.
Она берет ручку и поднимает над столом:
– Мы сидели тут около часа. За это время мое тело избавилось от… ну, примерно тридцати тысяч клеток кожи. Теперь давай предположим, что лишь ничтожная часть этих клеток попала с моих пальцев на ручку. Скажем, десятая доля процента. Выходит около трехсот омертвевших клеток кожи. Или давай будем совсем уж консервативными и отнимем еще две трети. Предположим, на этой ручке осталась сотня моих клеток. Ты знаешь, сколько клеток нужно лаборатории, чтобы составить чей-то профиль ДНК? Семь, ну, может, восемь. Вот такой метод. – Она подталкивает конверт ко мне через стол. – Мы собрали образцы с орудия убийства, сравнили с ядерной ДНК, найденной на месте преступления, и пропустили результаты через Объединенную базу данных ДНК, сокращенно ОБДД. Это база ФБР, в ней содержатся образцы ДНК опасных преступников.
Она подталкивает ко мне фотографию мужчины. Я его не знаю; во всяком случае, так мне кажется. Он так избит, что сказать наверняка сложно. Это крупный кадр его лица. Такие жуткие синяки и ссадины, словно смотришь на свежий труп.
– Это кто?
Мендес хлебнула кофе.
– Когда они добрались до Штатов, База и Нзази занесли в базу как несовершеннолетних беженцев категории М4. Это значит, что у них не было здесь родственников или знакомых. Их согласилась взять семья из Сиракуз. Несколько лет все шло хорошо: Баз закончил школу, выехал от семьи, получил работу в местном магазине электроники. Но потом он связался с плохой компанией. И семья сказала ему, что с них довольно. У них есть родной сын, и они больше не могут доверять Базу.
– Но вы же сказали, что он тогда уже переехал от них?
– Да, но Нзази еще жил там, поэтому Баз постоянно приходил его навещать. Так вот, когда семья из Сиракуз от них отказалась, – Мендес кивает на фото в моей руке, – ее сменил Томас Блайт. Отец-одиночка, хороший дом, хорошая работа. Его кандидатуру одобрила служба Католической благотворительности. Нельзя отрицать, что мистер Блайт поступил чрезвычайно великодушно, взяв к себе Нзази. – Она протягивает руку и легонько постукивает по фотокарточке. – И вот как Баз отплатил за его доброту. Избил до полусмерти.
…
– Так он жив? – спрашиваю я.
Мендес пододвигает ко мне еще одно фото. На нем Томас Блайт лежит в больничной койке, окруженный аппаратами. К разным частям тела подключены трубки. Лицо у него почти зажило, хотя шрамы остались.
– Этот снимок несколько месяцев назад сделала медсестра, которая ухаживает за ним. Он в коме, Виктор. На системе жизнеобеспечения.
Я пуст, как белый лист бумаги.
– Но почему вы думаете, что это Баз? – спрашиваю я. – Этот мужчина…
– Томас Блайт.
– Вы сказали, он в коме. Откуда нам знать, что случилось на самом деле?
Мендес толкает по столу третий, последний лист бумаги. Он сильно отличается от двух предыдущих. Поверху жирным шрифтом значится: «Досье преступника». Из-под заголовка на меня смотрит лицо База. Это он, но это не он. В его глазах, на его губах нет улыбки. Это холодная фотография, серая и жесткая, жесткая и тяжелая, тяжелая и ужасная. Базу на фото не нужна правда. Он не говорит о провидении Живого Бога. Баз на фото не станет убирать хлеб с бургера или молча передавать газировку. Баз на фото разбивает мне сердце.
Слева от фотографии идет список характеристик. Пол, раса, дата рождения, вес, рост, опознавательные знаки.
– Вот это я имела в виду, когда говорила, что он связался с плохой компанией, – говорит Мендес, указывая пальцем на строку в середине страницы. Предыдущие судимости. Там всего один пункт: хищение в крупных размерах (Подозреваемый угнал «Лексус LS 600» стоимостью около 150 тыс. долларов…) – Это серьезное преступление, – поясняет Мендес. – И именно из-за него ДНК База попало в базу данных ФБР. Насколько я поняла, приговор ему вынесли мягкий, с учетом того, что это был его первый привод. Но год в тюрьме он провел.
Тебе нужна помощь? Ты причинил кому-нибудь вред? Свои вопросы Баз не брал из ниоткуда; из них было соткано его прошлое. Теперь понятно, почему он так убедительно просил нас не воровать.
Дальше в документе говорилось, что Баз был подозреваемым в одном деле о нападении с избиениями и в другом – о похищении.
Мендес протягивает руку через стол, берет фотографию Томаса Блайта и смотрит на нее, обращаясь ко мне:
– В квартире Блайта не нашли следов взлома. Ничто не пропало. При избиении не использовались никакие инструменты или оружие. Повреждения были нанесены кулаками. Энергичные и многочисленные удары человека с огромной физической силой. И, насколько я могу судить, разъяренного.
Ногти. Вдавить. Глубоко в кожу правого предплечья.
Вдавить и держать.
Теперь сильнее.
Я – сила привычки.
– Баз Кабонго – не тот, кем ты считаешь его, Виктор. Он рассчитывал, что ты станешь последователем. Его последователем. Он считает тебя глупым. А я считаю тебя умным. – Голос Мендес звучал глухо и шероховато, словно она говорила со мной по рации из какой-то далекой страны.
Плохая связь с Сингапуром.
Я смотрю на список судимостей База, и мне в глаза бросается одно слово.
– Похищение?
…
…
– Виктор. Коко когда-нибудь говорила о своем отце?
(СЕМЬ дней назад)
МЭД
– Это тату-салон, – сказал Баз.
Вик сосредоточенно пил газировку, наклоняя банку как-то боком.
– Что?
– «Гостиная». Это тату-салон. Там работает наш друг, это недалеко отсюда. Можем пойти туда, когда закончим есть.
Мы сидели в пабе «Наполеон», у самого дальнего столика в углу, зажатые между бильярдом и дартс. Разговаривали о списке Вика и пили газировку (все, кроме База: он всегда заказывал воду).
Вик примостился рядом с Коко и Зазом, а мы с Базом сидели напротив.
– А я считаю, что надо было пойти в «Белую манну», – сказала Коко.
Это хакенсакское заведение славилось мороженым на вафлях. Одно упоминание ресторана вызывало у меня слюноотделение, как у собаки Павлова. К несчастью для нас, руководство «Белой манны» не слишком терпимо относилось к невинным шалостям. Например, им не нравилось, когда рыжая коротышка воровала с чужих столов картошку фри.
– Лучшие мини-бургеры по эту сторону Миссисипи.
Я приподняла бровь:
– А ты что, была по другую сторону Миссисипи, Коко?
– А мне и не надо. Я же говорю: «Белая манна» лучше всех. И ты сама это знаешь.
– Надо было тебе помнить об этом, когда ты пошла тырить картошку с чужих…
Словно по команде, перед нами появилась тарелка дымящейся картошки с сыром.
– Вот, ребята. Мои знаменитые картофельные ломтики с острым сыром.
Марго Бонапарт была именно такой, как предполагало ее причудливое имя: она в любую погоду носила резиновые сапоги, обтягивающие разноцветные лосины и длинные хвостики (которые больше походили на собачьи уши, чем волосы). Казалось, у нее никогда не иссякнет запас старых футболок с «Битлами». Отец Марго, Хьюберт Бонапарт, владел пабом «Наполеон». Это значило, что весь мир был у ее ног.
Весь мир, кроме База. Она не могла заполучить База, как бы сильно этого ни хотела. В настоящий момент Баз встречался с какой-то Рейчел; они работали вместе в кинотеатре. У них вроде как было много общего – любовь к фильмам и бейсболу – что делало ее особенной. У База всегда были подружки. Они часто менялись и никогда не бывали у нас. Баз с Рейчел постоянно ходили куда-то ужинать; иногда он оставался у нее, и порой он возил ее в Трентон посмотреть бейсбол. Я вполне могла понять нежелание База мешать личную жизнь с жизнью в Одиннадцатом Парнике.
– Опять потерял мой номер, Мбемба? – спросила Марго Бонапарт. Насколько я знаю, она одна называла База полным именем. Марго достала из фартука ручку и клочок бумаги, записала свой номер и протянула Базу: – Богом клянусь, ты и голову бы свою потерял, если бы она не крепилась к плечам. А жаль, она у тебя красивая. – Тут она переключила внимание на нас: – Бургеры ничего? Если хотите, могу принести салат. В прошлый раз нам доставили слишком много латука, и он скоро испортится. Хотя что это я! Слушайте, пообещайте мне, что оставите место для десерта. Я приготовила кое-что особенное.
Мы заверили Марго, что не наедимся до отвала и подождем ее особый десерт, и она ушла, хлопая своими хвостиками.
– Хотя что это я! – сказала Коко нараспев. – Слушайте, мы просто обязаны оставить место для десерта. – Она засунула в рот вилку с картошкой и продолжила говорить: – Ну и цирк, эта девчонка. Заз, как думаешь, у нее там мороженое?
Заз щелкнул пальцами один раз.
Вопреки имени, в этом заведении не было почти ничего французского, за исключением фразы, которой официанты встречали вас у входа. «Bonjour, mes petits gourmands», что в переводе значило «Здравствуйте, мои маленькие чревоугодники». В диаграмме Венна, где область A = {Люди, которые говорят по-французски}, а область B = {Завсегдатаи паба «Наполеон»}, область пересечения = {Практически никто}. Паб «Наполеон» был воплощением абсурда, и, возможно, поэтому мы так его любили.
Мы быстро расправились с картошкой, и через пару минут Марго принесла салат. У нас уже давно не было новых Глав, поэтому мы почти не разговаривали, пытаясь привыкнуть к присутствию незнакомца за столом. Расправившись с салатом и картошкой, мы пустили по кругу два предмета из урны: письмо и фотографию. Я прочла часть письма вслух. «Вы с Виктором – мой север, юг, восток и запад. Вы – мое Повсюду». Вот что я хотела сказать: “Черт, это самое милое из всего, что я читала”. Вот что я сказала:
– Дорис – это твоя мать?
Вик кивнул, и я прочла вслух места из списка:
– Подвесь меня в Гостиной, швырни меня с Утесов, похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя, утопи меня в нашем колодце желаний, сбрось меня с вершины нашей скалы. Ну, с Гостиной понятно. А Утесы – это на берегу реки?
Баз кивнул:
– Думаю, с этим проблем не будет. Мы можем добраться туда из Энглвуда. – Он посмотрел через стол на Вика: – Насчет остальных мест ест предположения?
– Нет, – ответил Вик, глядя в свой пустой стакан.
Я пустила письмо по кругу; Коко схватила его заляпанными сыром руками и зачитала вслух, попутно запихивая в рот еду. Добравшись до последней части, она остановилась.
– Пока мы не станем старо-новыми. Что это вообще значит-то?
– Они так часто говорили, – сказал Вик. – Я не знаю… Не знаю, что это значит.
Манеры Вика, его голос и язык жестов указывали на то, что он сильно смущен. Будто мы транслировали его личный дневник по радио на всю страну. Разумеется, в письме, в этой «Последней записке» его отца, и правда было что-то сугубо личное.
Заз передал мне снимок.
– Кто положил все это в урну? – спросил Баз. – И главное, зачем?
– Наверно, мама, – ответил Вик. – Список, фотографию, пепел. Я думаю, ей нужно было, чтобы весь он, целиком, хранился в одном месте. Теперь у нас в доме все по-другому. Но эти вещи – это по-прежнему он. Они не меняются.
На фотографии родители Вика стояли на крыше; у них за спиной виднелся знакомый пейзаж Нью-Йорка. Вик отдаленно напоминал родителей. Интересно, насколько сильнее было бы сходство, если бы он не скрывал лицо за волосами, за этим щитом, который он построил между собой и миром.
– У них очень счастливый вид, – заметила я, снова глядя на фото.
Вик отставил стакан в сторону, протянул руку через стол и взял снимок у меня из рук. И как раз тогда у нашего стола появилась Марго с целым подносом бургеров. Она поставила перед каждым из нас по тарелке и исчезла. «Au revoir, mes petits gourmands». Я едва ее слышала. Я наблюдала за Виком: он внимательно смотрел на фотографию, а я пыталась угадать, о чем он думал.
ВИК
Уверен, что мама попросила какого-нибудь незнакомца щелкнуть их. Она вечно так делала: просила незнакомых людей ее сфотографировать.
Но те, кто нас не знал, таращились на меня больше всего. Меня это сильно беспокоило.
– Они и были счастливы, – сказал я. – Очень счастливы. Я был счастлив.
Сейчас? Ох, черт! Сингапур.
Я положил фото на стол и перевел взгляд на бургер. Странная официантка ушла, но никто из нас не начал есть. Я думал о том, что сказал Баз. Что Гостиная – это тату-салон. В моей Стране Ничего я увидел два компаса с направленными друг на друга стрелками. Так мы никогда не потеряемся, говорил папа.
Я знал, что Баз был прав. В этом был смысл. А это значит, мы могли спокойно закончить есть и направиться в «Гостиную», где я мог начать разбираться, какая стрелка была нужной. Папиной.
А вот как я себя чувствовал: бутылка шампанского, которую хорошенько встряхнули. Сердитый вулкан, уставший от того, что людишки строят свои глупые домишки на моих руках и ногах, словно я не существую, словно я не в силах стряхнуть их, когда захочу. Я чувствовал, что наполнен огнем и льдом; что-то во мне пузырилось, кипело и щелкало. Что-то просилось на волю.
– Мама с папой начали встречаться еще в школе, – сказал я. – И поженились в институте.
Мне нужно было опустошиться.
Мне нужно было, чтобы меня опустошили.
– Они всегда говорили, что влюбились еще глупыми подростками. И я очень по этому скучаю.
Я оглядел стол. Ребята ничуть не выглядели расстроенными или сбитыми с толку, и я захотел отдать им мои пузырьки и ярость: людям, которые, блин, наконец смогут меня послушать и увидеть, каков я есть на самом деле. Которые не увидят во мне статую на углу с табличкой в руках, а на табличке написано: «Смотрите на меня, не смотрите на меня, смотрите на меня, не смотрите на меня…» Ряд за рядом, и ряды не кончаются. Они продолжаются до бесконечности, как и желание быть одновременно заметным и невидимым.
– У мамы с папой было много фразочек, каких-то предложений, которые понимали они одни. Пока мы не станем старо-новыми. Понятия не имею, что это значит. – Я расплакался. Удивительно, но не невероятно. Я смаковал эту влагу, думая, да, это логично. Давай, выплесни все это с лавой и шампанским. Освободи все. – Иногда я думаю, что знал его лучше всех, а потом мне кажется, что я совсем его не знал. А теперь уже слишком поздно. А он… а он, блин, обещал мне. – Я встряхивал себя, пока не выскочила пробка. Шшш, шшш, пузырьки, пена, хлопок, теперь можно вздохнуть. – Когда я был маленьким, папа пообещал, что никуда не уйдет. Он научил меня думать сердцем, слышать шепоты – самые злобные – и как использовать их, чтобы становиться сильнее. Как быть Суперскаковой лошадью, а не тупым объятием сбоку. И как мне теперь делать это все? Когда он умер? – Я схватил ближайшую салфетку и вытер размышления с лица. – А теперь весь сраный мир его забыл. Даже мама, и я ее почти не узнаю.
. . . . . Давай, скажи.
Я Северный Танцор, лучший племенной конь века, самый суперскаковой из всех коней.
. . Давай.
. . – Папа умер от рака поджелудочной.
. . Я никогда раньше не произносил эти пять слов.
И только первые два имели значение.
. . – Он умер два года назад. – Опять же, первые два слова лишали остальные смысла. – Мама только что согласилась выйти замуж. За человека, который считает, что «Братьев Карамазовых» написал Толстой.
. .
. .
– А что, нет? – спросила Коко.
За столом задышали; впервые, как показалось мне, за многие часы. Я посмотрел на Коко, пытаясь улыбаться глазами. Не уверен, что это сработало.
– Нет, Коко. Не написал.
Коко кивнула с самым серьезным видом.
Я посмотрел через стол на База:
– Вчера я взял урну и сбежал. Я собирался развеять его над рекой, но потом нашел записку и фотографию. Я не могу пойти домой, пока не сделаю то, о чем просил папа.
…
– Помнишь мой первый вопрос?
– Да.
– Помнишь свой ответ?
– Да.
– Скажи еще раз.
– Мне нужна помощь.
– И еще раз.
Я надеялся, что Баз видит улыбку в моих глазах; я-то в его взгляде ее заметил.
– Мне нужна помощь, Баз.
– И мы поможем тебе, друг.
Друг.
Какое красивое слово.
Внезапно до Сингапура стало рукой подать.
МЭД
Баз аккуратно снял верхнюю булку со своего бургера, потом нижнюю и положил их на край тарелки. Он ел мясо; он ел овощи; изредка, если Коко засыпала, не доев мороженое (очень изредка), он доедал за ней. Но хлеб – никогда.
– Сидишь на безуглеводной диете? – спросил Вик.
– Баз – противник хлеба, – сказала я, закатывая глаза.
– Противник хлеба?
Я кивнула:
– Ага. Он против хлеба.
Вик посмотрел на База:
– Что-то я не понимаю.
Баз откусил котлету и латук, проглотил:
– Тебе не обязательно понимать все на свете.
Я невольно рассмеялась. Баз любил взять самые обычные слова и сложить их в непривычном порядке. Тебе не обязательно понимать все на свете. Беда была в том, что окружающие не знали, что делать с такой прямой простотой: они к ней просто не привыкли. Люди ожидали двойного дна, троянских коней, которые проникают во вражеские укрепления и сжигают вас, стоя на пьедестале моральной двусмысленности.
Боже.
Чем дольше я являюсь человеком, тем меньше хочу им быть.
Коко что-то черкала на своей салфетке. Она вроде как сочиняла песни, хотя пока что конечного продукта мы не слышали ни разу. Заз заглядывал ей через плечо, иногда кивая или тряся головой. Только ему позволялось читать ее творчество; только он входил в круг доверенных лиц.
Потом Марго принесла еще одну тарелку картошки с сыром, и Баз рассказал нам историю о том, как в кинотеатре сломался кондиционер.
– Посетители ужасно раскричались. Хотели, чтобы им вернули деньги, ну и все такое. А потом мы обедали с сотрудником по имени Расс. Расс заметил, что было очень жарко. Я согласился, что было очень жарко. Он сказал: «А разве ты не из Конго?», а я сказал: «Ну, теперь я американский гражданин, но да, я родился в Республике Конго. А почему ты спрашиваешь?» И Расс сказал: «А, да так. Я просто подумал, что раз ты жил в джунглях, то привык к жаре». Я посмотрел Рассу в глаза и спросил: «А ты ведь из Нью-Джерси?» – «Да, – сказал Расс. – Всю жизнь тут живу». Я кивнул: «Выходит, ты раздеваешься до трусов и лапаешь загорелых девчонок в джакузи». Расс приподнял бровь и улыбнулся. «Нет, – сказал он. – А почему ты так думаешь?»
А я сказал: «Я смотрел сериал “Джерси-Шор”, так что знаю, как живут люди в Нью-Джерси. Ну признай. Ты раздеваешься до трусов и лапаешь загорелых девчонок в джакузи».
За столом раздались смешки, но мне не было весело. Когда это случилось, Баз пришел в парник не в настроении. Он рассказал мне, что случилось. Я его не винила: ему много с чем приходилось мириться.
– И что сказал Расс? – спросил Вик.
– А ему больше нечего было сказать. – Баз грустно улыбнулся. – Ну, не в первый раз. И не в последний. Люди смотрят фильмы и сериалы и думают, что знают нас. – Он показал на брата. – Нзази был слишком маленьким, он не помнит, что мы потеряли. И слава Богу! Я тоже был ребенком, но я помню. Наша мама была учительницей английского, а папа работал на правительство. У нас был хороший дом, много вещей. Жизнь в Браззавиле, Конго, была приятной. Но война все меняет. В девять лет я не понимал, что такое нефть или жажда власти. Я не понимал, насколько страны хотят завладеть и тем и другим. В девять я понимал лишь, что свет исчез из маминых глаз. Я понимал отцовский страх, столь густой, что я чувствовал его запах. Я понимал звук, который издает бомба, прежде чем упасть на землю. Я понимал, что, когда солдаты приходят в твой дом и говорят, что заберут стол и стулья, папин видеомагнитофон, ваши любимые кассеты и мамины любимые платья, а вы еще должны быть за это благодарны… я понимал, что надо смотреть в пол и молчать. Я понимал правду о ночах, когда плакали мои брат и сестра. Когда я сам опускал голову на подушку и задремывал под яростную колыбельную – бах! Бах! Бах! Я понимал, что, возможно, до утра мы не доживем.
Стол затих. Мы наблюдали, как он рассказывает о прежней жизни. Я почти все это слышала раньше, но легче не становилось. Наоборот, с каждым разом слушать было все тяжелее.
– У тебя есть сестра? – спросил Вик.
Заз положил руку Вику на плечо, высоко поднял голову и накрыл другой рукой сердце. Баз сказал:
– Мой брат говорит тебе о своей близняшке, нашей сестре Нсимбе. Когда мы были совсем маленькими, мама иногда называла меня полным именем: Мбемба Бахизир. Когда Нсимба пыталась это произнести, у нее получалось «Баз». – Он на секунду улыбнулся, но тут же улыбка сменилась суровостью. – Не знаю, хорошо это или плохо, что я помню нашу жизнь до войны. Но я помню. Помню нашу прекрасную жизнь в Конго. – Он остановился и хлебнул воды. – Ну, так или иначе, никто не жил в джунглях. Во всяком случае, в тех местах, откуда мы.
– Хреновая у тебя работа, ну, в кинотеатре, – сказала я. – Ты бы мог работать где угодно, пока не накопишь на «Службу Ренессанс».
Баз снова улыбнулся, на этот раз полусерьезно:
– Папа любил кино. Работа напоминает мне о нем. И там легко найти новые Главы.
– Ну ладно, – сказал Вик. Он давно уже держал в руке бургер, не кусая. – Что такое Глава?
Баз вытер руки о салфетку и отодвинул пустую тарелку:
– Я собираю истории. Для книги, которую пишу. А книге нужны Главы.
– Ага.
– С твоего разрешения, Виктор, я бы хотел сделать тебя Главой в своей книге.
У Вика из бургера капнуло соусом. Он схватил салфетку, промокнул рукав и перевел взгляд обратно на База, словно ожидая объяснений. Не получив их, он кивнул и еще раз сказал:
– Ага.
– Разумеется, я заменяю имена и места, – сказал Баз.
– Ага.
Я понимала сомнения Вика. Людям редко нравится мысль, что кто-то наблюдает за каждым их движением, а потом записывает, организует, раскладывает по категориями, – мысль о том, что их действия и слова запишут, чтобы другие о них прочли. Я сама была вовсе не против; может, потому, что мне хотелось оставить после себя след. Оставить что-то, что напоминало бы миру обо мне, когда я закончусь.
– Я знаю, что мне вовсе не обязательно понимать все на свете, – сказал Вик. – Но вот это я бы точно хотел понять.
Баз рассмеялся и кивнул:
– Справедливо. Было время, когда ребята из Желоба вламывались в «Бабушкины деликатесы» по ночам, красили окна красной краской, чтобы было похоже на свиную кровь. Покупатели перестали приходить. Норм, хозяин заведения, пришел ко мне, чтобы я помог. И я ему помог.
– Как? – спросил Вик.
– Ой, ой, а можно я расскажу? – Коко подняла взгляд от салфетки впервые за десять минут. – Представь себе вот что: Баз берет бейсбольную биту и одно-единственное яблоко и идет в Желоб. Расспрашивает там всех и в итоге находит ребят, которые надоедали Норму. Это нетрудно: они сами хвастались этим, как последние идиоты. Так вот, он находит их, снимает рубашку…
– Кокосик, я не снимал рубашку.
– Конечно нет, это было бы пипец нелепо. Но, знаешь, для книги… Напиши, что снял рубашку. Так более драматично. Ну вот, Баз снимает рубашку, подкидывает яблоко в воздух и лупит по нему битвой. Разбивает на мелкие кусочки. А потом смотрит на этих чуваков и говорит: «Следующий, кто вломится в магазин, узнает, как чувствовало себя это яблоко». Ха! Красота, правда? С тех пор Норма никто не тревожил. В обмен на это мы получаем по два кило мяса в неделю и доступ в подсобку.
– И его историю, – сказал Вик.
Баз пожал плечами:
– Мы все – разные главы одной и той же истории. У нас нет возможности выбрать сюжет или обстоятельства, но мы можем выбрать, какими героями хотим быть.
– И где книга?
Баз ткнул себя в голову:
– Я работаю над ней прямо сейчас, пока мы разговариваем. И читаю руководство для писателей доктора Джеймса Л. Конроя. Слышал про него?
Конечно, Вик не слышал про доктора Джеймса Л. Конроя. Никто не слышал про доктора Джеймса Л. Конроя, но Баз все равно говорит о нем, как о светиле в индустрии руководств для начинающих авторов.
– Название ты уже придумал? – спросил Вик.
– «Хроники Кабонго», – сказала я.
– «Книга База», – сказала Коко.
Баз злобно зыркнул на нас:
– Названия пока нет, но время терпит. Мы с Нзази копим на машину, а там и на гараж с машинами. «Служба Ренессанс» будет люксовым сервисом такси для округа Берген. А еще, сам подумай, где искать лучшие истории, как не в дороге! Просто представь, какие я найду Главы!
– Просто представь, какой цирк уродов, – пробормотала Коко.
Вик посмотрел на нее:
– А что ты сама? Ты ведь ранняя Глава?
– Ну вот еще! У меня все просто: мама оставила нас, как только я родилась. Я ее совсем не знаю. Из-за ее ухода папа очень огорчился. Прям насквозь огорчился. Но не сразу: он пропитывался ей долго. Папа хорошо со мной обращался, когда я была маленькой. Не то чтобы сразу превратился в ленивую задницу. Это случилось постепенно, пока он не перестал вставать с кровати по утрам. Я прибиралась дома, сама собиралась в школу, все такое. Иногда он бил меня, просто так. Думаю, ему просто надоело быть папой. Раньше у него была нормальная работа в банке; его оттуда уволили. Потом он пошел работать в магазин. Денег почти не хватало, и он стал думать, как еще заработать. Узнал, что государство платит, если берешь сирот под опеку. Ну или не платит, но налоги можно не платить? Не помню точно. Там хрен разберешься. Ну вот, папа несколько дней вычищал квартиру, сам помылся, накупил продуктов в кладовку. Я подумала, он в лотерею выиграл. А потом к нам заявилась какая-то тетка. Ходила, что-то записывала, спрашивала, а потом – бац! – и у меня есть двое братьев. Баз и Заз. То есть, Баз с нами не жил, но он так часто приходил, что вроде как и жил.
– Я был слишком взрослым, чтобы быть под опекой, – сказал Баз. – Много раз пытался сам стать опекуном для брата, но… – Он повел плечами, но не беззаботно, а как усталый атлант. – К тому времени, как Нзази перевели в Квинс, ему уже было почти восемнадцать. Я решил, что просто поживу рядом, пока он не станет самостоятельным.
– Ну так вот, – продолжила Коко. – Им была нужна семья. Они получили нас, и я очень радовалась. Но еще и жалела их, потому что им достался мой папочка.
– Нам досталась и ты тоже, Кокосик, – сказал Баз.
Коко зарделась и продожлила:
– И вот однажды папа просто исчез. Пуф! Ушел, прям как мама. Сначала мне было грустно. Мы тогда сильно поругались. Не помню даже, что я сделала такого, что его разозлило, но я что-то сказала, и он сильно меня ударил, а потом я пошла в школу и больше его не видела. Но знаете, я думаю, ему просто нужно было найти что-то свое. Жизнь со мной ему явно не нравилась. Наверно, он ушел искать что-то другое. Ну и скатертью дорожка. Я не собиралась сидеть на месте и реветь. Я подумала, ну ладно, если мама с папой могут просто так уйти и начать новую жизнь, то я тоже. И я спросила База и Заза, может, они хотят уехать со мной в Хакенсак. Баз нашел работу, мы встретили Мэд, и с тех пор живем долго и счастливо в этом охренительном парнике. Конец.
За столом на пару секунд воцарилась зловещая тишина. Вик прочистил горло:
– Мне очень жаль, Коко.
– Чего жаль-то? – Коко дожевала бургер и облизала пальцы. – Все отлично сложилось. У меня никогда раньше не было настоящей семьи. – Она жестом обвела стол. – Такой, как сейчас. Как мы. Ну, в общем, я не Глава. Если Баз захочет написать обо мне, ему придется встать в очередь желающих и раскошелиться. Отличный бургер, кстати. Марго, конечно, бешеная, но жарить мясо умеет, как никто.
У меня, словно от ушиба, заболело сердце. Коко была слишком маленькой, чтобы смотреть с первого ряда ужастик своей жизни. Я перегнулась через стол и обняла ее за шею, прямо там, при всех:
– Я люблю тебя, Коко.
– И я тебя люблю, Мэд.
Она уже рассказывала эту историю раньше. И хотя звучала она довольно правдоподобно, если немного задуматься, можно заметить, что кое-что в ней не складывалось. Было что-то, чего Коко не знала, что-то, что ей недоговаривали. Я могла лишь гадать, что же это было.
– А почему Хакенсак? – спросил Вик.
Я откинулась на спинку сиденья:
– А помнишь городское управление лет десять подряд крутило рекламу, пытаясь продвинуть Хакенсак как туристический центр?
– Это где утверждалось, что Хакенсак «на пороге ренессанса»? – спросил Вик.
Я подмигнула ему:
– Точно.
– Ты что, хочешь сказать… – Вик посмотрел на Коко, потом на братьев Кабонго. – Вы приехали в Хакенсак из-за рекламы?
– Ренессанс грядет, ребят, – сказала Коко. – Я чувствую. Он прямо за углом.
Я фыркнула прямо в соломинку и разбрызгала газировку по столу.
– Смейся-смейся, – сказала Коко. – Посмотрим, кто будет смеяться, когда до нас доберется ренессанс. Баз с Зазом откроют свою «Службу Ренессанс», я напишу песню про всю эту ренессансную фигню, и когда стану богатой и знаменитой, на моих ренессанс-вечеринках будут появляться только те, кто надо мной не смеется.
Заз щелкнул пальцами.
Коко махнула ему:
– Да, Заз, ты можешь не беспокоиться.
– Я не знал, что ты пишешь песни, – сказал Вик. – А какие?
– Да всякие. В основном рэп. Мне нравятся ритм и рифмы. Я давно работаю над своим ренессанс-рэпом. Настоящий шедевр.
Из ниоткуда появилась Марго Бонапарт:
– Ладно, ребята. Десерт почти готов. Пошли за мной.
Мы вышли из-за стола, бросая друг на друга обеспокоенные взгляды, и последовали за Марго по полупустому ресторану на кухню.
– Проходите в подсобку. И не обращайте внимания на бардак. Я пока не очень понимаю, как прибираться на ходу.
Марго подошла к огромной плите. На четырех раскаленных конфорках пузырилось что-то сладкое и карамельное. У меня как из крана потекли слюни. Марго опустилась рядом с плитой на колени и потянула за угол огромного паласа. Под ним, на полу, явились очертания люка с маленькой бронзовой ручкой.
Я посмотрела на Вика. Он показал на Марго и прошептал:
– Суперскаковая лошадь.
Я сделала пометку в памяти: рассказать ему про Марго. Про ее пристрастие к азартным играм и то, как она залезла в банковский счет отца, когда у нее закончились собственные деньги. До Атлантик-Сити всего пара часов… такие истории случались тут часто. К счастью для Марго, ее отец любил ходить в местный кинотеатр, где он однажды излил свои печали очень понимающему сотруднику. Баз знал, что у Хьюберта Бонапарта есть три слабости: дочь, ресторан и независимое кино. В следующие три недели Баз провел все выходные у «Наполеона»: красил стены снаружи и внутри, потолок, плинтусы. Также он предоставил Хьюберту право неограниченного доступа в кинотеатр через задний ход с которым я была очень хорошо знакома). Это привело к следующим результатам: во-первых, долг Марго отцу отныне считался выплаченным сполна; во-вторых, Бонапарты, сильно озадаченные просьбой, все же разрешили Базу использовать свою историю для книги (согласно автору, это будет повесть о семейном прощении). В-третьих, Марго с отцом становились очень забывчивыми, когда приходило наше время платить за еду.
Ах да, и в-четвертых: Марго Бонапарт неустанно стремилась «отплатить» Базу Кабонго. До сих пор ее попытки успехом не увенчались.
– Раньше сюда сливали жир, – сказала Марго. Она потянула за ручку и открыла дверцу. – Вы когда-нибудь чистили такие штуки? Воняет просто ужасно. Каждый раз, когда мы начинали чистить, клиенты просто разбегались. В итоге папа установил другой жироуловитель, снаружи. Тот гораздо меньше. А этот просто огромный, вот посмотрите.
Мы подошли к краю дверцы. Марго была права: это углубление было размерами где-то полтора на два метра, как старый хэтчбек. Жироуловитель напоминал крошечный подвал с гладкими серыми стенами и полом.
Марго Бонапарт прыгнула в люк.
– Уже много лет им не пользуемся, но все равно отсюда до сих пор воняет серой, как из ада. – Через пару секунд ее рука появилась на поверхности, а в ней – полная бутылка Bacardi Silver. Коко взяла бутылку рома, пока Баз доставал Марго из жироуловителя. – Никогда не помешает заказать лишнюю бутылку или две, – сказала Марго, закрывая люк и натягивая палас на место. – Конечно, официально такие заказы не оформляются.
– Это настоящий ром? Как у пиратов? – В голосе Коко послышались лихорадочные нотки.
– Вы такие милашки, – сказала Марго, забирая у Коко бутылку. – Хотя и с приветом. Да, это настоящий ром, как у пиратов. – Она свинтила крышку и хлебнула, другой рукой помешивая что-то на сковородке. – Вы когда-нибудь пробовали банановый фостер?
Мы отрицательно покачали головами. Стыдно признать, но Марго полностью завладела моим вниманием.
– Это кто такой? – спросила Коко.
– Не кто, а что.
– Что такое банановый фостер? – спросила Коко, забыв все остальные слова.
– Жареные бананы, – сказала Марго. Она достала коробок спичек и, наклонив бутылку, щедро полила ромом все четыре сковородки. Затем зажгла длинную спичку, поднесла пламя к шипящим бананам и зажгла их. – Огненные!
Заз щелкнул пальцами.
Мы склонны были с ним согласиться.
ВИК
Я сидел в викторианском кресле: высокая спинка, обивка из замши, медные заклепки и ножки с резными ангелами и демонами.
Это кресло было офигеть какой Суперскаковой лошадью.
Фойе «Гостиной» от него не отставало: антикварная мебель, плакаты старых фильмов в рамках (включая «Касабланку», любимое кино моих родителей); с высокого потолка свисает хрустальная люстра. Воздух сочился ароматом пачули. В общем и целом, я был удивлен обстановкой. Совсем не так я представлял себе тату-салон, и дело было не только в обстановке. Даже архитектура и та была необычной. Весь первый этаж занимало фойе. Из него наверх, в галерею, вела винтовая лестница. Если верить электронному гудению, татуирование происходило именно там.
Мы сидели внизу и ждали.
Я думаю, что фойе можно было бы с уверенностью назвать залом ожидания.
В пабе «Наполеон» мы позвонили с телефона Марго, чтобы узнать, когда закрывается «Гостиная». В восемь. Оттуда было совсем недалеко: мы могли дойти пешком и по дороге подумать, где «повесить» папины останки. (Я до сих пор понятия не имел, что это значит, но надеялся, что папа направит меня в верном направлении.) Пока мы шли, Мэд цитировала свою любимую книгу – «Чужаков». Я ее раньше не читал. Больше всего мне понравилась цитата про двух людей, которые любуются закатом, находясь в разных местах, и как, может, их миры мало отличались друг от друга, потому что оба видели один и тот же закат.
Я думаю, Мэд видит в книгах то же, что я в картинах: невесомую красоту Вселенной.
Теперь она сидела рядом с Базом и Коко. Они листали фотоальбом с примерами работ мастеров из «Гостиной». Нзази стоял у окна, наблюдая за вечерним шоу, а я сидел в своем суперскаковом кресле и думал о своем первом столкновении с миром татуировок.
Мне было шесть. Может, семь. Мы пошли к океану. Мама сидела на стуле, зарывшись пальцами ног в песок. Она любила читать на пляже. Папа расстелил полотенце и валялся на спине. Он любил мечтать на пляже. Я строил замок из песка, потому что мне было шесть. Может, семь.
Я любил что угодно на пляже.
Кусок моего замка обвалился и намок. Папа сел и помог мне восстановить строение. Он потянулся, чтобы взять совок, и я увидел на его плече татуировку. «Что это, папа?» – спросил я. «Компас, – ответил он. – Показывает прямо на восток, видишь?» Я спросил: почему? – как обычно делают шести-а-может-семилетние дети. Он посмотрел на маму. «Давай покажем ему», – сказал он. К тому моменту я уже забыл про свой погибший замок. «Что покажете?»
Мама отложила пляжное чтиво.
Папа отложил совок.
Что-то происходило. Что-то, к чему я не имел отношения. И это меня беспокоило.
Они повернулись и встали рядом, так, что их плечи соприкасались. К моему бескрайнему изумлению, у мамы была такая же татуировка, как у папы, за одним исключением: ее компас показывал на запад.
Их компасы показывали друг на друга.
«Так мы никогда не потеряемся», – сказал папа.
Два щелчка вернули меня из Страны Ничего. Нзази улыбался мне, по-прежнему стоя у окна. Он слегка кивнул, но как-то вопросительно. Я кивнул в ответ, и он повернулся и выглянул за окно. Немного раньше Коко сказала, что Нзази есть что сказать, если только будешь внимательно слушать. Надеюсь, я умел так слушать. За свою жизнь я привык, что люди что-то предполагают обо мне, что-то неверное. Привык, что после этого чувствовал, будто меня ударили под дых. Меньше всего мне хотелось самому раздавать такие удары.
– Ох, боже, – сказала Коко.
Баз быстро пролистнул страницу альбома.
– Боже, – сказала она снова.
Баз перелистнул дальше.
– Ох…
– Коко, – сказала Мэд.
Во взгляде Коко плясали безумные смешинки.
– Мэд, этот чувак сделал татуировку на яйцах. На яйцах! А что вот это такое? – Она ткнула в альбом, лежавший у База на коленях. – Я вообще не знаю.
Баз быстро перелистнул.
Коко не успела его расспросить: на винтовой лестнице раздались шаги. Мужчина с сияющей лысиной и коротким штырьком в носу, огромными дырами в мочках ушей и татуировками в несколько слоев присоединился к нам в нашем зале ожидания.
– Простите за ожидание, ребята. Парнишка наверху сам не знает, чего хочет, а я с утра один работаю, пипец занят, так что… – Он поменялся в лице, увидев нас. – Баз, негодник!
Они так крепко сжали друг друга в объятиях, что с База слетела бейсболка.
Полная противоположность объятиям сбоку.
Коко спрыгнула с дивана, подбежала к ним и обхватила парня за пояс.
– Эй, Тофер!
– Коко, дорогуша, как поживаешь?
Парень – очевидно, его звали Тофер – склонился и обнял девочку.
– Отлично! Я даже не выругалась сегодня ни разу.
Кто-то многозначительно кашлянул.
– Ну, может, час, а не день, – призналась она.
Тофер, медленно хлопая в ладоши, одобрительно кивнул:
– Ты пипец молодец.
Это он, подумал я. Мастер эвфемизмов.
Тофер распрямился и улыбнулся Базу:
– Скучал по тебе, брат. Думал, вы переехали и не сказали мне.
– Да, давно не виделись, – сказал Баз. – Ты как, держишься?
Тофер достал из-под рубашки длинную цепочку с кругляшом на конце.
– Восемь месяцев, шесть дней и… девять часов. – Он убрал медальон обратно, оглядел фойе и остановил на мне взгляд.
Обычно процедура молчаливых вопросов занимала недолго, секунду или две. Обгорел? Инсульт? Врожденный дефект? Потом человек быстро отворачивался, словно я сиял, как солнце в полдень. Я часто думал, что самое несправедливое в синдроме Мёбиуса – это не он сам, а неспособность других людей видеть во мне хоть что-нибудь еще. Вот это меня беспокоило.
Тофер показал на руку База:
– Хочешь сделать детальнее? Любое желание за счет заведения, разумеется. Мы от пары бесплатных татуировок не обеднеем. И, ребят, мне в жизни не отплатить вам за…
– Йо, Тоф! – Раздался голос с галереи. – Ты куда делся, чувак?
Тофер поднял голову к потолку:
– Остынь, Гомер, чувак! Что за пипец! – Он снова посмотрел на нас и заговорил, понизив голос. – Гомер полный кретин. Весь вечер тупит над своей татуировкой бабочки. Будто байкерам не насрать, что у него на бицухе. Это, блин, просто бабочка.
– Я вообще-то тебя слышу!
Тофер улыбнулся, пожимая плечами:
– Так чем могу помочь, ребята?
Баз представил нас и вкратце описал мою ситуацию. Я протянул Тоферу папину Последнюю записку, надеясь, что он сможет осознать величие момента.
– Повесь меня в «Гостиной», – сказал Тофер, изучая письмо. Он потер сияющую лысину с таким звуком, словно полировал новую машину оливковым маслом. Он посмотрел вверх на хрустальную люстру. – Прах у тебя с собой?
Я расстегнул рюкзак и достал урну:
– Раньше я не мог ее касаться. Урны, я имею в виду. А теперь могу. Все время ее трогаю. Урну.
…
Ты, Бенуччи, просто оратор.
…
Иногда, особенно после разговоров с людьми, я представляю, как залезаю в какую-то дыру, а дыра выплевывает меня обратно.
Но что поделать.
Тофер вернул мне письмо, улыбнулся, и на этот раз не отвел взгляда. И я понял, что этот мужик со сверкающей лысиной, дырками в ушах и палкой в носу понял всю грандиозность момента. Он посмотрел на лестницу и указал рукой на потолок:
– Единственное место, куда тут можно подвесить человека, это люстра. Потусите тут минутку. Я скоро вернусь.
Мэд прошла в центр фойе, стянула вязаную шапку и посмотрела вверх на люстру. Ее длинные желтые волосы спадали с одной стороны, как мокрое солнце.
– Что-то тут не так.
…
Удивительно красивые девушки таковы, что их красоте безразличны время и место. Они не могут переместить свою красоту в другое место или назначить ей другое время. И это очень отвлекает. Вот, например: прямо сейчас, вместо того чтобы придумать, как свесить своего мертвого отца с люстры, я думал о том, будут ли волосы Мэд попадать нам в рты, если мы поцелуемся. Хотя… знаете, ну и ладно. Пусть попадают. Ха-ха, будто это когда-то случится. Будто девушка вроде нее когда-то поцелует кого-то вроде меня. Будто я когда-нибудь узнаю, какая у нее на ощупь кожа во рту, или как она сжимает ногами мою поясницу, или как ее язык…
– Что ты делаешь? – спросила Мэд.
Черт! Я так таращился, что она заметила.
– А что? – спросил я.
– Ты, типа… – Мэд оглянулась на База и Коко. Те опять рассматривали фотографии татуированных частей тела.
Не соображая, что делаю, я шагнул ближе к Мэд, близко-близко. Я и раньше влюблялся в девушек – много, много раз, – но всегда издали. С Мэд это было просто невозможно. В ней было что-то, что не подразумевало расстояния. И раз я не мог ни переместить ее красоту в другое место, ни назначить ей другое время, лучше всего было просто признать ее существование.
– Закончи предложение, – сказал я, подойдя так близко, что чувствовал запах ее губ. Мед и пот. Как прекрасно. – Я, типа, что?
Она посмотрела мне прямо в лицо:
– Ты, типа, таращишься.
… …
– Ты тоже.
Мы оба смотрели на солнце. И не отворачивались.
Может, наши миры не так уж и отличались друг от друга.
– Нет, не получится, – сказал Тофер, стоя на верхней ступеньке лестницы. Поразмышляв пару секунд, он спустился обратно. – Я подумал, что, может, будет место на одной из этих штучек, куда раньше втыкали свечи, знаете? Но один хороший сквозняк из входной двери – и твоего папу раздует по всему помещению.
Нзази – он все это время стоял у окна – прошел через комнату, поднял мой рюкзак и направился к двери.
– Заз! – позвала Мэд.
Но он не остановился. Придерживая мой рюкзак, словно младенца, он вышел из двери в снежную ночь.
Теперь меня ничто не отвлекало. Как же быстро папина урна стала частью меня, чем-то вроде руки или ноги. Теперь, когда она исчезла, я физически ощущал ее отсутствие. Не раздумывая, я рванул наружу.
От «Гостиной» до дороги было довольно далеко; газон успел превратиться в толстое снежное одеяло, которое становилось все плотнее. Впереди меня Нзази шагал в сторону улицы. Я понятия не имел, куда он идет, и было совершенно непонятно, собирается он пройти десять шагов или десять километров.
Мне было все равно.
У него был мой компас.
Внезапно в моей ладони оказалась чья-то рука. Рядом со мной через снег волочилась Мэд, и я превратился в пыль, пух и всякие прочие парящие штуки.
– Как красиво, – сказала она, оглядываясь вокруг. – Снег.
Мне всегда казалось, что в словах есть что-то особенно теплое, когда их говорят на морозе. Ну, не знаю. Словно забирают дыхание у того, кто их сказал, и заворачиваются в выдох, как в свитер.
…
Впереди, Нзази остановился в бледном свете уличных огней. Мы догнали его; он щелкнул пальцами, показывая на деревянную вывеску, что свисала на уровне груди между двумя вбитыми в землю столбами:
Я подошел ближе и дотронулся кулаком. Вывеска слегка покачнулась, сбрасывая слой снега.
– Повесь меня в Гостиной, – сказал я.
Нзази протянул мне рюкзак, кивнув. Как и в предыдущем кивке, в этом содержался ответ.
И я знал, что Коко была права: Нзази было что сказать, если вы знали, как слушать.
– Спасибо, – сказал я.
И опять он кивнул.
– Я сморщусь от холода, как татуированные яйца, – сказала Коко.
За нашими спинами они с Базом и Тофером дрожали в снегу. На их нерешительных лицах застыло ожидание. Мне было стыдно, будто я мог винить себя за холод, а еще за то, что я не знал, что должно случиться дальше.
– Эй, – сказала Коко, подходя к вывеске и показывая в нижний угол. Под словом «Подкрасьтесь!» кто-то сделал в дереве надрезы:
Б. Б. →← Д. Дж.
– Что это значит? – спросила Коко.
– Это инициалы родителей. – Слова повисли в воздухе, как дым. Это были неповоротливые слова. Неловкие. Это от мороза: он делал слова тяжелыми, грузными. – У них были татуировки на плечах. С компасами. Папин показывал на восток, а мамин – на запад. Чтобы они никогда не теряли друг друга.
Падал холодный снег.
Поднимались теплые слова.
Всю жизнь я чувствовал способность чувствовать горечь и жалеть себя. Но лишь в очень редких случаях мне хотелось улыбаться и хмуриться одновременно, но я не мог ни того, ни другого. Я вспоминал, каково это было, когда мои родители были вместе. Мир словно был веткой дерева, и они делили один кокон. Мама сейчас должна быть здесь, со мной, должна разбрасывать со мной прах, а не искать себе нового партнера по кокону. Папа написал письмо ей, и, как бы бойфренд Фрэнк ни хотел стать мужем Фрэнком, ему никогда не стать Первой Любовью Фрэнком. Мама была папиным Повсюду. И теперь моя миссия должна быть ее миссией.
Внезапно крохотные ручки Коко крепко обвили меня за пояс. Ее объятия сняли чуть-чуть веса с моей души – сделали Сингапур возможным, хоть и маловероятным.
Я повернулся к Тоферу:
– Можно я займу у тебя немного чернил для татуировки? И карандаш?
Тофер кивнул и побежал обратно в «Гостиную».
Не успел я понять, что происходит, Мэд, Баз и Нзази сгрудились вокруг нас с Коко, защищая от холода как стайка пингвинов. Не знаю, как так получилось, но, может, исполнение желаний мертвого романтика как-то сплачивает людей, что ли. Не скажу, чтобы я был недоволен.
Раньше мне не приходилось быть пингвином.
Через минуту вернулся Тофер; он принес не только чернила и карандаш. Тофер протянул мне фото.
– Мы фотографируем почти все наши работы, – сказал он. – Тогда я, конечно, еще не работал в салоне, но эти тату, о которых ты рассказывал… я вспомнил, что видел их в нашем альбоме.
Я внимательно смотрел на фотокарточку.
Татуировки были иссиня-черные, свежие, в рамках порозовевшей кожи. Два плеча, два компаса. На восток, на запад. Идеальное сочетание.
– Ты ведь ранняя Глава, да, Тофер?
Его глаза засияли.
– Я тогда совсем пропащим был. Эти ребята отвели меня в свой пипецкий волшебный парник, разрешили спать на диване, по очереди следили за мной, пока у меня был отходняк. Потом Баз отвел меня в ближайшую группу анонимных алкоголиков. Они спасли мне жизнь, чувак. Я очень горд, что стану частью книги.
Коко отошла от нашей стайки, чтобы обнять Тофера. Я улыбался сердцем, подняв вверх старую фотографию родительских татуировок.
– Можно я возьму себе?
– Еще бы, чувак.
Я засунул фото в рюкзак и достал урну. Странно. Я так долго не решался прикоснуться к ней, а теперь мне придется запустить туда руку.
Я раскрыл бутылку темно-синих чернил. Затем я оторвал липкую ленту от урны и снял крышку. Набрал щепоть папиного праха и высыпал в бутылку краски, закрыл и встряхнул.
Макнул кончик карандаша в синие, пепельные чернила, и повернулся к вывеске.
Б. Б. →← Д. Дж.
Краска в моих руках напомнила мне о Матиссе и о том, как он верил, что у каждого лица есть свой ритм. Следовательно, она напомнила мне об отце, который рассказал мне про Матисса, и вот посмотрите на меня: совмещаю Матиссов инструмент и папины кости.
– Повесь меня в Гостиной, – сказал я снова. И снова.
И снова.
МЭД
Было уже, наверно, около десяти. Снег еще падал, но мягко, словно снежинки на время застывали, порхая куда угодно, только не вниз. Чуть позади меня Баз судействовал в великом поединке между Коко и Зазом: они играли в камень-ножницы-бумагу.
Вик уверенно вел процессию к парнику, чем подтвердил свое недавнее заявление, что его бабушка с дедушкой раньше жили неподалеку. Незначительное совпадение, хотя он отзывался о нем иначе.
Он назвал это совпадение столкновением.
В паре кварталов от сада на меня что-то нашло. Я припустила вперед и зашагала с Виком в ногу.
– Эй, – сказала я.
– Привет!
– Как дела?
– Ничего.
– Тебе нужна шапка.
– Ты о чем?
– Что значит, о чем я? Я о том, что на улице холодно и тебе нужна шапка.
За нашими спинами взволнованно верещала Коко: она выиграла раунд.
– Ну это… я вчера уходил в спешке.
– У меня есть запасная в парнике, напомни, я дам тебе. Было похоже, что у моего тела была какая-то идея, которую оно забыло рассказать мозгу. Думаю, что это все ночной снег. Я вспомнила разговор вчера вечером, тоже в снегу, когда мы вдвоем стояли в тени Ling. Вик склонился над папиной урной, а я смотрела и слушала, как он шепчет ему какую-то ерунду, как мне казалось тогда.
Ты был Северным Танцором, племенным скакуном, самым суперским из всех скаковых коней.
Вот она. Идея.
– Вик.
– Что?
– А лошади скачут в снегу?
Он посмотрел на меня впервые с того времени, как мы ушли из «Гостиной».
И я не могу сказать наверняка, но казалось, что он улыбается.
И мы поскакали. И это было супер.
* * *
Мы ждали остальных на старой каменной стене. Старая смоковница шатром раскинулась у нас над головами; ветви блестели ото льда. Через дорогу сад ждал нашего возвращения. Странно подумать, что только этим утром мы с Виком сидели на мосту через канал «У золотой рыбки» и разговаривали, глядя на эту стену, словно мы сейчас были отражением нас тогда.
– Почему ты сказал, что это столкновение? – спросила я, пытаясь отдышаться на морозном воздухе.
– Почему я что назвал чем?
– Сегодня днем. Когда ты рассказывал, как раньше сидел здесь и смотрел в сад. Ты сказал, твои бабушка с дедушкой жили рядом. Сказал, что это столкновение.
Вик посмотрел куда-то немного левее сада, на кладбище по соседству:
– Странное слово, не считаешь?
– Столкновение?
– Нет. Жили. Мои бабушка с дедушкой жили рядом. Жили – в буквальном смысле прошедшее время жизни. Также известное как смерть.
Я понимала эту тягу к размышлениям. Может, понимала лучше, чем вообще все на свете. И хотя чужие размышления не так притягательны, как свои собственные, я все же знала, что лучше их не прерывать.
– Думаю, это просто логично так сказать, – ответил Вик.
– Жили?
– Нет. Столкновение.
– В каком смысле?
– Ну вот… представь, что каждый человек – это единица, и каждая единица много раз за день принимает какие-то решения, и каждое решение уводит единицу в разных направлениях. Странно подумать, что мы бы никогда друг на друга не наталкивались, понимаешь? Особенно если учесть, что единицы собираются в груды и остаются вместе.
– Мы разве собираемся в груды и остаемся вместе?
Он перевел взгляд с кладбища на меня, и вот он появился опять, этот намек на улыбку.
– Да. Это называется «дом». – Он поднял руку и легонько прикрыл мне веки. – Вот представь. Ты летишь в небе. Не в самолете, а размахиваешь руками и ногами. Как дивная птица. Ты в нескольких километрах над землей, паришь сквозь ночь. И далеко внизу ты видишь тысячи крошечных красных огней. Красные огни копошатся, мигают, перемещаются между зданиями, деревьями и домами. Старые исчезают, новые рождаются. Через какое-то время ты замечаешь, что огоньки иногда натыкаются друг на друга. Ты удивишься?
Я покачала головой:
– Нет.
– Я называю это неизбежностью соответствующих узлов.
Я открыла глаза:
– Значит, мы красные огоньки?
Он кивнул, снова поворачиваясь к кладбищу.
– Люди говорят о совпадениях, словно в них есть что-то особенное. Но ведь нет. Мы постоянно натыкаемся друг на друга. Думаю, люди просто слепые, раз этого не замечают.
Это была интересная мысль. Или скорее напоминание, что всякое дерьмо, с которым мне приходилось иметь дело, – это не моя вина. Это ничего более, чем последовательность неудачных столкновений.
– Подожди здесь, – сказал Вик. Он плюхнулся вниз со стены, расстегнул рюкзак и достал папину урну.
– Что ты делаешь?
– Я сейчас вернусь.
Как забавно: я столько раз видела кладбище, но мне ни разу не хватило смелости, чтобы пролезть внутрь. Вик петлял между надгробными камнями и деревьями, переступая осторожно, но легко, словно точно знал, куда идет, но не знал точного маршрута. В тусклом свете фонарей я разглядела, как он склоняется перед громоздким камнем, ставит урну перед собой в траву и что-то говорит. Конечно, я не слышала слов, но внезапно осознала, что происходит.
Через несколько минут он вернулся обратно, убрал урну в рюкзак и забрался на каменную стену.
– Твои бабушка с дедушкой?
Он кивнул:
– Они умерли в один месяц и от одного и того же. Мой папа похоронил своего отца, потом через две недели вернулся и похоронил свою мать.
– Черт, Вик…
– Я пытаюсь думать об отце издалека, как о единице, как об исчезающем красном огоньке. Но получается похоже на то, что ты говорила об умирающих звездах: иногда я вижу папу, хотя он ушел.
– Ты сказал, что это была чушь.
– Конечно, это чушь. Но теория все равно хороша. Ну, так или иначе, папы больше нет. Но я чувствую запах его лосьона после бритья. Слышу, как он прокашливается. Всякие мелочи, которые делали его моим папой, а не просто папой, понимаешь? – Вик не отрываясь смотрел на кладбище. – Интересно, чувствовал ли он то же самое, когда умерли его родители? И еще интересно, если у меня самого будут дети, почувствуют ли они то же самое? Надеюсь, что да. Наши прошедшие времена гораздо длиннее настоящих.
Я не успела ответить: из-за угла показались Баз, Заз и Коко, моментально разбавляя разговор. Спеша спрятаться от мороза, мы быстро пролезли под забором (или, в случае База, перелезли через забор) и уже шли по мосту, когда застыли, увидев силуэт.
Я видела Гюнтера Мейвуда лишь однажды: он редко выходил из дома. Совсем забыла, какой он высокий, этот старик. Он стоял на противоположном конце моста, загораживая нам проход, и в темноте мне было его едва видно. Когда он заговорил, голос, казалось, принадлежит самому холоду.
– Каков был наш уговор, мистер Кабонго?
Я увидела дыхание База. Почувствовала, как он осторожно оценивает обстановку, просчитывает свои слова.
– Продукты в обмен на парник.
Гюнтер Мейвуд поднял правую руку:
– Я нашел глазные капли. В туалете магазина сувениров. Туалет магазина сувениров в сделку входил?
– Нет, – ответил Баз.
Гюнтер швырнул ему капли:
– Я терпеливый человек, мистер Кабонго. Но если я узнаю, что вы или ваши друзья опять вторглись без спроса, я вызову полицию. Я ясно выразился?
– Да, – сказал Баз.
Силуэт медленно отступил в сторону. Мы поспешили вперед и не обменялись ни словом, пока не оказались в безопасности Одиннадцатого парника. Я пыталась поймать взгляд Вика: должно быть, это он забыл капли в туалете сегодня днем, когда переодевал штаны. Но он не поднимал глаз.
– Да не парься ты, Вик, – сказала Коко, залезая в спальник. – Черт, тучи людей пользуются глазными каплями. Может, это даже и не твои.
Баз поставил «Визин» на карточный стол, слегка улыбнулся Вику и заверил нас, что не стоит беспокоиться из-за Гюнтера, что мы и так не собираемся надолго задерживаться в парнике. А пока что надо быть особенно осторожными, когда будем ходить в туалет, брать кого-нибудь, чтобы стоял на стреме. Баз часто говорил о будущем в неопределенных, обтекаемых выражениях, и я едва ли могла его винить. Никто из нас не знал, что случится в будущем; я даже меньше других. В свете нашего предыдущего разговора с Виком: было не важно, где мы соберемся в груду и останемся вместе, главное, чтобы не расходились.
Через несколько минут мы уже забрались в спальники у калорифера. Я лежала на спине и смотрела в полиэтиленовый потолок и на звезды с другой стороны.
– Мэд? – сказала Коко.
Я вспоминала, какая она малышка, только когда она начинала говорить в темноте.
– Да?
– Расскажи историю.
Заз щелкнул пальцами.
Я посмотрела на диван, где на спине лежал Вик. Он воткнул в уши наушники; глаза у него были раскрыты.
– Ладно. Какую?
– Про Йогушу, пожалуйста.
Лежа на боку и искоса наблюдая за Виком, я прокашлялась и начала:
– Жила да была однажды маленькая девочка по имени Замороженный Йогурт. Друзья для краткости называли ее Йогушей. – Коко заихикала. Она всегда хихикала на этом месте. – Йогуша жила в волшебной стране под названием Одиннадцатый ряд, где не было ни домов, ни улиц, а только морозилки, и полки и сладости, которые могли растаять. Но Йогуше было одиноко. У нее не было друзей, и вообще никто, ни в морозилках, ни на полках, не хотел играть с ней. Бедняжка Йогуша.
– Бедняжка Йогуша, – сказала Коко.
Вик вынул один наушник.
– Однажды, – продолжила я, – маленькая девочка по имени Кокосик, которая жила в далекой-предалекой стране под названием Одиннадцатый Парник, случайно проходила по Одиннадцатому ряду. Кокосик вынула Йогушу с полки из холодной, туманной морозилки и сказала: «Йо, Йогуша! Привет! Я буду твоим другом и буду всегда тебя любить. Хочешь? Я из Квинс, если честно».
Коко опять хихикнула.
– А бедная Йогуша, которая чувствовала себя грустно, ну просто не-могуша, сказала: «Мне бы очень хотелось, это правда, но, увы, мои родители, Бен и Джерри, очень строгие и разрешают мне дружить только с теми, кто тоже живет в Одиннадцатом ряду». Это было странно, потому что Бен и Джерри были в своем роде очень либеральными родителями, но это другая история, которую я расскажу тебе позже.
На этот раз хмыкнул Баз.
Я продолжила:
– «Да, я думаю, мы очень разные, не так ли? – сказала юная Коко. – Хотя разве это не странно?» Бедняжка Йогуша наклонила голову и спросила: «Что не странно?» – «Ну, – сказала Кокосик, указывая пальцем за окно в мир за Одиннадцатым рядом. – Видишь закат?» Йогуша посмотрела за окно и сказала: «Ну да, я и правда вижу закат». Кокосик легонько хлопнула себя по подбородку и сказала: «Странно, что закат, который ты видишь из Одиннадцатого ряда, и закат, который я вижу из Одиннадцатого парника, – это абсолютно один и тот же закат. Может, наши миры не так уж и отличаются друг от друга. Мы видим один и тот же закат».
Вик повернулся на бок, и мы стали смотреть друг на друга в темноте.
– «Ну да, – сказала Йогуша. – Мы и правда видим один и тот же закат». И вместе, рука об руку, они пошли из Одиннадцатого ряда.
– А куда они пошли? – спросила Коко. – Сюда? Кокосик привела Йогушу сюда?
– Нет, – сказала я. – Они ушли в тот закат. Никто никогда не делал этого раньше и даже не слышал, чтобы кто-то другой так делал. И они жили долго и счастливо и капали, подтаивая, вместе. Конец.
Коко издала долгий довольный вздох:
– Это твой лучший шедевр, Мэд.
Было тихо и темно, и вскоре Коко звучно захрапела в своем спальнике рядом со мной.
Иногда что-то должно быть странным, а оно не странное. Не знаю, как объяснить, но мы с Виком таращились друг на друга полночи. Мы ничего не говорили, не улыбались, и он ни разу не моргнул. Я воображала, что он мог бы сказать, что он хотел сказать. Интересно, думал ли он то же самое про меня?
О чем на самом деле была история? – так и не спросил Вик.
Ты знаешь, о чем она, – так и не ответила я.
Я заснула, глядя ему в глаза. И это должно было быть странно, но почему-то не было.
Четыре Наружные символы, или Круто в традиционном смысле
Комната для допросов № 2
Мэделин Фалко и детектив Г. Бандл
19 декабря // 16:57
– «Eye of the Tiger»? – спрашиваю я. – А, нет, подождите, подождите… «Don’t Stop Believin». Вот эта песня у Заза самая любимая. У нас она была на пластинке, и он ее совсем заездил.
Бандл елозит на сиденье, и позвоночник у него трещит, как суставы в пальцах.
– Я же сказал. У меня нет любимой песни.
– Чего? Да ладно, чувак. У всех есть любимая песня.
– А у меня нет.
Я облизываю засохшую корочку на нижней губе.
– Думаю, мы все просто члены продуктивной буржуазии.
– Мэделин, я по большей части – и прошу, не пойми меня неправильно, – я чаще всего вообще не понимаю, что за хрень ты несешь.
Я неловко пытаюсь сесть поудобнее.
– Перекур?
– Нет.
– Нет в смысле сейчас нет или нет в смысле никогда?
Бандл пристально смотрит на меня и молчит.
– Мама так говорила… – От одного слова «мама» мне становится немножко больно, словно я уколола ладонь. – Когда ее что-то разочаровывало. Она напоминала себе, что мы все в одной лодке и стараемся изо всех сил.
При всех маминых странностях, она была чудесной родительницей. Она поселила во мне чувство независимости и делала все что могла, чтобы создать дома творческую атмосферу. Когда я сказала, что хочу быть дизайнером, она купила мне швейную машинку. Когда я проявила интерес к археологии, она купила мне набор лопаток и щеточек. Пока я росла, родители моих друзей вечно до смерти удивлялись, когда интересы детей внезапно менялись. «Что значит не любишь горчицу? Не выдумывай, ты всегда любил горчицу». Родители забывают, каково это – так быстро меняться, чувствовать себя собой в одну минуту, а в следующую превращаться в незнакомца, завернутого в твою кожу. Но не мама. Мама всегда умела предугадать настроение, всегда знала, что ждет за поворотом, и ее не смущали мои пубертатные выкрутасы.
– Ладно, – говорит Бандл. – Хорошо. Думаю, можно сказать, что мы немного отклонились от темы.
– Хотите знать, какая у меня любимая песня?
– Да не очень, но мне кажется, ты все равно мне расскажешь.
– «Coming Up Roses» Эллиота Смита из одноименного альбома. Мелодичная, негромкая, прекрасная, прекрасная. Почти все, что выпустил Эллиот, пугает своей честностью.
– Ох, Мэделин, пожалуйста, расскажи мне про него еще. – Бандл трет глаза, словно мы уже много дней сидим в этой комнате.
А сколько мы уже тут сидим? Кажется, что долго, но нет ни окон, ни часов, чтобы это проверить.
– До того как мама умерла, – говорю я, – она всегда давала мне по три доллара в неделю на карманные расходы. Это немного, но мы и жили небогато. Я не жаловалась. Вместо этого я копила деньги. Через пять-шесть недель у меня хватало на альбом. Этот, Эллиота Смита, я купила первым.
Недавно я пришла из школы домой – ну, то есть не домой, а к дяде Лестеру. Я поднялась в комнату и вытащила коробку с пластинками из-под кровати. Она была пуста. Он уже продал мой плеер, да и кучу всякого другого, чтобы покупать бухло. Я знала, что мне надо спрятать пластинки, чтобы он их не стащил… Мне не на чем было их слушать, но само их присутствие… не знаю почему, меня оно успокаивало.
– Мэделин, для чего ты мне это рассказываешь?
Я повернулась на сиденье, подняла волосы и оттянула воротник кофты, открывая левую ключицу:
– Раньше вы спрашивали про мои ссадины. Ну вот вам одна.
Я закрыла глаза, представляя, на что смотрит сейчас Бандл: розовая отметина из идеально округлых надрезов в четверть круга, длиной сантиметров в десять – двенадцать. Я сидела, застыв на месте, и говорила. Удивительно трагическое шоу.
Дядя Лес продал все мои пластинки, кроме одной. Та была ему нужна, как он сказал, чтобы преподать мне урок. Сказал, что мы теперь семья и что в семье «надо делиться». Он поднес зажигалку к пластинке и спросил, в каком месте я бы хотела получить этот урок.
– Господи Иисусе, – говорит Бандл. – Это клеймо.
– Винил быстро корежится от жара, но, знаете, даже удивительно, какой он горячий еще до того, как расплавится.
Я опускаю волосы – свитер закрывает розовые ложбинки – и поворачиваюсь к Бандлу. И когда я начинаю говорить, то говорю яростно, и мне наплевать, что слышит меня только один Бандл, потому что иногда надо сказать что-то для себя, а не для того, кто слушает.
– Но это он остался в дураках, потому что я разглядела, какую пластинку он взял. Эллиот Смит. Очень уместно, правда? Теперь на татуировку тратиться не надо.
Бандл прокашливается, отворачивается, потом опять смотрит на меня:
– Ты переехала к дяде, когда умерли родители?
Я киваю.
– Прости, что спрашиваю. От чего они умерли?
– Пьяный водитель, – шепчу я, глядя на браслет на своей руке. – Мы ехали вместе. Папа, мама и я. Они сразу умерли. Меня выкинулоиз машины. Остался только этот шрам. – Я показываю на бритый висок.
Детектив Бандл нажимает кнопку «пауза» на диктофоне и встает:
– Ладно, пошли.
– Куда?
Он натягивает куртку:
– Перекур.
Я стягиваю свою куртку со спинки стула, пока он не передумал. Как приятно встать. Чувствуешь себя такой энергичной. Ушибы еще побаливают, но размяться все равно хорошо. Я вижу очертания Вика за мутным дверным стеклом дальше по коридору. Наверно, это мне и было нужно. Больше, чем сигареты даже – просто видимое напоминание о его присутствии.
В коридоре повсюду копы. Слоняются туда-сюда, пьют кофе, таинственно перешептываются. Кое-кто смотрит на меня, но тут же отворачивается.
– Сюда. – Бандл уводит меня подальше от фойе. – И ни слова никому, ладно? Лейтенант Белл так надерет мне задницу, что голова закружится. Помимо всего прочего, тебе еще рано курить.
По пути к боковому выходу мы прошли мимо часов на стене. 17:13.
Осталось меньше трех часов.
Снаружи было холоднее, чем утром. Не думала, что такое вообще возможно; даже по меркам Джерси стояла собачья холодина.
Я достала упаковку сигарет, зажгла зажигалку и…
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
Я протянула пачку Бандлу:
– Хотите?
Он покачал головой:
– Пытаюсь бросить.
Тротуар совсем вымерз. Машины на Стейт-стрит стоят в пробке бампер к бамперу. Час пик. До Мейн-стрит с кафешками, уличными магазинчиками и рынками всего один квартал. Странно подумать, что лишь восемь дней назад я почти по этому самому месту вела Вика до «Бабушкиных деликатесов». Если это наша Книга Бытия, мне страшно интересно, что же будет в Откровении.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– А что такое этот синдром Мёбиуса? – спрашивает Бандл. – Вик вообще это… заслуживает доверия как свидетель?
Я чуть не роняю сигарету:
– Бандл, что за хрень?
– Ах да! Продуктивной буржуазии не понять. Ну же, Мэд. Ты понимаешь, о чем я. Он вообще?..
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– И вы дождались, пока мы выйдем на улицу? – говорю я. – Для этого весь цирк с перекуром. Чтобы вы могли задать мне этот идиотский вопрос не под запись?
– Мэделин…
– Хватит повторять мое имя. Вы увидели лицо Вика и предположили, что с ним что-то не так.
Бандл складывает ладони вместе и дует на них, чтобы согреться.
– А все так?
Инстинкт побуждает меня затушить о его руку сигарету, но я сдерживаюсь.
– Вы когда-нибудь читали «Изгоев»? – спрашиваю я.
– Знаешь, Мэделин, тебе надо поучиться отвечать на вопросы.
– Я пытаюсь ответить на ваш вопрос. Вы читали «Изгоев»?
– Я не очень люблю читать, – говорит Бандл. – Фильм видел. Давно, правда. Слишком много смазливых пареньков, насколько припоминаю.
Я поднимаюсь на цыпочки и встаю обратно на пятки, и так несколько раз. Надо разогнать кровь.
– Ну ладно, в общем, там есть персонаж, которого зовут Далли, сокращенно от Даллас. Он там самый жесткий чувак. Жил на улицах Нью-Йорка, все дела. Так вот, главный герой однажды говорит что-то вроде «Далли был таким реальным, что пугал меня».
Я чувствую на себе взгляд Бандла; он ждет, что я продолжу.
– И?
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
До этого момента мне казалось, что мы с Бандлом – полные противоположности, но, похоже, мы достигли середины диаграммы Венна, той незначительной области, где сосуществуют детектив Бандл и Мэделин Фалко. Я прокашливаюсь и говорю тихо, словно если говорить тише, то разговор выйдет не таким тяжелым.
– Я тоже думала, что с Виком что-то не так. – А, нет, тяжесть на месте. Я продолжила: – Но я ошибалась. Синдром Мёбиуса – это очень редкое неврологическое заболевание, вызывающее лицевой паралич. У разных людей оно протекает по-разному. В случае Вика он не может моргать и улыбаться. Во время разговоров кажется, что он не реагирует на слова, и поэтому все предполагают, что он не понимает социальных сигналов… или что-то вроде того. Но он очень умный. Возможно, умнее всех, кого я знаю.
Детектив Бандл кивает; его одутловатое лицо перекашивается от размышлений, красные губы пучатся на холодном воздухе. Я смотрю на пятьдесят оттенков Бандла и думаю, как же несправедлив мир: внешность Вика не отражает его внутренней жизни, как бы мне этого ни хотелось. А вот внешность Бандла только и делает, что отражает, хотя я бы предпочла этого не видеть. Но это даже не самое худшее. Мне приходится отвернуться, потому что сейчас больше всего я ненавижу Бандла за то, к чему он даже не имеет отношения. А вот я как раз имею. Как грустно понимать, что проблема в тебе самой.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– И при чем тут «Изгои»? – спрашивает Бандл.
Я качаю головой:
– Да забейте.
– Ну ладно. Так или иначе, продуктивная буржуазия уже почти отморозила свои продуктивные яйца. Ты закончила?
Я бросаю окурок на землю, затаптываю его и следую за Бандлом внутрь. В коридоре я опять вижу размытые очертания Вика и опять думаю про ту строчку из «Изгоев».
Про реальность Далли, которая пугала.
Интересно, испугает ли меня когда-нибудь кто-то так же сильно, как Вик?
(ШЕСТЬ дней назад)
ВИК
– Тебе нужно подстричься, – сказала Мэд, зевая; обычно люди таким же тоном говорят «мне нужен кофе», как только проснутся.
– Э, что?
Коко щелкнула пальцами:
– Вик! Удав. Чувак. Новая стрижка – новая жизнь.
– Мне нравится старая, – сказал я.
Ложь.
Хотя кое-что в старой жизни мне нравилось, а именно, мои волосы. И теперь они внезапно находились в великой опасности.
– У нас есть время, – сказал Баз. – Если поторопимся. Автобус уходит в десять сорок, а нам еще надо заехать в кинотеатр за моим чеком и в «Радужное кафе» за кофе.
– И кексами! – сказала Коко.
Утреннее солнце начало пробиваться через полиэтиленовый потолок парника. Баз работал в вечернюю смену, и мы решили посвятить утро и день папиному списку. Собирались сесть на автобус из центра Хакенсака до Энглвуда, затем пройти до Утесной аллеи (автобусы туда не пускали) и остановиться на первом живописном обрыве, который увидим. Там я сброшу папин прах со скал в Гудзон. Даже при том, что мы вычеркнем два пункта из списка за два дня, я все равно чувствовал, как на меня надвигается какой-то ужас. Из пяти подсказок последние три были гораздо более загадочными.
Мэд натянула желтую вязаную шапку:
– А Рейчел не сможет твой чек забрать?
– Рейчел уволилась, – сказал Баз. – Она работала на полставки, пока училась на медсестру. А теперь получила работу в Бергенской региональной больнице.
– Рейчел твоя подружка? – спросил я.
– Не пытайся сменить тему, Удав, – сказала Коко. – Мэд, доставай инструменты. Пора приступать.
Мэд взяла с полки Маловероятных Вещей машинку для стрижки и ножницы.
– Подумай о том, какой это прекрасный символ, Вик. Твое вступление в должность Главы. Внешний символ, знаешь ли, чего-то более великого внутри.
– Вроде крещения, – сказал Баз. – Внешний символ внутреннего перерождения.
– Внутреннее перерождение, – повторила, кивая, Мэд. – Именно. Ну, что скажешь?
Честно говоря, после вчерашнего столкновения с Гюнтером я был счастлив, что они вообще еще разговаривают со мной. Случай с «Визином» чуть не стоил им жилья, и они вполне могли изгнать меня навеки в мир объятий сбоку.
Итак, я согласился на стрижку.
Мы надели куртки, вышли из Одиннадцатого парника и направились к сараю. Мэд вручила мне шапку, такую же, как у нее, только синюю.
– Знаешь, Мэд… все эти шапки, стрижки… Ты одержима идеей изменить вид моего черепа.
– Странные штуки говоришь, – ответила Мэд.
– А ты странные штуки делаешь.
И все же. Я надел шапку. Очень, невероятно удобная.
Баз объяснил, что идея о жизни в парнике пришла ему в голову, когда он обдумывал, где будут жить герои его книги. Место должно было быть дешевым – разумеется! – но при этом уникальным. «Будто из фэнтези».
Я сказал ему, что у него отлично получилось.
Мы пришли в сарай. Согласно ребятам, здесь Гюнтер Мейвуд почти не появлялся. Так как разбрасывать волосы по жилому помещению было бы неудобно, стрижку решили провести здесь. По сути, сарай представлял из себя следующее: полуразваленная халупа в стиле «американский шик», словно один из маминых каталогов старинных станков вырос и обзавелся низким голосом и щетиной. Внутри было полно древесины, и еще вещей, сделанных из этой самой древесины.
Мэд вытащила откуда-то табурет, стряхнула с него пыль и жестом приказала мне сесть.
– А это обязательно? – спросил я, выглядывая пути к отступлению (мы, объятия сбоку, часто так делаем).
– Хорошая стрижка помогает лучше психотерапии, – сказала Мэд, пробегая рукой по выбритой половине головы.
Баз и Нзази сидели на неотшлифованных креслах-качалках, а Коко вспрыгнула на покрытый опилками стол и сидела, болтая в предвкушении крохотными ножками. Силы противника меня превосходили. Я подошел к табурету и сел. За считаные секунды моя задница покрылась инеем.
– Итак, что же мы будем делать… – Мэд изучала мои волосы, как скульптор – глыбу мрамора.
Коко хлопнула варежкой о варежку:
– Крысиный хвост!
– Как там называют такую забавную прическу? – спросил Баз. – Спереди в мир, сзади на пир?
– О-о-о, маллет! – воскликнула Коко. – Даже лучше!
Я натянул шапку на уши. За наше недолгое время вместе мы очень сдружились; она стала моей шерстяной крепостью. Шерсть не то чтобы хорошо выдерживает военные атаки, но уж что поделать. На секунду стало совсем тихо, лишь скрипели кресла-качалки. А потом…
– Содапоп из фильма, – прошептала Мэд.
– Ох, черт побери, да, – сказала Коко.
Нзази щелкнул пальцами.
– Эй, чего? – спросил я.
Мэд вынула из розетки какую-то древнюю электропилу и включила машинку для стрижки:
– Будет очень круто. Ну, не в традиционном смысле слова.
– Слава богу, – сказал я, пихая руки в карман метсиков. – Мы же не хотим, чтобы люди подумали, что я крутой в традиционном смысле.
Коко утробно захихикала:
– Содапоп – это персонаж «Изгоев». Мэд говорит, что Роб Лоу – просто душка….
Я совсем перестал соображать, о чем они.
Мэд пару раз включила-выключила машинку, заводя ее, как автомобиль.
– Содапопа играет очень молодой и очень хорошенький Роб Лоу. В книге у него немного другие волосы. По книге у него практически такая же прическа, как у тебя, только чуть более объемная и волосы зачесаны назад. А в фильме Сода-поп очень крутой, в стиле пятидесятых – восьмидесятых. Наверху надо будет оставить подлиннее, а по сторонам они, знаешь, просто так мохнатятся.
– Мохнатятся? – переспросил я.
– Ага, но я их немножко приглажу, чтобы не было совсем как в кино. – Она положила машинку на место, взяла ножницы и щелкнула ими в воздухе. – Начнем с ручной работы.
Будто мне было не все равно, как она разрушит мою стену.
– Готов? – спросила Мэд.
И не успел я сказать: «По правде говоря, нет», она уже сняла с меня шапку и взялась за работу.
Щелк-щелк-щелк.
Тошнотворное головокружение куда-то исчезло.
Щелк-щелк-щелк.
Я уже давно не стригся.
Щелк-щелк-щелк.
Забыл, как часто парикмахер наклоняется к тебе.
Щелк-щелк-щелк.
Я забыл, как часто он тебя касается.
МЭД
Я в четвертый раз перечитала абзац, потом сдалась и захлопнула книгу. Обычно, чтобы я отвлеклась от мира социалистов, обитателей улиц, драк на ножах и юных влюбленных, нужно было приложить серьезные усилия. Автобусу на Энглвуд это удалось: он петлял, словно по худшим уголкам Дантова ада, источая густые ароматы протухшей еды, пота и извечной тоски. Скорее бы Баз с Зазом уже запустили свою службу такси и я смогла распрощаться с общественным транспортом.
Если я, конечно, еще буду здесь, когда это случится.
Я допила кофе, сунула пустой стаканчик в карман сиденья передо мной и попыталась сосредоточиться на цели нашей поездки: «Швырни меня с Утесов». Если бы я самолично не прочла Последнюю записку, я бы предположила, что папа Вика любил черный юмор. Но я услышала тихую глубину и отчаяние в этом излитом на бумагу голосе и знала, что ничего черного в этом не было. Если мне не посчастливится заболеть чем-нибудь неизлечимым, я надеюсь, что смогу перенести это с такой же упрямой искренностью, как мистер Бенуччи. И помочь бросить его с утесов – это самое малое, что я могла для него сделать.
Утесы представляли собой ряд крутых скал, что тянутся километров на тридцать вдоль побережья Гудзона. Обсудив все как следует, мы решили, что достаточно будет развеять прах с первой же обзорной площадки. За окном серебристо мелькали заснеженные деревья. За моей спиной Заз щелкал пальцами в такт шинам автобуса. Коко сидела рядом со мной, засыпанная крошками кекса, и храпела, как медведь в спячке.
Я наклонилась вперед и втиснула голову между двумя сиденьями впереди, где сидели Баз с Виком.
– Эй, – сказала я.
– И ты эй, – сказал Баз.
Наверняка я сказать не могла, но мне показалось, что за последние пару минут они несколько раз произнесли мое имя. Я встала на колени в кресле и посмотрела на них сверху вниз:
– Ты же знаешь, что меня это бесит.
– Что? – спросил Баз.
– Шепотки. Обо мне. Тебе есть что сказать?
Они посмотрели вверх на меня, потом друг на друга.
– Мы не говорили о тебе, – ответил Баз. – Я просто рассказывал Вику, что Гюнтер Мейвуд – это единственная Глава, который не знает, что он Глава, и как мы просто приносим ему продукты и прочее в обмен на жилье.
– А если книгу и правда опубликуют? – спросил Вик. – И если он ее прочтет? Думаешь, он не узнает свой собственный сад… или имя?
Я сама уже несколько раз говорила об этом с Базом. Приятно послушать, как мои аргументы приводит кто-то другой.
– Во-первых, не если, а когда мою книгу опубликуют. Во-вторых, я уже говорил, что поменяю все имена. В-третьих, этот мужик – настоящий затворник. Он и не узнает, что книга существует.
– А Интернет? – спросил Вик.
Я улыбнулась Базу сверху вниз и драматично нахмурила лоб:
– Да, Баз, а Интернет?
Баз вздохнул, отвернулся к окну и пробормотал что-то под нос. Я посмотрела на Вика:
– Я пыталась объяснить ему, что Гюнтеру необязательно покидать сад. Что он узнает…
– Мы говорили о тебе, – сказал Вик, вытирая уголок рта платком.
– Что?
– Раньше. До Гюнтера. Я спросил База, читаешь ли ты что-нибудь кроме «Изгоев». Он сказал, что мне надо спросить тебя про твою теорию.
– Ладно. Но учти, что Воронка Хинтон – это не теория, а факт. Последние строчки шедевра С. Э. Хинтон в точности повторяют первые. – Я схватила книгу, прочла первый абзац, потом перелистнула в конец и прочла последний. – Гениально, правда?
– Правда, – сказал Вик.
Я закрыла книгу и стала разглядывать обложку.
– Знаешь, Хинтон начала писать эту книгу, когда ей было пятнадцать. Мне уже почти восемнадцать, и чего я добилась? Ничего, nada.
Я никогда не стремилась к величию, но все равно же хочется оставить после себя какой-то след. Что-то, что бы сказало за меня: «Я была здесь, черт возьми. Помните меня».
– Так или иначе, – продожила я, – можно сказать, что я продолжаю читать эту книгу, потому что я ее не закончила.
– Воронка Хинтон, – сказал Вик.
– Воронка Хинтон, – кивнула я.
– Время воронки! – раздался из ниоткуда голос Коко. Я даже не знаю, когда она успела проснуться.
– Что?
Она соскользнула ниже по сиденью так, что достала ногами до пола.
– Когда ты говоришь про воронку, я сразу думаю про какие-то американские горки. Добро пожаловать в бесконечновую воронку!
– Нет такого слова, Коко.
– Да точно есть. Ну, знаешь, как новая, только бесконечная.
Я опустилась на сиденье и уставилась в окно на деревья.
– Кокосик, ты знаешь, что я люблю тебя. Но ты совершенно сбрендившая.
Она драматично пожала плечами, потянулась через меня и тоже посмотрела за окно.
– Однако это не я застряла в бесконечновой истории.
ВИК
От автобусной остановки в Энглвуде было километра четыре до начала Утесной аллеи. Нас в итоге подбросила до реки девчонка по имени Джейн. Мы сидели в салоне ее джипа, и она рассказывала нам про Стюарта, своего давнего бойфренда, а теперь и жениха. Он был «начинающим частным предпринимателем в сфере аренды автомобилей».
Мне показалось, что на слух как-то не впечатляет.
С другой стороны, я сидел в заднем ряду со стороны пассажира, а Мэд – в среднем ряду со стороны водителя. Следовательно, правая сторона ее лица попадала в поле моего обзора, и, так как я сидел немного позади, я мог таращиться, не боясь быть пойманным.
Я был непревзойденным мастером таращиться с угла заднего сиденья, и сейчас звезды сложились так, что я мог проявить все свои навыки. И получилось так, что, глядя на правую сторону лица Мэд, я задумался о тоне ее голоса, когда она говорила о достижениях юной С. Э. Хинтон. Я видел, как она перекинула волосы на сторону, все эти волны одним движением… Интересно, как существо, которое может перекинуть волосы с таким ангельским изяществом, может быть таким грустным. Может, в этом есть какой-то космический баланс, тайное равновесие человеческих жизней. Эй, ты можешь быть вот этой прелестью, но только если ты возьмешь еще и вот этот ужас. Кушай, не обляпайся.
А вот что я знал наверняка: все, что говорила Мэд, каждое ее изысканное движение, от волос к рукам, то, как увлеченно она читала, словно на земле больше не осталось дел, обладало чистой яркостью и чистой ценностью.
Если стихотворение могло стать человеком, оно бы превратилось в Мэделин Фалко. Может, в этом было тайное равновесие человеческой жизни. Джейн подъехала к первой обзорной площадке: Панорама Рокфеллера. Здесь была парковка и хай-тек бинокль, по четвертаку за минуту пользования. Очень, очень церемонное место.
– Большое спасибо, Джейн, – сказал Баз, выпрыгивая из джипа. – И еще раз поздравляю с помолвкой.
– Спасибо, чувак. Хотите я подожду, пока вы все тут осмотрите? Мне ужасно нравится осматривать людей, которые осматривают пейзажи.
… …
– Какое необычное у тебя увлечение, Джейн, – сказала Коко. – Так или иначе, в этот раз мы окрестности смотреть не будем. Вик должен сбросить своего папу с утеса.
Джейн внезапно приняла заговорщический вид. Словно она каждый день развозит кучки подростков к утесам, чтобы те швыряли мертвых родителей в Гудзон.
– Вот и отлично, чувак, – сказала Джейн, подмигивая мне и прицеливаясь в меня пальцем. Пуф! Пуф! – Только сам не сбросься заодно.
И Джейн уехала. Мы остались стоять в неловком молчании. Иногда проведешь с человеком немного времени, и все сразу понятно. Ну конечно, Джейн была помолвлена с начинающим частным предпринимателем в сфере аренды автомобилей. За других не скажу, но, проведя с ней минут пять, мне тоже захотелось стать начинающим частным предпринимателем в этой самой сфере.
Я надел синюю вязаную шапку, Мэд натянула свою желтую, потом зажгла сигарету, и мы все проводили взглядом старый джип, пока он не исчез вдали на заснеженном шоссе.
Коко взяла База за руку:
– Пипец она чокнутая.
Баз просто кивнул.
Панорама Рокфеллера была метрах в ста двадцати над уровнем моря. Согласно объявлению, вы могли увидеть отсюда следующее:
1. Реку Гудзон (надеюсь, они не ошиблись:
Панорама типа находилась прямо над рекой).
2. Нью-Йорк (а значит, и знаменитый стадион, родину «Нью-Йорк Метс»).
3. Мост Генри Гудзона (отличненько).
4. Пролив Лонг-Айленд (великолепно).
5. Округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк (почему бы и нет?).
Прямо под этим объявлением находилось еще одно, призывающее посетителей соблюдать правила парка. Правила сами по себе были вполне очевидными: не взбираться на утесы, не сходить с дорожек, алкоголь запрещен, ну и все такое. Думаю, что какой-нибудь чувак, перепив дешевого пива, подумал когда-то, что прыгнуть бомбочкой с обрыва – это хорошая идея. И мне жаль этого чувака. Но еще жальче мне его родителей. Потому что их дом с того момента заполнили запеканки из зеленой фасоли и объятия сбоку.
Мы вместе подошли к обрыву Утесов. От острых осколков камней нас отделял только узкий металлический поручень. Толп совсем не было – возможно, потому что снегопад еще не закончился. Мы подошли к ограждению, посмотрели через Гудзон и разглядели все пять мест из объявления. Однако к захватывающему дух великолепию пейзажа объявление нас как раз не подготовило. Им надо было дописать:
6. Захватывающее великолепие пейзажа (Суперскаковая лошадь).
Очень жаль, что люди редко приходят сюда зимой – заснеженная природа в тысячу раз лучше обычной. Огромные камни утесов то мокрые, то белоснежные. Я уже собирался достать прах из урны, и тут Коко сказала:
– У меня сейчас мочевой пузырь взорвется.
– В смысле лопнет? – поправила ее Мэд.
– А почему лопнет?
– А почему взорвется?
– Не знаю, Мэд. Но я сейчас обоссусь, и тогда посмотрим, на что это больше похоже.
– Коко, надо потерпеть, – сказал Баз. – Здесь некуда пойти.
– Я не могу, – захныкала она, перетаптываясь на месте.
Баз вздохнул, показывая на заснеженные кусты:
– Тогда беги. Мы подождем.
Коко переступала на месте:
– Мне нужен сторож.
Нзази дважды щелкнул пальцами и зашагал в противоположную сторону. Баз закатил глаза и пошел к кустам вместе с Коко.
Я застегнул рюкзак:
– Тогда мы с Мэд подождем тут?
Но Мэд тоже ушла: она стояла и курила у ближайшей скамейки. Она внимательно всматривалась в скамейку, но не так, будто восхищалась ее красотой, а будто следит, чтобы та не убежала. А то вдруг оживет, стряхнет покрывало снега и затрусит вдаль по шоссе.
Надо бы помочь ей проследить за скамейкой, подумал я.
Подходя ближе, я услышал, как она сказала:
– Воспоминания бескрайни, словно горизонт.
– Ты в поэтическом настроении?
Она показала на табличку, привинченную к скамье:
– И что, по-твоему, это значит?
– Хорошая цитата, – сказала Мэд. – А вот фамилия странная. Альтной.
Страна Ничего настигла меня без предупреждения. Мы были в машине. Целый век назад. Папа вел, мама смеялась.
Твой отец – самый смешной человек на свете. Вокруг были горы. И деревья, которые только-только окрасились разными цветами; было похоже, будто мы едем в бушующее цунами горелой рыжины и желтого света. Мама наконец закончила смеяться и затихла в том особом спокойствии, когда в воздухе разливается энергия, оставшаяся от хохота. Когда отсмеешься, надо подождать. С моего заднего сиденья я видел головы родителей. Отцовская рука протянулась через ручку переключения передач и опустилась на мамино колено. «Пока мы не станем старо-новыми», – сказал он. Она ответила шепотом: «Старо-новыми».
Вот представьте: миллиарды воспоминаний в мозгу, и каждое тонет в бурной реке, хватая ртом воздух, сражаясь за жизнь, за веревку, за оливковую ветвь. Воспоминания не выживают случайно. Они хотят жить.
– Старо-новыми, – сказал я.
– Что?
Я повернулся от скамейки и посмотрел Мэд в лицо:
– Люди всегда говорят о том, как состарятся вместе, словно это самое прекрасное и романтичное, что может случиться в жизни. Но часто ли это происходит? Люди меняются по-разному. Чаще всего просто озлобляются.
Я представил папину руку у мамы на колене. И я знал: чем старше они становились, тем моложе казались.
– Я два года учил немецкий, – сказал я. – «Альт» значит «старый», а «ной» – значит «новый». Это фраза из папиной записки. Пока мы не станем старо-новыми.
… …
– И что это значит, как ты думаешь? – спросила Мэд.
Я посмотрел на свои изношенные ботинки и подумал про папины старые кроссовки «New Balance».
– Мама с папой были здесь. Уверен, что тут они и нашли свой девиз. Наверно, стояли на этом самом месте.
Мэд затянулась в последний раз и кинула окурок на землю.
– Неизбежность соответствующих узлов.
– То есть… Это не совсем случайное совпадение. Это все-таки официальная остановка, ну, или обзорная площадка, как там это называется. И все равно. Мне кажется, это столкновение.
– Нам что, целый день тут ждать? – завопила Коко откуда-то сзади, видимо облегчившись за кустами.
Баз и Нзази стояли рядом с ней у края утеса, и, чудо из чудес, Мэд взяла меня за руку, совсем как тогда, у «Гостиной». Она вела меня к обрыву, а я думал о ее приближенности ко мне и тем подтверждая свою теорию: некоторая красота просто нуждается в трагедии.
У края обрывка Баз сгреб Коко в объятия, а Нзази застыл, глядя через Гудзон. Я был рад, что мне не приходится делать такие тяжелые вещи в одиночестве. Я был рад, что рядом со мной были люди, которые знали, что по-настоящему важно: бесконечный горизонт, где время ничего не значило и где я был одновременно старым и новым.
– Небеса проповедуют славу Божию… – сказал Баз. – И о делах рук Его вещает твердь. Вот это точно будет в книге.
Снег казался узором в горошек на сером небе. Мы впитывали тишину и красоту окружающего мира, пока Мэд не склонилась ко мне и не спросила, готов ли я. И по какой-то причине – сам не знаю, почему – я подумал про USS-Ling.
Беспомощная подлодка под волнами. И тот камень, который я пнул, который ударился о палубные орудия, а потом плюхнулся в темные воды Хакенсака. Он все еще был там. И всегда будет.
Я подумал о всех своих значительных множествах, моих многочисленных «аз есмь».
– Да, готов.
Я расстегнул рюкзак, достал урну – ветер сновал вокруг, взметая крохотные снежинки подобием урагана, мечась вокруг, вверх, вверх и вверх, в эфир.
– Мы слишком далеко, – сказал я.
Край утеса был метрах в пяти. Слишком далеко: если швырнуть отсюда, прах точно не долетит до края. На ограде через каждые десять метров висели недвусмысленные таблички: за ограду не заходить. Одну из табличек раскрасили пастельными цветами, и теперь на ней значилось: за ограду не заходить.
– Видимо, нам надо зайти за ограду, – улыбаясь во весь рот, сказала Мэд.
Каждый раз, когда я видел ее улыбку, мне казалось, что я путник, впервые увидевший северное сияние.
Нзази утвердительно щелкнул пальцами, и утесы отозвались эхом, и Баз закатил глаза, и от всего этого мне тоже захотелось улыбаться. Как если бы я увидел северное сияние.
Мэд принялась скандировать:
– Вы-хо-ди! Вы-хо-ди!
– Ладно, – вздохнул Баз. – Мы все пойдем.
По другую сторону в пустоту выдавалась огромная плоская глыба, покрытая снегом.
– Осторожней, – сказал Баз.
– Ой, – сказала Коко. – Не сжимай меня так.
Думаю, Баз тоже представил себе запеканки из зеленой фасоли.
Держа тяжелую урну обеими руками, я заметил, что скала под нашими ногами была разрисована. Наверно, это случилось недавно: снег еще не успел закрыть рисунок. Это не было обычное граффити – череп, матерщина, все такое, – это было радужное сердце. Совсем как куртка Мэд.
Совсем как вся Мэд.
Внезапно я поскользнулся на льду и увидел внизу в волнах собственную смерть. Мэд схватила меня за плечо и помогла восстановить равновесие, пока я пытался сделать вид, что не паникую. Я кивнул ей, склонился и зачерпнул папу пригоршней.
– Швырни меня с Утесов, – сказал я.
– Швырни меня с Утесов, – сказала Мэд.
– Швырни меня с Утесов, – сказала Коко.
– Швырни меня с Утесов, – сказал Баз.
Нзази щелкнул пальцами.
Я отвел руку назад и швырнул прах… прямо в поток ветра. Смешавшись с крошечным ураганом, останки Бруно Виктора Бенуччи-младшего полетели нам в лица.
Раздались три ругательства. Два щелчка пальцами. И тишина со стороны База.
– Хоть что-нибудь до реки долетело? – спросил Баз, перенося вес Коко на другую руку.
– Не думаю.
Мэд подняла камень размером с грейпфрут и плюнула на него, чтобы немного стаял снег.
– Вот, – сказала она. – Положи немного сюда.
– Что положить?
– Немного твоего папы.
Я посыпал пеплом влажное пятно: немного растаявшего снега, немного растаявшей Мэд. Она набрала еще снега и прикрыла им камень, плотно утрамбовав.
Эй, пап. Все хорошо?
Да, Вик. Весь зад отморозил, но хорошо.
Я швырнул папу с обрыва вниз: двести метров, а там и Гудзон, где он теперь будет лежать вечно. В спячке. Как камень под подлодкой. Как я. Как мы все, на самом-то деле.
Коко стряхнула снег с варежек:
– Кто голодный?
МЭД
Когда мы вернулись в Одиннадцатый парник, был уже почти вечер. У База скоро начиналась смена в кинотеатре, а значит, домой он возвращался около полуночи. Мы не ели ничего со времени кексов (посредственных) из «Радужного кафе» и поэтому смели остатки того, что доставалось нам от «Бабушки». В основном это были колбасы и сыры, которые мы хранили в старом шкафу для бумаг за парником. Такая вот самодельная морозилка для холодных месяцев.
Я решила, что завтра настанет День Икс: Операция «Проверь, как там Джемма». С того момента, как у нас появился Вик, я старательно избегала соответствующих разделов Манифеста Мэд. В этих разделах говорилось о верности, семье и памяти о корнях. Я останусь на ночь в парнике, хорошо высплюсь, а завтра с утра исчезну.
Баз ушел на работу. Мне в который раз хотелось рассказать ему все: про Джемму, про дядю Леса, все. Но я обдумала все возможные исходы такого разговора, и в любом случае он закончился бы ссорой. Если дядя Лес в последнее время выпивал (в чем, я думаю, можно было не сомневаться), то, скорее всего, Базу достанется. А в худшем случае дяде достанется от База. Я еще не видела, чтобы он прибегал к насилию, но у всех есть свой предел. И дядя Лес – как раз из тех людей, которые могут узнать этот предел. Так что, когда Баз уходил из парника, я ничего ему не сказала.
Мы остались есть колбасу и обсуждать список папы Вика под пластинку, которую Заз крутил без остановки.
– Ладно, – сказала Коко, глядя на Последнюю записку, словно призывая ее раскрыть секреты. – Нам нужно найти «дымящиеся кирпичи нашего первого поцелуя». Что за херня, Бруно? Ну и подсказки у тебя, чувак. – Коко быстро перешла с отцом Вика на «ты». – И еще колодец желания. И вершина какой-то скалы. – Она посмотрела на Вика, который закапывал себе глазные капли на диване: – Есть идеи, Удав?
Вик покачал головой, и Коко задумалась, а Заз танцевал, и все это продолжалось бесконечно, как заезженная пластинка.
Мы сами были этой заезженной пластинкой.
За этот вечер мы почти ничего не успели и пошли спать с четким чувством того, что ничего не успели. Казалось бы, ну и подумаешь. Мы уже много раз ложились, не сделав за день почти или совсем ничего, и в этом не было ничего страшного, когда нам нечем было заняться.
Манифест Мэд гласит: когда от тебя ничего не требуется, не делать ничего – это дело; когда от тебя требуется что-то, не делать ничего – это ничто.
Мы лежали во тьме, слушая гудение обогревателя и ворочаясь в какой-то липкой лени. Проблема была в том, что от меня что-то требовалось. И я слишком долго этим чем-то пренебрегала.
– Мэд? – позвала Коко.
– Что?
– Расскажи историю.
– Я не в настроении, Кокосик.
Я лежала, закрыв глаза и прислушиваясь к храпящему Зазу, словно он мог поделиться со мной своим умиротворением. Если бы я открыла глаза, то увидела бы Вика на диване. Он воткнул наушники. Интересно, он опять слушает ту оперу? Которой поделился со мной на мосту через канал?
Коко кашлянула. Я открыла глаза:
– Что, Коко?
– Ничего. Черт!
Я перевернулась на спину, натянула спальник на лицо, и там, в темноте моего сознания – предельного, чрезвычайного сознания, – я увидела Джемму. Она лежала в кровати, глядя в потолок, и рядом на тумбочке стояла бутылка кока-колы. Не стоило мне ждать так долго…
Коко снова кашлянула.
– Да боже мой, Коко, в чем дело?
– Я не могу заснуть без истории. Ну или… ну или какого-нибудь заявления, что ли?
– Тебе нужно заявление?!
– Если не сложно.
Вик вынул один наушник. Заз щелкнул пальцами и сел в спальнике. Получается, все в сборе.
– Ладно, – сказала я, как насчет такого: – И Мэделин пнула девочку, которая мешала всем заснуть, и все возрадовались. Годится такое?
Коко сначала ничего не сказала, но в приглушенном свете луны я, кажется, разглядела ее нахмуренное лицо.
– А я, вообще-то, старалась.
– Старалась? В смысле?
– Ну, с заявлением.
Коко снова кашлянула и заговорила так, словно знала: ее слушает весь мир.
– И когда ребятам был очень нужен кто-то, кого любить и кому доверять, они нашли друг друга, и назвались они Ребята с Аппетитом, и они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо.
После заявления Коко наступила долгая тишина. Понятия не имею, сколько она длилась. Как вообще измерить тишину?
– Ну, что думаете? – спросила Коко. – Я знаю, что Вик просто Глава и все такое, но… не знаю, после сегодня мне кажется, мы как-то… что мы одна команда, понимаете? Ну, как банда из «Изгоев»… Правда, Мэд? Мне показалось, нам нужно имя.
Заз щелкнул пальцами.
– Ребята с Аппетитом, – продолжила Коко. – Смекаете? Потому что мы всегда голодные и торчим то у «Бабушки», то у «Наполеона», то в «Белой манне»… и эти наши проделки с мороженым в «Фудвиле». Ну и это, жажда жизни и все такое. Двойной смысл. Ребята с Аппетитом.
Я села, сбрасывая спальник:
– Да мы поняли, Коко. Только имбецил бы не понял.
Рыжие кудри Коко описали круг в полутьме.
– Пипец, ну и слово. Что оно значит?
– Ребят, – сказал Вик.
У меня в животе разгорелся пожар слепой ярости; он быстро поднялся до горла и перекинулся на лицо, лоб, и вот уже мои волосы в огне. И как странно было в тот момент понимать, ясно и четко, что я злилась совсем не на то, что злилась. Я злилась не на Коко. А на что же?
– Это значит, ты не такая умная, как считаешь.
Крошечная фигурка Коко встала во весь рост; нижняя половина все еще обернута в спальник, как наполовину фаршированный перец.
– Ты просто злишься, что не придумала это первой. Раз в жизни я сделала заявление. Неимбецильское заявление.
Заз щелкнул дважды.
Я обулась, встала и направилась к вешалке у двери:
– Меня тошнит от этого места.
– Ну и ладно, – сказала Коко. – Потому что его тошнит от тебя. Так тошнит, что сейчас оно тобой блеванет.
У дальней стены парника Вик приподнялся на локте, держа наушники. Я натянула куртку и шапку и лишь тогда поняла, что в какой-то момент взяла в руки «Изгоев». Книга перестала быть книгой; она стала частью моего тела, естественным его продолжением. Я вышла наружу, громко хлопнув дверью, и зашагала по замерзшей дорожке. Мою голову заливали картины: Джемма валяется в своих нечистотах, или еще хуже, избитая, или еще хуже…
Подходя к каналу «У золотой рыбки», я услышала пронзительный голос Коко:
– И мы жили, и мы смеялись, Мэд! – Наверно, она высунула голову в дверь. Ее голос эхом разносился по саду; я молча взмолилась, чтобы Гюнтер не спал сегодня с открытым окном. – И мы увидели, что это хорошо! – вопила она. – Мы увидели, что это пипец хорошо!
Гарри Конник Младший-Младший лениво подплыл ближе, когда я проходила через мост. Его выпученные глаза словно вопрошали меня: «Кто ты, Мэделин Фалко?»
– Сдавайся, Младший.
Но я знала, что он не послушается. Он был рыбой, которая не сдается.
Пять Внутренние превращения, или Грандиозное чудо одновременных чрезвычайных противоположностей
Комната для допросов № 3
Бруно Виктор Бенуччи III и сержант С. Мендес 19 декабря // 17:34
– Ты не против, если я посмотрю на список твоего папы? – спрашивает Мендес.
Я вытаскиваю рюкзак из-под стула, достаю Последнюю записку и протягиваю через стол.
В дверь стучат, и появляется голова детектива Рона.
– Есть новости? – спрашивает Мендес, засовывая папину записку в папку.
– Вам не понравится, – говорит детектив.
– О боже, Рон, клянусь: услышу еще одно предисловие, и…
– Ее нет дома. Ее нет на работе. Звонки переключаются на голосовую почту. А ящик, как я уже говорил, полон.
– Черт, – шипит Мендес.
Я смотрю на папку с последней папиной запиской и внезапно жалею, что отдал ее Мендес.
– В крайнем случае мы поговорим с ней, когда она позвонит вечером.
Мендес кивает:
– Продолжайте действовать. Спросите соседей, коллег.
Вы знаете процедуру.
Детектив Рональд кивает, но остается торчать в двери.
– Я могу еще чем-то помочь? – спрашивает Мендес.
– Мы можем поговорить в коридоре?
Мендес встает, исчезает за дверью – папку берет с собой, – и впервые за долгое время я остаюсь один.
Я расстегиваю боковой карман рюкзака и достаю драгоценность: фотографию Мэд. У фотографии есть много разных свойств, но самое мое любимое – это что между моими глазами и Мэд нет никаких преград, препятствий, барьеров. Мне не надо притворяться, что я смотрю на кого-то или что-то еще, потому что больше не на кого и не на что смотреть.
Это просто Мэд. Сидит на тротуаре.
– Что это у тебя?
Мендес изучает меня, стоя в дверном проеме.
– Ничего. – Я убираю фото. – Пожалуйста, отдайте мне папину записку.
Она пересекает комнату быстрыми широкими шагами, кладет папку на стол и садится.
– Разумеется. Я только сделаю несколько копий.
– А если я не хочу, чтобы вы делали копии?
– Эх, а я как раз подумала, что ты готов сотрудничать.
. .
. .
Я достаю платок и протираю дырявый рот.
– Сколько сейчас времени?
Мендес со вздохом смотрит на наручные часы:
– Без двадцати шесть. Послушай, Вик. Ты не знаешь, где твоя мама?
Я качаю головой и складываю голубую ткань плотным квадратиком.
Мендес наблюдает за мной с вялым любопытством:
– Мы никак не можем выйти на нее. То есть мы с ней уже связывались раньше. Последние четыре дня она звонит вечером, чтобы узнать, нет ли новостей. Каждый раз около полуночи. Не знаешь почему?
Я не отвечаю.
– Она страшно переживает. И, судя по времени звонков, спится ей тоже не очень.
– Слушайте, чего вы от меня хотите? Я не знаю, где она.
– Ладно.
– Не знаю.
– Ладно. – Мендес прихлебывает кофе. – Просто я сегодня много слышала о твоих печалях. Ты потерял отца и чувствуешь, будто и маму тоже можешь потерять. Я знаю, что в последнее время тебе было нелегко, но мне кажется, тебе нужно знать вот что: твоя мама переживает за тебя. Она тебя любит. Вот и все, что я хотела сказать.
Те, кто тихо наблюдают, часто громко думают.
И одна конкретная мысль улетает в безмятежный эфир, словно пущенная из рогатки: если мама так переживает, почему она не берет трубку?
(ПЯТЬ дней назад)
ВИК
Звучит песня «Rocket Man» Элтона Джона. Коко сидит напротив за кофейным столом, прикрывшись картами, и таращится на меня поверх этого импровизированного веера. Ее ноги свисают, не доставая до земли, и она размахивает ими в такт песне.
– Тузы есть? – спрашиваю я.
Она качает головой.
Я вытаскиваю из колоды еще одну карту.
Прошлой ночью, когда ушла Мэд, мне не спалось. Я какое-то время лежал в наушниках, надеясь, что парящие сопрано сделают свое дело. Но тщетно. В какой-то момент вернулся Баз, благоухая лежалым попкорном. Если он и заметил, что спальник Мэд опустел, то решил ничего не говорить. И пока я размышлял, куда же подевался мой сон, он сам меня нашел. Когда я проснулся, Коко сидела за столом, тасуя колоду карт.
Баз ушел рано: они договорились позавтракать с Рейчел. Коко утверждала, что не только позавтракать, но и расстаться.
– Он любит бросать своих девчонок утром, – сказала она, неловко елозя картами по столу. – Баз говорит, что невозможно орать друг на друга, поедая блинчики. Говорит, это научно доказанный факт. Я сказала, что не очень доверяю такой науке, но, если он принесет мне блинчиков с двойной порцией кленового сиропа, я охотно соглашусь с чем угодно.
Баз оставил записку, где просил нас встретиться в «Фудвиле» в полдень и обсудить третье место в папином списке. Когда я спросил Коко, где Нзази и знает ли она, куда ушла Мэд, она раздала карты и сказала, что я должен заслужить ее ответы.
И вот, спустя две партии в «пьяницу»…
– Двойки ешть? Даваш двойку!
– Чего?
– Двойки. Ешть, мальшык?
– Ты чего так разговариваешь?
Она перестала болтать ногами.
– Как – так?
…
– Нет, двоек нет.
Она вытащила карту из колоды, вставила в свой веер и опять уставилась на меня. Я был хорошо знаком с отвагой маленьких детей и с тем, что у них отсутствует внутренний монолог. Они часто говорят вслух то, что взрослые лишь думают, и я отчасти этим восхищался. Другая же моя часть была в ужасе, зная, что мне придется выйти в люди в сопровождении такого отважного ребенка.
. .
Коко все смотрела на меня поверх карт. И хотя она несомненно была начинена отвагой по самые уши, про мое лицо она пока ничего не спрашивала.
– Семерки есть? – спросил я.
– Шемерка нет.
– Что ты делаешь?
– Ты о чем?
– Этот акцент…
Коко положила карты на стол, встала и взяла банку арахисового масла с полки Маловероятных вещей.
– Я тренирую акценты. Вот этот – Норм.
– Из «Бабушки»?
– Да.
…
– Ладно, – сказал я. – А зачем?
Она запустила пальцы в банку и щедро зачерпнула масла.
– А чего там говорят про загадку, упакованную в тайну?
В моей Стране Ничего я увидел, как бойфренд Фрэнк оставил открытую книгу на диване в гостиной. Словно это его дом. У него было несколько биографий Черчилля, и в большинстве закладки застряли где-то в первой трети. Не съест, так понадкусывает.
– Уинстон Черчилль говорил про роль России во Второй Мировой.
– России! – сказала Коко. – Видишь! Совсем как Норм.
…
– Черчилль сказал, что Россия – это загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость.
Коко причмокнула, набив рот маслом.
– Ты ботаник, а?
– Я – начинающий частный предприниматель в сфере аренды автомобилей.
– Ладно, – сказала она, убирая банку. – В общем, я загадка, упакованная в тайну, ну и все вот это вот, что ты сказал.
Учитывая, что я в данный момент играл в «пьяницу» с одиннадцатилеткой… в парнике… дожидаясь, когда наш друг бросит девушку за оладьями… чтобы мы могли обсудить третье из обозначенных мест, где мой усопший отец повелел развеять свои останки… Может, мы все – загадки, упакованные в тайну, ну и все вот это вот, что я сказал.
Коко откинулась на спинку и через несколько минут в третий раз нанесла мне сокрушительное поражение.
– Я никогда у тебя не выиграю.
Она с улыбкой раздала карты в четвертый раз.
– Знаю.
– Может, расскажешь, куда ушла Мэд?
Она снова развернула свои карты веером. У меня нет сестры, но если бы была, то мы бы, наверно, общались как-то так. Она бы немножко меня бесила и немножко веселила.
– Послушай, Удав. Я из Квинс.
– Да, ты упоминала.
– Мы в Квинс друг другу херни не скажем. Понял?
– Понял.
– Так вот, говорю тебе как есть: я понятия не имею, куда ушла Мэд. Но она вернется. Она всегда возвращается.
– То есть она уже уходила раньше.
Виниловый Элтон подходил к концу. Коко спрыгнула со стула и встала на диван. Сняв Элтона Джона с вертушки, она заменила его на старую пластинку «Sugarhill Gang».
Вик, расслабься, а? У всех есть свои фишки. Мэд читает «Изгоев», рассказывает охренительные истории и иногда исчезает. Это ее фишка. Но она всегда возвращается.
Коко вернулась на свое место у стола, расправила карты веером и опять уставилась на меня:
– Десятки есть? И не ври мне.
* * *
Похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя.
Мы целый час стояли в одиннадцатом ряду «Фудвиля», пытаясь разгадать тайну третьей подсказки. Баз пришел сюда сразу после своего свидания за завтраком, и лицо его, словно покрытое эмоциональным камуфляжем, являло собой маску решительности и стоицизма. Невозможно сказать, хорошо ли прошел разрыв и права ли была Коко насчет утешительного действия блинчиков. Мой личный опыт разрывов был невелик, если учесть, что для разрыва нужно с кем-то для начала встречаться.
С этим мне пока не очень везло. Но это пока.
Я вооружен крутейшими метсиками и крутой, но не в традиционном смысле, прической, которую когда-то носил юный милашка Роб Лоу. Так что мне-то переживать не о чем.
Нзази тоже пришел. Коко с Базом вели себя так, словно его недолгое утреннее отсутствие ничего не значит, но я не мог не думать о том, как удивительно его уход совпал с уходом Мэд.
С третьим пунктом мы зашли в полный тупик, и Баз предложил перейти к четвертому: утопи меня в нашем колодце желаний.
– Может, торговый центр? – сказала Коко.
Нзази щелкнул пальцами:
– А что торговый центр?
– Там же есть колодец желаний! В ресторанном дворике.
Я не помнил никакого колодца желаний в торговом центре, да и какую роль он мог играть в жизни моих родителей? В конце мне пришлось убедить себя, что, возможно, мама с папой пережили какой-то романтический момент (в сраном торговом центре!), о котором я ничего не знаю. Ладно, согласился я, возможно, речь идет как раз о торговом центре.
И мы отправились в путь.
По пути мы сделали небольшой крюк к «Белой манне». Коко была оттуда изгнана на неопределенный срок, и поэтому, пока Баз и Нзази делали заказ, я остался подождать с ней снаружи. Они вернулись через несколько минут с пакетом прекрасных мини-бургеров, которые мы расхватали по пути в торговый центр. (Баз, верный своей антихлебной философии, не стал есть булки.)
Раньше я восхищался ребятами так же, как восхищался «Танцем» Матисса: они были неземными, волшебными, и хотя я знал, что они настоящие, все равно не мог запрыгнуть в картину. Я мог таращиться на них, думать о них, представлять, какие они на самом деле. Но не ощущать их. А теперь я чувствовал, каков этот Танец изнутри – в их картине. Но теперь она была незавершенной. Без Мэд мне стало казаться, что я просто занял ее место в Танце. И в этом была проблема. С ней-то я хотел танцевать больше всего.
Прогулка оказалась просто ужасной: даже под синей вязаной шапкой, мой Содапоп из кино еще не привык к такому морозу.
Потом меня чуть не переехал огромный грузовик.
Вот как это случилось: я увидел Роланда (задиру в разных ботинках) и его банду на другой стороне дороги.
Пока они не увидели нас, я предложил свернуть в соседний переулок. Баз согласился, и, как раз когда я стал переходить улицу, он схватил меня за рюкзак и потянул назад, от грузовика.
– Без проблем, – сказал Баз в ответ на мои благодарности. – Доктор Джеймс Л. Конрой говорит, что в книге самое важное – нарастающее напряжение.
– Это чувак, который написал книгу о том, как писать книги?
– Тот самый, да. И когда тебя чуть не раздавил грузовик, напряжение определенно наросло.
Он, улыбаясь, хмыкал себе под нос всю дорогу. Я шел следом, вытирая дырявый кувшин. Интересно, можно ли чувствовать себя свободно рядом с человеком, который всегда ищет сюжеты и литературные приемы?
Когда мы дошли до торгового центра, то уже почти превратились в ледышки. Не снимая курток, мы направились прямо к центру ресторанного дворика. Один малыш показал на меня пальцем и спросил маму, что с моим лицом. Ну вот она, отвага маленьких детей. Я моментально опустил взгляд на ботинки. Было много всего, что я хотел сказать. Все эти папины утешения. О том, что ценность не заключается в одинаковости, сравнения с Матиссом, красота в асимметрии… Мне хотелось многое сказать этому малышу.
Но я не стал.
И затем – о, чудо! – руки самого Танца сомкнулись вокруг меня.
1. Баз приобнял меня за плечо.
2. Коко приобняла меня за талию.
3. Нзази злобно зыркнул на ребенка и его маму.
– Люди – полнейший мусор, – шепнула мне на ухо Коко. – А вот я из Квинс.
Слезы защипали у глаз, но это были хорошие слезы. Мы так и продолжили путь, рука к руке, и прошли как минимум мимо четырех продавцов, предлагавших попробовать странно пахнущие ломтики мяса на зубочистках.
* * *
Воздух полнился напряжением, как и в случаях с «Гостиной» и Утесами. Но, в отличие от тех случаев, напряжение казалось каким-то натянутым. Для начала, колодец желаний был ужасно, ужасно уродливым. Расположенный посередине ресторанного дворника, он представлял из себя чахлую конструкцию из сине-зеленой плитки и белесо-шершавого цементного раствора. Сам резервуар был метров пять в диаметре. В центре его изо рта, глаз, ушей и задницы – сердечный мыслитель вроде меня едва верил своим очам – единорога капала мутная водица.
– Что за пипецкий пипец? – спросила Коко.
– Коко…
– Нет, Баз, ну правда. Сам посмотри. У него такой вид… как будто он страдает от всемирного, нечеловеческого поноса. Хо-хо, ничего себе! Представляете, люди кидают туда настоящие деньги!
Нзази дважды щелкнул пальцами.
От скорости, с которой Коко меняла темы разговора, кружилась голова.
– Люди, – прошептала она, качая головой, – полнейший мусор.
Нзази щелкнул один раз.
Баз кивком указал на мой рюкзак, и, хотя это все было как-то неправильно, надо было решаться. Я вынул урну, открыл ее и достал щепотку папы. Разумом я понимал, что, даже если это и не то место, если мы позже обнаружим, что папа имел в виду что-то другое, я всегда смогу развеять его и там тоже. Пепла хватит еще надолго. Останков папы у меня было в буквальном смысле завались. Но мысль о том, что я оставлю его в неправильном месте навсегда, окончательность этого решения меня пугала до тошноты.
Потому что папа не упокоится с миром.
Рог единорога был направлен мне прямо в сердце. Я пытался представить своих родителей: молодые, счастливые, смеются над этим тупым единорогом. Я попытался поселить этот образ в своем сердце. Это было необходимо, чтобы вычеркнуть место из папиного списка с чистой совестью.
– Утопи меня в нашем колодце желаний, – сказал я.
– Утопи меня в нашем колодце желаний, – повторила Коко.
– Утопи меня в нашем колодце желаний, – сказал Баз. Я уже собирался развеять папины останки над копытами единорога, но Нзази щелкнул пальцами дважды. Он стоял сбоку от этого сине-зеленого ужаса и показывал куда-то. Коко подошла посмотреть.
– Эмм, Удав… А когда твой старик умер?
– Второго декабря две тысячи тринадцатого. А что?
– Добро пожаловать к мемориальному фонтану Барбары Теттертон. Возведен в мае две тысячи четырнадцатого.
…
Коко кашлянула, похлопывая Нзази по спине:
– Пипец. Легко отделались. Спасибо, Заз Я чувствовал папу в своей руке. А ведь я чуть не швырнул его в этот китчевый кошмар! Навеки! Мы молча постояли с минуту, взирая на роскошного фаллического единорога с жидкостью, сочащейся из всех отверстий. Наверно, раз он стоит посреди ресторанного дворика, по венам у него текут закуски, цыпленок с бурбоном и лежалые бутерброды.
Весь этот торговый центр – одно сплошное объятие сбоку. Коко сказала:
– Интересно, как надо провиниться при жизни, чтобы после смерти тебе в местном торговом центре воздвигли огромную статую единорога. Барбара Теттертон, величайшая загадка мира, упакованная в тайну, ну и так далее.
Нзази щелкнул пальцами.
Я внезапно почувствовал страшную усталость. Дело было не только в том, что я не выспался. От самого ощущения, что день потрачен впустую и дальше меня ждет череда таких же пустых дней, у меня ныли кости, ныло сердце, ныл мозг. Я высыпал папу обратно в урну, положил урну в рюкзак, и мы развернулись к выходу. По пути Коко нахватала как минимум четыре кусочка мяса со странным запахом, наколотых на зубочистки.
МЭД
Баз спал глубоким, крепким сном; грудь его поднималась и опускалась в ровном ритме. В руках он нежно, словно младенца, сжимал бейсбольную биту. Заз тоже храпел, хотя его храп больше походил на радиопомехи. Коко спала в своей фирменной позе: лицом в спальник, задницей кверху, ноги под грудью.
Я подкралась к дивану и глянула на Вика. Он лежал в наушниках, и, хотя он явно спал, веки у него были наполовину открыты, как заевшая дверь гаража. Я видела нижние половины его радужек, и мне захотелось присесть рядом и ждать, пока он не перейдет в глубокую фазу сна. Интересно, как она выглядит.
Но дело не могло ждать.
Я выдернула один из его наушников и стала наблюдать: зрачки расширились, дверь гаража поднялась.
– Как ты это делаешь? – прошептала я.
– Что делаю?
Баз резко перестал храпеть.
Я приложила палец к губам и замерла. Баз повернулся на бок, притягивая к себе бейсбольную биту. Он сделал вдох, задержал дыхание и, когда я уже думала, что нас пронесло, начал бормотать. Баз частенько говорил во сне, и, хотя делал он это не на английском, мне не нужно было разбирать слова, чтобы почувствовать страх в его голосе.
Что бы ему ни снилось, оно его ужасало. И меня тоже.
Рано или поздно он затих; когда храпы возобновились, я склонилась к уху Вика:
– Пойдем со мной. Возьми рюкзак.
Вик убрал свой айпод, накинул куртку и пошел за мной к двери. Если быть честной с собой, то придется признать: я по нему скучала. Совсем немножко. По его метсикам, глазным каплям, по тому, как он смотрел на всех с одинаковым выражением лица. Словно мы все были равны. Да, я скучала.
Снаружи стояла тихая, холодная ночь. Мы перешли через канал, глухо стуча ботинками по древесине, затем пробрались под забором и перешли через дорогу. Мы остановились перед кладбищем, и я вспомнила про столкновения и тысячи красных огоньков и неизбежность соответствующих узлов.
– Мы идем в дом твоих бабушки и дедушки, – сказала я.
– Ладно.
– Ты сказал, что они жили рядом. – Я повернулась и снова зашагала. – И у меня появилась идея.
Вик припустил быстрее, догоняя меня:
– Какая идея?
– Подожди и увидишь.
Он молча последовал за мной. Не знаю, чего я ожидала. Может, пары вопросов? По крайней мере, мог бы спросить, откуда я знаю, куда идти. Но он ничего не говорил, просто шел склонив голову.
Я на ходу переложила волосы на одну сторону. Я почему-то сегодня даже решила их уложить, чего обычно не делаю. С одной стороны выбрито, сверху шапка, длина средняя… Не сказать чтобы за моими волосами нужно было особо ухаживать. Но да, сегодня я почему-то этим занялась.
Я искоса взглянула на Вика. Интересно, заметил ли он? А еще интереснее, почему мне это интересно. Я достала сигарету.
– Тебе бы лучше не курить, – сказал он. Совсем как в тот раз над каналом, где плавал Гарри Конник Младший-Младший и раздавались обессиливающие звуки оперы.
Затянуться. Выдохнуть.
Согреться.
– Что за песню ты давал мне слушать пару дней назад? – спросила я. – В последний раз, когда отчитывал за курение?
– «Цветочный дуэт». Папин любимый. А теперь мой.
А теперь мой. Не просто любимый; теперь этот дуэт принадлежал ему. Этот дуэт теперь принадлежал Вику со всеми потрохами.
– А моя любимая песня – «Coming Up Roses» Эллиота Смита. Знаешь ее?
– Нет.
Разочарована, но не удивлена. Музыка – дело не просто субъективное. Она еще и хаотична. Как корабль на горизонте: один матрос заметит, другой – нет.
Манифест Мэд гласит: на холоде курить – внутреннего экзистенциалиста освободить.
– Хотя это странно, – сказал Вик.
– Что странно?
– У наших песен в названиях есть цветы.
Мы шли по полночным улицам Нью-Милфорда, топча подошвами мостовую, и дыхание шло вместе с нами. Выдох – и кусочек души устремляется в воздух. Вдох – и кусочек сердца попадает нам в горло. Выдох, вдох, выдох в холодную ночь.
– Как думаешь, что снилось Базу? – спросил Вик, обрезая словами дрожащую тишину.
– Понятия не имею. И не думаю, что хочу узнать.
По левую руку от нас находилась река Хакенсак. Ее не было видно, но я чувствовала ее присутствие. Как огонь вдали, река давала о себе знать запахами, звуками… Ощущением, будто воздух состоит из облаков. Потом Вик остановился, и я остановилась, и мы посмотрели друг на друга, и новая тишина присоединилась к старому холоду, и я понятия не имела, что происходит.
– Мы на месте, – шепнул он.
Я бросила окурок на мостовую, затушила его и осмотрелась.
– А-а. Ну да.
Перед нами стоял скромный двухэтажный дом с коричневой обшивкой и кирпичным фундаментом. Светилось лишь одно окно; из трубы струился ручеек дыма. Даже в темноте было очевидно, что дом долго стоял заброшенным: трубы свисали с углов, как бессильные руки. Все, начиная с гигантского гнилого дерева на газоне и кончая сгорбленным фонарем, подтверждало: дом совсем исхудал и ослаб.
– Наверно, тебе интересно, зачем я привела тебя сюда, – сказала я.
Я замолчала, но Вик никак не высказал своего согласия. Судя по его реакции, я предоставила ему что-то настолько ценное, как старая зубная щетка или поддельный сертификат, гарантирующий подлинность автографа какой-нибудь звезды.
– Я тут думала про третью подсказку, – сказала я. – Похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя. Когда мы были в «Наполеоне», ты сказал, что твои родители стали встречаться совсем молодыми. «Глупыми подростками», как ты тогда сказал. Так вот, если они впервые поцеловались в школьные годы, вряд ли у них уже было свое жилье, а значит, скорее всего, это произошло в доме родителей. А какие кирпичи дымятся?
Я показала на крышу: полуразвалившаяся труба с крошечными облачками дыма.
– Они могли поцеловаться в школе, – сказал Вик. – Или… в лагере, мало ли.
– Могли. А может, они поцеловались здесь. Может, это случилось прямо здесь, на крыше.
Видите ли, у меня был план: я собиралась поделиться с Виком своими рассуждениями, и тогда его яркие глаза загорятся еще ярче, и он будет от души благодарить меня за мою проницательность, а я изящно склоню голову и дотронусь до тульи моей вязаной шапки.
– Откуда ты узнала, где они живут? – спросил Вик. В его глазах я прочла другой вопрос: «Где ты была?»
– Я провела некоторые расследования.
– Загуглила, что ли?
Я не ответила.
Вик повернулся к дому:
– Кто живет здесь?
– Какая-то старушка. Глухая как тетерев.
– Это тебе Google сказал?
Я вздохнула. Хорошо бы вернуться на несколько минут, чтобы я могла начать объяснение заново.
– Я притворилась, что продаю журналы.
– Ты что?
– Я постучала в дверь и притворилась, что продаю журналы. Звонила раз десять, она ничего не слышала. Потом стучала в дверь и чуть ее не сломала, пока старушка не ответила. Не переживай, что нас поймают. Тут вопрос в том, как нам забр…
Вик ступил на газон.
– Вик, подожди секунду.
Но он не стал ждать. Он легко зашагал по снегу к огромному дереву, чьи гнилые ветви жалобно склонились под грузом безжалостной зимы. Он затянул ремни рюкзака, словно собирался взобраться на гигантский утес, покорить его, победить. Я в удивлении наблюдала, как Вик ловко подпрыгнул вверх, подтянулся на нижней ветке и, раскачиваясь, схватился за следующую. Тощий, прыткий супергерой. Я посмотрела на зажженное окно – пусть только старушка не исцелится от глухоты! – и побежала по снегу к дереву. Вик уже поднялся на четвертую или пятую ветку, и я думала только одно: пусть он не упадет, пусть он не упадет, пусть он не упадет.
– Вик! – громким шепотом позвала я. – Ты давай аккуратно, хорошо?
Я бросила последний взгляд на окно, обвязала куртку вокруг талии и тоже стала подтягиваться на ветках. Надо мной Вик уже залез на самую верхнюю и с энтузиазмом озирал край крыши. До него было около метра.
И затем – вот так запросто – он прыгнул, легко перемахнув через пропасть, и с глухим стуком приземлился на крышу. Я подула на руки, чтобы согреть их, и стала подтягиваться выше и выше, пока не настала моя очередь прыгать. Как оказалось, наблюдать за тем, как кто-то прыгает на метр в длину на такой высоте гораздо проще, чем делать это самой. Отсюда метр казался десятью.
– Тебе необязательно, – шепнул с той стороны Вик. – Правда. Не надо.
Я коротко вдохнула, задержала дыхание – и прыгнула.
ВИК
Мы почти сразу нашли неплотно прилегающий кирпич. Потом еще один. И еще. Мэд вытащила их все, и с каждым дыхание ненадолго застревало у меня в груди. За кирпичами оказалось пустое пространство сантиметров тридцать по периметру. Как миниатюрная пещера.
А в пещере лежала коробка.
Коробка лежала, словно ей самое место было там, среди кирпичей, словно за все это время она забыла, что сама – не кирпич. Я вытащил ее из трубы, пытаясь не думать, о чем мечтали мои родители, когда касались ее в последний раз.
Похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя.
Внезапно коробка стала похожа на маленький гроб.
Я снял рюкзак и присел на крышу, осторожно поставив жестяную коробку рядом. Мэд села с другой стороны.
Это была очень маленькая коробка. Следовательно, Мэд села следующим образом.
1. В удивительной близости от меня.
2. Прижав колени к подбородку.
3. Панк-стороной своей прически ко мне. (Мне хотелось приложить руку к ежику на виске и потереть. Очень хотелось. Сам не знаю почему.) С другой стороны ее головы желтые волосы спадали волнами. Они выглядели иначе, чем всегда. Не лучше и не хуже. Но немножко… немножко… так, словно осознавали свое существование.
4. Волосы спадали, как водопад, по ее лодыжкам, плескались совсем рядом с разрисованными «Найками». Мне хотелось умыться ее волосами. Такие волосы сделали бы меня совсем чистым.
5. Глаза в прямом смысле слова сверкали в лунном свете. Такие серые, что давали этому цвету новое определение.
– Я не собираюсь целоваться с тобой, – сказала Мэд.
Я – начинающий частный предприниматель в сфере аренды автомобилей.
– Что? – спросил я.
– Ты смотришь на меня так, будто считаешь, что я сейчас тебя поцелую. Но я не собираюсь.
Я сглотнул ком в горле и сосредоточился на двусложном ответе:
– Ладно.
– То есть… Я не знаю, может, ты этого и не ждал.
– Не ждал.
Мэд кивнула:
– Некоторые парни считают, что я такая.
– Я не думаю, что ты такая.
– Ну, ты меня не знаешь.
И хотя эта фраза резала меня, как ножом, я внезапно почувствовал, что доволен.
Речь Мэд была такой целенаправленной, я прямо физически ощущал ее цель. И губы, и язык, и зубы Мэд двигались дружно, как по команде. Она говорила тихо… и все эти фразы, предназначенные только для меня. Глаза, слова, волосы – все эти элементы, из которых состояла единица под названием «Мэд», все они были ошеломительны. Они прошли в мой мозг, вытащили из-под стола удобные стулья и расположились, как дома.
– Мэд, я знаю тебя достаточно хорошо, чтобы не думать, что ты станешь целоваться с кем угодно.
Она улыбнулась, и меня охватило тепло.
Я посмотрел на коробку, и меня охватил холод.
Человеческое тело – удивительный механизм, способный на поразительное количество эмоций – порой противоположных – одновременно. Как совпадения, они не настолько вероятны, как можно подумать. Мы сложные существа, поэтому вполне логично, что вероятность того, что единица будет испытывать разную противоречивую хрень, достаточно высока.
Папа постоянно говорил о таком.
Он называл это «одновременные чрезвычайные противоположности».
Мэд посмотрела на крошечную коробку между нами и так покрутила головой, что волосы взлетели и приземлились ей на спину. Она запела:
– Я – помойка фальстартов; мне не нужно твое разрешение, чтобы похоронить свою любовь под оголенным светом лампы.
– Откуда это? – спросил я.
– Моя любимая песня, «Coming Up Roses», – сказала Мэд. Она пропела еще несколько строк, и из-за них мои мысли опять стали исходить не из головы и не из сердца.
Я – конченый случай.
– Мне нравится, – сказал я.
Она смотрела на луну и пела своим негромким тающим голоском. И я перенесся в другой мир, где дети не жестоки и никто не показывает на меня пальцем, и мы все просто танцевали и не спали до утра, рассказывая истории и потягивая горячий шоколад с зефирками, и жили в парниках с удивительными друзьями.
– Пока луна разделяет, – пела Мэд, – ты похоронен под ней. И ты расцветаешь розами, куда бы ни пошел.
Она подняла руку и положила ее на жестяную коробочку между нами.
– Напомни, кто это? – спросил я, не отрывая взгляда от ее руки и пытаясь набраться храбрости, чтобы взять ее в свою.
– Эллиот Смит, – сказала она.
Давай, Бенуччи. Будь скаковой лошадью. В порыве отваги я протянул руку к коробке, а Мэд как раз убрала свою.
Так уж устроен мир.
Она пошевелилась. Кроссовки зацарапали по черепице, пока Мэд подвигалась ближе к трубе, а потом развернулась, прислонилась к ней спиной и опять засунула ноги под подбородок. Я наблюдал, как все ее части движутся, словно одна. Некоторые механизмы куда более таинственны, чем другие.
– Слушай, – сказал самый загадочный механизм, – как ты можешь спать с открытыми глазами?
Я посмотрел на коробку. Она как-то мешала мне подобрать нужный момент… Она была третьим лишним на крыше. Наш разговор был обрывочен даже по моим меркам.
Разговоры, потом размышления, потом не разговоры, потом пение.
Я встретился с Мэд взглядом:
– Мы сейчас задаем все вопросы?
– Что ты имеешь в виду?
– Я имею в виду, сначала мы говорим, что не будем спрашивать то и не будем спрашивать это, а потом…
– Ах да.
– Да. Так вот. Мы теперь задаем все эти вопросы?
– Ладно. Давай.
Я кивнул:
– Ладно. Я обменяю свой вопрос.
– Что?
– Я отвечу на твой вопрос, если ты ответишь на мой. Но нам нужно договориться, прежде чем отвечать.
– Ладно. О чем ты меня спросишь?
Глаза Мэд были как странная улыбка. Она знала, что я хочу спросить: где она была, почему она ушла? И я думаю, она бы мне рассказала. Но у меня было чувство, что, даже если бы она мне рассказала, ей бы не хотелось. А мне не хотелось быть таким человеком. Не хотелось быть тем, кто заставит ее действовать вопреки собственным желаниям.
Мне хотелось, чтобы ее желания остались нетронуты.
– Если не считать Воронки Хинтон, – сказал я. – За что еще ты любишь «Изгоев»?
В ее глазах одна улыбка сменилась на другую, непохожую. Теперь они говорили мне «спасибо».
– Ты согласна на такой вопрос?
Она кивнула:
– Да. А ты расскажешь мне, как спишь с открытыми глазами?
– Расскажу, – сказал я. – Но ты первая.
Мэд следующие десять минут говорила об «Изгоях». Никаких теорий, никакого анализа. Просто чистое, неразбавленное фанатство. В лунном свете я смотрел на ее губы: те двигались с лаконичным изяществом, восхваляя сюжет, персонажей и атмосферу. Очевидно, лучшие герои «Изгоев» превыше всего ценили преданность. И я вспомнил, как Коко сказала, что уходить – фишка Мэд, а еще одна ее фишка – возвращаться. Я подумал, что, возможно, преданность для Мэг – это возвращаться назад. Она процитировала мне свои любимые отрывки, и один из них был о том, что кто-то был таким реальным, что пугал людей. Мэд сказала, что хочет быть настолько реальной. Я подумал, что понимаю ее. Разговаривая об искусстве, отец много раз призывал меня взглянуть за «красивенькое», как он говорил. Он научил меня, что имеет значение не красота, а то, что стоит за этой красотой; то, что бурлит под поверхностью. Не смотри на цвета, которые есть на картине, Вик, говорил он часто, показывая на репродукции в альбоме с Матиссом. Посмотри на цвета, которых нет. Папа называл это «бурлением изнутри», говорил, что можно найти его в книгах, музыке, искусстве… практически в чем угодно. Слушая, как Мэд описывает пугающую реальность персонажа из книги, я подумал, что она, наверно, понимает это бурление.
Она продолжала. Волосы плескались, губы соприкасались, сердце пело. Она говорила о радостях литературы, о том, как погружаешься в нее. А я представлял, как погружаюсь вместе с ней. Я хотел быть частью всего, что принадлежало ей.
Я хотел поехать в Сингапур и взять ее с собой.
…
И я хотел ее губы.
…
Просто попробовать их на вкус. Положить мои собственные губы сверху, вокруг ее губ. Мне хотелось и язык туда положить. Мне хотелось почувствовать ее влажный рот и острые кончики зубов. Я никогда раньше ни с кем не целовался. Целоваться было сложно из-за проблем с дырявым ртом и сухими глазами. И из-за проблем с сочувственными взглядами. И из-за проблем с ребятами на мосту. Но боже. Как же мне хотелось! С Мэд – ужасно хотелось.
– Ладно, твоя очередь, – сказала она. – Как ты спишь с открытыми глазами?
Я достал платок и вытер дырявый кувшин.
Через дорогу в чьем-то дворе был припаркован старый пикап. Уличный фонарь сиял прямо на его кузов. Он выглядел каким-то изолированным, одиноким, как артист на сцене. Едва попадая в круг света, в траве стоял садовый гном. Один во тьме.
– «Выразительность для меня заключается не в страсти, которая вдруг озарит лицо или проявится в бурном движении».
…
– Это цитата? – спросила Мэд.
– Анри Матисс.
Мэд кивнула, точно это было совершенно логично, точно Матисс объяснял, как я сплю с открытыми глазами. Он не объяснял, но по какой-то причине, когда бы я ни думал про своего Мёбиуса, я вспоминал эту цитату. Из-за нее я любил Матисса еще больше. Она только подтверждала мою веру в то, что мы – ну, знаете, Матисс и я – обязательно бы подружились.
– У меня синдром Мёбиуса.
И я погрузился в эти слова, которые я читал, которые слышал, которые думал… но которые никогда не произносил. Мэд сидела, положив подбородок на колени, прислонившись спиной к трубе, и внимательно слушала.
– Это неврологическое заболевание, вызывающее лицевой паралич, – сказал я. – В мире им на миллион человек болеют от двух до двадцати, так что я, как видишь, везунчик. Но у многих он проявляется гораздо серьезнее. Бывает, что люди вообще не могут двигать ртом. У других проблемы с руками или ногами. Мне правда повезло. Некоторым образом. – Я держал в руках папин носовой платок с монограммой. – Вот глотать сложновато. И улыбаться я не могу. Не могу смотреть в стороны. Плачу только очень, очень редко. Не могу моргать, из-за чего у меня сильно сохнут глаза. Отсюда и «Визин». Когда я был маленьким, то ходил к логопеду, очень помогло. А до этого меня едва понимали. Я не могу обхватить край кружки губами, поэтому пришлось учиться пить, ничего не проливая. И отвечая на твой вопрос: я не могу закрыть глаза, когда сплю. Во всяком случае, полностью не могу. Есть разные операции, которые бы… но… я не знаю. Я уже привык.
Иногда скажешь правду – и становится лучше. А иногда правда повисает в воздухе, точно туман, скрывающий симпатичную ложь. Я надеялся, что Мэд разглядит меня сквозь туман. Я надеялся, она услышала правду и увидела, что я хочу быть с ней честным. Реальным, как самый реальный персонаж «Изгоев». И пока я на все это надеялся, Мэд оттолкнулась от трубы, приземлившись коленями на черепицу. У нее был такой вид, словно… я не знаю… словно ей хотелось большего. Но при этом она была довольной. Страстной. Безрассудной. Дикой. Довольной. Счастливой. Грустной.
У нее был вид одновременных чрезвычайных противоположностей. Мне хотелось жить в ее выражении лица. Это выражение лица съело бы меня целиком, если бы я позволил.
– Ты собираешься открывать эту коробку? – спросила она, поднимая ее.
– Это твой следующий вопрос?
– Ага.
Я улыбнулся глазами, надеясь, что она заметит.
– Я принимаю твой вопрос. Она протянула коробку мне:
– А ты меня о чем спросишь?
– Я хочу твою фотографию, – сказал я, не раздумывая. – И чтобы на ней больше никого не было.
Мэд прищурилась:
– Это не вопрос.
– Можно мне твою фотографию? Где больше никого нет?
– А это два вопроса. И вторая часть несколько…
Она остановилась, вздохнула и пристально на меня посмотрела. И смотрела. И смотрела.
– Что? – спросил я.
– Ничего.
– Что?
Хотя она не улыбалась, я увидел улыбку, написанную на ее лице. И по этой причине я был рад, что еще не открыл коробку.
– Спроси меня еще раз, – сказала она, пододвигаясь ближе. Так близко, что я чувствовал ее дыхание у себя на носу. Так близко, что я ощутил некоторые импульсы на своих богом забытых территориях. Движение на палубной установке моего USS-Ling.
– Можно мне твою фотографию, где больше никого нет?
… …
– Я согласна ответить на твой вопрос. Но ты первый. – Она постучала по крышке коробки: – Сезам, откройся!
С колотящимся сердцем я нажал на замок и открыл коробку. Внутри лежала пачка сигарет. Они были совсем древними;
не надо было быть курильщиком, чтобы это заметить.
– Остроумно, – сказала Мэд, доставая пачку.
– Что тут остроумного?
– Похорони меня среди дымящихся кирпичей нашего первого поцелуя. – Она показала на трубу, а потом достала из пачки сигарету. – Двойной смысл. Ты не против?
Я взял пачку в руки:
– Я не знал, что мои родители курили.
Мэд зажгла старинную сигарету, затянулась и закашлялась.
– Боже, какая тошнота.
Я поставил коробку на крышу, достал из рюкзака урну и взял щепоть папы. Затолкал его в полупустую пачку. Немного подумав, зачерпнул еще и кинул в трубу.
– На всякий случай, – сказал я, садясь точно на то же место, где и раньше.
Мне хотелось сидеть ближе, но я по жизни был абсолютно безвольным, как объятие сбоку.
… …
– Воспоминания бескрайни, словно горизонт, – сказала Мэд.
Я поднял невидимую чашу:
– За Сильвию и Мортимера.
Мэд отсалютовала сигаретой.
– Пусть воспоминания о них будут бескрайне горизонтальны.
Мы посмеялись. В луне – и в Мэд – было что-то такое, от чего мне хотелось говорить. Я и говорил. Я придумывал новые слова, простые слова, и кидал их в тонкий холодный эфир.
– Я скучаю по родителям.
– Я тоже.
– Папа умел рассмешить маму, как никто другой. А теперь она смеется, как все остальные. Фрэнк не принадлежит ей. Они не были созданы друг для друга. Мама говорит, что нельзя строить отношения на литературных предпочтениях, но они с папой всегда любили одни и те же книги. Так что скажи, что я неправ! Фрэнк бы не узнал старо-нового, если бы оно ударило его в его тупую рожу. Он любит консервированную зеленую фасоль. Ты можешь в это поверить? Какой взрослый человек любит консервы из зеленой фасоли? Он что, умрет, если съест свежую фасоль? И боже, его дети – это просто ужас какой-то. У них своя группа, которая называется «Оркестр потеряных душшш», вот да, с тремя «ша». И они меня втайне ненавидят.
– Что ты имеешь в виду?
– Все! Все я имею в виду. Они слишком меня ненавидят, чтобы я мог это объяснить. Понятно?
– Понятно.
…
Мы посмотрели на луну, а потом на спящий грузовик через дорогу и на садового гнома.
Мэд затушила окурок.
– Как думаешь, что это значит?
– Быть старо-новыми? Очевидно, это такая милота…
неуловимое, неописуемое качество.
– Да, очевидно.
– Давай дадим ему определение.
Я был так рад, что после того, как я вывернулся наизнанку, Мэд хотела обсудить именно это. Она не предлагала ни решений, ни сожалений, ни извинений. И не потому, что она не слушала. А как раз наоборот.
– Ты первая.
Мэд прокашлялась:
– Хорошо. Ладно. Может, это значит чувствовать себя старым, но помнить, каково это – быть молодым.
– Или быть молодым, но понимать, что такое быть старым. Ну, как молодой человек с душой старика.
– Или такой утопический образ мыслей, который подразумевает, что, когда ты все на свете уже увидел, услышал и сделал, все равно знать, что где-то там есть что-то новое.
– А может, это просто имя, – сказал я. – Сильвия и Мортимер Альтной.
– Сильвия и Мортимер. Старо-новые.
– Одновременные чрезвычайные противоположности. Мэд приподняла бровь:
– Одновременные что?
На этот раз я подумал перед тем, чтобы сказать. Мне хотелось правильно все объяснить.
– Многие вещи – это две вещи одновременно. – Я показал на ее висок, где локоны падали ниже колен: – У Мэд длинные волосы. – Затем я показал на другую сторону головы, побритую: – У Мэд короткие волосы. Видишь? И то, и другое правда. И чрезвычайно противоположно. И происходит одновременно.
– Одновременные чрезвычайные противоположности, – сказала она и как-то так посмеялась, что я сразу подумал: моя миссия на земле выполнена. – Ну и загадка!
– Загадка, упакованная в тайну, спрятанную в непостижимость.
– В самую великолепную непостижимость.
Мэд склонилась вбок, ближе ко мне, пока ее лицо не было в паре сантиметров от моего. Она смотрела мне прямо в глаза, и мои внутренности превратились в расплавленную лаву. Она заставляла меня забывать о незабываемом.
Я не знаю.
Я хотел ее. Но не в этом смысле. Не только в этом смысле. Я хотел ее во всех смыслах.
И я пытался представить, что она видит, когда смотрит на меня так близко.
– Пока луна разделяет, – пела Мэд, – ты похоронен под ней. И ты выходишь наверх с каждой розой, которая расцветает.
Песня сделала свое дело. Дело, которое делают все хорошие песни. Она заставила меня почувствовать, что это обо мне. И внезапно Мэд схватила меня за запястье. Крепко. Но осторожно. И я разрешил ей.
Она перевернула мою ладонь тыльной стороной вниз. И я разрешил ей.
Она приподняла мой рукав, обнажив холодную кожу.
И я разрешил ей.
Она посмотрела мне в лицо, потом на запястье. Она изучала мои болячки, и в свете лунного серпа они выглядели как-то грустнее, чем обычно. Рваные, неловкие, крохотные дорожки, ведущие в никуда. Сколько раз я повышал свой порог боли. Чаще всего ногтями. А еще цветным картоном, кредитками… но лезвием – никогда.
Конечно, я думал и о лезвиях. Как это будет выглядеть, как будет ощущаться.
Но я всегда останавливался на мыслях.
– Твоя мама знает? – спросила Мэд.
Ну и вопрос. Давай забирайся сразу в мою голову, внутрь, во все важные места.
– Да – сказал я. – Мы раньше говорили о таком. Она спросила, нарочно ли я причиняю себе боль. И я сказал, что да, но всегда останавливаюсь вовремя.
Мэд, все еще удерживая мое правое запястье, приподняла рукав своей куртки.
У нее не было крошечных дорожек. Но у нее были синяки. Темные. Уходящие в никуда.
– Свежие, – прошептал я. Не знаю, почему я стал шептать. Показалось, что так нужно. Мои раны были явно делом моих собственных рук, но ее – нет. – Кто это сделал?
Она не ответила, просто пожала плечами. Мне до смерти хотелось ее обнять, прижать к себе, но я не стал. Мы просто держали друг друга за запястья, сидя на расстоянии нескольких сантиметров под освещенным небом, и луна разделяла, и всякий мусор наших жизней был похоронен в земле, утоплен в кирпичах первого поцелуя моих родителей, на крыше дома моих бабушки и дедушки, которые когда-то любили обжиматься, а теперь успокоились с миром. Мы закончили третье задание в списке желаний моего папы и впитывали в себя пугающую реальность момента.
– Можно, – прошептала Мэд.
– Что можно?
– Тебе можно мою фотографию, где больше никого нет. Я Суперскаковая лошадь.
Шесть Автобус, колокольчик и две красные комнаты, или Это был не его апельсиновый сок, нахрен!
Комната для допросов № 2
Мэделин Фалко и детектив Г. Бандл
19 декабря // 18:01
– Мэделин Фалко, – говорю я вслух. – Мэделин. Мэделин. Мэделин. Странно произносить свое имя. То есть часто слышишь, как его говорят другие, но как часто мы сами себя называем по имени?
Бандл делает гримасу и становится похожим на мопса.
– Мэделин…
– Вот видите! – обрываю я его и тычу в него пальцем. – Вот. Я постоянно, постоянно слышу эту херню. Но когда сами произносите свое имя, оно слышится по-другому. Точно-точно. Мэделин… Мэделин… Боже, как странно.
– Да, довольно странно.
– А как вас зовут, Бандл?
Он вздыхает, и я почти слышу, как он думает: «А, какого черта?»
– Герман, – говорит он. – Герман Бандл.
Я слегка улыбаюсь и медленно киваю:
– Вот видите. Ну как ощущения?
– Какие ощущения?
– Ну, когда вы произнесли свое имя вслух. Неплохо, а?
– Чепуха какая.
– Герман Бандл, – мечтательно говорю я. – Вы хоть знаете, что это значит?
Он качает головой:
– А что твое имя значит?
– Насчет Мэделин не знаю, а Фалко – это «ястреб» по-итальянски. А «мэд» значит «безумная», так что я безумный ястреб. Почти супергерой.
Мужчина в мятом костюме и с копной рыжих волос проходит в комнату. В руках у него стакан кофе и газета.
– Эй, Рон, – говорит Бандл, нажимая на «паузу» на диктофоне.
Этого мужика зовут Рон, у него ярко-рыжие волосы, и костюм у него выглядит так, словно не стиран неделями. Для моего мозга, испорченного «Гарри Поттером», это было уже слишком.
– Позвольте угадать, – говорю я Рону. – Ваш отец помешан на розетках.
Он смотрит на меня с усталым замешательством, потом почесывает голову, и его волосы потрескивают статическим электричеством. Боже, да он больше похож на Уизли, чем Билл. Или это был Чарли? Ну, тот, который поехал в Румынию изучать драконов.
Рон поворачивается к Бандлу:
– Ну, так или иначе. Я подумал, вдруг вам хочется кофе или еще чего-нибудь.
Детектив Бандл закатывает глаза и тихо что-то ворчит. Рон ухмыляется:
– Да, я так и думал. Скоро вернусь. – Перед тем как выйти в коридор, он разворачивается и смотрит на меня: – А ты знаешь, что воняешь? И твой бойфренд тоже. Будто кто-то посрал тухлыми яйцами.
Когда Рон уходит, Бандл одаряет меня ехидной улыбкой:
– Что?
– Я же говорил.
– А я уж думала, мы станем лучшими друзьями.
– Друзья говорят, если кто-то из них пахнет как говно. А еще говорят, почему они так пахнут.
– Ну, ну… – Я делаю глоток воды. – Давайте не будем портить финал.
Я ставлю стакан на стол и нажимаю на кнопку записи.
(ЧЕТЫРЕ дня назад)
МЭД
– Да ты гонишь, – сказала Коко, уставившись на свое мороженое. Она повернулась к Базу, и нижняя губа у нее дрожала. – Он ведь гонит, да? Скажи?
Баз так сильно смеялся, что не мог ни подтвердить, ни опровергнуть предположения Коко.
– Я не вру, – сказал Вик. – Я видел в какой-то передаче. То ли в новостях, то ли в викторине… В списке ингредиентов «натуральный ароматизатор» – это не всегда хорошо. Взять хотя бы кастореум, выделение анального секрета бобров. Они используют его, чтобы помечать территорию, но, оказывается, он пахнет то ли ванилью, то ли малиной, и поэтому мы его используем…
– Молчи, – сказала я.
– …в качестве пищевого ароматизатора.
Заз дважды щелкнул пальцами.
Медленно, словно к морозилке прикрепили бомбу, Коко потянула дверь на себя, заливая помещение облаком холодного тумана. Она вытащила ведерко с мятно-шоколадным мороженым и внимательно вгляделась в список ингредиентов. «…Натуральные арома-ти-заторы». Она схватило другое мороженое, потом еще и еще, каждый раз читая ингредиенты и под конец издавая тихий жалобный писк.
– Хм, Вик, – сказала я, – по-моему, ты сломал Коко.
– Этого не может быть… – пробормотала она, тупо уставившись на коробку шоколадно-вишневого.
– Извини, – сказал Вик, не поднимая глаз.
Коко с силой хлопнула дверью морозильника. Она была готова расплакаться.
– Это пипец что такое. – Она сложила руки на груди. – Ну и ладно. Ну и подумаешь. Я слишком люблю мороженое, чтобы беспокоиться об анальных тайнах бобров.
– Секрете, – сказал Вик.
Мы истерически расхохотались. Я чуть не подавилась; Баз прервался, лишь чтобы сказать, что эта сцена точно появится в его книге.
Я подняла руку:
– Ладно, ладно. Успокоились. У меня есть заявления.
Манифест Мэд гласит: чем дольше не просишь прощения, тем сложнее это сделать.
Коко, с самого утра смотревшая в мою сторону косо, злобно на меня зыркнула:
– Я заявляю, что недавно вела себя как последняя задница. Я заявляю, что отныне мы будем зваться Ребятами с Аппетитом, и это официально, неотменяемо, и в общем и целом ужасно крутое имя для банды, и что я была невероятно огорчена, что Коко придумала его первой.
– Ребята с чем? – спросил Баз.
– Ах да, – сказала я. – Тебя тогда не было. Коко назвала нас «Ребята с Аппетитом».
– Так нельзя… Мэд, ты пропустила заявление. – Коко прокашлялась. – И назвались они Ребята с Аппетитом, и они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо.
Баз словно пытался сдержать улыбку.
– Ты стянула это из Библии.
– Не-а.
– Да точно. «И увидел Бог, что это хорошо». Это же история о Сотворении мира.
– И что, теперь только Бог может видеть, когда что-то хорошо? Я вижу, что что-то хорошо прям постоянно, чтоб ты знал. Иногда я даже вижу, когда что-то очень хорошо.
– Ладно, – сказала я. – Мы, похоже, отклонились от темы. – Я достала из кармана куртки финальный штрих моего заявления, гвоздь программы извинений. – Я объявляю, что мы, Ребята с Аппетитом, будем носить эти браслеты с гордостью, честью и постоянством, как внешний признак нашего внутреннего перерождения.
Я протянула браслет Базу, потом Зазу, потом Коко. Последний я приберегла для Вика.
Две ночи назад я до утра корпела над этими браслетами, сшивала вместе хлопок, потом вышивала три белые буквы, простые и четкие: РСА. Они были больше обычных браслетов, сантиметров в десять, достаточно широкие, чтобы закрыть все запястье. Это было важно. Идея пришла мне в голову, когда я вспоминала, как увидела болячки Вика на канале «У золотой рыбки».
Я протянула браслет Вику, пытаясь говорить взглядом. Смотри, такой длины должно хватить. Если я не могла исцелить его раны, я могла по крайней мере их спрятать. Он внимательно посмотрел на меня, и я почувствовала волну того же трепетания, что и вчера на крыше. Я улыбнулась ему, перекинула волосы на одну сторону и окинула взглядом всех остальных.
– Я заявляю, что мы, Ребята с Аппетитом, – одна семья. Коко вскинула руки в воздух. Я почувствовала дуновение ветерка, и, прежде чем я смогла ее остановить, Коко обвилась вокруг меня в удушающем объятии. Разобрать слова за ее рыданиями было сложно, но я почти уверена, что она меня благодарила.
Мы надели браслеты, и Баз вытянул вперед запястье:
– Да будет так.
Коко хлопнула в ладоши, декламируя нараспев:
– Ре-бя-та с Ап-пе-ти-том… Ре-бя-та с Ап-пе-ти-том.
Мы с Виком рассказали всем о событиях прошлой ночи: о том, как мы выполнили третье задание и поняли истинное значение фразы о дымящихся кирпичах. Мы обсудили четвертый пункт списка: утопи меня в нашем колодце желаний, – и они поделились со мной историей неудачной экспедиции в торговый центр и встречи с диарейным единорогом Барбары Теттертон.
– В «Гостиной» они увековечили свой союз, – сказал Баз. – На крыше они впервые поцеловались. Это их личные места.
– А что такого личного в Утесах? – спросила Коко.
– Сильвия и Мортимер Альтной, – прошептал Вик.
Он рассказал всем про скамью с табличкой, посвященную супругам Альтной, и что «Альтной» переводится как «старо-новый».
– Мои родители говорили, что будут любить друг друга, пока не станут «старо-новыми». И посмотрите-ка… – Он достал из рюкзака Последнюю записку своего отца и указал в самый конец. – Подпись.
В воздухе висело ощутимое напряжение. Мы все его чувствовали. Будто Последняя записка была картой сокровищ, и мы только что поняли, какое место отмечено крестиком.
– Ладно, давай посмотрим на это с другого угла, – сказала я.
– Ты о чем? – спросил Баз.
– Ну, мы можем пытаться понять, что это за колодец желаний, а можем подумать, были ли еще какие-то особые места, которые что-то значили для твоих родителей, Вик. Куда они пошли на первое свидание, может, или их школа, или…
– Или где они поженились, – сказала Коко.
ВИК
Коко сообщила нам, что ей потребуется еще минут одиннадцать, чтобы выбрать мороженое (и плевать на натуральные ароматизаторы!) По ее словам, так мы отплатим ей за отличную подсказку.
Следовательно, Мэд вышла наружу покурить.
Следовательно, я пошел за ней.
Мы сели на тротуар, она затянулась, и я расстроился. Мне хотелось, чтобы на земле как можно дольше существовала Мэд. А ее привычка к курению сильно мешала моим планам, что подтверждали и история, и наука.
– Знаешь, мы не найдем колодец желаний, – сказал я.
– Вот это я понимаю – оптимизм.
– То есть не найдем в церкви, где поженились родители.
– Откуда ты знаешь?
Я сказал Мэд, что такое уж у меня предчувствие, но на самом деле после папиной смерти я провел много часов, разглядывая старые семейные фото. Наверно, я – единственный подросток, который мог бы в точности описать свадебное платье своей матери. И торт, и цветы, и друзей жениха, и подружек невесты, и да, даже церковь (собор Св. Барта на Бридж-стрит). Я все запомнил. Если бы папа не умер, я бы, наверно, никогда не стал часами разглядывать эти фотографии и не узнал бы, что это была старая каменная церковь с огромной красной дверью, треснувшей по центру, словно в нее ударила молния.
Но он умер, и поэтому я все это знал.
А еще я знал, что там не было никакого колодца желаний. Я в этом соборе не бывал, но фотографий было достаточно. Однако предложений получше у меня не было. И какая-то часть меня хотела побывать в соборе. Если папин список был чертежом, то собор Св. Барта был точкой отсчета или чем-то вроде того.
– Хм, – сказала Мэд.
Из-за спина к нам приближалась группа подростков. Я слышал их шаги: тяжелые, жесткие. На одном из них были кроссовки «Асикс»: одна фиолетовая, одна черная. Роланд с компанией. Ребята с моста. На этот раз избежать встречи не получится. Они подходили ближе. Я опустил голову и старался прогнать из головы все эти «о боже мой», и «какого хрена», и «ну, блин, этого еще не хватало».
Так много ног. Так много слов.
Проходя мимо, они продолжали осыпать меня насмешками. Они шли в магазин. И когда я уже думал, что могу поднять голову, Мэд завопила:
– Эй!
– Стой. Мэд, что ты делаешь?
Она встала с обочины и отряхнула джинсы:
– А ну идите сюда. На секундочку.
– Мэд, не надо.
Но было уже поздно. Шествие возглавлял Роланд в разноцветных кроссовках. Компания медленно вытекла из «Фудвиля» и просочилась практически к нам впритык. И тут Мэд совершенно преобразилась. Она улыбнулась улыбкой сирены и поправила волосы именно так, как нравится парням.
Как нравится мне.
Не знаю. Видимо, одно палубное орудие совершенно не в курсе, когда надо прицеливаться.
– Чё как, красотка? – сказал Роланд.
Я никак не мог вспомнить его прозвище. Что-то там про хлопья, вроде. Или имя какого-то рэпера?
– А, привет. – Мэд все еще улыбалась. – Как там тебя зовут?
Я почти не узнал ее голос. Какой он стал высокий, какой игривый.
– Зовут Роланд, но друзья называют меня Попс.
Ах да! Попс. Точно.
Один из его прихвостней сложил руки на груди.
– Попс – наш братуха. Респект и уважуха!
– Респект и уважуха! – отозвались остальные.
Вот так звучит современный мужской разговор.
И вот поэтому я не вписываюсь в компании.
Мэд показала на меня. Я все еще смотрел в землю, размышляя, есть ли способ как-то уменьшиться и спрятаться в собственных ботинках.
– Видите его? – спросила она. – Это Бруно Виктор Бенуччи III.
– И чё? – сказал Попс.
– И то, – сказала Мэд. – Бруно Виктор Бенуччи III – сын сеньоры Дорис Бенуччи и покойного Бруно Виктора Бенуччи Второго. Смекаете?
Попс посоветовался со своими вассалами и ответил ей решительным «Э-э-э, нет».
– Ну… – продолжила Мэд. – Бруно Виктор Бенуччи Второй был главным поставщиком Северных Танцоров.
– Чего? Кого?
– Северных Танцоров. Наших друзей с Севера. Ну, вы знаете, это все… – Она щелкнула пальцами и сделала какой-то нелепый жест, ударив ладонью по локтю.
Один из вассалов сказал: «Чувак», и Попс согласно покивал.
– Ты ваще о чем сейчас?
– Я ваще сейчас о мафии, – ответила Мэд.
Это произвело мгновенный эффект. Попс быстро обернулся в переулок, словно из-за угла вот-вот появится сам Аль Капоне с автоматом Томпсона и прицелится ему в голову.
– Блин, вот говно, – прошептал он.
– Да уж, говно то еще, мистер Попс, – подтвердила Мэд. – Слушайте, мне, честно, все равно, чем вы занимаетесь. Просто хотела предупредить, чтоб вы знали, над кем смеетесь.
Разноцветные «Асиксы» медленно подошли ко мне ближе. Роланд «Попс» встал на колени и заглянул мне в глаза.
– Слышь, это… Я не знал, что ты с ними. – Он прокашлялся и тревожно оглянулся по сторонам. – Ты там это… Может, замолвишь за меня словечко у Северных…
– Танцоров, – подсказала Мэд.
Боже, я бы прямо сейчас на ней женился.
Попс энергично закивал:
– Конечно, танцоров. Мистер Бенуччи, если получится, я был бы очень благодарен. И это, конечно, не переживай больше из-за школы. Никто не будет над тобой смеяться.
Я посмотрел ему прямо в глаза и дождался, когда он отведет взгляд.
– Почему кто-то должен надо мной смеяться?
Он дернул кадыком.
– Да, правда. Не, я не имел в виду… конечно, нипочему. Я просто… я прослежу. Вот и все. – Он утер со лба пот. – Ну так что? Сможешь? Замолвишь словечко?
У папы был талант находить преимущества в недостатках. И он изо всех сил старался научить меня тому же самому. Прямо сейчас я был сильно благодарен Вселенной за мое безэмоциональное лицо и впервые обрадовался, что не умею улыбаться.
– Я подумаю об этом, – сказал я, пожимая плечами. – Но ничего не обещаю.
Попс засиял улыбкой, пожал мне руку и повел свою армию кретинов в «Фудвиль». Как только они скрылись из виду, мы с Мэд расхохотались.
– Думаю, теперь о них можно не переживать.
– Спасибо Северным чего? Кого?
– Спасибо Северным чего, кого.
. . .
– Как ты выдерживаешь? – спросила Мэд.
– Что выдерживаю?
– Таких вот людей.
Если задуматься, я бы мог вспомнить, когда меня впервые стали дразнить. Первый класс. Марк, фамилию не помню… такой лопоухий. С тех пор мне встречалось много Марков. Детей, которые начинали дразнить других раньше, чем кто-то стал бы дразнить их самих. Чего я не понимал, так это зачем вообще над кем-то смеяться.
– Я привык, – сказал я. – Но они, кажется, ко мне никак не привыкнут.
Она зажгла следующую сигарету, выдохнула дым в морозный эфир, и я снова от всей души пожалел, что она не бросила курить.
Через дорогу шла симпатичная парочка, держась за руки. Увидев меня, они быстро отвернулись.
… …
– Иногда мне кажется, это лучше, чем жалость.
Мэд сняла с языка обрывок фильтра:
– Что?
… …
Я часто спорил с собой. Обычно стоя в душе, но случалось где угодно. Не уверен, что это нормально; скорее нет, чем да. Однако что поделать. Я выбирал одну из точек зрения и спорил с собой до посинения. В бесконечном выборе между насмешкой и жалостью я вкратце так сформулировал для себя аргументы: насмешки часто бездумны, но намеренны; жалость же, напротив, хорошо продуманна, но не намеренна.
Я все еще слышал их смех, чувствовал неприкрытое отвращение Попса и его нелепой команды.
Насмешки сильно задевают.
Я наблюдал за привлекательной парочкой: они шли, глядя прямо перед собой, стараясь не смотреть в мою сторону.
Жалость тоже сильно задевает.
Так что же задевает сильнее? Ладно, тут легко: это определенно насмешки, но вопрос в другом. Какая кому разница? Это как спросить, что ты предпочтешь – чтобы тебе вломили дубиной или железным ломом? По-любому окажешься на земле, и могу поспорить, тебе будет совершенно начхать на физические свойства обоих орудий.
– Вик?
– Что?
– Ты что-то завис.
Я кашлянул:
– Знаешь, тебе правда лучше бросить курить.
Мэд затоптала сигарету и посмотрела на меня фейерверками глаз. В них было что-то абсолютно противоположное и насмешке, и жалости. Меня поразила ее утренняя красота. Она была совсем иной, не такой, как вечерняя. Сам не знаю. У Мэд было много разной красоты, и иногда она была связана со временем. И вся эта красота вынуждала меня делать такое, чего я никогда не делал раньше.
Было много всего, чего я никогда не делал раньше.
МЭД
Из «Фудвиля» до Святого Барта было минут пятнадцать пешком. И почти все это время я наблюдала, как Коко ест мороженое из ведерка, временами восхищенно поглядывая на браслет РСА или вытягивая руку под неестественными углами, чтобы браслет заметили прохожие. Баз всегда предупреждал, чтобы мы не привлекали к себе слишком много внимания. Поэтому вместо того, чтобы объявить о нашей организации окружающим, Коко тихо сообщила Вику, что люди вокруг «начнут осознавать», что Ребята с Аппетитом – не просто кучка оборванцев, но компания, «которой не чужды моральные принципы».
Понятия не имею, где она набирается таких выражений, но слушать ее – одно удовольствие.
Церковь стояла поодаль от дороги, окруженная мертвым кустарником и деревьями. Зима схватила растительность в свои крепкие мертвые объятия, чтобы потом отпустить. На территории царил какой-то священный дух пустоты, словно церковь была конечностью, отрезанной от здорового тела. Старое каменное строение по форме напоминало огромный треугольник: широкое у основания, оно кверху сужалось, как рождественская елка на детском рисунке. Сильно наклонная крыша, за исключением одного края, где прямо в небо поднималась звонница. Чем ближе мы подходили, тем очаровательнее казалась церковь, такая прекрасная и живописная на мрачном зимнем фоне.
Мы пробрались через засыпанную солью парковку. Единственным автомобилем был старый синий автобус со словами «Божьи гуси», написанными красной краской на боку. Под буквами во всю длину тянулся рисунок. Видимо, он должен был изображать гуся, но вышло похоже на мохнатый самолет.
Я протянула руку и потерла гусиную шею на ходу:
– Объявляю тебя самым уродливым автобусом на земле. Заз щелкнул пальцами.
Мы прошли по заснеженному газону и добрались до парадного входа. У самой двери Коко издала слабый стон и наклонилась вперед, уперевшись ладонями в колени.
– Кокосик, что такое?
– Что-то мне нехорошо…
Баз закатил глаза:
– А я предупреждал, чтобы ты не ела все мороженое сразу. Коко покачала головой:
– Это все натуральные ароматизаторы.
Я попыталась сдержать улыбку, но у меня не получилось. Вик приоткрыл тяжелую красную дверь и сунул голову внутрь:
– Тут есть скамейки. Можешь прилечь.
– О-о-о-ох, – стонала Коко. – От анальных секретов у меня геморрой.
Я хмыкнула:
– Странно, конечно, но, мне кажется, эту фразу произносят не в первый раз.
– Коко. – Баз покачал головой. – Мы уже говорили об этом. Ты сама виновата.
И правда, они уже обсуждали отсутствие самоконтроля Коко, когда дело касалось мороженого. Она не впервые доводила себя до плачевного состояния, отчего страдала не она одна. Никто так не умел упиваться страданиями, как Коко.
– Эй, – сказала я, решив, что, если смогу ее рассмешить, это разрядит обстановку. – Как думаете, у астероидов бывает геморроид? – Я поняла руку и потрясла ею в воздухе. – Космический геморро-о-о-ой!
Коко приложила руку тыльной стороной ладони ко лбу и откинула волосы драматическим жестом:
– Идите без меня. Моя песенка спета.
Баз опять закатил глаза и подхватил ее на руки. Мы с Виком придерживали дверь.
Внутри у Святого Барта было холодно и старо: высокие потолки сходились в одной точке; темные деревянные скамейки, витражи на окнах и изображения мужчин в платьях в каждом уголке. Повсюду пыль. Церковь словно застыла во времени, нетронутая человеком, одинаковая ныне, присно и во веки веков, аминь. Невероятно старо-новая.
– Одновременные чрезвычайные противоположности, – сказала я.
Вик снял шапку и откинул голову назад, пока прическа Содапопа не коснулась рюкзака. Я тоже подняла взгляд и увидела фреску: рай и ад. Ангелы с одной стороны, черти – с другой.
– Одновременные чрезвычайные противоположности, – согласился он.
Баз помог Коко прилечь на скамейку и прошел вперед, где встал на колени в тени огромного свисающего со стены креста. Заз подошел к пятиметровой картине с изображением пухлого бледного святого, а мы с Виком прошли вдоль скамеек, прошли мимо закрытой двери с надписью «Церковная администрация». Мне эта надпись показалась забавной: маленькая современная деталь в мире древности. Мы подошли к кафедре. Баз стоял на коленях, закрыв глаза, сложив на груди руки. Его губы быстро двигались в жаркой молитве. С другой стороны помещения площадка вела к темной лестнице.
– Может, сверху будет видно колодец желаний, – сказала я, направляясь к двери.
Вик бросил на меня полный сомнения взгляд, но все равно пошел следом. И, словно без этого в церкви не хватало таинственной торжественности, ступени заскрипели у нас под ногами. Мы словно очутились в серии «Скуби-Ду». Мы шли, перешагивая через две ступеньки, пока не добрались до верха.
– Эй, – шепнула я, прорезая голосом чернильную темноту.
– Эй, – отозвался Вик.
– Тут есть дверь.
– Ладно.
– А чего мы шепчем?
– Я шепчу, потому что ты шепчешь.
– Ладно. Сейчас я открою дверь.
– Подожди, – прошептал Вик.
– Чего?
– Не знаю… Просто подожди.
– Ладно.
Мы помолчали пару секунд; тишина просочилась в воздух, подобно пару; от нее темнота лестничной клетки казалась еще черней.
– Все хорошо? – спросила я.
– Ага. Просто странно тут как-то. Теперь можешь открыть.
– Точно? Ты уверен?
– Да.
Мы шагнули в дверь, на старинный пол звонницы, и я инстинктивно подняла руки, чтобы защитить глаза от солнца. Вик не поднимал головы, заслонив глаза ладонью, и я попыталась представить, до чего мучительно сейчас было бы не моргать. Когда глаза привыкли, я обозрела окрестности: каменные стены поднимались вокруг нас кругом и сходились куполом над головой. Через каждые пару метров располагались широкие окна, и в самом центре висел огромный ржавый колокол. Он напомнил мне Колокол Свободы с фотографий, напомнил старинную реликвию, напомнил о десятилетиях, которые он провисел без дела. Мы подошли к одному из незастекленных окон, и я почувствовала себя часовым на вершине средневекового замка, который ожидает вестей о далекой битве.
– Так красиво… – сказал Вик.
Я повернулась и увидела, как он выглядывает наружу, все еще заслонив глаза, но как-то более расслабленно, что ли.
Пейзаж, подумала я. Он говорил про пейзаж. Странно, до чего это меня разочаровало. Я надеялась, он говорил обо мне.
Мы помолчали с минуту. Окружающий вид говорил сам за себя. Он говорил о полях и деревьях, таких очаровательных в своей зимней смерти. Он говорил о кроликах и птицах, которые остаются зимовать в эти самые древние месяцы года. Он говорил о ярких одеялах снега, простирающихся на многие мили, как пуховое одеяло или зефирный крем. Мне хотелось заползти под это одеяло, и мне хотелось съесть горы этого зефира. Мне хотелось присоединить свой голос к этой зимней беседе.
Я боюсь, сказала бы я.
Чего, спросила бы зима.
Я боюсь за Джемму, и за себя тоже. Я боюсь за наше будущее, боюсь, что у нас его не будет. Боюсь, что у меня так много персон, что я никогда не стану собой. Довольно ли этого, Зима? Достаточно причин, ты, сукина дочь?
Я смотрела на зимнюю панораму. На эту беседу, к которой мне никогда не присоединиться. Внезапно я поняла, как мне хочется прервать этот разговор.
Словно прочтя мои мысли, Вик сказал:
– Вот.
Я повернулась. Он стоял у гигантского колокола, обхватив канат обеими руками. И пока он так стоял, в его глазах было что-то… Я не могла объяснить. Было похоже, что Вик – это чистый лист бумаги, а я – перо, и в любой момент я могу написать свою историю на его лице. Там, где не было улыбки, я увидела улыбку. И в своем сердце, где был страх, я почувствовала ошеломленную дрожь отваги. И в полях, где кролики, птицы и пушистая земля вели свою ускользающую беседу, я поняла, как именно все прервать.
Я взяла канат в руки и улыбнулась Вику.
Я улыбнулась для Вика.
Манифест Мэд гласит: колокола очень громкие.
ВИК
Когда-то давно я посчитал. (Это было еще до того, как я нашел утешение в числах; тогда еще я плохо считал. Но калькулятор зато всегда считал хорошо.) Предположим, в среднем человек спит 8 часов в день и, следовательно, бодрствует в течение 960 минут, или 57 600 секунд, в день. Предположим, в среднем человек моргает каждые 5 секунд; получается 11 520 морганий в день. Предположим, что каждое моргание длится в среднем 0.1 секунды. Получается, он тратит на моргание 1152 секунды в день, что равняется 19,2 минуты. Умножим на 7 дней в неделе, потом на 52 недели в году. Средняя продолжительность жизни составляет 78 лет, и в итоге получается 9085,44 часа в среднем моргает человек за жизнь.
Дальнейшие вычисления приводят к 378,56 дня.
54,08 недели.
1,04 года морганий.
В среднем человек за время бодрствования проводит чуть больше года с закрытыми глазами.
Много лет я расстраивался и горевал о том, что отличаюсь от других. Глядя в зеркало, я видел только абстракции. В моем существовании не было ничего величественного. Я не понимал, как находить преимущества в своих недостатках. Я не видел красоты, что тихо вскипала внутри.
Пока что не видел.
А папа видел.
Вот поэтому он и дал мне калькулятор.
* * *
Мэд выпустила из рук канат и закрыла уши ладонями. Я сделал то же самое, от души жалея, что забыл дома солнцезащитные очки. Колокол разливал звон от истоков в своей маленькой каменной башне наружу, в снежные поля и по всему Хакенсаку. Я представил себе вот что: стая птиц множится, множится, заполняет улицы города, в полете поет одни и те же две ноты.
Чик-чирик! Чик-чирик! Чик-чирик!
Мэд подошла на шаг ближе.
Эти серые глаза моргнули в десятке сантиметров от меня. Потом еще. И еще. Я наблюдал за ней, пытаясь не злиться на прерывистое захлопывание век. Совсем как учил меня папа, я нашел преимущество в своем недостатке.
А колокол звонил.
И птицы пели. И все ближе подходила Мэд.
. . .
Давным-давно я смирился с возможностью прожить жизнь, не испытав ни одного поцелуя. Отсюда следовали все кивки и односложные ответы. Особенно часто они появлялись в разговорах с уникальными, умными, теми, кого я находил хорошенькими. (Если верить журналам и кино, были значительные расхождения между теми, кого я находил хорошенькими, и теми, кто считался хорошеньким в принципе. Ну и ладно.) И вот рядом стоит Мэд – уникальная, умная, хорошенькая по-моему.
Да, беспоцелуйная жизнь была в моем мире вполне вероятной.
Но мой мир, казалось, ширился все больше.
Время замедлилось, и я насладился еще несколькими неморгательными миллисекундами. Руки Мэд на холоде были бледно-белыми и розовыми. Они выглядели словно выдутыми из стекла. Ее желтые волосы, ее желтая шапка, серые глаза, разноцветная куртка: Мэд была палитрой. Мэд была фейерверком. Мэд была звездой, взорвавшейся мне прямо в лицо, одновременными чрезвычайными противоположностями высшего порядка.
Ее губы двигались. За ними были слова, но сквозь колокол я не мог их разобрать.
– Что? – сказал я.
Она заговорила снова, проговаривая каждое слово, чтобы я мог читать по губам.
– Сейчас я тебя поцелую, – сказали губы.
Мир моих возможностей взорвался. Или разорвался. Или с ним случилось что-то другое, для чего пока не нашли слов, но что значило: расколоться, рвануть на космическом, межвездом, межгалактическом уровне.
Мои губы ответили:
– Ладно.
И, словно в зеркале, мы вдвоем подвинулись навстречу друг другу.
Навстречу.
Какое слово.
Влажные, холодные губы снаружи. Расплавленная лава в моей крови. Застывшее, беспомощное, смущенное бессилие в моем мозгу. Дон Хуан, невероятный любовник, в моем сердце. Все улыбки, которые таились во мне, вылились наружу, в Мэд. Я чувствовал ее зубы, и я чувствовал ее язык, и я чувствовал ее губы на своих. И я протянул руку и провел пальцами по бритой стороне ее головы, почувствовал бесчисленные крохотные волоски и кожу черепа, и ее шрам, и да пошел ты, Ling, не так уж мы и похожи. И я никогда не ощущал себя таким похожим на папу, по которому я скучал и который научил меня думать сердцем.
Тысячу разных вещей подумало мое сердце, пока я целовал Мэд в звоннице.
1. Я Суперскаковая Лошадь. 2. Я Суперскаковая Лошадь. 3. Я Суперскаковая Лошадь. 4. Я Суперскаковая Лошадь. 5. Я Суперскаковая Лошадь. 6. Я Суперскаковая Лошадь. 7. Я Суперскаковая Лошадь. 8. Я Суперскаковая Лошадь. 9. Я Суперскаковая Лошадь.
10. Я Суперскаковая Лошадь. 11. Я Суперскаковая Лошадь. 12. Я Суперскаковая Лошадь. 13. Я Суперскаковая Лошадь. 14. Я Суперскаковая Лошадь. 15. Я Суперскаковая Лошадь. 16. Я Суперскаковая Лошадь. 17. Я Суперскаковая Лошадь. 18. Я Суперскаковая Лошадь. 19. Я Суперскаковая Лошадь.
20. Я Суперскаковая Лошадь. 21. Я Суперскаковая Лошадь. 22. Я Суперскаковая Лошадь. 23. Я Суперскаковая Лошадь. 24. Я Суперскаковая Лошадь. 25. Я Суперскаковая Лошадь. 26. Я Суперскаковая Лошадь. 27. Я Суперскаковая Лошадь. 28. Я Суперскаковая Лошадь. 29. Я Суперскаковая Лошадь. 30. Я Суперскаковая Лошадь. 31. Я Суперскаковая Лошадь. 32. Я Суперскаковая Лошадь. 33. Я Суперскаковая Лошадь. 34. Я Суперскаковая Лошадь. 35. Я Суперскаковая Лошадь. 36. Я Суперскаковая Лошадь. 37. Я Суперскаковая Лошадь. 38. Я Суперскаковая Лошадь. 39. Я Суперскаковая Лошадь. 40. Я Суперскаковая Лошадь. 41. Я Суперскаковая Лошадь. 42. Я Суперскаковая Лошадь. 43. Я Суперскаковая Лошадь. 44. Я Суперскаковая Лошадь. 45. Я Суперскаковая Лошадь. 46. Я Суперскаковая Лошадь. 47. Я Суперскаковая Лошадь. 48. Я Суперскаковая Лошадь. 49. Я Суперскаковая Лошадь. 50. Я Суперскаковая Лошадь. 51. Я Суперскаковая Лошадь. 52. Я Суперскаковая Лошадь.
53. Я Суперскаковая Лошадь. 54. Я Суперскаковая Лошадь. 55. Я Суперскаковая Лошадь. 56. Я Суперскаковая Лошадь. 57. Я Суперскаковая Лошадь. 58. Я Суперскаковая Лошадь. 59. Я Суперскаковая Лошадь. 60. Я Суперскаковая Лошадь. 61. Я Суперскаковая Лошадь. 62. Я Суперскаковая Лошадь. 63. Я Суперскаковая Лошадь. 64. Я Суперскаковая Лошадь. 65. Я Суперскаковая Лошадь. 66. Я Суперскаковая Лошадь. 67. Я Суперскаковая Лошадь. 68. Я Суперскаковая Лошадь. 69. Я Суперскаковая Лошадь. 70. Я Суперскаковая Лошадь. 71. Я Суперскаковая Лошадь. 72. Я Суперскаковая Лошадь. 73. Я Суперскаковая Лошадь. 74. Я Суперскаковая Лошадь. 75. Я Суперскаковая Лошадь. 76. Я Суперскаковая Лошадь. 77. Я Суперскаковая Лошадь. 78. Я Суперскаковая Лошадь. 79. Я Суперскаковая Лошадь. 80. Я Суперскаковая Лошадь. 81. Я Суперскаковая Лошадь. 82. Я Суперскаковая Лошадь. 83. Я Суперскаковая Лошадь. 84. Я Суперскаковая Лошадь. 85. Я Суперскаковая Лошадь.
86. Я Суперскаковая Лошадь. 87. Я Суперскаковая Лошадь. 88. Я Суперскаковая Лошадь. 89. Я Суперскаковая Лошадь. 90. Я Суперскаковая Лошадь. 91. Я Суперскаковая Лошадь. 92. Я Суперскаковая Лошадь. 93. Я Суперскаковая Лошадь. 94. Я Суперскаковая Лошадь. 95. Я Суперскаковая Лошадь. 96. Я Суперскаковая Лошадь. 97. Я Суперскаковая Лошадь. 98. Я Суперскаковая Лошадь. 99. Я Суперскаковая Лошадь. 100. Я сраная Суперскаковая Лошадь.
* * *
Мы спустились обратно в полутьме. Мой мозг перегревался от напряжения, перепрыгивая с одной мысли на другую, как перевозбужденный шимпанзе с ветки на ветку.
Вот что я знал: мы поцеловались.
Вот что еще я знал: мне бы хотелось, чтобы мы целовались до сих пор.
А хотелось бы этого Мэд? Ей вообще понравилось? Поцелует ли она меня снова? Наверно, нет. Наверно, я плохо целуюсь. Наверно, я целовался, как начинающий предприниматель в сфере аренды автомобилей, который носит выпендрежные костюмы и любит биографии Уинстона Черчилля. А может, и нет. Может, я чувствовал себя Суперскаковой лошадью, потому что и был Суперскаковой лошадью. Может, это, может, то, может, нет, может, да, как безумный шимпанзе по веткам дерева.
Я – человек-обезьяна.
Внизу, в святилище, Баз сидел на скамье, положив голову Коко себе на колени, а Нзази сидел за ними, уставившись прямо перед собой, словно смотрел кино.
– Что веселого? – спросил Баз.
Я посмотрел на Мэд. Она улыбалась.
Ей понравилось.
Сердце у меня так переполнилось, что могло взорваться и создать новую странную солнечную систему, чьи обитатели бы питались лишь любовью, пили только надежду и дышали только радостью.
Какая прекрасная была бы галактика.
Баз показал куда-то в глубь здания:
– Мэделин. Вик. Это отец Рейнс.
Только тогда я заметил его. В углу стоял мужчина. Даже в тусклом церковном свете я ясно видел его синие глаза, пух белых волос, дежурное сочетание из черной мантии и белого воротника. Он выглядел вполне естественно. Будто его посадили и вырастили прямо здесь, на суровом каменном полу.
Я представил себе вторую любимую картину Матисса. «Десерт. Гармония в красном», также известная как «Красная комната». Это название нравилось мне больше. На картине изображены красный стол, красная стена и красные стулья. За красным столом сидит женщина, и вокруг нее сквозь красную красноту сочатся стволы, ветви, листья. Это немножко странно и чуточку пугает, но одновременно кажется естественным, потому что, разумеется, жизнь на картине произрастает из красноты. Где еще ей расти?
И конечно, отец Рейнс произрос из церкви. Где ему еще было расти?
Он кашлянул и посмотрел сначала на Мэд, а потом на меня.
– Я вижу, вы уже познакомились с Железной Девой? – Он указал пальцем вверх, и на секунду я подумал, что Железная Дева – это такая странная метафора для Бога. – Колоколом, – пояснил он. – Я назвал его в честь любимой группы. Хотя, честно, даже жаль, что он из железа. Лучше бы из бронзы. А то заржавел весь.
– Ваша любимая группа – «Iron Maiden»? – спросил я.
– Ну, их ранние работы, – сказал святой отец, выдергивая рясу из пола, точно корни из земли, и лениво шагая к скамейкам. – Поздние альбомы – полная чушь, не находишь?
Мы таращились на старика, словно он был экспонатом в музее. Хотя нет. Мы таращились на него, словно он был викарием, который разбирается в дискографии «Iron Maiden». И, хотя это казалось совершенно невозможным, было в нем что-то очень знакомое. Не могу понять, где же я его видел.
– А этот ваш автобус снаружи… – сказала Мэд. – Божьи утки?
У отца Рейнса загорелись глаза.
– Божьи гуси – это миссия. Каждый год в декабре мы отвозим нескольких бездомных из Хакенсака на юг, перезимовать.
– Вы мигрируете, – сказала Мэд.
– Северная зима – свирепый хищник для бездомных, особенно для тех, кто постарше. Именно поэтому Национальная Коалиция поддержки бездомных направила нас в одну организацию в Тампе, которая занимается дешевым жильем и медицинской страховкой. Может, я не смогу наладить их жизни, но я могу проследить, чтобы они не замерзли до смерти. Я расклеил плакаты в местных ночлежках и пригласил бездомных на проповедь в это воскресенье днем, после чего у нас будет обед со сбором средств на бензин и дорожные расходы. Мы отправимся ровно в четыре. Точность – это забытое искусство, вы не находите?
– Долго ехать? – спросила Мэд.
– Со мной поедет один прихожанин, и будем вести автобус по очереди. На самом деле я даже предвкушаю эту поездку. Ну, так или иначе. – Он всплеснул руками, словно отбрасывая эту мысль. – Мистер Кабонго сообщил мне, что вы ищете колодец желаний.
– Ага. – Я покачал головой. – Простите. Не хотелось тратить ваше время напрасно.
– Так вы и не потратили. Он тут, сзади.
… …
– Что тут? – спросил я.
– Колодец желаний. Хотя должен сказать, что сейчас он замерз.
…
Мы обменялись взглядами. Потом Баз встал, поднял Коко, и мы пошли по проходу.
– Спасибо, святой отец. Мы не задержимся.
Отец Рейнс кивнул и побрел вдоль стены, пробегая пальцами по камням. Он направился к двери с табличкой «Церковная администрация». Внезапно я понял, где видел его раньше.
– Вы были на фотографиях, – сказал я, преследуя его вдоль скамеек.
Отец Рейнс остановился у самой двери, и ряса его всколыхнулась от этой внезапной остановки.
– Мои родители поженились здесь. Бруно и Дорис Бенуччи. Давным-давно. Вы, наверно, не помните.
Священник посмотрел на меня пристальным взглядом;
совсем не так, как до этого, словно пытаясь разглядеть в моем лице родительские черты. (Я и сам провел за этим занятием много часов, но так ничего и не добился. Мои черты были островом, который был сам по себе.)
…
– Дорис хотела свадьбу на природе, – сказал он.
Мамино имя так легко слетело у него с языка, словно он произносил его так часто, что натренировался.
– Что? – не понял я.
– Люди многое помнят, по самым разным причинам. Я вот – так уж получилось – помню все свадьбы, которые когда-либо проводил. Твоя мама сказала, что хочет пожениться у воды, где угодно, хоть в самой завалящей лагуне. Но ее мама – твоя бабушка – и слышать об этом не хотела. Как она тогда сказала? Ах да. «Настоящая церковь для настоящей свадьбы».
Я слышал его и почувствовал себя вот как: малый мальчик, который несет чемодан где-то вдали, на горизонте. Граница между моей Страной Чего-то и Страной Ничего стремительно сокращалась.
– Твоя мама вся сияла. Я всегда чувствовал, как заразительна радость невесты, знаешь ли. И судя по виду твоей мамы, гости должны были просто с ума сходить от веселья. Сам-то я вполне сходил. И вот как раз когда я собирался начать церемонию, твой папа повернулся лицом к присутствующим, сказал: «Давайте все за нами» – и схватил твою маму за руку. Они вышли вот в эту дверь. – Он показал на дверь за спиной База. – Гости были озадачены, но, мне кажется, еще им было очень любопытно, в чем же дело. Две главные причины, почему они вообще пришли сюда, только что исчезли через заднюю дверь. Что оставалось гостям, как не пойти за ними? Мы с твоей бабушкой вывели всех наружу и там увидели твоих родителей. Они стояли, держась за руки, у колодца желаний. В тот день твоему отцу удалось почти невероятное: оставить довольными будущую тещу и будущую жену. Они поженились на церковной территории и одновременно у воды.
– Этого не было на фотографиях. Колодца желаний.
Отец Рейнс улыбнулся от самых корней до верхних веточек своих пушистых волос. Он встал на одно колено и прошептал финал истории.
– Ты не поверишь, но, когда я провозгласил их мужем и женой, полил дождь. Словно сам Господь Всемогущий решил исполнить желание твоей мамы пожениться у воды. Все фотографии сделали внутри. – Он склонил голову набок. На лице его расцветала широкая улыбка.
– Что такое?
Отец Рейнс выдернул из пола свои корненоги и сказал:
– Вы выглядите в точности как они. – И заперся в администрации.
Я обернулся и увидел своих юных родителей: они целовались, смеялись, любили, жили. А ведь я сам только что впервые поцеловался – и это в церкви, где их поженили. И ведь мы уже нашли четыре из пяти мест в папином списке. И ведь впервые со времени его смерти я почувствовал себя частью семьи. Много что можно было сказать, и, если бы не комок у меня в горле, я бы и сказал. Но рюкзак оттягивал мне спину весом тысячи кирпичей, и тяжелый стук сердца не затихал ни на секунду, и я не слышал чудес прошлого за фактами настоящего.
Факты Настоящего таковы:
1 По миру, вероятно, разбросаны тысячи крошечных колодцев желаний: того, чего я не знаю и никогда не узнаю о родителях.
2. Потому что не важно, насколько я хорошо их знал: у них была жизнь и до меня.
3. А еще было похоже, что жизнь до меня у них была гораздо лучше, чем со мной.
МЭД
Я пошла за Виком через заднюю дверь и заковыляла по снегу, через снег, над снегом упавшим и под снегом падающим. Какая метель из предлогов. Мы миновали тщедушные деревья и высокие шипастые кусты и, протолкавшись через заросли вьющегося винограда, наконец оказались у заброшенного колодца желаний. Замерзшего, как и предсказывал отец Рейнс. Колодец был похож на кострище: маленький, круглый, каменный. Под верхним слоем льда виднелись монетки. Они остались лежать здесь до марта, апреля или когда там воде будет угодно растаять в этом году.
Баз поставил Коко на землю, и мы все взялись за руки вокруг замерзшего колодца. Прежде чем взять меня за руку, Вик встал на колени, расстегнул рюкзак и достал отцовскую урну. Он склонился над колодцем и со всей силы нажал локтем на пелену льда.
И внезапно я вспомнила фотографию со свадьбы собственных родителей: мама с папой стоят у церкви, он наклоняется к ней и целует взасос. Мамина вуаль развевается белым флагом. Я попыталась представить себя рядом с ними на фотографии. Где бы я стояла? Что бы делала? Потом я мысленно перенеслась куда-то над церковью, в самое святилище времени. Но я не смогла его представить. Я видела фотографии, но себя на них вообразить не могла.
А Вик делал это прямо у меня на глазах: примирял прошлое с настоящим. Брал искусственные воспоминания и располагался в них. Он ясно видел, что могло было быть.
Вик не смотрел в колодец. Он смотрел на счастливое начало, когда уже знал несчастливый финал.
– Ты злишься, Удав? – спросила Коко, очевидно оправившись от натуральных ароматизаторов. – А ты вообще в курсе, что желать плохого у колодца желаний – это, типа, плохо?
– Коко, – сказала я, мысленно приказывая ей заткнуться.
– Что?
– Все в порядке, – сказал Вик. – Я не злюсь. Просто это странно.
Он довольно бесцеремонно швырнул пепел сквозь маленькое отверстие во льду, и дело было сделано. Хотя он ничего не сказал, он все равно взял мою руку и руку Заза. Сплоченные вокруг колодца, мы стояли на холоде, пока кто-то не нашел правильных слов:
– И назвались они Ребята с Аппетитом, и они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо.
Мы с Базом повторили:
– И увидели, что это хорошо.
Если Вик тоже произнес эти слова, я его не расслышала.
ВИК
Не то чтобы я проснулся в тишине; тишина была тем самым, из-за чего я проснулся. Я два года засыпал под включенный айпод и звуки оперной колыбельной на повторе, и два года я просыпался к парящим сопрано. Но не в этот раз.
Я повернулся на диване, вынул наушники и постучал по задней стенке айпода. Это была старая модель, и батарейка держала заряд не очень долго. Прям свезло так свезло, если учесть, что я оставил зарядку дома вместе с телефоном, зубной щеткой и солнцезащитными очками. Лежа в темноте, я прошелся по списку всего, что надо было взять, если бы я не покинул дом в состоянии паники. И тут через комнату до меня донесся тихий щелчок.
Открылась дверь парника. Кто-то вошел – или вышел. Я посмотрел на спальники: Баз, Нзази, Коко…
Мэд исчезла.
Я опустил ноги на землю. Вторую ночь подряд я был рад своему новому спальному наряду: кофта с капюшоном, метсики, ботинки. Я прошел между спальниками и на цыпочках стал пробираться по тропинке, осторожно избегая шатких камней, натянул куртку и шагнул наружу.
Я стремителен и тих. Я малозаметный истребитель.
Я тайный агент, шпион, быстрый и бесшумный.
Я прошел мимо ряда парников, через канал «У золотой рыбки», где бесцельно плавал, ни о чем не тревожась, Гарри Конник Младший-Младший. По другую сторону моста я увидел кроссовки Мэд: они пробирались под забором. Мне нужно было обождать, пока она не перейдет дорогу, иначе меня могут заметить. Я досчитал до десяти, добежал до того же места, лег на землю, взмолился, чтобы она не услышала звяканья цепи, и по-пластунски прополз на другую сторону.
Быстрый. Тихий. Шпион. Призрак.
Впереди Мэд свернула на прилегающую улицу. Даже такой профан, как я, знал, что надо сохранять дистанцию.
Поначалу она пошла по той же улице, где мы были вчера, в сторону дома бабушки и дедушки. Но через пару кварталов она свернула. Я тихо и незаметно последовал за ней, прошел мимо тьмы домов, знакомых мне с былых дней. Тогда я долго гулял, избегая бесконечной игры в бильярд, часов с кукушкой и повышенных сексуальных импульсов у пожилых людей.
Стремительный. Скрытный. Секретный. Сноровка. Скорость.
Я чувствовал, что улицы Нью-Милфорда совершенно не тревожила жизнь его ночных обитателей. Спали не только жители, спали дома, дороги, тротуары. Погода, казалось, понимала, что происходит: ветер дул резче, воздух холодил сильнее, ночь опускалась темнее. Я поднял воротник куртки, закрывая им низ лица.
Идеальные условия для секретной операции.
Мэд шла, не торопясь. Такая, знаете, ленивая, беспечная походка. Через несколько кварталов она внезапно остановилась и развернулась на сто восемьдесят градусов. В последнюю секунду я успел спрятаться за ближайшим снеговиком, попутно отбив ему нос-сосульку. Я подождал там, у чьего-то дома, прижавшись спиной к месту, где у снеговика был бы пах, если бы у снеговиков вообще был пах. Я сосчитал до двадцати, чтобы уж точно не выйти раньше времени и не сорвать операцию. Да славится этот снеговик. Этот человек из снега.
Снего-Вик.
. . .
Я поднял голову над его цилиндром и как раз увидел, как Мэд идет через передний дворик к крыльцу какого-то дома. Я в изумлении наблюдал, как она взобралась на ступеньки, открыла дверь и скрылась внутри.
Дом, куда зашла Мэд, совсем не подходил под окружающую обстановку. Метрах в двадцати от дороги и в пятнадцати от домов с обеих сторон. Выглядел он так, словно место ему в деревне, а не в пригороде. В одной из передних комнат мигнул свет, и тень – возможно, Мэд – пересекла эркерное окно. Сейчас или никогда.
Я распрощался со снежным тезкой и последовал по стопам Мэд. У самого дома я скользнул через двор к переднему эркерному окну и погрузился правой ногой в ливневый сток, спрятанный под снегом. Я отряхнул ногу, переступил за сток и приложился лицом к стеклу, где занавеска неплотно закрывала вид. У самого края. И заглянул внутрь.
Стремительный. Скрытный. Секретный. Сноровка. Скорость.
Это была гостиная. Вернее, эта комната в прошлом была гостиной. Полы завалены журналами и банками из-под газировки; сервировочные столики завалены стопками бумажных тарелок. Стены ничуть не лучше: грязные зеркала, скособоченные рамы, на картинах столько пыли, что я не мог разглядеть изображений. Только один предмет в комнате сиял чистотой: стеллаж для ружей.
Я ничего не знал о ружьях. Но эти выглядели очень солидно. Они не были похожи на винтовки из разряда объятий сбоку. У двух, современного вида, были оптические прицелы; остальные казались антиквариатом. Но все как одно блестели. Это навело меня на мысль… наверно, нужно приложить уйму сил, чтобы вычистить хоть один предмет в такой загаженной комнате.
Рядом со стойкой висели рога, которые, как я предположил, раньше украшали оленью голову. Но точно я сказать не мог. Рога были длинные и острые; они ветвились в разные стороны, словно плотная паутина.
Рога и ружья.
Так себе домишко, если спросите меня.
Мэд вошла в темную гостиную, сняла куртку, повесила на рога и исчезла в соседней комнате. Через несколько секунд она появилась снова с банкой газировки и пачкой чипсов. Я наблюдал, как она лавирует по комнате, стратегически избегая коробок из-под пиццы и использованных бумажных салфеток, словно те были минами.
Она плюхнулась в кресло в углу, нацелила пульт в телевизор и затопила комнату синим светом. В гостиную, шаркая тапками, вошла старушка с банками кока-колы в обеих руках.
– Привет, Джемма, – донесся через стекло голос Мэд.
Какие тонкие рамы! Звук лишь слегка приглушен, но слова четко слышно.
Старушка села на диван, ничего не ответив. Она с легкостью открыла обе банки и стала прихлебывать из них по очереди: левая, правая, левая, правая, – с кока-колой представление всем на удивление. Я стоял как вкопанный, наблюдая, как они смотрят телик и пьют колу. Будто это совсем привычное для них дело.
Третий человек вошел в комнату, такой же растрепанный, как и его дом. Я затаил дыхание. Он выглядел точь-в-точь как моя любимая картина Матисса «Автопортрет в полосатой футболке» (видимо, это значило, что мужчина похож на самого Матисса). Волосы у него на макушке поредели и совсем исчезли со лба. У него была кустистая борода, резкие очертания бровей, большие уши и большой нос, словно черты лица все росли-росли и не знали, как остановиться. Но больше всего выделялись огромные пустые глаза. Как и в картине, в них было что-то пугающее.
– Задолбала эта хрень, – сказал мужчина, проходя по комнате, точно пьяный медведь.
Мы с Мэд и Джеммой наблюдали, как он спокойно снял винтовку со стены и резко ударил рукояткой в экран, разбивая его на бурю танцующих огоньков, проводков и стекла. Мужчина повернулся. Ружье свисало у него из левой руки.
– Ты, – сказал он, тыча пальцем в Мэд. – Что я тебе говорил, на хрен? Мне завтра рано на охоту. Не хватало только чертова телика в три ночи.
Я весь онемел, и вовсе не от холода. Я отправился в свою Страну Ничего и представил, как бы выглядела картина этой сцены. Она бы называлась «Автопортрет мужчины, разрушающего телевизор».
Даже Матисс не смог бы создать из этого красоту.
– Ну? – сказал Автопортрет.
Мэд тихо кашлянула:
– Вы правы. Простите, дядя Лес.
Я воспарил над собственным телом высоко в небо, откуда посмотрел на Вика и увидел, как он разворачивается, спотыкается и бежит обратно к парнику. По пути он подобрал нос-сосульку, отодвинул браслет РСА и продлил крошечные, ведущие в никуда дорожки.
– Не слишком глубоко, – сказал Вик на бегу.
А бежал он долго. Когда добежал до парника, Вик отдышался у двери и медленно распахнул ее, стараясь никого не разбудить. Он на ощупь пошарил по полке Маловероятных вещей, вынул старые джинсы и, стараясь не касаться пятна свиной крови, протер собственную кровь, пока та не перестала течь. Это заняло немало времени, а потом он лег на диван. Спалось ему в ту ночь неважно: сны были полны плутаний, болезненных тропинок, пустоглазых дядей с рогами, растущими прямо из головы, и пузырящихся потоков кока-колы.
Он почти не спал.
МЭД
У моего дяди была уникальная способность оставлять за собой свою тень. Он проковылял из комнаты уже несколько минут назад, но чертова тень осталась темной пеленой в и так темной комнате. Я таращилась на старый телевизор, превратившийся в жалкую деревянную коробку, и впервые не знала, что же мне делать.
– Давай, Джемма, – сказала я, с трудом вставая с дивана. – Отведем тебя в кровать.
Хорошее начало. Довести бабушку до кровати. Микро-решение микропроблемы. Приятно было принять какое-то решение.
Джемма хлебнула колы из одной банки, потом из другой. – Но я хочу пить!
– Ты всегда хочешь пить, – сказала я и нагнулась, чтобы подхватить ее под локоть.
– Не надо мне помогать. Я старая, но сильная, как…
– Сильная, как бык, знаю, знаю. – Я сложила руки на груди и с улыбкой наблюдала, как она встает без посторонней помощи.
Это правда: для женщины ее лет сил в ней было на удивление много. Мы остановились на кухне, чтобы поставить одну из банок в холодильник. Потом в ванной, где я помогла ей сесть на унитаз (и опять для этого потребовались некоторые уговоры).
Джемма жила с нами, когда умерли родители; дядя Лес не был ей сыном, поэтому, если бы не я, ее бы здесь не оказалось. Но приличный дом престарелых стоил дорого, и мы были ее ближайшими родственниками. Дядя Лес мог поместить ее в государственное учреждение (там уход не стоил почти ни гроша), но он не стал. И я знала почему.
Джемма могла сама о себе позаботиться, но, когда я была дома, чувство вины брало надо мной верх, и я раз за разом нянчилась с ней, причем больше, чем, видимо, было необходимо. Главные проблемы у нее были с головой, а не телом, и тут я была практически бессильна.
Мы подошли к комнате Джеммы, и я помогла ей забраться в кровать. Она поставила вторую банку колы на тумбочку и взяла рукавицы, которые вязала с самого Сотворения мира.
– Я почти закончила.
Сколько помню, она всегда «почти заканчивала» вязание, но я все равно кивнула ей с улыбкой:
– Выглядят очень уютно, Джемма.
– Знаешь, у меня всегда такие холодные руки. И я вечно хочу пить.
Это было как вечное перетягивание каната: когда я была там, мне хотелось уйти, но когда я уходила, мне хотелось вернуться. Где бы я ни была, я всегда была не там, где надо.
Я присела на край кровати, взяла недовязанные варежки и положила их обратно на тумбочку. Ей нравилось лежать на взбитой подушке; я взбила ей подушку. Ей нравилось лежать головой по центру подушки, я помогла ей перелечь точно в центр.
– Как дела в институте, Мэделин? – На ее милом лице я увидела следы ее былой личности – там, где обычно была лишь смутная пустота. – Как там он называется?
Это был ее самый светлый момент за многие месяцы. Она не только вспомнила, что мне полагается быть в институте, но и имя мое не забыла. Обычно рекордом было, когда она узнавала меня в лицо, но это… удивительное просветление.
– Бергенское училище, – тихо сказала я.
– Бергенское училище. Какое прелестное название, солнышко.
Я кивнула, пытаясь сглотнуть ком в горле, а потом склонилась и поцеловала ее в лоб. Странно: я так привыкла, что меня забыли, что такие моменты давались мне очень, очень тяжело.
По пути наружу я оставила дверь приоткрытой: вдруг ей что-нибудь понадобится? Моя комната была с другой стороны коридора. Она ни разу не позвала меня за всю жизнь, но мне было приятно думать, что между нами нет преград. Если я ей понадоблюсь, то узнаю об этом. Я забралась под одеяло и включила ночник у кровати. Ярко-красный абажур расплескал по комнате свет, словно по картине. Я попыталась читать, но мысли уносили меня к маме. Я вспоминала, как она пела, когда готовила еду. Держала половник как микрофон… Еще я вспоминала, как мы наряжали рождественскую елку: вешали игрушки в одном и том же порядке каждый год. Я подумала про папу. О том, как он любил меня: тихо, по-своему. В его объятиях я слышала любовь куда громче, чем в его голосе. Я подумала про Джемму… какой она была до того, как проявилась деменция. Мама моей мамы. Они были неразлейвода. Вечно разыгрывали кого-то или шушукались в соседней комнате.
Мы были семьей, в которой все друг друга знали.
А теперь у меня был дядя Лес. Папин брат, хотя у них не было совершенно ничего общего. На диаграмме Венна с областью А = {Официальные Опекуны Мэд} и областью В = {Люди, Которым Насрать На Мэд} область пересечения = {дядя Лес}.
Дядя Лес не всегда был таким. У меня были воспоминания о нем, картинки из далекого прошлого, которые подтверждали его человечность. Но теперь они ничего не значили. Теперь я была здесь. И Джемма была здесь. И здесь, сейчас, у нас не было никакого будущего.
Макропроблемы.
Я выключила красный свет. В этой новой тьме я перевернулась на бок и закрыла глаза. И стала слушать. Через коридор раздавался мягкий ритмичный звон бабушкиных спиц. Она трудилась над варежками, которые, наверно, никогда не закончит. Из-за другой стены – из дядиной комнаты – тоже слышались звуки. Приглушенные ругательства, мерзкие голоса, изредка – тихий, глубокий стон. Он всегда рыдал в пьяном забытьи, прежде чем завалиться спать на полу.
Таковы были его ежедневные привычки.
Скрывшись в относительной безопасности сомкнутых век, я вспомнила день задолго до аварии, когда мама с папой были живы и все предметы были реальными. В тот день нас рано отпустили из школы: учителя уезжали на семинар по повышению квалификации. Было около полудня, а значит, родители были на работе. Я пошла домой пешком. Приближаясь к дому, я услышала из раскрытого окна музыку и увидела машину дяди Леса на подъездной дорожке. Мне это показалось странным. Он нас почти никогда не навещал. Я взошла на крыльцо и распознала голос: пела мамина любимая певица Джоан Баэз. Звук был включен на всю катушку. Я открыла входную дверь, вошла внутрь и получила ценный урок: мир громаден, а я совершенно ничтожна. Истина меняется со страшной скоростью. Я ничего не знаю о людях, которых люблю.
Дядя Лес стоял у нас на кухне, облаченный в пару бежевых трусов и ничего более. Он стоял ко мне спиной: родинка на левой лопатке, потный блеск кожи. Склонившись над раковиной, он пил апельсиновый сок прямо из коробки, и тонкие струйки бежали по его лицу и стекали в слив. Джоан Баэз пела так громко, что он меня не услышал. И как раз когда я собиралась спросить, какого черта он тут делает, из спальни дальше по коридору раздался мамин голос. Она сказала только одно слово: «Лестер», но этого было более чем достаточно. Я развернулась, вышла из нашего дома и не возвращалась до самого ужина, когда меня уже заждались, когда заставили замолчать Джоан Баэз, когда никто больше не стоял у нас на кухне в белье, попивая апельсиновый сок прямо из коробки, словно этот сраный сок принадлежал ему, а не нам.
Этот сраный апельсиновый сок принадлежал не ему.
Из-за стены раздался грохот: мой дядя, не изменяя привычкам, рухнул на пол. Он не знал, что я знаю. И мама не знала. Я была рада. По крайней мере, она умерла, не зная, что я знаю о ней самое плохое. По крайней мере, дядя Лес чувствовал свою вину и поэтому не поместил Джемму в отстойный дом престарелых. Но мне остался тот же самый вопрос.
Я открыла глаза в темноте. «Что же мне делать?» Темнота, как всегда, ответила мертвым молчанием.
Семь Разные чудилы джерсийского пригорода, или Будь скаковой лошадью
Комната для допросов № 3
Бруно Виктор Бенуччи III и сержант С. Мендес 19 декабря // 18:48
«Женщина на табурете» Матисса.
Вот о чем напоминает мне эта комната.
…
– Вы любите искусство, сержант Мендес?
Она прикладывается к кофе и откидывается на спинку стула:
– Конечно.
– А вы знали, что Матисс и Пикассо дружили? Вернее, не то чтобы прямо дружили, но… они толкали друг друга к величию.
– Не знала.
– Раньше, когда вы читали мое дело, то заметили, что я одержим абстрактным искусством. Знаете почему?
Она качает головой.
– Я люблю его, потому что лишь там красота и уродство могут значить одно и то же. И если это будет что-то шокирующее, что-то совершенно неожиданное, что-то, чего никогда раньше не видели… – Я достаю платок и протираю дырявый кувшин. – Тем лучше.
Иногда не знаешь, почему что-то чувствуешь, пока не заговоришь об этом. Я всегда знал, что люблю Матисса. А так как искусство не требует ответов на вопрос «почему?», то я об этом и не задумывался. До нынешнего момента.
– Папа привел меня в Музей современного искусства, – говорю я. – Я увидел своего первого Матисса. Это была «Женщина на табурете». Я сидел в том зале больше двух часов и не отрываясь смотрел на картину.
– Что на ней?
– Просто женщина. Сидит на стуле в серой комнате. Там еще стол. Матисс начал рисовать ее синим и зеленым, но в итоге закрасил почти все серым. Кроме ее колен. Ее колени он оставил зеленым и синим. Папа всегда говорил: «Вик, не смотри на цвета, которые есть на картине. Смотри на те, которых там нет». Он называл это бурлением под поверхностью. Говорил, что, если приглядеться, можно и в реальной жизни увидеть цвета, которых больше никто не видит, которые существуют, но скрыто. Радикальная мысль, особенно если вспомнить, что Матисс был фовистом.
– Фовистом, – говорит Мендес, и мне непонятно, исправляет она мое произношение или спрашивает, что это такое. Я решил, что второе.
– Фовизм – это направление в живописи, считающее, что цвет обладает собственной ценностью. Фовисты верили, что цвета являются скорее символами, чем физическими характеристиками. Именно это делает «Женщину на табурете» такой изумительной.
– Почему?
– Если Матисс верил, что главное в картине – это цвет, то зачем он весь его закрасил? Я думаю, это значит, он понимал это бурление под поверхностью… возможно, лучше всех на свете. Матисс точно знал, что делает.
…
– Вик, мы, кажется, несколько отклонились…
– А вы были в Музее современного искусства?
Мендес вздыхает и смотрит на часы:
– Нет, не была. Но несколько раз была в Коллекции Фрика. И в Мет ходила.
– Значит, вы замечали, как люди смотрят на очень хорошую картину или скульптуру? Стоят, уперев руки в бока или схватившись рукой за подбородок, прищурясь, а потом кивают и говорят «Хм», будто что-то поняли, словно картина правда что-то значит, что-то глубокое, а потом – пф! – и все, с них достаточно. Пора идти к следующему шедевру. Они отдают должное технике, мастерству, творческому порыву, но не замечают, что за этим всем спрятано. Я не знаю, как они так делают. Не знаю, как можно просто кивать, говорить «Хм» и идти дальше.
– Твой папа сидел с тобой тогда?
– Что?
– Ты сказал, что папа отвел тебя в музей. Он тоже два часа смотрел на одну и ту же картину?
– Он посидел какое-то время. Не знаю. В соседнем зале шел какой-то перформанс. Виолончелист играл на фоне гигантской фотографии. Мило, конечно, но…
– Не Матисс, – заканчивает мою фразу Мендес.
Я киваю:
– Не Матисс.
… …
– Папа любит… любил живопись. Но музыку любил больше. Вы слышали «Цветочный дуэт»?
Мендес качает головой.
– Это ария из оперы.
– Не знала, что ты любишь оперу.
– Да я и нет… Не то чтобы. Я как-то просто…
– Киваешь, говоришь «Хм» и идешь дальше?
Я внутри улыбаюсь.
– Единственный раз, когда я видел, как папа плачет не из-за рака. Много лет назад, задолго до того, как он заболел. Я сидел на заднем сиденье машины, и моего роста как раз хватало, чтобы увидеть его лицо в зеркале заднего вида. Он на повторе слушал «Цветочный дуэт». И не знал, что я вижу его. И плакал. Просто ужас какой-то.
Я впился ногтями в запястье. Мне хочется почувствовать боль. Память о папе всегда со мной, но временами кажется, будто она ускользает.
– Виктор… – Мендес кладет локти на стол и складывает руки перед лицом. – Когда мы закончим с этим делом, давай я направлю тебя к специалисту. Знаешь, это правда помогает. Поговорить с тем, кто разбирается…
В этот момент в дверь стучат.
Мендес вздыхает и опускает руки:
– Войдите!
Из-за двери показывается голова детектива Рональда. Он жестом подзывает Мендес. Она подходит к двери, и пару секунд они перешептываются. Всего разговора я не расслышал, но отчетливо разобрал слова «пока не получилось». Мендес отступает на шаг назад и таращится на Рональда, словно только сейчас заметила.
– То есть, по сути, вы позвали меня, чтобы сообщить, что у вас ничего нового? Господи, Рон… Ладно. Где лейтенант Белл?
– Вроде у себя в кабинете.
Мендес приказывает Рону подождать со мной в комнате, пока она поболтает с лейтенантом. Оставшись наедине с детективом Роном, я опускаю голову и прижимаюсь лбом к столу, отчасти от усталости, но в основном потому, что не желаю с ним говорить. Он с минуту шагает по комнате, потом останавливается и пролистывает мою папку:
– Ну и как тебе Рокфеллер-Центр?
Я поднимаю голову:
– Что?
Он склоняется над открытой папкой и достает папин список. Я уже и забыл, что он до сих пор у Мендес.
– Сбрось меня с вершины нашей скалы, – читает он вслух. – Это же название обзорной площадки на крыше Рокфеллер-Центра, да? Я… – Он бросает мимолетный взгляд на открытую дверь, потом снова смотрит на меня. – Я был на Вершине Скалы в прошлом году. Лучшая панорама в городе. Особенно в это время года.
…
Сучий сын.
…
Вновь появляется сержант Мендес и, выгнав Рона в коридор, закрывает дверь и садится на свое кресло:
– Вот и я.
Она говорит что-то еще, но я не слышу. Я ухожу в свою Страну Ничего, где ко мне подходят юные родители, свежелицые, влюбленные, на крыше небоскреба, с панорамой Нью-Йорка за спиной. Рокфеллер-Центр. Вершина Скалы.
Может, детектив Рон и не такой уж чистокровный пудель. Может, в нем есть что-то от скаковой лошади.
(ДВА дня назад)
ВИК
– Два дня, – сказал я.
– Строго говоря, две ночи, – сказала Коко, изучая меню, словно у нас был выбор и словно мы не съели бы то, что принесет нам Марго. – Прошло всего полтора дня. Подумаешь, мелочи. Эй, Заз. Как думаешь, в картошке с сыром есть анальный секрет бобров? Только честно.
Нзази щелкнул пальцами один раз.
Коко вздохнула и закрыла меню «Наполеона»:
– Мэд была права, Вик. Ты меня сломал.
Я пристально смотрел через стол на братьев Кабонго. Вчера утром – после того, как я увидел «Автопортрет мужчины, разрушающего телевизор», – Нзази исчез. Его не было до обеда.
Но что поделать.
Не мое дело, куда ходил Нзази.
– Что это за пипец – трикальций фосфат? – спросила Коко, читая этикетку на маленькой бутылке. Она повернула ее, чтобы прочесть надпись на передней стороне. – Органическая столовая приправа. Трикальций фосфат – это разве органический?
Она переключилась на бутылку с кетчупом. Мы терпеливо ждали, пока Марго удивит нас сегодняшними блюдами.
Вчера весь день я провел в сомнениях, рассказывать Базу или нет. Та часть моего мозга, которая думает мозгом, проголосовала за «конечно, блин», и это случилось по следующим причинам.
1. Мой мозг не в силах был избавиться от воспоминания о дяде Мэд, этой яростной копии Матиссова «Автопортрета». (По этой же причине я склонялся к тому, чтобы попросить База прихватить с собой бейсбольную биту.)
2. Эти синяки на запястье Мэд, которые она показала мне на крыше дома бабушки и дедушки… Теперь я понял, откуда они. И это понимание налагало на меня обязательства. Потому что ни один порядочный человек не позволит такому отстою продолжаться.
3. Хотя я питал космических масштабов отвращение к бойфренду Фрэнку с его менталитетом а-ля «Зарой голову в песок и не снимай костюм, дружок» (и это я еще молчу об испорченных плодах его чресел, Клинте и Кори)… при всем моем отвращении я никогда не переживал, что бойфренд Фрэнк причинит вред маме или мне. Однако, если бы это было не так и кто-то со стороны знал об этом, мне бы хотелось, чтобы они не молчали.
Однако часть моего мозга, которая думает сердцем, говорила «не-а» по следующим причинам.
1. Очевидно, Мэд ничего не рассказала Базу.
Следовательно, она хотела сохранить все в тайне.
И я хотел, чтобы ее желания были неприкосновенны.
Но: этого было недостаточно.
Итак: я ему расскажу.
И: если Мэд разозлится, что я выдал ее секрет, то я как-нибудь это переживу. Честно говоря, лучше уж она будет злиться на то, что я что-то рассказал, чем на то, что я смолчал.
– Bonjour, mes petits gourmands, – не успела Марго договорить эту нелепую фразу, как уже схватила База за плечи. В ее глазах был какой-то лихорадочный блеск. – Подождите секундочку, сейчас я принесу вам газировку и воду для тебя, Мбемба. И знаете что? Сегодня вы останетесь довольными.
– Ты опять подожгла алкогольные бананы? – спросила Коко.
– Боюсь, что в жироуловителе не осталось рома. Придется подождать следующей доставки. Нет, сегодня вас ждет здоровая пища. Мои знаменитые роллы из латука!
Ее слова были встречены густым молчанием.
– Ну уж простите. – Она перешла на шепот. – Мне по-прежнему некуда девать этот клятый салат.
– Мы съедим его с благодарностью, – сказал Баз.
Марго Бонапарт внимательно посмотрела на него, а потом внезапно спросила:
– Как там Рейчел?
Должно быть, она сразу об этом пожалела: опустила глаза в пол, пробормотала что-то про еду на плите и исчезла. Коко достала карандаш и начала что-то калякать на салфетке.
– Она ранняя Глава? – спросил я.
Баз снял свою бейсболку и положил на стол:
– Кто?
– Марго?
– С чего ты решил?
– Когда мы только познакомились, Марго сказала кое-что… Я спросил про деньги, и она сказала, что у вас по всему городу есть ранние Главы, которые помогают, когда надо. Тофер предложил бесплатные татуировки, Норм вообще готов магазин уступить. Мне кажется, Главы согласны делиться с тобой не только своими историями. Ну, в общем, вы никогда не платите Марго. И она никогда не требует платы. Я и подумал…
– Грузовик.
…
– Что?
– Пару дней назад грузовик чуть не раздавил тебя. Как букашку. Знаешь, почему я тебя оттащил?
Я не подумал, что у База могла быть какая-то конкретная причина… кроме как спасти меня.
– Потому что ты был невнимателен. Ты не видел, что происходит на дороге, а я видел. Я видел грузовик. Поэтому и оттащил тебя.
– Ага.
Он хлебнул воды:
– Баз, я не понимаю.
– Тебе не обязательно понимать.
Блин. Я сам напросился.
– Послушай, – сказал он. – Тут ничего сложного нет. В мире – и в этом городе – есть много людей, которые не обращают внимания. Они не видят, что их раздавит грузовик.
– А ты видишь?
Он кивнул:
– Обычно да. Так почему бы и не сделать что-нибудь? Люди обычно просто пожимают плечами и смотрят. На ужасные вещи. Я знаю это, знаю на опыте. Но с меня хватит, я больше не буду пожимать плечами. Не буду наблюдать. Да и истории мне пригодятся.
Я словно слышал в словах База голос папы.
Сделай что-нибудь, Вик.
…
Только я открыл рот, чтоб рассказать ему про Мэд, Коко сказала:
– Шикарно, Заз. Отличная мысль.
Ее карандаш бешено метался по салфетке. Нзази, оперевшись на стол, одобрительно кивал. Я наблюдал, как эта маленькая девочка пишет. Ее лицо превратилось в маску напряжения. Бедняжка и так уже нагляделась на трагедии. Не надо ей добавлять. Я хлебнул спрайта и решил, что подожду, пока мы сможем поговорить без Коко.
Вернулась Марго с подносом, груженным латуком, к которому прилагались миски со стейком, рисом, свежей зеленой фасолью, цветной капустой, какой-то зеленью и пикантным соусом из арахиса.
– Пипец красота, – сказала Коко. – Придется мне потом поменять текст.
Мы вчетвером с жадностью набросились на еду, и вскоре стол превратился в хаос из скомканных салфеток и опустевших тарелок. Коко вернулась к своим каракулям. Время от времени она тыкала в салфетку и спрашивала Нзази, какие строки нравятся ему больше. Что бы она ни писала, он относился к ее творчеству крайне серьезно и долго размышлял, прежде чем ответить ей жестом.
– Знаешь, Баз, очень хорошо идет, – сказала Коко, сосредоточенно что-то черкая. – Может, станет хитом.
– Ах, вот оно что? – произнес Баз. Он подмигнул мне и перевел взгляд на Коко, моментально посерьезнев: – И о чем твоя песня?
– Эй! Вот допишу, тогда скажу. Но знаешь что? Заплатишь тысячу баксов – сможешь опубликовать в своей книге.
– Тысячу баксов, говоришь?
Коко кивнула:
– И это тебе еще пипец повезло.
– Может, семь долларов?
– Ладно, так и быть, четыреста.
Баз засмеялся и сказал, что подумает.
– Почему ты решил написать книгу? – спросил я его.
– Это моя мама.
– Она тоже была писательницей?
Баз швырнул салфеткой в пустую тарелку и с легкой улыбкой сложил руки на груди:
– Может, однажды я расскажу тебе о ней. А пока давай ограничимся тем, что моя книга – это в каком-то роде ее память. Как урна твоего папы.
Все мои мысли были заняты ситуацией Мэд. Впервые с того времени, как я нашел папину записку, я ни на секунду не задумался о списке.
– Может, тебе пора уходить, – сказал Баз.
Я выковыривал листик салата из зубов. Посмотрел на Коко, потом на Нзази и только потом понял, что он говорил обо мне.
– Что? – спросил я, оставив салат на произвол судьбы.
– Может, тебе лучше уйти.
Меня это потрясло не меньше, чем если бы отец Рейнс предложил мне совершить прелюбодеяние.
– Сбрось меня с вершины нашей скалы, – сказал Баз. – Предполагаю, ты не знаешь, что это значит. Ну и ничего страшного. Однако я хотел бы знать, когда ты в последний раз вспоминал про список?
…
Никто не умел говорить напрямую лучше База Кабонго. Иногда такая честность освежала, но из-за нее я постоянно был в напряжении. Никогда не знал, что Баз спросит в следующую секунду.
– Я очень много думаю про список, – сказал я.
Я соврал, и мы оба это знали. В последнее время мой мозг способен был думать лишь про Мэдмэдмэдмэдмэдмэдмэдмэдмэд.
– А когда ты сам вспоминал о нем в последний раз?
Не успев задать вопрос, я уже пожалел о нем. Я уже знал, как он ответит. Как кто угодно бы на него ответил.
– Он не был моим отцом, – сказал Баз. – Ты мне нравишься, Вик. И ты можешь оставаться у нас сколько захочешь. Я не говорю, что тебе надо уходить; я даже не говорю, что мне хотелось бы, чтобы ты ушел. Но я обещал помочь тебе со списком, а не выполнить его за тебя. И теперь я скажу это снова. Может, тебе лучше уйти.
– И куда я пойду?
– Домой, Вик.
* * *
Когда мы уходили из «Наполеона», Марго в сотый раз дала Базу свой номер и напомнила, чтобы он позвонил.
Мы направились к Нью-Милфорду и пошли мимо «Фудвиля». Коко вышла из творческого транса – над чем бы она там ни работала, – чтобы поклянчить мороженое. Баз сказал, что из финансовых соображений мороженого не будет, а Коко сказала, что он говорит, как мамаша-наседка.
– До сих пор не могу понять, почему ты не разрешишь мне просто взять мороженое бесплатно.
– Ты знаешь мое правило, – сказал Баз.
– Какое правило? – спросил я.
Вздох Коко был больше нее самой.
– У База есть правило насчет воровства. Кради, только если иначе не выживешь, кради, только если они смогут это пережить, и еще какая-то чухня. Не помню.
Баз сказал:
– Кради, только если иначе не выживешь, кради, только если они смогут это пережить, и никогда не кради то, что тебе не нужно.
Мы прошли несколько секунд в молчании. «Фудвиль» с черепашьей скоростью исчезал за нашими спинами.
– Прости, – сказала Коко, – но звучит так, будто ты хочешь, чтобы мы крали.
Нзази щелкнул один раз.
– Видишь? – сказала Коко. – Твой собственный брат со мной согласен. Почему не сказать просто: «Кради только то, что тебе нужно»?
Нзази еще раз щелкнул:
– Это одно и то же.
– Ну, твой вариант пипец какой запутанный, а мой – нет. Это как сказать: «Не надо не пинать Удава по яйцам», что, простите, пожалуйста, звучит так, будто ты хочешь, чтобы я пнула Удава по яйцам.
Все засмеялись, но я едва слышал, о чем они говорят. Коко вернулась к своим каракулям, а я шагал рядом с Базом.
– Баз, мне хотелось бы поговорить о твоих словах…
– Ты влюблен в Мэд?
Этот вопрос должен был меня ошеломить. Вместо этого я почувствовал облегчение: значит, кто-то еще заметил. Снег хрустел у нас под ногами.
– Может быть, – сказал я.
– Ты никогда раньше не влюблялся?
– Я думал, что влюблялся. Много раз. Но с Мэд… с ней все иначе.
Образ: два компаса, один показывает на восток, другой – на запад. Любовь мамы с папой простиралась на весь мир. Неважно, куда они шли. Пока они были живы, они всегда сходились в одной точке. Для мыслителя сердцем вроде меня это была мысль исключительной важности. И я понял: хотя мне казалось, что я кручусь во все стороны, весь компас моей жизни показывал на Мэд.
– Она в беде, – сказал я. Коко плелась позади, поглощенная своим творчеством. – Мэд в беде, Баз. Ей нужна помощь.
Баз поменялся в лице, но я не мог понять, что он чувствует. Он смотрел прямо перед собой, на дорогу.
– Что ты имеешь в виду?
– Я проснулся две ночи назад, когда она уходила. Я пошел за ней. У нее есть дядя. И бабушка. Она живет в доме недалеко от сада.
…
– Я знаю.
Я споткнулся и чуть не упал:
– Ты знаешь?
– Да.
…
…
– Э-э-э… Ну ладно.
– Нзази сходил проверить ее вчера утром.
– Я ничего не понимаю. Мэд рассказала тебе?
Баз покачал головой:
– Несколько месяцев назад Нзази пошел за ней, совсем как ты. Он тогда разбудил меня, привел меня к дому и показал.
– Что ты увидел?
– Она смотрела телевизор. С какой-то старушкой. Там было грязно, но в общем ничего.
– А дядя? Ты видел дядю?
Теперь, когда мы говорили обо всем этом, я чувствовал, как важно, чтобы он понял. Мне было нужно, чтобы Баз увидел ту же картину, что и я: «Автопортрет мужчины, разрушающего телевизор». Проблема была в том, что нельзя же заставить другого человека остановиться перед картиной и разглядывать ее.
Баз покачал головой:
– Дяди я не видел.
– Но дядя есть, Баз! – Мне хотелось сорвать картину со стены и ткнуть ему в лицо. – Он ужасный. Я боюсь, что он причинит ей вред.
Баз помолчал несколько секунд. Когда он заговорил, я услышал в его голосе те же сомнения, которые сам испытывал последнюю пару дней.
– Ладно, – сказал он. – Мы пойдем сегодня ночью. Когда Коко заснет.
Я кивнул, чувствуя некоторое облегчение.
Коко и Нзази подбежали к нам из-за спины.
– Закончила!
До теплого парника оставалось километра два; холод стоял просто адский.
– Что закончила?
Коко кивнула на Нзази, который, к моему невероятному изумлению, начал делать битбокс.
– Йо, йо! Ага! – произнесла Коко, делая короткие, ритмичные паузы. – Нас упорол… салатный ролл. Наш рок-н-ролл – салатный ролл!
Нзази продолжал битбоксить, усложняя ритм, а Коко разразилась тирадой:
– Вот что вам скажут с аппетитом ребята:
Уважаем мы роллы из листьев салата.
Что за хруст, что за вкус, что за сладостный сок.
Ты на мясо забей, дай салата, браток!
Не наешься салатом, йо, слышь, что за капуста.
Да плевать, что сытнее, салат – это вкусно.
Кто мы такие, чтоб давить авторитетом?
Я скажу. Подожди до другого куплета!
Нас упорол… салатный ролл.
Наш рок-н-ролл – салатный ролл!
Я не кола, я Коко, это каждому известно.
Сделана в Квинс из лучшего теста.
Там стоит Баз, он старик, но крутой.
А это Удав, паренек непростой.
Заз всегда скажет правду, и он мне как брат.
Не слышишь его? Значит, сам виноват.
Мэд отошла, ее нету пока.
Оставь сообщение после гудка
(Биииип!)
Нас упорол… салатный ролл.
Наш рок-н-ролл – салатный ролл!
Слышь, мы тебя разыграли, как лоха.
Пару минут веселились неплохо, Слушай, чувак, ты чудила единогласно, Скажем раз, скажем два, и три, и многократно, От темы от этой я не отступлюсь, Слушай, чувак, и зачтется за плюс.
Слушай сюда, эта тема проста:
Раз повторю, и два, и до ста. РСА одобряют здоровый обед:
Лучше салата опции нет.
Нас упорол… салатный ром.
Наш рок-н-ролл – салатный ролл!
Улицы Нью-Милфорда недоумевали, что за напасть их посетила. Мы прочли рэп Коко раз, и два, и многократно. Я отправился в свою Страну Ничего, где я встретил множество чудил джерсийского пригорода, которые прятались по подвалам, выжидая, когда закончится наш гимн. Им пришлось ждать долго, очень долго.
* * *
Когда мы вернулись в парник, Коко все никак не могла заснуть. Взбудораженная успехом своего последнего хита, она лежала в спальнике и упрашивала База рассказать историю. Следовательно, он сдался и рассказал историю из Библии про то, как Моисей выводил народ израильский из Египта. Коко пару раз перебила, чтобы предложить варианты заголовка для его книги («Столп Огненный и Библия-II: Пересказ»). Мы уже бодро взбирались на Синай, когда она начала храпеть. Баз сказал Нзази оставаться с Коко, пока мы пойдем проведать Мэд. Он пообещал, что мы скоро вернемся.
Мы с Базом вышли из сада вместе. Шагнули в исключительный холод ночи, чтобы сделать какое-то дело.
Мое внутреннее объятие сбоку все дрожало.
Баз сказал:
– «Метс» – отстойная команда, знаешь ли.
Я только-только выполз из-под забора после того, как мои метсики за него зацепились. Баз непринужденно перемахнул через железную сетку и ждал на другой стороне со своим едким замечанием. Словно я не слышал такого раньше.
– Да, знаю. Но раньше играли неплохо.
Мы шли к дому Мэд. Баз снял бейсболку и сунул мне под нос, объясняя, как волнительно наблюдать за восхождением новых звезд из «Янкиз». Я вспомнил весну, когда мы с папой решили стать фанатами «Трентон Тандерс». Их курировали «Янкиз», что позволяло нам заранее узнать побольше о главных врагах. В лиге класса АА реже ставили раннеров на третью линию, чаще разыгрывали билеты по лотерее и продавали больше сморщенных хот-догов. Но, как говорил папа, «бейсбол есть бейсбол, Вик. Куда лучше сходить на игру, чем бить баклуши дома».
Как же меня бесило, когда он говорил про баклуши. А теперь? Черт, конечно, я скучал по баклушам.
Пару кварталов Баз распространялся про «Тандерс» и «Янкиз» с энтузиазмом истинного фаната. Однако меня не то чтобы восхищали команды, которые покупали новых игроков вместо того чтобы учить уже существующих. (Джитер не в счет.)
Двадцать семь чемпионатов? Круто. Мне и двух было вполне достаточно.
Хотя, возможно, на каком-то личном уровне в этом была логика. «Янкиз» стремились победить любой ценой. А для «Метс» главным была хорошая игра. У «Янкиз» были Рут, Гериг и Мэнтл. У «Метс» – Сивер и Пьяцца. (Гуден и Стро-бери в итоге надели форму «Янкиз», поэтому папа их не учитывал.) Как ни печально, я вынужден был признать, что у «Метс» было что-то общее с предпринимательством в сфере аренды автомобилей. Но еще у них было сердце. И для мыслителей сердцем вроде нас с папой это было делом первой важности.
– Может, тебе поменять любимую команду? – предположил Баз.
Я как-то неожиданно обрадовался его словам:
– Папины друзья говорили то же самое.
Мы подошли к дому Мэд, и я провел База к тому самому эркерному окну и предупредил его насчет стока, куда наступил сам в прошлый раз. Баз снял бейсболку и прижался к стеклу, чтобы осмотреть комнату. Там по-прежнему стоял бардак, но уже не такой жуткий. Телевизор исчез, да оно и неудивительно. Его же разрушили. Я обратил на это внимание База. Пусть видит, что дела у Мэд не в порядке, что ее дядя не просто существует, но и представляет неоспоримую опасность.
Проведя несколько минут в полном бездействии, мы обошли дом со всех сторон в поисках других окон и точек обзора. Я был благодарен Базу: он явно пошел сюда не просто для того, чтобы сделать мне приятное. Во всяком случае, мне так не казалось. Он выглядел искренне обеспокоенным. Однако я понимал его колебания. Придя сюда, он нарушал проявленное Мэд доверие.
Мы еще раз проверили переднее окно и мельком увидели Мэд. На ней были длинные резиновые перчатки; похоже, она прибиралась в доме. Мой шпионский мозг расценил это как подозрительное проявление домовитости.
Бабушки мы не заметили. И дяди мы тоже не заметили. Похоже, все было в полном порядке.
В итоге Баз настоял, чтобы мы пошли домой.
– Баз, подожди, – шепнул я.
– Что?
…
– Где твоя бейсболка?
Он инстинктивно положил руку на голову. Но ага. Бейсболка исчезла. Мы обрыскали весь двор, обошли дом дважды, но бейсболки нигде не было. Баз все говорил, что ничего страшного, но на самом деле страшное в этом было. Бейсболка прямо указывала на него, и, если Мэд ее найдет, она узнает, что Баз был у ее дома. Мы еще немного покружили вокруг, но, ничего не найдя, сдались.
Обратно к саду мы шли в тишине. Мы не говорили про бейсбол. Мы вообще ни про что не говорили.
* * *
Я лежал в темноте – сна ни в одном глазу – и ждал, пока Баз и Нзази заснут. Мысленно я пинал себя за то, что забыл дома зарядку от айпода. Мне бы очень пригодились парящие сопрано. У этих дам отлично получалось внушить мне отвагу, и ее сейчас мне как раз не хватало.
Когда мы ушли от дома Мэд, какая-то часть меня знала, что мои дела на сегодня еще не закончены. Часть меня знала, что я вернусь.
Сколько же их, этих частей?
Словно детали головоломки одна за другой они приходили ко мне в течение дня. Первая: синяки на предплечьях и запястьях Мэд. Еще одна: рык дяди Мэд. Еще: винтовка в телевизор. Поначалу я не понимал, зачем она вообще возвращается. Очевидно, дядя слишком пьян, равнодушен или и то и другое сразу, чтобы замечать отсутствие племянницы.
Не было разговоров о школе, друзьях или хотя бы: «О боже, Мэд, где ты была?» Она явно возвращалась не к нему.
Видимо, дело в старушке. Джемма, как звала ее Мэд. Готов побиться об заклад, это ее бабушка, и готов побиться о два заклада, что именно из-за нее Мэд возвращалась в этот дом.
. .
Дыхание База стало тихим и ровным; грудь поднималась и опускалась через равные промежутки. То же касалось и Нзази. Я повернулся на диване и бесшумно спустил ноги на пол. Отсюда мне было видно, что они закрыли глаза. Ну и отлично.
Я прокрался к выходу, схватил с вешалки куртку и покинул парник. Ночной ветер превратил мой дырявый кувшин в сосульку. Я пробежал через сад, по мосту, до забора, и как раз собирался ползти, как услышал покашливание.
Я застыл на месте.
… …
До ближайшего куста было метров десять, не меньше. Рядом нигде не спрятаться.
– Мистер Мейвуд? – сказал я тонким, точно струна, голосом.
Тишина.
Кто здесь?
… …
Ничего.
Только снежная полночная тишь.
Я пытался убедить себя, что кашель мне просто послышался.
Будь скаковой лошадью, Бенуччи. Будь пипецкой скаковой лошадью!
Я отправился под забор, и во второй раз мои метсики зацепились за него. Высвободившись, я рванул по старым следам. Внезапно мне стало ясно, что я ждал слишком долго. В моем мозгу пустили корни ужасные образы, и худшим из них было следующее: лицо Мэд на месте телевизора.
Ее прекрасная, состоящая из одновременных чрезвычайных противоположностей панковская стрижка.
Ее улыбка и ее пение.
Ее личность.
Я побежал быстро.
Ох, как быстро.
Пока не прибежал. На то же самое место.
Под эркерное окно на передней стороне дома.
Правая нога провалилась. Я выругался, вытягивая ее из того же самого заснеженного стока, куда наступил в прошлый раз, и тогда я увидел ее: бейсболку База. С облегченным вздохом я поднял ее с земли и нацепил на голову. Она послужит мне дополнительной разведочной маскировкой (хотя, если учесть, что основной маскировки у меня не было, непонятно, почему я назвал бейсболку дополнительной).
Я обошел сток и заглянул в окно. Мэд абсолютно точно прибиралась: за час, пока братья Кабонго засыпали, она успела очень многое. Все исчезло: журналы и коробки из-под пиццы, жестяные банки и бутылки, бумажные тарелки с жирными пятнами, пыль, грязь. Если бы не стеллаж с ружьями и рога, я бы вообще подумал, что пришел не к тому дому. Я подождал несколько минут: вдруг Мэд войдет в комнату с банкой колы и плюхнется в кресло, как в прошлый раз?
Нет, ничего. Ни Мэд, ни Джеммы, ни Автопортрета.
Согнувшись в три погибели, я обежал дом с одной стороны.
Скорость. Скрытность. Сноровка. Стремительность.
В правом углу дома через окно сиял свет: тусклый, красноватый, словно свет маяка сквозь шквальный ветер. Задвинутые шторы пропускают свет, но внутри ничего не видно.
Дойдя до задней стороны дома, я взошел на патио. Бурая мебель в пятнах, гриль, каменная оттоманка и стол, за которым уже сто лет никто не сидел. К патио вел ряд раздвижных стеклянных дверей. На этот раз никаких штор, только длинные вертикальные жалюзи.
Раздвинутые.
Я прижался лицом к стеклу, молчаливо изучая формы и цвета стандартной американской кухни: бежевый холодильник, серебряный тостер, черная микроволновка, коричневая плита. Однако под этой поверхностью я молчаливо изучал кое-что еще.
Не смотри на цвета, которые есть, Вик. Смотри на те, которых нет.
Я всегда подозревал, что картины Матисса живые; что они всматриваются в меня точно так же, как и я в них. И еще я думал о самом Матиссе. Сколько выдержки нужно было фовисту, чтобы закрасить все эти сияющие цвета, сантиметр за сантиметром. Закрыть их тусклыми красками. Какая сила воли! И оно того стоило. Фигуры на картинах ощущали свои цвета независимо от того, видели мы их или нет.
Я отправился в свою Страну Ничего и почувствовал пульсирующую вибрацию, взрыв цвета под поверхностью кухни: красный.
Так много красного.
Я потянулся к дверной ручке. Дверь была не заперта.
* * *
Воздух в бежево-красной кухне был лишь чуть теплее, чем снаружи.
Вот как я понял, что нахожусь внутри.
Ковры пахли кошками, стылой пиццей и дезинфицирующим средством.
Так я узнал, что попал в гостиную.
Пустые стены таращились на меня, нашептывая полузабытые воспоминания.
Так я узнал, что попал в коридор.
– Ну как они тебе? – спросила она шепотом, лежа в темноте на своей кровати, облаченная в ночнушку и тапочки. Рядом на тумбочке стояли две банки колы. – Я наконец довязала варежки. – Она протянула мне руки, восхищенно глядя на розовые пушистые варежки. – Мне тепло. Наконец-то мне тепло.
Так я узнал, что встретился с Джеммой.
Тишину прорезало хныканье, словно плакало животное, только смиреннее, отчаяннее и тише.
Так я узнал, что рядом была Мэд.
С другой стороны коридора скрипнула дверь. Я приложил глаз к щели. Там, в приглушенной красноте, была комната с задернутыми шторами.
Так я узнал, что Мэд была в беде.
Автопортрет сидел на полу спиной ко мне. Он говорил не просто невнятно; в его словах был настоящий яд, словно он ненавидел себя за то, что говорил. Сквозь щель я наблюдал, как он поднял огромную раскрытую ладонь и с силой опустил.
Визг. И плач.
– Тебе не разрешали прикасаться к той картине, – сказал Автопортрет, поднимая к губам бутылку и допивая остатки в несколько огромных глотков.
Ноги были самой спокойной частью моего тела: они повернули, прошли мимо комнаты Джеммы, зашли в гостиную, обошли рога с курткой Мэд и остановились перед стеллажом с ружьями. Я поднял вверх руку, снял винтовку, которая казалась ужасно тяжелой, повернулся и спокойно пошел обратно к красной комнате.
Я бы ни за что не смог никого застрелить. Даже если бы мыслитель сердцем во мне захотел нажать на курок, мыслитель мозгом вряд ли бы знал, как это сделать. Но мое правдивое сердце пришло к следующему выводу: большая, тяжелая винтовка ничуть не хуже бейсбольной биты.
Я натянул Базову бейсболку на глаза и толкнул дверь. Мои ноги продолжали идти, пока я не встал прямо за спиной Автопортрета. Он сидел верхом на Мэд, прижимая к полу руки и ноги моей Стоической Красавицы, моего первого поцелуя, моей первой любви, моего первого всего. Я подумал про близость Мэд, про слово «вместе», про Воронку Хинтон, про чувство, что я наконец стал собой, про ее тихо-милый голос, поющий про мусорки и фальстарты, про исключительность Альтной, про одновременные чрезвычайные противоположности, про сравнительное изучение запястий на крыше дома моих мертвых бабушки и дедушки… и все эти синяки… и виновен в этом Автопортрет. Виновен, виновен, виновен…
…
Все произошло стремительно.
Словно кто-то нажал быструю промотку моего тела. Я поднял ружье высоко над головой и опустил его со всей силы, и увидел, как две моих любимых картины Матисса превращаются в одно: Автопортрет упал на пол Красной Комнаты.
Я уронил винтовку.
– Я Суперскаковая лошадь, – сказал я.
И так я узнал.
Восемь «Coming up roses», или Когда я открыла дверь
Комната для допросов № 2
Мэделин Фалко и детектив Г. Бандл
19 декабря // 19:13
– Я даже сейчас вижу кровь. Всю эту кровь. Она хлынула, как вода из шланга. И его гаснущие глаза. И другие глаза, горящие, словно пламя.
– Мэделин, – говорит Бандл, допивая остатки кофе.
Я переношу вес на другое бедро:
– Когда-то у меня была кошка по кличке Джастин.
– Что?
– На мой двенадцатый день рождения папа принес домой котенка. Это была девочка, но, когда мама спросила, как ее назвать, я сказала: «А давайте Джастином!» Ну… Мне было двенадцать, что тут скажешь. Когда мама с папой умерли, кошка переехала со мной к дяде Лесу.
– Мэдел…
– У дяди была такая автоматическая поющая рыба. Помните? Они еще вращали головами и пели прямо вам в лицо.
Даже Бандл понял, что сейчас лучше меня не перебивать. Он тихо и фальшиво напел что-то себе под нос.
– «Take Me to the River», – говорит он. – Эл Грин, так?
– Песня та, но я не знаю, кто ее поет. Кроме рыбы.
На мгновение тихий стрекот диктофона кузнечиком звучит в тишине. А я вижу только те глаза: одна пара гаснет, другая загорается.
О боже…
– Кошка Джастин ненавидела эту тупую рыбу. Она не доверяла рыбе, но при этом никак не могла оставить ее в покое. Забиралась на спинку дивана, чтобы достать ее со стены. Нюхала ее, вытянув когти… Мне кажется, она не знала, что делать: кинуться на рыбу, убежать от нее или куснуть. Все это страшно бесило дядю Леса. Он говорил, что, если я не могу уследить за своим животным, он сам за ней проследит. И знаете что… дядя Лес ведь не с самого начала стал таким мерзким. Когда мы с Джеммой только переехали, он вел себя даже мило. Был грустный, но не злой. Старался как мог. Но…
– Мэделин, ты сейчас вообще о чем?
Я делаю глоток воды. Последний глоток в стакане. Ссадина на губе еще щиплет, и это я молчу про пульсирующую боль в спине и бедрах.
– Однажды я вернулась домой из школы, а Джастин нигде нет. Я обыскала весь дом, перевернула его вверх дном. Вышла на заднее крыльцо, прошла сквозь патио до самого конца участка, где за домом бежит мелкий ручей. Я нашла ее там. Промокшую насквозь. Она двигалась в такт слабому потоку… не знаю, сколько она там пролежала. Глаза у нее были как у куклы. Не мертвые. А такие, будто никогда и не были живыми. А потом из-за спины, из открытого окна, я услышала пение.
Я вытираю глаза, смотрю Бандлу прямо в лицо и тихо напеваю.
(ДВА дня назад)
МЭД
Вик уронил ружье на пол.
– Я Суперскаковая лошадь, – сказал он.
Я едва узнала его в бейсболке База, но, с другой стороны, тогда мне вообще сложно было что-то разглядеть. Глаза опухли так, что едва раскрывались; боль была такая, словно их подожгли и засыпали толченым стеклом. Я села в каком-то тумане, склонилась вперед и пощупала пульс у дяди Леса.
Он жив.
Рука Вика оказалась на моем плече.
– Как ты?
Все было такое размытое, нечеткое, словно я смотрела сквозь заплесневелую занавеску в душе. За моей спиной Вик сказал что-то о том, чтобы вызвать полицию, и я смутно отметила, что он вышел из комнаты. Я чувствовала, что остаток жизни проведу именно так: одно туманное событие за другим, которые я едва смогу осознавать. Я наблюдала, как дядя Лес дышит: вверх-вниз, вверх-вниз – жизнь нуждалась в обоих движениях. Ей нужны были вдох и выдох, одновременные чрезвычайные противоположности. У его ног лежала пустая бутылка. И внезапно – так же, как мгла опустилась на меня, – я отдернула заплесневелую занавеску. Мир снова приобрел четкость.
Я развернулась и, передвигая застывшими конечностями, побежала из комнаты. Левое бедро, на которое пришелся вес дяди Леса, выкручивало от боли. Я закрыла дверь и огляделась в поисках чего-нибудь, чем можно его забаррикадировать. В конце коридора стоял старый шкаф. Встав сбоку, я всем телом налегла на него, но он едва сдвинулся с места.
Вик прибежал обратно:
– Я вызвал полицию.
– Помоги мне.
Вик посмотрел на меня в замешательстве:
– Я думаю, нам надо идти.
– Что? Нет.
– Мэд, я ударил его. А что, если… я не знаю. И копы начнут нас расспрашивать.
Я показала на комнату Джеммы, где моя бабушка лежала в постели, восхищаясь своими варежками, словно мир не сошел с оси.
– Я ее не оставлю. Помоги мне.
Вик снял бейсболку, положил ее сверху на шкаф и помог мне дотолкать его до двери в мою комнату. Может, виной послужил вид моей бабушки. Может, то, что мы только что вызвали полицию моему собственному дяде. А может, то, что дела шли так долго так плохо, что я и забыла, когда вызывать полицию… Так или иначе, в ту секунду я почувствовала, что скудный обед переворачивается у меня в животе.
– Меня сейчас стошнит.
Я побежала в ванную, захлопнула за собой дверь, доковыляла до унитаза, и меня вырвало. После этого я подставила лицо под струю, чтобы прохладная вода охладила мне опухший глаз. На углу тумбочки стояла фотография в рамке – виновница всего, что случилось вечером. Я отключила воду, взяла фотокарточку в руки и уставилась на тень.
В этом доме не было ни одного изображения моих родителей. Дядя Лес за этим проследил. Те фотографии, которые у меня были, я спрятала в коробку в шкафу. Когда-то мы были семьей: самодельные костюмы на Хеллоуин, разбитые вазы, визиты к зубному, печенье для Санты, наказания за проделки, вечера за любимыми фильмами. Теперь не осталось ничего. При любой возможности я спешила провести время с тем, что у меня осталось: фотографиями. И сегодня я нашла это фото. Не помню, как его сняли. В семьях всегда так: живешь бок о бок с людьми; они находятся в твоем пространстве, ты – в их, и даже если вы не делаете ничего, что надо задокументировать, иногда это происходит. И вот мы остались на фотографии. Счастливые втроем, улыбки до ушей, просто сидим и делаем что-то. А может, и ничего не делаем. Это не важно.
Мне эта фотография понравилась. Я нашла для нее рамку и поставила в ванной. Не знаю, о чем я думала. Может, надеялась, что дядя Лес не будет против. Но у меня была и другая причина, более серьезная. Я вспомнила день, когда вернулась домой раньше обычного и увидела, как он пьет чужой апельсиновый сок. Я вспомнила игривый мамин тон из спальни и поняла: они любили друг друга. Мой дядя влюбился в жену брата. Ее смерти было достаточно, чтобы сделать его алкоголиком, чтобы раз за разом избивать у себя дома девочку, которая напоминала ему о незаконной любви, чтобы убрать все фотографии и стереть маму из памяти. Но из моей памяти ему маму не стереть. Я аккуратно поставила фотографию обратно. Затем, глядя в зеркало, попыталась хоть как-то причесаться. Синяки, ссадины, заплывший глаз… «Я помойка фальстартов, – пропела я шепотом, совсем как Эллиот Смит. Именно так, как надо петь любимые песни. – Мне не нужно твое разрешение, чтобы похоронить свою любовь…»
С другой стороны двери раздался грохот.
– Вик? – громко сказала я.
Ничего.
Дыши. Внутрь, потом наружу. Дыши.
У меня в голове раздалась песня Вика, опера ошеломительной красоты, и потом я услышала и свою, «Coming Up Roses». Они переплетались в самую восхитительную мелодию всех времен. Я открыла дверь, и время замедлилось, и я увидела все в ярчайших деталях.
Я открыла дверь и пожалела, что не закончила начатое Виком. Надо было подобрать винтовку и прикончить дядю, пока у меня была возможность.
Я открыла дверь, увидела в воображении старый шкаф и поняла, откуда исходил грохот.
Я открыла дверь и увидела, как мой дядя держит Вика сзади. Его мускулистые руки обвили Викову шею, точно питоны, и лицо у Вика было лиловое, и на шее у него было крошечное ярко-алое пятнышко, где острые края разбитой бутылки дяди Леса прикоснулись к коже Вика.
Я открыла дверь и услышала лишь наши две песни. Они медленно парили по дому, как выброшенные из окна розы. Я ничего не услышала…
Девять Кока-кола, или Вот как все закончилось
Комната для допросов № 3
Бруно Виктор Бенуччи III и сержант С. Мендес 19 декабря // 19:46
Мендес зажимает ручку между большим и указательным пальцами; рука лежит на папке.
– Сегодня днем в начале разговора ты стал перечислять всех девочек, в которых был влюблен. Мы поговорили про искусство, про семью, про твои личные сложности…
…
– И что?
– Что я упустила?
– Что вы имеете в виду?
– Вик, ты рассказывал мне историю, и я с радостью ее слушала, но ты почему-то остановился. Мне интересно почему.
…
– Который час? – спрашиваю я.
– Ты уже второй раз интересуешься. Какая вообще разница?
Я не успеваю придумать отговорку. Мендес встает, обходит меня сзади, наклоняется к моему уху и шепчет:
– Виктор, я хочу знать, что ты знаешь. Почему ты защищаешь Кабонго? Ты говоришь, что был в доме, когда это произошло. Ладно, хорошо, я тебе поверила. Больше никаких выдумок, договорились? Расскажи, что ты видел.
…
– Вы знаете, что означает «фов» в буквальном переводе, мисс Мендес?
– Дикий зверь.
Ей словно не требуется ни малейших усилий, чтобы припомнить; она будто ждала, когда я задам этот вопрос.
– Я понимаю, – настойчиво звучит ее голос; дыхание щекочет мне ухо. – Это бурление под поверхностью. Правда понимаю. Но, Вик… ты не Матисс. Это не абстрактное искусство, и ты не фовист. Ты не сделаешь случившееся прекрасным, сколько ни закрашивай его серым. Знаешь, что я думаю? Я думаю, ты мальчик, который увидел что-то, что напугало тебя до усрачки.
Я отправляюсь в свою Страну Ничего. Там почти ничего не говорят, а вся красота абстрактна. Там люди обмениваются вопросами и залечивают раны. Там мамы не меняются и папы не умирают.
– Виктор. Почему Баз Кабонго убил дядю Мэд?
Я отправляюсь в Страну Ничего, где парят сопрано.
– Он его не убивал, мисс Мендес.
(ДВА дня назад)
ВИК
Вот так все и закончится. Больше не о чем размышлять. Мой красный свет меркнет, почти затухает. Между мной и миром лежат океаны. Я удален от магии звонницы, где я вопреки математике и всему остальному поцеловал самую прекрасную девушку, которую знал. Я внутри кокона, вывернутого наизнанку. Столько смертей я чудом избежал: поскользнулся на снежных камнях обзорной площадки, чуть не упал с Утесов, чуть не попал под колеса грузовика. Мои многие множества свелись к одному-единственному. Я стал парящим по воздуху камнем, что отскочит от палубы и плюхнется в темные воды реки Хакенсак. Я погружусь на дно и буду существовать там вечно, и никто не будет знать, кто я и где.
…
Мэд застыла в дверях ванной. Она смотрела на меня в упор. Время исчезло, исчез звук, не осталось ни быстроты, ни промедления – только разделение. Автопортрет держал меня сзади и погружал инструмент разделения глубже в кожу на моем горле, медленно прорезая новую крохотную дорожку, дорожку куда-то в темноту, вниз…
И вот тогда… вернулся звук.
Два щелчка.
МЭД
Заз появился из ниоткуда.
Первый удар пришелся на левую щеку дяди Лестера и оттолкнул его на пару шагов. Осколок стекла выпал из его рук; Вик, свободный от дядиного захвата, упал на бок. Раскрытой ладонью Заз хлопнул дядю Лестера по лицу один раз, потом второй, третий. Дядя Лес ударил в ответ; удар по рту, казалось, не произвел на Заза никакого впечатления.
Я снова почувствовала свои ноги. Подбежала к Вику и помогла ему подняться. Осколки бутылки я пнула через комнату, и они подлетели к моей лежащей на полу куртке. При всем безумии происходящего, мне это все равно показалось странным.
Почему моя куртка лежит на полу?
Над ней на стене был стеллаж с ружьями: три винтовки. Четвертая все еще лежала на полу в моей комнате. Рядом со стеллажом, где висели рога – гордость дяди Леса, – теперь виднелись только их бледные очертания: светлое пятно, куда многие годы не могли проникнуть ни солнце, ни пыль, ни грязь.
Сами рога исчезли.
Я повернулась обратно. Дядя Лестер замахнулся в пьяном угаре и промазал. Заз не стал ему отвечать. Он выиграл, и они оба это знали. Одним последним мощным движением он толкнул дядю Леса в тень коридора. Я стала ждать, когда услышу звук удара тела о землю, но его не последовало. Вместо этого раздалось нечто совершенно другое: зловещий треск и грохот. Из тени вперед вывалился дядя Лес. Глаза его погасли, но это не были глаза умирающего или мертвого. Это были глаза того, что никогда и не было живым. Куклы, манекена. Я уже видела такой взгляд, но не могла вспомнить где. Еще я увидела рога цвета слоновой кости. Они показались у дяди изо рта, словно его стошнило; острые края пронзали череп, как зубочистка прокалывает виноградину. Зубочистка слегка сдвинулась; кровь хлынула, как из сломанного гидранта. Медленно скользя назад, рога исчезли так же, как появились, словно поглощенные пустотой.
Я увидела, как дядя Лес падает на землю. Эти рога, которые он так любил, которыми мог восхищаться часами… он и не подозревал, что погибнет из-за этих рогов.
Я увидела бабушку; она стояла в своих тапочках, с брызгами крови на лице и ночнушке. Она держала перед собой блестяще-красные рога, и когда наши взгляды пересеклись, меня опалил огонь, какого я никогда не видела раньше. Это было древнее, первобытное пламя: самка в пещере защищает детенышей. Взгляд был осмысленным. Ее тело передернулось, будто животное отряхивало влагу с шерсти. И затем ее глаза затянула пелена. Она посмотрела на варежки на своих руках, словно они действовали по своей воле.
– Но мне все еще хочется пить, – тихо сказала Джемма, продолжая воображаемый разговор. Она уронила рога на пол, повернулась и пошла в кухню. – Так хочется пить.
Десять И с мощью великой свершилось, или Эти цепкие молекулы возможностей
Комната для допросов № 2
Мэделин Фалко и детектив Г. Бандл
19 декабря // 20:11
Когда развеивается пыль от атомного взрыва, в комнате стоит зловещая тишина.
– Я тебе не верю, – говорит Бандл.
– Не верите – не надо.
– Мэд, ну серьезно. Восьмидесятилетняя бабуля…
– Она сильная, как буйвол, чувак.
Распахивается дверь, и, совершенно игнорируя присутствие Бандла, ко мне подходит женщина:
– Мэделин, меня зовут сержант Мендес. Скажи, как зовут твою бабушку.
За ее спиной стоит Вик; я улыбаюсь ему, и он внутренне улыбается в ответ, и впервые за много часов у меня выравнивается дыхание. Боже, как же я скучала!
– Как ее зовут? – второй раз спрашивает сержант Мендес.
– Вы отвезли ее в больницу и не знаете, как ее зовут?
– Я не лично ее отвозила. Как ее зовут?
– Оливия.
– А фамилия?
– Чемберс.
Бандл вздыхает, сцепляя руки на затылке:
– Сара, ну ты же понимаешь, что это маразм.
Мендес склоняется над диктофоном:
– Допрос Мэделин Фалко, проведенный детективом Бандлом, закончен в… – она сверяется с часами – восемь тринадцать после полудня. – Она нажимает на кнопку «Стоп» и смотрит на Бандла: – Я так не думаю, Герман.
Мы с Виком тихо сидим в комнате. Сержант Мендес и детектив Бандл выходят в коридор. Бандл не захлопывает дверь, поэтому нам почти все слышно. Мендес посылает Рона (видимо, детектива?) позвать лейтенанта Белла, потом позвонить в Бергенскую региональную больницу и сообщить им, что скоро за Оливией Чемберс приедет полиция. Затем она снаряжает отряд лучших бойцов Хакенсака проверить подсобку у «Бабушки», паб «Наполеон» и все остальные места, где может прятаться Нзази Кабонго. Еще несколько офицеров она отправляет в сад (последний парник справа), чтобы взяли образцы ДНК и отпечатки пальцев со всех пластинок, особенно авторства группы «Journey».
– Я знала, что мы слишком поторопились с этим, – говорит она. – Я говорила лейтенанту Беллу, но, блин… Надо было сильнее поднажать на него.
– Сара, ДНК не врет. То, что они сейчас рассказывают, это не…
Мендес снова появляется в комнате; видимо, ее не очень интересует мнение Бандла. Он следует за ней. Выражения у них на лицах, язык их тел, говорят об одном: она торопится, а он… ну, он, поужинал недавно. Какая восхитительная иллюстрация. Власть тут принадлежит Мендес, и все находящиеся в комнате это знают.
– Мне надо срочно поговорить с Нзази, – говорит она. – Вы знаете, где он?
Манифест Мэд гласит: когда интерпретируешь вопрос, избегай тона, отвечай только на то, что спросили.
– Нет, – говорю я.
Вик смотрит на меня, но ничего не произносит.
– Сара, факты есть факты, – говорит Бандл, указывая на него большим палецем. – Бейсболка. ДНК Кабонго нашли на бейсболке. Бейсболку нашли на месте преступления.
– Ой, – говорит Вик.
Слово словно вырывается у него само собой, но мне в нем слышится откровение. Я чувствую то же самое: так вот почему полиция в первую очередь заподозрила База. Вряд ли же дело только в бейсболке?
– Что ой? – спрашивает Бандл.
Вик говорит:
– Это я ее надел той ночью.
Бандл складывает руки на груди:
– Предположим, это правда. Но анализ ДНК на рогах говорит определенно: Кабонго держал их в руках. Мы это знаем. Это факт, подтвержденный наукой.
В полном замешательстве я говорю первое, что приходит мне в голову:
– Заз попытался вынуть рога.
Все поворачиваются ко мне, пока я пересказываю, что случилось тем вечером дальше: как Заз подбежал к дяде Лесу, попытался выдернуть рога из дяди, думая, что, может, еще не поздно; как мы вымыли лицо Джеммы, переодели ее, положили в кровать и рванули к заднему входу, как раз когда приехала полиция; как мы сожгли ее окровавленную ночнушку в мусорнике за садом; как рассказали Базу, что случилось и как не спали всю ночь, пытаясь придумать, что же нам делать.
Бандл покачал головой:
– На орудии убийства нашли ДНК База, а не его брата.
– Совпадение было стопроцентным? – спрашивает Вик. Сначала все молчат; мне кажется, вопрос их удивил. – У братьев же похожие ДНК, так?
Мендес круговыми движениями трет виски. Бандл, чувствуя, как его теория разваливается, краснеет и запинается.
– Ладно, – говорит он. – Что тогда насчет Блайта?
– Он в коме, – говорит Мендес.
– У нас есть улики.
– В лучшем случае косвенные, – говорит Мендес. – Ни оружия, ни отпечатков пальцев, ни свидетелей. Во всяком случае, свидетелей, которые бы не были в коме.
Бандл пару секунд пристально смотрит на нее. Лицо его опухло и совсем покраснело. Он склоняет голову набок, разворачивается и выбегает из комнаты.
– Зачем вам ДНК Заза? – спрашиваю я.
– Что?
– В коридоре вы отправили офицеров взять ДНК Нзази Кабонго.
– Нам нужно будет сопоставить его с образцами, найденными на месте преступления. Если вы говорите правду, сходство должно быть более полным, и тогда наши улики против База потеряют силу.
Мендес вздыхает и берет в руки диктофон:
– Сделайте мне одолжение, пожалуйста. Не уезжайте пока из города, ладно? У нас будут дополнительные вопросы к вам.
Я смотрю на Вика. Уверена, он думает то же самое.
– Мы никуда не уедем без База.
Она стоит, глядя на диктофон в руках, открывает рот, будто собирается что-то сказать, но затем останавливает себя.
– Вы же знали, что он невиновен, да? – говорит Вик. – До этого вы упомянули Нсимбу, двойняшку Нзази… Это же еще раскопать надо было. Я все пытался понять, зачем вам, сержанту, так трудиться, тем более что дело на первый взгляд такое простое. А это потому, что вы знали: это не он.
– У меня были подозрения, – говорит она. – Наш отдел в последнее время постоянно прессуют. Мы спешили побыстрее закрыть дело. ДНК с рогов совпало с тем, что мы нашли в Объединенной базе данных. Это показалось нам достаточным доказательством. Добавь к этому бейсболку – и все улики вели к Базу Кабонго.
– Но вы же сами сказали. – Вик указал в коридор. – Только что. Вы сказали, что надо было поднажать сильнее. Что подразумевает, что вы все-таки поднажимали.
Мендес слегка улыбается. Интересно, видит ли она в Вике то, что вижу я: пугающую реальность.
– Я была права насчет тебя, Вик, – говорит она. – Ты смышленый. И чуточку ботаник.
Она направляется к двери, и Вик говорит:
– Вы могли бы поднажать еще, мисс Мендес?
Она поворачивается и вздыхает. Интересно, когда она в последний раз высыпалась.
– Базу надо поговорить еще с кучей разных людей, и это я еще молчу про всю бумажную волокиту, которая мне предстоит. Помни, что такие дела быстро не делаются. Но да, я поднажму. Послушайте, ребят. Вы хотите, чтобы мы кому-нибудь позвонили? Кто бы смог вас забрать? Вик, нам не удалось дозвониться до твоей мамы, но…
– Сара… – В дверях стоит детектив Рон, и я почти вижу, как он зажал между ног хвост.
– Рон, – сухо произносит Мендес, – мы же уже говорили насчет твоей привычки врываться посреди…
– Простите, просто… я позвонил в больницу. – На его лице маска неизбывного замешательства, и в ней я вижу именно то, что искала. Наш план сработал. – Оливия Чем-берс исчезла сегодня днем. Никто не знает, где она.
(ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ)
ВИК
Зима не найдет нас здесь.
И никто не найдет. Но в этом и был весь смысл.
Как оказалось, бывший жироуловитель в кухонном полу «Наполеона» вмещал пятерых. Мы сидели лицом друг к другу, прижавшись спинами к стене, друг напротив друга, вытянув ноги на полу в два ряда, как акульи зубы или доска для игры в нарды. Мы сидели, наблюдая друг за другом в мерцающем свете свечи, сложив рюкзаки на колени и даже не пытаясь стряхнуть тяжесть с сердец. Интересно, когда в следующий раз мы так посидим все вместе? И как же странно: я всего неделю знаю их всех. Но больше и не нужно. Я перестал быть гусем с перебитым крылом.
Я стал частью волшебной стаи.
У жироуловителя было по вентиляционному отверстию на противоположных стенах: одно из них раньше вело к стоку в полу. Так сказала Марго, прежде чем запереть нас здесь. Потом она объяснила, что, когда на улице установили новый жироуловитель, тот сток закрыли, чтобы отвести сточные воды к новому уловителю. Второе отверстие вело к старой посудомойке. Ее больше не использовали, но выкинуть как-то руки не доходили. Из этого второго отверстия поступал воздух, которым мы и дышали. Мы уже давно сняли куртки, шапки и перчатки и пару раз сменили друг друга у отверстия.
Кислород: самая суперскаковая лошадь в мире.
– Какое мерзкое место, – сказала Мэд.
Я держал ее за руку, но не слишком крепко: синяки были еще совсем свежими. Настоящая радуга из розовых и голубоватых тонов.
– Ну, не знаю, – сказал я. – Мы сидим в тесном и темном помещении с ограниченным доступом кислорода и минимальными шансами на выживание. Добавь Тома Хэнкса – и чем тебе не космический корабль.
Мэд улыбнулась, и я, как обычно, немножко умер.
– Все еще не могу поверить… – сказала она, моментально стерев улыбку с лица. – Поверить не могу, что мы оставили ее там.
…
– У нас не было выбора, – сказал я.
Она смотрит мне прямо в лицо, словно впервые видит.
– А что, если ее арестуют?
– Не арестуют. Она же совсем старая. Копы подумают то, что подумал бы каждый: она не могла бы этого сделать. Я вот, например, видел это своими глазами – и все равно не совсем верю.
Мэд покачала головой:
– Пожилой возраст, деменция… ничто из этого не снимает с нее подозрений. Джемма не может пойти в тюрьму, Вик. Она там не выживет.
– Мы ее вымыли. А еще она же была в тех варежках. Они ничего не найдут на рогах. Они не станут ее арестовывать, Мэд. Баз прав. План сработает.
Мэд кивает в каком-то дурмане, протягивает руку вниз, достает что-то из кармана и протягивает мне:
– Вот. Я почти забыла.
Это ее фотография: она сидит на обочине дороги и смотрит в сторону, будто не знает, что ее снимают. Наверно, ветреный был день: волосы у нее летят в разные стороны.
– Фотография, на которой никого, кроме тебя, нет, – сказал я.
– Теперь это кажется таким неважным…
– Нет, это очень важно. Спасибо.
Она улыбается мне, прикладывается головой к отверстию, и я не вполне уверен, что не засыпает.
Представьте вот что: миллиард крошечных событий, цепкие молекулы возможностей, порыв ветра здесь, прогулка по тротуару там ведут дальше наш сюжет, создают обстановку, характеры, обстоятельства, пока мы не становимся теми, кто есть сейчас, где мы есть сейчас, как мы есть.
Кто и где – это простые вопросы.
1. Ребята с Аппетитом.
2. Жироуловитель.
«Как?» – вопрос посложнее.
Сегодня утром по радио, Интернету и телевидению сообщили о преступлении. Было объявлено, что полиция в срочном порядке выписала ордер на арест База Кабонго, основываясь на ДНК, найденной на месте преступления.
Мы все ужасно разволновались, особенно Мэд.
– На месте преступления нашли ДНК? – все спрашивала она. – Но он же там даже не появлялся.
Баз отвечал ей печальной улыбкой. Это была та же улыбка, с которой он рассказывал про сломанный кондиционер в кинотеатре и про то, как тот малоосведомленный сотрудник предположил, что Баз приехал из джунглей. Услышав ту историю, я покачал головой; от этой же голова у меня шла кругом, сначала медленно, а потом быстрее, как будто лопасти вертолета закрутились, набирая скорость, унося мою голову все выше в несправедливые небеса.
Через несколько часов полиция уже обыскивала улицы Нью-Милфорда. Они заполнили город, точно жадная саранча, и, вооружившись фотографиями База, стучались в двери: «Вы видели этого человека?» Мы решили не задерживаться здесь до той минуты, когда Гюнтер Мейвуд сможет сказать свое решительное «да».
Сначала мы пошли к «Бабушке». Норм предложил нам спрятаться в подсобке, но явно сомневался, можно ли оставлять нас надолго. Сказал, что полицейские прочесывали Желоб и спрашивали, видел ли кто-нибудь База. Они обещали неопасным преступникам сделку со следствием, если их усилия помогут полиции найти подозреваемого. Так как магазин Норма находился в опасной близости от Желоба, мы не винили Норма за его осторожность. Здесь, в тени болтающихся под потолком свиных туш, мы и провели день, обсуждая, что нам делать.
– Можем просто уехать, – сказала Коко. – Покинуть этот город и никогда не возвращаться.
Мэд отвергла идею, сказав, что не бросит Джемму. Я ничего не сказал, но мне и не пришлось. Я думаю, Баз увидел все в моих глазах. Мама оставалась мамой, даже если я едва узнавал ее теперь. Я никак не мог уехать, тем более навсегда. Мы все говорили и говорили, и внезапно Баз довольно заулыбался.
Бывали времена… много раз… когда я терял веру. Но теперь я уверен, друзья мои. Господь Бог благословил нас.
Не говоря ни слова, он подошел к столу Норма, взял телефонную трубку и по памяти набрал номер.
Баз. Кристофер.
Баз. Да, все в порядке. Прости, нет времени разговаривать. Нам нужна твоя помощь. Можешь сбежать ненадолго из «Гостиной»?
…
Баз. Не знаю. Несколько дней, может, недель. Или дольше. …
Баз. Спасибо. Собирай чемодан. Завтра у Святого Барта на Бридж-стрит в четыре вечера.
…
Баз. Не за что.
И он повесил трубку.
Вот это «не за что» показалось мне очень странным. Такая необычная просьба со стороны База; наверняка в ответ надо было сделать что-то столь же любезное. Но, похоже, дело обстояло иначе. Понаблюдав за Тофером то недолгое время, что мы провели в «Гостиной», я понял, что ребята много для него значат. Но это – совсем другое дело. Баз попросил Тофера забыть о своей жизни на неопределенный срок, и в ответ Тофер не просто согласился, но еще и высказал благодарность.
Баз стоял посередине комнаты с телефоном в руке. Подождав секунду, он по памяти набрал другой номер.
Баз. Позовите Рейчел Граймс, пожалуйста. Да, я могу подождать.
. . . . . .
Баз. Привет, Рейчел. Да, все в порядке. Послушай, у меня нет времени объяснять, но… нам нужна твоя помощь. К вам вчера поздно ночью – или сегодня рано утром – поступила новая пациентка. Зовут Оливия Чемберс.
Он продолжил выдавать сложные инструкции своим спокойным командным голосом. Он просил Рейчел о многом: если ее поймают с поличным, она лишится своей новой работы. Но, как и прошлый телефонный разговор, этот оказался коротким и продуктивным.
Рейчел согласилась.
Баз сделал еще один звонок, на сей раз Марго Бонапарт. Ее номер навеки поселился у него в кармане. Разговор опять был коротким, и, когда Баз повесил трубку, Мэд спросила, откуда он знал, что Джемму повезут в Бергенскую региональную больницу.
– Наверняка я не знал. Но мне показалось, что после такой душевной травмы полицейские захотят повести ее в больницу. А Бергенская ближе всего к твоему дому.
Мне пришло в голову, что вера База в Божественное провидение была сродни моей собственной вере в столкновения: можно приписать совпадения Всевышнему с той же легкостью, что мы приписываем их математике. Бабушку Мэд по случайности отвезли в ту же больницу, куда только что устроилась бывшая подружка База. Вынужден признать, я был впечатлен. И неважно, в чем тут было дело: в крошечных красных огоньках, что наталкиваются друг на друга, или в активном вмешательстве Живого Бога, каким Его исповедовал Баз.
Мы подождали до темноты и, прокравшись кварталов шесть, встретились с Марго за «Наполеоном». Она, как обычно, царила в заведении перед закрытием. Она провела нас внутрь, приказала «как следует поссать» и повела нас в заднюю кухню, где достала из кладовки шесть свечей, спички, разного хлеба и сыров и бутылочной воды. Она предупредила, чтобы мы не пили слишком много, потому что терпеть придется долго. Пожелав приятного аппетита, она захлопнула жироуловитель.
Я подозревал, что Марго отчасти так рвалась нам помочь, потому что желала заняться сексом и родить детей Базу Ка-бонго.
Ну и что? Мне-то на что жаловаться? Когда их призывали на помощь, все Главы неизменно нам помогали.
Большую часть ночи мы то засыпали, то просыпались, то начинали разговоры, то обрывали их; время все шло, и мы потеряли ему счет. Как и было обещано, Марго вернулась на следующее утро до открытия паба, чтобы выпустить нас в туалет. После этого мы пять минут поразминали спины и ноги и снова погрузились в жироуловитель. Нас накрыло ошеломительное чувство роковой неизбежности. Мы словно пробежали марафон, чтобы услышать звуки выстрелов. Марго проверила наши запасы, убедила нас, что вернется в назначенный час, и снова заперла дверь.
– Тут пахнет бобриными анальными секретами, – сказала Коко.
Нзази щелкнул пальцами.
Я не стал уточнять, что кастореум пахнет мускусной ванилью, и именно поэтому его добавляют в духи и еду. В общем и целом я был согласен с комментарием Коко. Может, жироуловителем и не пользовались целую вечность, но тут все равно пахло не лучше, чем пахнет потная подмышка объятия сбоку.
От нас определенно будет вонять, когда мы выберемся. Вскоре Мэд заснула, прислонившись к моему плечу. Нзази сидел у вентиляционного отверстия и тоже спал, прислонив голову к стене. По ту сторону наискосок лежала Коко, крепко заснув у База на коленях.
Баз тоже спал. Но отнюдь не мирно. Пот изливался у него со лба, и он бормотал что-то на том же языке, как и в прошлый раз, когда говорил во сне. Это продолжалось несколько минут, а затем, вот так запросто, он проснулся. Не вскрикнул, не дернулся, просто открыл глаза и начал говорить.
Свеча почти догорела, и пока он говорил, я отправился в свою Страну Ничего. Там я сидел в свете другого пламени: адского пламени, через которое прошли Баз и Нзази.
* * *
– Однажды вечером к нашему дому приходит сосед, говорит, что вооруженные гражданские, повстанцы, ходят от двери к двери со списком политических врагов. В списке много имен, и имя моей семьи там тоже есть. И вскоре мы слышим бомбы и ружья; взрывы звучат все чаще и ближе. Что нам делать? Мы убежали. Мы покинули дом, взяв только самое необходимое, и потом к нам присоединились тысячи других. Целое море людей, бегущих от смерти.
Когда я спросил маму, кто ведет нас и куда мы идем, она процитировала Исход 13:21: «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем и ночью…» Она произнесла это столько раз, что мне начало казаться, что это стихи. Мы пошли по дороге далеко на юг, останавливались в разных деревушках, спали в заброшенных домах или на дороге. В какой-то момент решили, что мы направимся в Киншасу, в Республику Конго. Среди наших происходили стычки. Я тогда был совсем маленький и не понимал, что происходит, но уже боялся. Так продолжалось около трех месяцев. Три месяца, когда мы питались листьями кассавы, смотрели, как больных тащат в ручных тележках, перешагивали через тела… Люди валились замертво от истощения, усталости, обезвоживания. Мама настояла, что мы должны обращаться с людьми по-человечески независимо от обстоятельств. Она процитировала Евангелие от Луки, 21:3–4: «…истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила; ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
Мама любила Библию, но и другие книги тоже. Ей нравилось знакомить учеников с новыми персонажами и идеями. Она часто говорила: «Мы часть одной и той же истории, Баз, но появляемся в разных главах. Мы не можем выбирать обстоятельства или сюжет, но можем выбрать, какими персонажами станем». Раз в день, когда мы шли по дороге, она выбирала кого-нибудь из толпы, показывала на них и говорила: «Видишь, Баз? Вон там. Маленькая девочка с грязным личиком. В этой главе ты будешь ей братом». Или: «Смотри, вот женщина с грустными глазами. Но это не глава с грустными глазами. Давай-ка развеселим ее». Мы производили много улыбок, и у меня было множество братьев и сестер, и Глав становилось все больше.
…
Баз остановился на секунду. Я уже было подумал, что он закончил, но он заговорил снова:
– Мы пересекли реку Конго рано утром. Наши каноэ натыкались на раздутые трупы. И мы знали, что скоро тоже можем поплыть по реке. Незадолго до того мы дошли до Мбанза-Нгунгу, где остановились в лагере для беженцев. Смерть была повсюду. Она любит заводить новые знакомства, и вскоре она нанесла визит моему отцу. Он умер в больнице Мбанза-Нгунгу. Позже мы узнали, что он втайне разделял еду между нами, а сам почти ничего не ел. И все же даже после папиной смерти мама повторила: «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой…»
Через неделю мы залезли в грузовик и отправились в Киншасу. Мне было одиннадцать, а Нзази и Нсимбе по четыре. Мы остановились в бытовке со старой подругой мамы. Я так и не узнал имени этой женщины; мы называли ее мамой. Там мы мечтали, чтобы наши жизни не закончились. Мы зарегистрировались в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Начало было положено. Мама настаивала на том, чтобы мы платили за жилье, а это значило, надо было найти, откуда брать деньги. Она предложила нам продавать листья кассавы местным рыбакам. Киншаса – большой деловой город, но на окраинах есть рыбацкие деревушки. Пока мы шли пешком через всю страну, мама придумала разные способы готовить листья кассавы. Она спросила, что я думаю про ее идею; думаю ли я, что рыбаки будут платить за такое. Я сказал, что мне идея не нравится. «Может, настала наша очередь быть чьей-то Главой», – сказал я. Мама кивнула и сказала: «Может, Баз. Может. Наши Главы уже и себе не могли помочь; для них конец истории был так близок, что по сторонам они и не оглядывались. Скажи мне, Мбемба Базихир, дошли ли мы до финала нашей истории?» Я поразмышлял об этом секунду, а потом встал и побежал к двери: «Я принесу листья, мама!» Тогда мы в последний раз смеялись вместе.
. . .
– Мама и Нзази выглядели как тутси. Так все говорили с самого начала. В этом не было ничего страшного, просто такие черты. Но здесь, в Киншасе, это было страшно. Руандский конфликт выплеснулся за пределы Руанды; многие местные конголезцы охотились на тутси. Сжигали их живьем. Я говорю про мирное население, понимаешь? Не про армейских повстанцев. Дети на улице швыряли в мою мать камнями просто потому, что она казалась похожей на тутси. Нзази было всего четыре года, но и к нему они были беспощадны.
Международный Красный Крест организовал лагерь для тутси в Киншасе, где они были бы в безопасности. Мы решили перебраться туда, пока конфликт не разрешится. Ночью накануне переезда мама испекла буханку хлеба. Мука была недешевой, но она решила отблагодарить подругу, которая пустила нас в свою подсобку. Она пела, пока готовила: «Велика Твоя милость, велика Твоя милость, и каждое утро я вижу ее…» Когда хлеб был готов, она отправила нас с Нзази передать его соседке. Я помню теплую буханку в своих руках. Мне так хотелось от нее откусить! Тогда мне в последний раз хотелось хлеба.
Мы доставили хлеб в сохранности. Женщина, которую мы называли мамой, взяла его с улыбкой и предложила нам бутылку колы. Мы не пили колу с самого Браззавиля. Нзази-то и вообще никогда ее не пил. Я помню, как он вопросительно посмотрел на меня. Внезапно оказавшись главным, я натянул деловое выражение лица, очень серьезное, и как раз собирался сказать «нет, спасибо», но тут понял, что бешено киваю. Мы с Нзази поделили бутылку колы. Тогда я пил газировку в последний раз.
Когда начались выстрелы, я не подпрыгнул. Нзази стоял рядом, держа меня за руку, и я помню, как едва дернулись его крошечные пальчики. Мы уже привыкли к перестрелкам. Когда мы вернулись в комнату…
… …
Баз уставился на крошечное пламя свечи. Что-то изменилось. В глазах у него не было никакого выражения, а слезы все текли и текли.
– Они были мертвы.
…
Поначалу я даже удивился: откуда исходит голос? Губы База совсем не шевелились.
– Нсимба с мамой, – сказал он. Хотя нет, это был не он. Я повернулся и увидел, как на меня смотрит Нзази Кабонго. В голосе его слышался надрыв. – Они были мертвы. Их убили.
Я подумал: наверно, эти слова, первые, которые я услышал от Нзази, описывали тот самый случай, после которого он перестал говорить. Внезапно я пожалел, что мы не проводим вместе больше времени, чтобы я научился слышать, как он говорит что-то другое… что-то не такое тяжелое, темное.
Я был уверен: это далеко не все. История братьев Кабонго напоминала бездонный кувшин, который никогда не наполнится до краев. Таков был и сам Нзази. И я не настаивал, чтобы он говорил дальше.
– Они были мертвы, – повторил кто-то из братьев Ка-бонго. Я не различал их голосов…
* * *
В какой-то момент я заснул тревожным сном. Проснувшись, я почувствовал, что хочу ссать, как Суперскаковая лошадь. Мэд и Нзази с превеликим аппетитом ели хлеб с сыром; Коко крепко спала у База на коленях, а сам Баз тихо напевал какую-то красивую спокойную песню. Мелодии я не знал, но готов поклясться, что это был церковный гимн.
Баз прекратил пение и протянул мне кусок сыра:
– Проснись и пой, паренек. Надо обсудить наш план.
В три часа Марго уведет сотрудников из кухни, и мы навеки избавимся от ловушки жироуловителя. Она подбросит нас с Базом и Мэд к полицейскому отделению, потом заедет в Бергенскую региональную больницу, чтобы забрать бабушку Мэд. Если у Рейчел все получится, бабушку к тому времени выпишут под вымышленным именем, и она будет ждать нас в приемной. Тогда Марго отвезет Нзази, Коко и Джемму к собору Святого Барта, где их будет ждать Тофер.
– Отец Рейнс сказал, что автобус Божьих гусей отправляется ровно в четыре, – сказал Баз.
Пунктуальность – забытое искусство, и поэтому она так врезается в память. У нас не было ни малейших сомнений насчет того, когда именно автобус отправится в Тампу.
Коко пошевелилась во сне.
Баз заговорил тише, обращаясь теперь к Нзази:
– До дальнейших распоряжений Кристофер – это я. Понимаешь? Он за все отвечает, пока мы не разберемся с ситуацией.
Баз достал из заднего кармана пухлый конверт с надписью «СЛУЖБА РЕНЕССАНС». Я видел пару выбившихся сверху сотенных купюр. Он протянул конверт брату:
– Постарайся, чтобы хватило надолго, Нзази. Внутри ты найдешь записку для Кристофера. Там я объясняю, что произошло, и пишу, как поступить с бабушкой Мэд, когда вы доберетесь до Тампы. – Он посмотрел на Мэд и положил ладонь ей на руку. – Помнишь, что говорил отец Рейнс по поводу этих программ для стариков? Пока ты не приедешь, о ней будет кому позаботиться. Хорошо?
Мэд кивнула, утирая слезу.
– Будет хорошо, если ты скажешь это вслух, Мэделин.
– Хорошо, – сказала Мэд.
Баз повернулся ко мне:
– Я должен перед тобой извиниться.
– За что?
– Мы так и не закончили список твоего отца.
– Боже, Баз. Это не твоя вина. Вы столько сделали для меня, ребята… – Мне в голову пришла мысль, и я решил ей воспользоваться, не раздумывая. – Мбемба Бахизир Кабонго, – сказал я, чувствуя себя абсолютным малым мальчиком. Наверно, произношение у меня сейчас ужас какое… однако, судя по виду База, он оценил мои старания. – Тебе нужна помощь?
Улыбка База засияла танцующими огоньками.
– Да, мне нужна помощь.
Я подумал про молекулы возможностей, эти миллиарды крохотных событий, призванных продвинуть мой сюжет, создать обстоятельства, развить мой характер.
– Ты причинил кому-нибудь вред?
Его улыбка выросла в созвездие, и он ответил одним-единственным словом:
– Нет.
– Тогда ладно.
Мы пообсуждали тактические вопросы. Что, если? Мы знали: стоит нам ступить на порог участка, База арестуют. Что случится дальше, таилось за пеленой неизвестности. Мы еще раз спросили База, уверен ли он. Нужно ли сознаваться. Он настоял, что нужно. Виновен, невиновен – его все равно разыскивают. Он не станет рисковать общим будущим и сбегать из города. Если полиция решит, что они нашли преступника, то поиски прекратятся, и остальные смогут сбежать незамеченными.
– Я знаю, это только временно, – сказал он. – Я доверяю вам с Мэд.
Мне бы хотелось, чтобы он поделился со мной этой верой.
Но что поделать.
Было решено, что наши истории надо будет завершить не раньше восьми вечера, чтобы у Божьих гусей было четыре часа в запасе, а то и больше. Полицейские, конечно, обзвонят другие штаты, разошлют приметы или что они там делают. Мы надеялись, они не додумаются, что наши сбегут на автобусе, или что автобус уже уедет так далеко, что найти его будет невозможно. Мы думали вообще не упоминать этот автобус в рассказах, но Баз настоял, что не надо опускать из рассказов ничего, иначе нас смогут посчитать сообщниками.
– Вы должны рассказать правду, – сказал он. – А значит, надо тянуть время, но не врать.
– И как нам это сделать?
– Отвлекающий маневр, Вик. Им будет нужно время. И мы должны дать им время. – Он улыбнулся, глядя мне на колени: там покоилась рука Мэд в моей ладони. – Как у твоих родителей, у вас теперь есть компас. Мэд – это восток, а ты запад. Тебе придется говорить, так говори. Расскажи им про всех девочек, в которых, как тебе казалось, ты был влюблен раньше.
Фраза прозвучала как полное предложение, но я-то знал.
«Ты был влюблен раньше… Мэд».
На минуту наступила тишина, пока я улыбался изнутри – всем сердцем. Баз гладил Коко по волосам. Он же ей как папа! Не такой, который носится с детьми и опекает их… Но есть в нем какая-то глубинная мягкость, нежность.
– Полицейские будут делать свои выводы, – продолжил он, разговаривая скорее с самим собой. – Ну и ладно. Пусть думают, что хотят. Но не лги.
Коко повернулась у него на коленях и села, потирая глаза:
– О чем говорите?
Баз улыбнулся ей:
– О том, что кокосам вроде тебя место во Флориде.
…
– А как там вообще? – спросила она, позевывая. – Говори правду.
Баз пожал плечами:
– Никогда там не был. Но слышал, они на пороге ренессанса.
Последовали улыбки (в том числе внутренние), но никто не рассмеялся. Не уверен, что мы бы смогли, даже если бы захотели.
– Я люблю тебя, Баз, – сказала Коко.
С влажным блеском в глазах Баз прошептал:
– И я тебя люблю, Коко.
Откуда-то из кухни или зала раздался пронзительный звон, словно любовь База и Коко воспламенила здание.
– Пришла Марго, – сказал Баз.
Видимо, она решила, что лучший способ отвлечь сотрудников – это включить сигнализацию. Это значило, у нас оставалась всего пара минут, пока паб не заполонят пожарные.
– Позаботишься о ней? – спросил Баз.
Он обращался ко мне, и не было нужды уточнять, о ком он говорил.
Я сжал руку Мэд и кивнул. Время закончилось. Все минуты, на которых мы сидели, скопились в огромную гору и грозили обрушиться.
Мэд склонилась вперед и сжала Коко в крепких объятиях. – Повеселись во Флориде, – сказала она сквозь слезы. – Я приеду как смогу, хорошо?
Теперь плакала и Коко; ее крошечное тельце сотрясалось от беззвучных рыданий.
Перед моим носом появилась рука. Нзази. Я взял руку, пожал ее, и это было лучшее рукопожатие моей юной жизни.
– До свидания, Нзази, – сказал я.
Он покачал головой и дважды щелкнул пальцами. Я посмотрел на База, который уточнил:
– Он хочет, чтобы ты называл его Зазом.
Я Суперскаковая лошадь.
Едва сдерживая слезы, я сказал:
– До свидания, Заз.
Он отпустил мою руку, перегнулся через мои колени и обнял Мэд. Объятия длились недолго, но были крепкими. Она плакала и шептала ему что-то на ухо, что-то, чего я никогда не узнаю и чего мне не надо знать.
Над нашими головами раздались шаги. Не осталось времени сказать все, что я хотел. Вместо этого я обвел их взглядом. И подумал, что, наверно, они думают то же, что и я. Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели друг на друга. Какой исключительный момент.
. .
Свистящий звук: кто-то отодвинул кухонный ковер.
– И назвались они Ребята с Аппетитом, и они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо.
Заз щелкнул пальцами.
…
– И увидели, что это хорошо, – прошептал Баз.
…
– И увидели, что это хорошо, – сказала Мэд, не выпуская моей руки.
…
Все посмотрели на меня.
– Вы, ребят, самое прекрасное сложное предложение, которое я слышал, – сказал я.
– Мы, – сказала Мэд.
– Что?
– Мы самое прекрасное сложное предложение, которое ты слышал.
– Мы.
Какое слово.
Над головой щелкнула щеколда; я поднял взгляд и прошептал слова, что бурлили под поверхностью. Слова, полные сердечного смысла, живущие где-то между Ничего и Что-то.
– И увидели, что это хорошо.
Дверца распахнулась, и мы заслонили глаза руками: от сияющего лица Марго Бонапарт исходил невыносимый свет.
– Bonjour, mes petits gourmands!
Одиннадцать Все иначе, все по-прежнему, или Самое важное – это отпустить
Снаружи полицейского отделения Хакенсака Мэделин Фалко и Бруно Виктор Бенуччи III
19 декабря // 20:35
ВИК
«Coming Up Roses» заканчивается. «Coming Up Roses» начинается.
Магия Мэд.
Ветер бьет меня по волосам по-новому: коротким, острым стаккато.
Я вытаскиваю синюю шапку из кармана куртки и натягиваю на уши.
Мэд поет в ночной эфир. Мы сидим на обочине парковки через дорогу от полицейского участка. Размеренно гудит поток машин. Сегодня днем Марго Бонапарт довезла нас до этого самого места, и мы стояли здесь с Мэд и Базом, пытаясь набраться храбрости и войти внутрь.
Кажется, это было несколько недель назад.
Но Баз все еще там.
И тут я понимаю, почему все остальные Главы подарили Базу куда больше, чем свою историю. Баз сам что-то отдал мне. Я не могу подобрать этому имя, но это что-то, чего раньше у меня не было. Что-то теплое, настоящее. Что-то похожее на то, что было у нас с папой.
Они напоминали мне друг друга. И дело было не только в планах на будущее и бейсболе. Они понимали бурление под поверхностью; их бурление прорывалось на поверхность и взрывалось ярчайшими из красных огоньков.
– Ладно, теперь моя очередь делать заявление, – говорю я.
Мэд улыбается мне:
– Давай.
– Я, Бруно Виктор Бенуччи III, будучи в здравом уме и трезвой памяти, сим объявляю на все четыре края округа Берген…
У округа есть четыре края?
– На все края округа Берген, сколько бы их ни было, объявляю, что обязуюсь посещать полицейское отделение Хакенсака на ежедневной основе, где буду доводить всех до родимчика своей навязчивостью, пока они не отпустят База Кабонго.
… …
Мы не отрываясь смотрим на здание участка. Заявления недостаточно, совсем недостаточно. На самом деле, как только стало ясно, что его не собираются отпускать, мне пришла в голову мысль. Эта идея вряд ли обойдется мне даром, но это мелочи в сравнении с тем, что я получил от База.
В моем скоплении оставалось так мало красных огоньков. Я уже потерял папу; еще один огонек я потерять не могу.
– Я серьезно, – говорю я. – У меня есть план.
– Хорошо.
Даже на этом зверском морозе, где недолго отморозить пальцы, близость Мэд однозначно согревает. От этого мне становится грустно за свое будущее: кто знает, когда – и как часто – я буду с ней видеться. Но за настоящее мне радостно, потому что сейчас она здесь. Прямо здесь. Рядом со мной. Мэд, собственной персоной.
… …
– Ты уверен, что он придет? – спрашивает она.
Весь день до мамы так никто и не дозвонился, поэтому, прежде чем уйти из участка, я попросил одного офицера позвонить Фрэнку, чтобы он нас забрал. В памяти всплывает воспоминание: Клинт с Кори вопят со своих насестов в гостиной, пока Фрэнк опускается на одно колено. И теперь я тоже сомневаюсь: а он вообще придет?
– Придет, придет, – говорю я, надеясь, что голос у меня звучит увереннее, чем мои мысли.
– Как думаешь, он сможет отвезти меня до автобусной остановки? – спрашивает Мэд.
– Конечно. Когда мы уедем из больницы.
– Из больницы?
Я надеюсь, что в моем взгляде читается: «Ты чего, вообще?!»
– Мэд. У тебя травмы. Тебя, наверно, на несколько недель в больницу положат.
– Вик…
– Не хочешь в больницу? Ну ладно. Только не приходи потом плакаться, когда твои кости срастутся под странными углами.
– Ты ведь знаешь, что мне надо уехать, да?
Я сглатываю комок в горле, избегая смотреть на нее.
– Сержант Мендес сказала нам не уезжать из города. У тебя могут возникнуть серьезные проблемы.
– Я не могу оставить бабушку одну. Мне надо уехать.
Я смотрю на свои ботинки. Как же я их ненавижу. Чертовы сраные ботинки.
– Ладно. Тогда я тоже поеду.
– Вик…
– Да. Поеду.
– А как твоя мама? А как Баз? А как твой план? Ты уедешь, и кто станет заявлять на четыре края округа Берген…
– Или сколько бы там не было краев.
– Да, или сколько бы там не было краев. Тебе нельзя уезжать, Вик. Пока нельзя.
Мне хочется изо всех сил поцеловать ее за это «пока нельзя». Прямо изо всех-всех сил. Но это мои личные проблемы, потому что рядом с ней я всегда себя так чувствую. Но нельзя же постоянно изо всех сил целовать девушек. В этом я почти уверен.
– Так что же нам делать? – говорю я.
– Не знаю.
– Мы что, больше никогда не увидимся?
– Конечно увидимся. А пока мы можем смотреть на один и тот же закат.
Мне хочется сказать, что она может засунуть свой закат, куда ей вздумается; мне нужно само солнце.
Но я молчу.
– …И ты расцветаешь розами, куда бы ни пошла.
Пока Мэд поет, я потираю крошечную царапину на горле. Привет от Автопортрета. Я все еще чувствую его крепкие пальцы у себя на плечах, жар его дыхания за ухом. Он был сильным, но Заз сильнее. Я думаю про больничную фотографию папы Коко, Томаса Блайта. Возможно, мне никогда не узнать, что с ним случилось, но, если учесть, с какой легкостью Заз одолел Автопортрет, я могу нарисовать вполне правдоподобную картину. Я слышу голос Заза в жироуловителе. «Нсимба и мама, – сказал он. – Они были мертвы». Их убили. Он тогда был совсем малышом… даже представить не могу.
Но думаю, Заз видит пустые глаза мамы с сестренкой, куда бы ни пошел.
– Он собирался убить меня, – говорю я.
Мэд прекращает пение.
– Твой дядя собирался меня убить. Заз и твоя бабушка… это была самозащита.
Мэд кивает:
– Самозащита.
Интересно, сколько раз за жизнь мне придется напоминать себе об этом. Наверно, много. Каким бы правдивым ни было оправдание, все равно звучит фальшиво.
Мэд достает сигарету, зажигает, затягивается:
– Кстати, круто ты заметил про схожие ДНК у братьев. Практически раскрыл преступление.
Меня тяжелым одеялом накрывают слова Фрэнка. Он произнес их на прошлой неделе за ужином. У братьев ДНК так же похожи, как и у детей с родителями.
– Спасибо, – говорю я. – Видишь, как полезно смотреть детективные сериалы.
Где-то рядом взвизгивают шины, и у нас за спиной паркуется «Акура-седан». Явился не запылился, пуделек.
Открыватся дверь, и наружу выпрыгивает серый костюм. Я уже ждал, что вслед за ним посыпется зеленая фасоль. Фрэнк в несколько шагов преодолевает расстояние между нами и заключает меня в неловкие объятия. Может, я ошибаюсь, но похоже, он плачет. Пару раз мужественно хлопнув меня по спине, он отходит на шаг и внимательно меня изучает.
– Новая шапка?
– Ага.
– Симпатично, – говорит он, подергивая носом.
Я и не знал, что люди могут дергать носом, но Фрэнк раз за разом выводит человечество на новый уровень.
– Виктор, где ты был?
– Долго рассказывать.
Я жду, что он начнет настаивать, но вместо этого он говорит:
– От тебя ужасно воняет.
– Знаю.
– То есть прямо ужасно.
– Фрэнк, где мама?
Он слегка улыбается, поворачивается к Мэд и протягивает ей руку:
– Фрэнк, Виков… хм, я друг семьи.
Мэд пожимает ему руку. Интересно, почему он не стал отвечать на мой вопрос? Он поворачивается, открывает нам заднюю дверь, но я не трогаюсь с места:
– Где она?
… …
Он весь поникает:
– Она звонила несколько дней назад, сказала, что у нее все в порядке. Потом еще раз позвонила вчера вечером. Она не говорит, куда уехала. Ищет тебя. Конечно, на мобильный она не отвечает.
Улица бледнеет, сменяется песком, потом волнами, потом одинаковыми татуировками.
Покачивающейся вывеской «Гостиной» со свежими чернилами.
Увековеченным горизонтом Утесов.
Дымящимися кирпичами первого поцелуя и отчаянием колодца желаний.
Мама видела, как я восемь дней назад унес урну с собой… Должна была заметить. И она знала, что было внутри.
Сбрось меня с вершины нашей скалы.
Мне кажется, я знаю, где она.
* * *
Согласно навигатору в Суперскаковой машине Фрэнка до Рокфеллер-Центра нам оставалось километров двадцать пять. Мэд заснула почти сразу, как голова ее коснулась оконного стекла. В слабом свечении огней моста я листал первые страницы «Изгоев». С самого начала я проникся главным героем. Одиночка, который хочет выглядеть как Пол Ньюман.
Я не хочу выглядеть как Пол Ньюман. Но ощущения мне знакомы.
Я читаю еще несколько страниц. Очень захватывает. Заглянув в конец, я читаю последний абзац, который слово в слово повторяет первый. Воронка Хинтон: одновременная чрезвычайная противоположность как она есть.
Мы подъезжаем к городу. Я наблюдаю за спящей Мэд и размышляю о том, как закончится наша история. Во многих смыслах мы принадлежим одному миру. Нам обоим знакома боль потери родителя (в ее случае – обоих родителей). Мы оба знаем, каково это – желать большего, чем выделила нам жизнь. Каково это – увидеть железный колокол и захотеть в него зазвонить. Искать бурление под поверхностью и знать, что ни один из нас – к добру ли, к худу ли – не привязан к своему прошлому.
Потому что прошлое – это прошлое.
Итак, я закончу школу. Если Фрэнк с мамой поженятся, я приду на их свадьбу. После этого останется только быть Суперскаковой лошадью двадцать четыре часа в сутки. Будущее принадлежит мне одному. Если учесть, что во Флориде круглый год солнце, будущее выглядит очень светлым.
Но сначала о главном.
Я делаю глубокий вдох и неохотно возвращаюсь к своей единственной настоящей идее, к своему великому плану, к последнему прибежищу.
– Так это… Фрэнк, – говорю я. – Ты ведь юрист. Предположим, невинного человека арестовали за убийство.
Следует пауза.
– Эммм… ладно, допустим.
И я принимаюсь за дело. В самых общих фразах и не называя имен я пересказываю ему дело База, включая предыдущие аресты и подозрения полиции. Фрэнк подтверждает то, что уже сказала Мендес: если у полиции будет на руках более похожая ДНК, тогда их, при наличии записанных свидетельств двух очевидцев, будет вполне достаточно, чтобы его освободили. Также он подтверждает, что тут необходимо терпение.
– К сожалению, – говорит он. – Такие вещи занимают много времени, Вик. Но, если тебе от этого станет легче, я могу посмотреть на дело. Проследить, чтобы этот парень не остался под стражей дольше, чем необходимо. Но для этого, разумеется, мне будет нужно его имя.
– Это было бы здорово. Спасибо, Фрэнк.
– Ох, да забудь.
Я смотрю Фрэнку в глаза, не зная, что ищу в них. Между ним и его детьми, Клинтом и Кори, есть определенное сходство. Мне почему-то интересно, как выглядела их мама.
Картина: мы с папой и мамой сидим за обеденным столом. Папа кладет вилку и протягивает под столом руку в мамину сторону. (Эти руки никогда не потеряются!) Затем следуют слова. У-меня-рак-но-мы-справимся, слезы, печальные улыбки, и, и… я знаю, что все закончится плохо, но мне почему-то не грустно. Потому что я пока этого не знаю. Папа выглядит как прежде, ведет себя по-прежнему, уходит на работу рано, приходит с работы поздно, клацает зубами, когда жует макароны, одновременно смотрит новости и читает газету, заходит ко мне каждый вечер.
Эй, Вик. Нужно что-нибудь?
Нет, пап.
Все хорошо?
Да, пап.
Ну тогда хорошо. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, пап.
Он все еще папа. Сначала. Но рак заканчивается тем, что все превращает в рак. Под конец папа выглядел как призрак. Как будто какой-то дошкольник нарисовал моего папу. А потом даже хуже.
Вот такой он, этот рак.
Вот так все заканчивается.
Когда он умер, мама пошла в группу поддержки для тех, чьи родственники умерли от рака. Она хотела, чтобы я тоже пошел, но я не знаю… я просто не мог. Присоединиться к группе значило признать, что я не плыву в этой лодке. Я был к такому не готов. А мама была. Она была рада гостям в своей лодке; встретила их с распростертыми объятиями. Каждый четверг она на несколько часов становилась прежней мамой; это были лучшие вечера. И каждый раз она говорила то же самое: «Пончики были ужасные, Вик, но компания отличная».
Я перегнулся вперед между сиденьями и поднял взгляд на карие глаза в зеркале заднего вида.
– А пончики правда были ужасные, Фрэнк?
Его глаза, прикованные к дороге, улыбаются.
– Вик, да офигеть, какие шикарные были пончики.
Мы подъезжаем к городу. Я смотрю из окна и впервые – но не в последний раз – думаю о том, что сейчас видит Баз.
* * *
В последний раз мы виделись с Базом, когда стояли с ним и Мэд на тротуаре рядом с полицейским участком, набираясь смелости, чтобы зайти внутрь.
– А почему Хакенсак? – спрашиваю я.
– Ты о чем?
Мне нужно было как-то объяснить для себя эти хаотичные, разрушительные красные огоньки. Они мерцали, разбегались в стороны и тухли, и мне изо всех сил хотелось, чтобы кто-нибудь – хотя бы раз в жизни! – объяснил, что они значат.
– История Коко, – сказал я. – Когда она увидела рекламу по телевизору… про то, что Хакенсак находится на пороге ренессанса и поэтому вы все сюда переехали – это же бред, да?
– Была такая реклама. И Коко обрадовалась, что мы сюда переедем.
– Но ведь это была не ее мысль?
Баз говорит, глядя на полицейский участок:
– Семья из Сиракуз, которая взяла нас в первый раз… у них был собственный ребенок. Сын. Большинство людей обращались с нами как с мебелью, ну или с экспонатом в музее. Но не он. Мне он сразу понравился, и мы подружились. Случились некие события, которыми я не горжусь, и нам с Нзази пришлось переехать. Но потом я услышал, что наш брат теперь живет в Хакенсаке, и когда нам нужно было переехать, мы отправились сюда.
– И что, вы его нашли?
– Да, нашли, – сказал Баз. – Вы с ним виделись.
– Кто?
– Кристофер.
. .
– Тофер, – выдохнул я.
Я вспомнил крепость их объятий и сияние в глазах Тофера, когда он говорил про ребят, и стремительность, с которой он согласился отложить свою жизнь на неопределенный срок, чтобы помочь братьям Кабонго. Красные огни перестали казаться такими уж хаотичными.
…
– Это определенно появится в книге, – сказал Баз, все еще глядя на участок.
Мэд натянула края шапки на уши:
– Ты думаешь, у нее будет счастливый финал?
– Ну, в каком-то смысле счастливый, – сказал Баз.
Наступила тишина. Мы с Мэд думали о том, что в каком-то смысле финал будет и трагичным. К сожалению, возможностей было более чем достаточно.
– Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. – Баз повернулся к нам с Мэд. – Теперь я знаю название.
– Название чего? – спросила Мэд.
– Моей книги. У меня есть название. Длинное – доктор Джеймс Л. Конрой бы его не одобрил. Но я начинаю думать, что доктор Джеймс Л. Конрой придурок какой-то.
– Так что же? – спросил я. – Какое название?
Баз улыбнулся, и взгляд его затуманился, и впервые я знал наверняка, куда он отправился: туда, где они с отцом спокойно смотрели кино; где он укачивал маленькую сестренку под старые гимны о великой милости поутру; где они с Зазом вели заполночь тихие беседы; где им с мамой не приходилось писать Главы. В этой стране единственными взрывами были взрывы смеха, где преломляли только хлеб;
где с чистых ночных небес Браззавиля на землю падали лишь звезды.
– «И они жили, и они смеялись, и увидели, что это хорошо», – сказал Баз.
Он повернулся и пошел через дорогу.
МЭД
Манхэттен – лучшее место, чтобы почувствовать себя ничтожной. И не только в метафорическом смысле, хотя если вспомнить Ральфа Лорена, Лобутены и Кейт Спейд, то и так тоже. Но вообще здесь столько людей, столько машин, столько зданий и зданий на зданиях, огромные просторы, настолько громадные, что и словами не опишешь, разве что если сказать, что Манхэттен – это вертикальный океан и тротуары – это пляж. Стоишь там, задрав голову, и думаешь: «О боже мой, да где же оно заканчивается?»
Бесконечный горизонт.
Мы с Виком стоим у подножия Рокфеллер-Центра. Фрэнк выпустил нас из машины, но, видимо, припарковаться было негде. Он опускает стекло со стороны пассажира, протягивает Вику телефон и тонкий сверток наличных:
– Скучал по своему мобильнику?
– Да не особо, – говорит Вик, убирая телефон в карман. Он пролистывает купюры: – А это зачем?
– Сейчас Рождество, и вы собираетесь на обзорную площадку известной нью-йоркской достопримечательности. Очень недешевое сочетание.
Вик надевает на плечи рюкзак и склоняется к окну машины:
– А ты не пойдешь?
– Парковка тут – ужас что такое. Слушай, позвони мне, когда подниметесь, ладно? Хочу сразу узнать, если вы ее найдете. Я просто покручусь тут, пока не отзвонитесь.
Даже вязаная шапка не защищает голову от всюду проникающего холода. Я достаю пачку сигарет и зажигаю одну, пока Фрэнк с Виком таращатся друг на друга, пытаясь понять, что же сказать дальше. Было бы даже мило, если бы не было так неловко.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
Вик прокашливается.
– Эмм… ну…
Прямо за нашими спинами гудит клаксон. Фрэнк гудит в ответ и улыбается Вику:
– Не за что. А теперь иди разыщи нашу девочку.
Он поднимает окно, въезжает в поток машин и исчезает в глубине.
Затянуться.
Выдохнуть.
Успокоиться.
– Он милый, – говорю я.
Вик отворачивается от дороги и смотрит на меня:
– Ты милая.
От смеха у меня изо рта вырывается облачко дыма.
Вик подходит на шаг ближе:
– Мне жаль, что ты куришь.
– Не указывай мне, что делать.
И Вик целует меня, пока в нас врезаются волны людей, и я роняю сигарету, и он сует руку мне под шапку. Его рука холодит мне бритый висок. Его другая рука лежит у меня на спине, и я чувствую, как он волнуется, как тщательно просчитывает каждое движение, но это не важно. Мне нравится его просчитывание. Губы у него холодные и твердые. Я держу глаза открытыми, потому что знаю, что закрыть свои он не может, и мы находим сладость в нашей взаимной осознанности. Это асимметричный пир с открытыми глазами, панковскими стрижками, открытыми ртами, холодными зубами, подвижными языками. Поцелуй заканчивается как все поцелуи: мы ему надоели, когда он нам – еще нет.
– Ты почувствовала? – спрашивает Вик.
Между нами все еще висит слабоватое облачко дыма.
– Что?
– Мою улыбку. Я хотел, чтобы ты почувствовала.
Я встаю на цыпочки и целую его в лоб, потом в нос, потом в губы, потом в подбородок.
– Чувствую.
Боже, как мне нравится этот сладкий и липкий бульон Манхэттена.
* * *
Сложно перестать думать в категориях необходимости. Когда РСА нужен был хлеб, мы не покупали мороженое. Мы разделяли на порции то, что доставалось нам от «Бабушки», так как знали, что придется ждать до следующей раздачи. Мы привыкли планировать на будущее и в процессе узнали, что бережливость сродни мускулам: чем больше тренируешь, тем сильнее становится.
Поэтому, когда Вик протянул шестьдесят баксов, чтобы мы доехали в лифте до вершины долбаного небоскреба, я громко фыркнула. Билетер странно на меня посмотрел, словно это у меня, а не у всех остальных, были проблемы с восприятием денег.
– Простите, – сказала я. – Уверена, что поездка на вашем лифте стоит каждого цента.
Мы последовали к лифту за людским потоком – оголтелые туристы, если судить по футболкам, безделушкам и шоколадкам, которые они накупили в магазине сувениров.
Мы с Виком кое-как протиснулись к задней стене кабины, теснимые набегающей откуда-то толпой. Один ребенок во все глаза таращился на Вика, и я как раз собиралась что-нибудь ему по этому поводу сказать, как закрылись двери лифта, и произошло несколько вещей одновременно. Свет меркнет, и сразу же раздается хор испуганных воплей. Лифт трогается с места, и начинает играть музыка. Я замечаю, что потолок в лифте стеклянный: мы видим шахту. Вдоль тоннеля рядами идут ярко-синие огни. Поездка и правда стоит каждого цента: на потолке отражаются двигающиеся картинки. Что-то про величайшие достижения в истории человечества: Мартин Лютер Кинг, Нил Армстронг и Ричард Никсон (ну ладно, не достижения, а события или что-то в этом духе), все очень ярко и технологично. Мы доезжаем до самого верха, и в последнем кадре появляется Барак Обама. Он широко улыбается, и женский механический голос (вот честное слово!) говорит: «Добро пожаловать на Вершину Скалы», словно доехать до вершины высокого здания – это тоже Значительное Историческое Событие, лишь немногим менее важное, чем лицо Барака Обамы.
Мы с Виком выходим последними.
– Добро пожаловать на Вершину Скалы, – с мечтательной ноткой в голосе говорит Вик.
Я широким жестом простираю руку в сторону:
– Туда, где сбудутся все ваши мечты.
Мы смеемся и оглядываемся по сторонам. Куда же идти дальше? Я думала, что лифт отвезет нас прямо на крышу, но мы доехали только до верхнего этажа. Тут находится еще один магазин сувениров. У противоположной стены люди в куртках и шапках поднимаются и спускаются по эскалатору.
– Нам туда. – Я хватаю Вика за руку и направляюсь в сторону эскалаторов.
– Что у тебя с лицом?
Голос раздается совсем близко, но словно бы ниоткуда. Будто рядом с нами всегда был кто-то третий, и он только сейчас решил заговорить.
В паре метров от нас, у витрины магазина сувениров, стоит ребенок с мамой за ручку. Это тот самый ребенок из лифта, который не умеет отворачиваться. Ему лет десять или одиннадцать, пора бы уже научиться. Мама ничего не говорит, но заметно, что она все расслышала. Лицо у нее красное как свекла, хотя она и притворяется, что разглядывает витрину. Я собираюсь отчитать их обоих, но тут Вик подходит к мальчишке вплотную, наклоняется так, чтобы глаза у них были на одном уровне, и говорит:
– Ничего.
Мама поворачивается – скорее всего, потому что какой-то незнакомец наклонился к ее ребенку. Но она ничего не говорит. Думаю, даже она чувствует пугающую реальность происходящего.
Ребенок изучает лицо Вика с разных сторон, совершенно не смущенный их внезапной близостью.
– Правда? – спрашивает он.
Вик показывает на его голову:
– Какого цвета у тебя волосы?
– Коричневые.
– А глаза?
Ребенок улыбается по-детски:
– Тоже коричневые.
Я почему-то начинаю плакать. Честно, не знаю почему. Вик спрашивает:
– А музыку ты любишь?
Мальчик кивает.
– Какую?
– «The Ramones».
Вик смотрит на его маму. Та пожимает плечами, а я смеюсь: ответ мальчишки так напомнил мне Коко.
А я люблю джаз. И немножко оперу.
Мама улыбается своему сыну, и я думаю, может, и Вику тоже немножко.
– Так ты родился с коричневыми волосами и коричневыми глазами, – говорит Вик. – А некоторые рождаются с синими глазами и рыжими волосами или с зелеными глазами и без волос.
Вокруг Вика с мальчишкой собирается небольшая толпа покупателей.
– Разный цвет кожи, разный цвет глаз, – говорит Вик. – Разные семьи, разные истории, разные способы любить. Так ведь интереснее. Так у нас появились Джоуи Рамон и Майлс Дэвис. – В толпе тихо посмеиваются. – Значит, ты родился такой. – Он показывает на лицо мальчика. – А я вот такой. – Он показывает на свое собственное.
Мальчик кивает и улыбается маме, а я вспоминаю первые слова, которые услышала от Вика тогда, снежной ночью у USS-Ling.
Надеюсь, ты был прав, прошептал он тогда урне. Надеюсь, в моей асимметрии есть красота.
Мне не довелось пообщаться с папой Вика, но думаю, он был не самым глупым парнем.
* * *
У подножия эскалатора туристы застегивают куртки и по мере продвижения наверх натягивают шапки и варежки. Вик наклоняется над рюкзаком, достает фотографию и урну.
– Ты готова? – спрашивает он.
Но в его голосе есть какой-то подтекст. В том, как он стоит – выпрямившись, сдвинув ноги, обняв урну обеими руками, словно сейчас проведет ее до алтаря и поклянется быть верным в болезни и здравии.
– Иди один, – говорю я, поднимая его рюкзак и перекидывая его через плечо. – Я подожду.
– Ты уверена?
Я делаю жест в сторону магазина сувениров:
– Ага, я заказала плакат с Обамой. Посмотрю, доставили или еще нет.
Вик смотрит на меня, и я знаю, что он улыбается. Я улыбаюсь в ответ и поднимаю вверх большой палец.
– И раз уж мы здесь, куплю заодно такой большой указательный палец из пенопласта в цветах американского флага.
Когда наступает нужная минута, мы вроде как падаем в объятия друг к другу. Вик говорит мне в плечо:
– Я понимаю, почему тебе надо ехать во Флориду. Просто пообещай, что мы как-нибудь с этим разберемся, ладно?
– Обещаю.
– Я серьезно, Мэд. Мне нужно больше, чем… чем сраный закат. Мне нужна табличка на скамейке в парке.
При обычных обстоятельствах эти объятия бы показались неловкими: так долго они длились. Но сейчас обстоятельства необычны, и вместо того, чтобы отстраниться, я притягиваю Вика еще ближе. Большая часть меня грустит, потому что надо оставить Вика, но та же самая часть радуется, что я его нашла. Теория Вика про одновременность чрезвычайных противоположностей начинает мне напоминать одну золотую рыбку: она тоже не сдается.
– Мне тоже нужна табличка, – говорю я. – И кстати, я же не сию секунду уйду.
– Я знаю. – Его слова греют мне шею. – Я могу застрять тут надолго.
Я улыбаюсь, и мы просто стоим, обнимаясь, и это абсолютно прекрасно. На нас бросают косые взгляды, ну и насрать. Дело не в посторонних, да и не во мне на самом деле. Просто Вик не хочет подниматься по этим ступенькам. И я его понимаю. Если бы у меня был список мест, где развеять маму с папой, – мест, которые напоминали бы мне о прошлом, о любви, в которой я родилась, но которую потеряла на полдороге… я бы тоже затягивала это подольше. В определенном смысле список воскрешал папу Вика: пока у него был список, с ним была часть отца. Но закончить дело – значит признать, что настал финал.
– Ну что ж, приступим, – говорю я, отстраняясь от объятий и глядя ему прямо в глаза. – Я скажу тебе то, что ты должен услышать, а не то, что хочешь. Хорошо?
– Хорошо.
Я до сих пор не знаю, что собираюсь делать в жизни, но знаю, что все сложится нормально. Потому что Джемма, Баз, Заз и Коко всегда останутся моей семьей. Но они – это мои Альт. А мой Ной восхитительно асимметричен.
– Вик.
– Да?
– Самое важное – это отпустить.
ВИК
Перспектива ступить на эту обзорную площадку очень меня волнует. Для тихого наблюдателя это настоящая мекка.
Какое буквальное название – обзорная площадка.
… Вверх, вверх, вверх…
Эскалатор поднимается, температура опускается. Ближе к вершине я перекладываю урну в другую руку и поднимаю воротник куртки, но от холода это помогает мало. Пронизывающий ветер колет глаза; как я ни хочу их заслонить, у меня не получается.
Потому что: о, этот пейзаж.
Платформа окружена высокими стеклянными перегородками в паре сантиметров одна от другой. Я подхожу к самому краю. По ту сторону расстилается Нью-Йорк во всем своем шумном ночном великолепии. Здания на зданиях, и повсюду огни. Парки и деревья, машины и улицы, люди, люди, люди, шумят о чем-то.
Тысячи крошечных красных огоньков, какие-то меркнут, какие-то только загораются. Круговорот световой жизни.
– Виктор?
Услышать мамин голос – все равно что узнать песчинку на пляже. Я поворачиваюсь и вижу: она стоит рядом со скамейкой у эскалатора. И теперь она прямо передо мной, а теперь она сгребает меня в объятия, а теперь она плачет. Урна тяжелеет в моих руках. Словно папа потолстел.
Мама чуть отстраняется:
– Где ты был, Вик?
– Ты первая.
С минуту мы оба молчим. Ответы приходят, но здесь, наверху, где целый мир простирается перед нами, как-то сложно вести обычные разговоры.
– Сюда он привел меня, – говорит она, поворачиваясь лицом к городу. – Твой папа сделал мне предложение на этом самом месте. Сказал, что у него мало денег и совсем нет кольца, зато очень много планов. У него всегда были планы.
Я думаю про папины планы. Многие бы посмотрели на то, чего он достиг – или не достиг, – и предположили, что у него не получилось претворить свои планы в жизнь. Но я-то знаю. Я был одним из его планов. И мама тоже. И вот мы вместе стоим здесь на вершине мира.
Вместе.
Какое слово!
– Мы думали, что надо будет тебя сюда привезти, – говорит мама. – Показать, где все началось. Но цены так взлетели. Бруно планировал приберечь эту поездку до особых обстоятельств.
Учитывая урну у меня в руках, исключительность того, что я собирался сделать, и компанию, в которой я собирался это сделать, я бы сказал, что папа выполнил план как нельзя лучше.
Я ставлю урну между ног, достаю из кармана фотографии и смотрю на первую: мама с папой, юные влюбленные родители, стоят на этом самом месте, и за спиной у них Нью-Йорк. Я думаю обо всем, что произошло между тогда и сейчас.
Все иначе: Башни-Близнецы исчезли.
Все по-прежнему: город жив.
Все иначе: я здесь.
Все по-прежнему: мама с папой здесь.
Все иначе: папа в урне.
Все по-прежнему: мы, каждый из нас, все так же безнадежно надеемся.
Все вращается вокруг одновременных чрезвычайных противоположностей.
Вторая фотография предлагает историю о самом начале. Мама с папой и их свежие татуировки: восток и запад. Я поднимаю взгляд на маму, опускаю на папу. Видимо, татуировки сработали. Даже сейчас папа направляет нас в нужную сторону.
– Откуда это у тебя? – Мама берет фотографию в руку и закрывает рот другой рукой.
Я не отвечаю. Она знает, откуда у меня фото. Третье я держу у сердца и не показываю: оно только для меня. Может, однажды оно станет нашей историей начала. Может, у нас с Мэд будет ребенок, и этот ребенок найдет фото, на котором будет только его мама и никого больше, и поймет, что это та же самая любовь от востока до запада, которую я увидел в своих юных родителях.
Мама вытирает глаза, протягивает мне обратно фото и смотрит на город:
– Когда ты ушел, я чуть с ума не сошла. Конечно, позвонила в полицию. И я поняла кое-что, хотя не сразу.
– Что?
– Я знаю тебя. Я знала, что ты откроешь урну, найдешь список. Я просто знала. Поэтому я пошла в «Гостиную», но когда добралась туда, ты уже ушел. Я ждала на скамейке, но не знала, побывал ты уже на Утесах или нет. И тогда я поняла, что единственная возможность поймать тебя – это забежать вперед. Я добралась сюда четыре дня назад. Нашла дешевую гостиницу рядом. Ну, дешевую по меркам Нью-Йорка.
– И ты приходила сюда каждый день?
Мама кивает:
– Пакую с собой обед и ужин. А потом сажусь вот на эту скамейку и жду, пока меня не выгонят в полночь.
Я стараюсь не думать, сколько денег мама здесь просадила.
Уйму. Огромную уйму.
– Вик, ты для меня весь мир. Если ты не хочешь, чтобы я выходила за Фрэнка, то я и не буду.
Ее слова принимают очертания, взлетают в эфир, и я стараюсь думать сердцем.
– Я хочу, чтобы ты была счастлива… – Пока что я высказал только половину. – Я просто не хочу забывать папу.
…
– Мы не забудем, – говорит она. – Обещаю.
Я убираю фотографии в карман и достаю мобильник.
– Ждешь звонка? – спрашивает мама.
– Я должен был позвонить Фрэнку. Сказать, что у тебя все хорошо. Но у меня нет его номера.
– А-а… Ну, так или иначе, сеть тут не ловит.
Она права: телефон показывает, что связи нет. Где-то в моей Стране Ничего я слышу обрывки разговора, что случился сегодня раньше.
Оставьте голосовое сообщение?
Не могу. Почтовый ящик заполнен.
Тогда я сильно разволновался из-за этого разговора между сержантом Мендес и детективом Рональдом. Дело было не в том, что ящик заполнен, а что мама не поднимала трубку.
– В первый же день здесь, – говорит мама, – я поняла, как оторвана тут от мира. Если бы тебя нашли, я бы никак не смогла об этом узнать. Поэтому каждую ночь, как только я выходила из лифта и телефон начинал ловить сеть, я звонила сержанту Мендес узнать, нет ли новостей.
Четыре ночи подряд она справлялась обо мне по телефону. И каждый раз звонила сразу после полуночи.
Я убираю телефон в карман:
– А Фрэнк?
– А что Фрэнк? – спрашивает мама. По ее тону слышно, что она удивлена вопросом не меньше меня самого.
…
– Он себе места не находит, мам.
– Я позвонила ему, – говорит она. – Дважды. Сказала, что у меня все хорошо. Но на самом деле думала только о том, что ты ушел из-за него.
Я отодвигаю браслет РСА и смотрю на крошечные дорожки, ведущие в никуда. Самый печальный из талисманов, особая татуировка. Мягкая ткань возвращается на место, и я знаю: теперь с этим покончено. Крохотные дорожки поблекнут – и новых не будет. Мэд не только сшила метафоричные заплатки вместе. Она не то чтобы починила меня, она помогла мне починиться самому.
Она отвезла меня в Сингапур.
– Мам, мне кажется, Фрэнку надо дать второй шанс.
Она улыбается искоса; мне нравится, когда она улыбается искоса.
– Ты так думаешь?
– При одном условии.
– Каком?
– Ему придется прочесть собрание сочинений Достоевского, прежде чем купить следующую биографию Черчилля.
Она смеется, как маленькая птичка. Может, я всегда был частью удивительной стаи?
– Тот еще фанат Уинстона Черчилля, а?
– Да, что вообще с ним такое?
Мама берет меня за руку и слегка дотрагивается до урны носком ботинка:
– Ну что?
Я встаю на колени, отвинчиваю крышку и засовываю руку внутрь. С прошлой недели содержимого там поубавилось. Но, видимо, в этом и смысл? Зачерпнув пепла, я встаю. Расстояния между стеклянными заграждениями хватает, чтобы протиснуть руку.
Мама кладет руку мне на плечо.
Я держу в руке папу.
Все так сложно. Но не в плохом смысле. Это наша семья; место, где собрались и задержались наши красные огоньки.
– Как ты? – спрашивает мама.
Я улыбаюсь, все еще удерживая прах в сжатом кулаке:
– Обычно я кое-что говорю… Прежде чем его развеять.
Мы вместе смотрим в эфир нью-йоркской зимы.
…
…
Мама говорит:
– Воспоминания бескрайни, словно горизонт.
Странно и удивительно знать, что мы были в одних и тех же местах, запомнили одни и те же строки, увидели одни и те же пейзажи. А все из-за папиного плана. Мама с папой собирали свою любовь, словно огонь для костра, и жгли ее вместе. И теперь я разбрасываю эту любовь повсюду.
Я сосредоточился на своем кулаке. Расплывчатые очертания браслета РСА перед ним, расплывчатые очертания городского пейзажа за ним.
– Пока мы не станем старо-новыми.
Мама плачет, улыбаясь.
– Пока мы не станем старо-новыми.
Теперь город вырисовывается четче. Он прекраснее Матисса, прекраснее даже «Цветочного дуэта». Этот пейзаж – даже не искусство вовсе. Он не результат ритма или асимметрии. Он – противоположность Ling. Я не знаю, откуда или как появился этот пейзаж. Он просто есть. И в нем есть я. И мне не хочется быть где-то еще. И мне не хочется быть никем, кроме Виктора Бенуччи, сына Бруно и Дорис Бенуччи, М и О столетия, самых суперскаковых из всех лошадей. Может, впервые за всю жизнь я перестал видеть цвета, которые были, и сосредоточился на тех, которых не было.
И в ночном небе парящие сопрано полетели над городом. Они охраняли его песней и ловили души редких, прелестных мыслителей сердцем.
Ловили их прах.
… …
Я отпускаю папу.
Они жили. И они смеялись. И увидели, что это хорошо (Или Ребята с Аппетитом)
Автор: Баз Кабонго
Посвящается моей маме, моему папе, моей сестре.
Пролог
Доктор Джеймс Л. Конрой не одобряет прологи (Конрой, v – vii). Думается мне, если ему в руки попадут эти сочинения, он найдет многие из моих приемов заурядными и, возможно, низкопробными. И я не против. Его собственные сочинения еще зауряднее (об этом позднее). Однако же, вопреки написанному выше, доктор Джеймс Л. Конрой все же считает, что с хорошими историями лучше не торопиться (Конрой, 18 – 154). Я нахожу это очень воодушевляющим. Если ценность истории заключается в количестве времени, потраченном на нее, моя история будет очень хорошей.
Потому что она заняла очень, очень много времени.
Сказать по правде, она далась мне нелегко. В моей жизни происходит много всего, и есть множество причин не писать книгу. Работа в церкви и местном приюте занимает много времени. Мы с братом ходим на психотерапию. Это необходимо, чтобы переосмыслить наше прошлое, настоящее и будущее. Когда дело касается письма, я раз за разом замечаю, что повторяю эти опасные три слова: «Займусь этим позже». Но затем вчера я поговорил с братом. Это вошло у нас в привычку: мы часами сидим под крошечным деревом за нашей квартирой в жилищном комплексе «Пальмы на ветру» и беседуем до ночи. До недавнего времени мы говорили вчетвером, но один из четверых переехал, а другого усыновил наш близкий друг. (Прощания часто имеют сладко-горький вкус, но эти были слаще обычного.) Итак, мы с братом обычно посвящаем несколько минут беседы прошлому, прежде чем перейти к будущему. Я нахожу наши беседы очень примечательными. Они куда выше по качеству, чем большинство обычных разговоров.
Вчера вечером мой брат сказал: «Баз, ты уже достаточно наговорил. Пора писать». (Если честно, с тех пор, как он поступил в училище, брат стал немного задаваться. Но в данном случае он был прав.)
И вот я пишу.
Наша мама часто говорила, что мы все – части одной истории, и, хотя мы не можем выбрать обстоятельства и сюжет, мы можем выбрать, какими будем персонажами. (Доктор Джеймс Л. Конрой ничего такого не говорил, хотя, честно признаться, я еще не дочитал его книгу «Писатели, которые пишут хорошо, пишут прямо сейчас». Иногда я думаю, что если бы доктор Джеймс Л. Конрой последовал собственному совету и выбрал название покороче [Конрой, 178–186], тогда, возможно, книга оказалась бы не такой скучной. На самом деле, сомневаюсь. На самом деле, его книга – это просто груда экскрементов.) Разумеется, это все одна большая метафора, в которой я сравниваю жизнь с историей. Но мы жили именно так, мы с мамой. Даже сегодня я нахожу огромное утешение, думая об этом.
Итак, в моей истории есть много Глав. Я планировал описать их последовательно, сначала рассказать историю своей жизни и жизни моей семьи, начиная с момента моего рождения до той минуты, как я сел на этот умеренно удобный стул в этой умеренно удобной квартире в жилищном комплексе «Пальмы на ветру». Но недавно я кое-что услышал – и теперь убежден, что для моей истории лучше использовать «нелинейный нарратив» (Конрой, 402–403, затем далее 411–414 и, видимо, также 1). Я мог бы – и намерен – рассказать про истории моей матери, про фильмы моего отца, про плач моей сестры, про слова моего брата. Я напишу о войне и разрухе, об очень длинной прогулке через пустоши, о путешествии через океан, о том, как я нашел и потерял семью, о саде, о мясницкой лавке, о ресторане, о тату-салоне. Я напишу о вещах, что кажутся неправдоподобными;
я напишу о местах, которые кажутся невозможными. Я напишу о смерти, которая знакомится с каждым из нас; о жизни, которая приходит до нее; о разочарованиях; о нарушенных обещания; о плохих решениях – некоторые из них принял я сам, некоторые приняли за меня; о многих моих семьях и как каждая из них, к добру ли, к худу ли, меня изменила.
Но начну я (то есть глава 1 начнется) с двух бесед, которые были записаны год назад, в том же месяце, что и сейчас. Я недавно заполучил их после долгих поисков и, услышав эти беседы, сразу понял, как начать свой нелинейный нарратив. Он начнется не с сюжета и не с обстоятельств, но с самого главного элемента любой истории: характера (Кон-рой, 209–222). И, хоть это и не лучшая история, я все же надеюсь, что она хороша. Я полон оптимизма, ведь она заняла так много времени.
Она начинается с моих друзей.
Баз Кабонго Тампа, Флорида
2 декабря
От автора
Вик – персонаж вымышленный, но синдром Мёбиуса – вполне настоящая болезнь. Это редкое врожденное неврологическое расстройство, в большинстве случаев вызывающее лицевой паралич. Большинство людей с синдромом Мёбиуса не могут улыбаться и хмуриться, и у многих возникают сложности с дыханием, расстройства сна, затрудненное глотание, косоглазие, речевые осложнения и проблемы с зубами, косолапость, ограниченные зрение и слух. Эти осложнения также приводят к ряду проблем, включая предубежденное отношение окружающих и дискриминацию. Многих подростков с синдромом Мёбиуса недолюбливают и травят в школе, что вызывает депрессию и низкую самооценку. Зачастую людей с синдромом Мёбиуса считают умственно неполноценными.
«Я думаю, что людям с непохожими на других лицами надо сказать окружающим, что мы такие же, как все… Я со временем поняла, что, когда на меня таращатся, не надо уходить в тень (а хочется мне именно этого!). Вместо этого нужно просто открыть рот и заговорить. Это снимает напряжение».
Слова выше – цитата из нашей обширной электронной переписки с Лесли Дасилер (конечно, я привел ее здесь с разрешения автора). Мне довелось услышать историю Лесли, а также истории Роланда Бьянвеню, Дафны Хонма и Шейенн Оуэнс. Они все живут с синдромом Мёбиуса, и каждый из четверых сильно повлиял на характер и судьбу Вика. Я невероятно признателен им за то, что поделились своей жизнью, терпеливо отвечали на множество моих вопросов и читали многочисленные черновики книги. Также я выражаю благодарность Вики МакКаррелл из Фонда поддержки людей с синдромом Мёбиуса и фейсбук-группе Many Faces of Moebius Syndrom. Каждый раз, когда мне была нужна помощь, они охотно мне ее оказывали. Каждый из вас научил меня улыбаться сердцем, и за это я навеки вам благодарен.
Если хотите узнать больше про синдром Мёбиуса, отправляйтесь на Moebiussyndrome.org или посетите восхитительную страничку на Фейсбуке, Many Faces of Moebius Syndrome.
Похожим образом, братья Кабонго – вымышленные персонажи, однако многое из их истории основано на реальных событиях. С 1997 по 1999 год тысячи жителей Республики Конго были убиты или переехали в ходе гражданской войны. Среди них была и семья Кинзоунза.
На несколько лет мне выпала честь работать с Гиги Кинзоунза. Я знал, что он с семьей приехал из Республики Конго, они придерживаются христианской веры и посвятили жизнь преподаванию в школе, об их прошлом мне было ведомо очень мало. Пока я не стал их расспрашивать. И в ходе бесед, переписки и интервью у них дома (которого я никогда не забуду) я услышал их удивительную историю. Бегство База и Нзази из Республики Конго, их временное прибежище в лагере для беженцев и некоторые из предрассудков, с которыми они встретились в Штатах, – все это появилось после моих разговоров с семьей Кинзоунза. Не думаю, что смогу до конца выразить свою благодарность за то, что они посвятили мне столько времени, отвечали на мои вопросы, читали черновики книги, и больше всего – за то, с какой отвагой говорили о том, чего мне никогда до конца не понять. Я сердечно благодарен вам, Реймонд, Гиги, Нати, Сиама и Кутия (Абигейл).
Еще мне бы хотелось поблагодарить Патрика Литангу за его важные комментарии и за то, что делился со мной своим опытом; Дарко Михайловича и Колина Триплетта из службы Католической благотворительности за то, что они помогли мне лучше понять, как происходит процесс переселения беженцев.
Каждому из вас я благодарен от всей души и от всего сердца.
Дэвид Арнолд
Благодарности
Моей семье со стороны Арнолдов и Уингейтов в равной степени. Вы, ребята, высший класс. Серьезно. Спасибо за это и за все-все остальное.
Спасибо Кену Райту и Алексу Ульетту из издательства «Вайкинг». Вы не только научили меня лучше писать и сделали меня лучшим человеком, но еще и являетесь волшебными единорогами мудрости и благодушия. Спасибо моей семье из издательства «Пенгуин»: Элизе Маршалл за общий надсмотр за процессом, Терезе Евангелисте (дизайн обложки), Дэйне Лейдиг, Джен Лохе, Таре Шэнахан за сведения о Хакенсаке, восхитительным корректорам Джэнет Паскаль, Абигейл Пауэрс, Кристе Альберг и Кэйтлин Северини, а также Джону Деннэни за то, что он такой прекрасный попутчик и друг.
Спасибо моему невероятному агенту Дэну Лэзеру (также волшебному единорогу) и всем из «Райтерс хаус», кто приложил руку к книге: Тори Доэрти-Монро, Джеймсу Монро, Сумейе Бендимерад Робертс, Сесилии де ла Кампа и Ангарад Коуэл. Спасибо моему киноагенту, Джози Фридман, и всем ребятам из ICM.
Спасибо следующим ребятам за их внушительный аппетит: Кортни Стивенс, Эшли Швартау, Эрике Роджерс, Джо-шу Блесдоу, Кристин О’Доннелл Табб, Саре Браун, Лорен Томан, Виктории Шваб, Эшли Блейк, Ники Юн, Эмери Лорд, Керри Клеттер, Рэй Энн Паркер, Дониелль Клейтон, Джеффу Зентнеру, Дэниелу Ли, Курту Хэмпу, Кейт Хэттемер, Руте Сепетис, Сабае Тахир, Рене Адие, Брукс Бенджамин, Гвенде Бонд, Саре Комбс, Меган Уитмер и Дейву Коннису, Стефани Аппелл и всем из «Парнассес Букс» в Нэшвилле, Аманде Коннор и Триш Мерфи из «Джозеф-Бет Букселлерс», Вин Моррис и всем из книжного магазина «Моррис», всем в «Центре Карнеги по образованию и обучению», моей невесте Мишель и Дженнифер Хайдгерд за их знания о скаковых лошадях, всем из кофейни «Норт-Лайм Кофи энд Донатс», Кэри Мейер и всем добрым людям из «Блэк Эбби», Дэну Гарсиа за его обширные познания в искусстве, фабрике звезд, также известной как Общество детских писателей и иллюстраторов (scbwi.org), Мардж и всем остальным из великого, но почившего хакенсакского паба «Харли», Мег, Перри и Крису с фермы «Фреш энд Фэнси» в Нью-Милфорде (freshandfancyfarms.com), а еще некоей спящей подлодке, которая пробудила во мне идею. Ты знаешь, что я обращаюсь к тебе, маленькая шалунья.
Спасибо моим ребятам из книжного клуба «Бекминавидера»: Джаззи Варгс, Бекки «Просто-Положи-Печеньку-На-Место-И-Никто-Не-Пострадает» Альберталли и Адаму Сильвера-Арнолд. Вы выручаете меня каждый божий день. И я вас люблю (разумеется, в романтическом смысле).
Спасибо сержанту Эрику Хобсону из отдела по грабежам и убийствам и детективу Билли Сальеру из экспертно-криминалистической службы Лексингтонского участка за их время и советы.
Спасибо Гэри Мак Смиту и Банни Уелч, которые (в дополнение к издателям) любезно разрешили мне использовать работу своего сына. Если вы не поняли, Эллиот Смит – мой кумир, и я в бешеном восторге, что мне разрешили использовать его тексты в моей книге.
Спасибо С. Э. Хинтон за то, что я затерялся в ее Воронке. Я все еще там. За последние полтора года я встретил бесчисленных библиотекарей и продавцов книг, которые покорили меня не только знаниями, но и способностью вложить нужную книгу в нужные руки в нужное время. Без вас я бы до сих пор бесцельно скитался, и думаю, что выскажусь от лица большинства авторов. СПАСИБО. Миллион раз спасибо.
Я уже упоминал их в разделе «От автора», но поблагодарить дважды никогда не повредит: Роланд Бьянвеню, Лесли Дасилер, Дафна Хонма, Шейенн Оуэнс, Вики МакКаррелл, все в Фонде поддержки людей с синдромом Мёбиуса и фейсбук-группе Many Faces of Moebius Syndrom, вся семья Кинзоунза: Гиги, Реймонд, Нати, Сиама и Кутия (Абигейл), Патрик Литанга, а также Дарко Михайлович и Колин Триплетт из службы Католической благотворительности: СПАСИБО.
И наконец, спасибо Стефани и Уингейту. Я искренне верю в силу слов, но иногда слов просто не остается. Кроме разве что четырех: я люблю вас двоих.


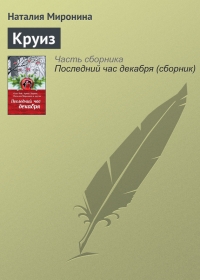


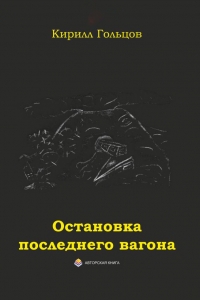

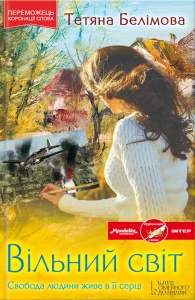
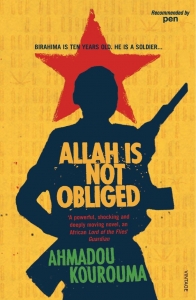


Комментарии к книге «Детки в порядке», Дэвид Арнольд
Всего 0 комментариев